Джон Стейнбек «Консервный ряд»
Консервный Ряд в Монтерее, что в Калифорнии — поэма, скрежет и смрад, собственный цвет, лад и характер, ностальгическое видение, мечта. Консервный Ряд един и разрознен: дерево, жесть, чугун, ржа и разбитый асфальт, заросшие бурьяном пустыри и груды мусора, консервные цехи, крытые рифленым железом, кабаки, рестораны, публичные дома, тесные лавчонки, лаборатории и ночлежки. Живут в нем, как сказал один человек, проститутки, сутенеры, игроки и прочая сволочь, под сволочью он разумел прочий люд. Глянь этот человек с другого боку, он бы сказал: «Святые, ангелы, мученики и блаженные», и был бы прав.
Утром, после удачного лова, сейнеры, полные сардин, тяжело вплывают в сонную бухту, оглашая утреннюю тишину пронзительными свистками. И тянутся к берегу, где их поджидают консервные цехи, опустив в воду металлические хвосты. Автор не случайно взял этот образ, скажи он «опустив в воду носы», консервы, извергающиеся с другого конца, будут, благодаря метафоре, еще отвратительнее. Вслед за сейнерами начинает свистеть Консервный Ряд; по всему городу мужчины и женщины торопливо напяливают рабочую одежду и спешат к морю, где нужен их труд.
В блестящих автомобилях подъезжают хозяева, управляющие, бухгалтеры и расходятся по своим конторам. За ними катится вал итальянцев, китайцев, поляков — мужчин и женщин, одетых в штаны, прорезиненные куртки и клеенчатые фартуки. Они спешат, чуть не бегут, резать, раскладывать, варить и консервировать рыбу. Вся улица гремит, воет, визжит, грохочет; из сейнеров текут серебряные реки сардин, и они все выше восстают из воды, пока не опростаются. Консервный Ряд гремит, грохочет, визжит, но вот последняя рыбешка очищена, разрезана, сварена и закупорена. Опять заливаются свистки; итальянцы, китайцы, поляки, — мужчины и женщины, — промокшие и пропахшие рыбой, медленно, понуро поднимаются обратно в город. Консервный Ряд опять становится сам собой, — тихим и завораживающим. Жизнь входит в свою привычную колею. Бродяги, при первых звуках свистка удалившиеся с негодованием под сень черного кипариса, возвращаются в мир; вон они уже сидят на трубах, ржавеющих на пустыре, и благодушно болтают. Девочки из заведения Доры выходят понежиться на солнце — если, конечно, оно соизволит сиять. Док спустился по ступенькам Западный биологической лаборатории и идет через улицу в лавку Ли Чонга за двумя квартами пива. Анри-художник снует по пустырю как эрдельтерьер, вынюхивая в бурьяне всякие железяки и деревяшки для лодки, которую мастерит своими руками. Быстро темнеет, и перед заведением Доры загорается уличный фонарь — не меняющая фаз луна Консервного Ряда. В Западную биологическую приехали гости, и Док опять идет через улицу к Ли Чонгу, теперь уже за пятью квартами пива.
Как перенести на бумагу эту поэму, скрежет и смрад, особый цвет, лад и характер, ностальгическое видение, мечту? Когда собираешь морских животных, попадаются плоские черви, они такие нежные, что рвутся от одного прикосновения и гибнут. Надо выждать, пока червячок сам поползет на лезвие ножа и затем осторожно опустить его в бутыль с морской водой. Пожалуй, и с Консервным Рядом надо поступить так же: открыть страницу тетради, и пусть очередная история сама ползет на нее.
ГЛАВА I
Бакалейная лавка Ли Чонга не отличалась чистотой, зато могла похвастаться разнообразием товаров. Лавка была маленькая, тесная, но в ее единственной комнате имелось все, что требуется простому смертному для полноты счастья: одежда, пища — свежая и консервированная, спиртное, курево, рыболовные снасти, всякий инструмент, лодки, такелаж, шляпы, свиные отбивные. У Ли Чонга можно было купить пару шлепанцев, шелковое кимоно, пинту виски, сигару и тысячу других вещей на любой вкус. В лавке отсутствовал только один товар, но товар этот имелся по соседству в заведении у Доры.
Лавка открывалась рано утром и торговала до тех пор, пока снаружи гулял хоть один неприкаянный десятицентовик. Ли Чонг не был сребролюбцем. Отнюдь, но если кто-то горел желанием облегчить карман, Ли Чонг был всегда к его услугам. Постепенно Ли Чонг занял в местном обществе положение, удивлявшее его самого, хотя, надо сказать, он мало чему удивлялся. С годами все обитатели Консервного Ряда оказались его должниками. И он никогда не давил на них. Если же долг становился слишком велик, Ли прекращал отпускать в кредит. И должник платил или, по крайней мере, пытался, чтобы не ходить за покупками наверх в город.
Ли был круглолиц и приветлив. Изъяснялся он на учтивом английском, успешно обходясь без буквы «р». Когда в Калифорнии вспыхивали столкновения между полицией и тонгом [тайная китайская организация], случалось, за его голову объявлялась премия, Тогда Ли Чонг уезжал в Сан-Франциско и ложился в больницу, пока волнения не утихали. Что он делал со своими деньгами, никто не знал. Возможно, у него их и не было. Возможно, все его бoгaтcтвo состояло из неоплаченных счетов. Но жил он в достатке и пользовался уважением соседей. Он верил своим покупателям, пока верить не становилось смешно. Иной раз он ошибался, но и из ошибки умел извлечь пользу, хотя бы чисто платоническую. Одной из таких его ошибок была Королевская ночлежка, любой на его месте счел бы ту сделку разорительной.
В лавке Ли Чонг стоял за табачным прилавком. По левую руку — касса, по правую счеты, под стеклом сигары, сигареты и всякие табаки; за спиной Ли Чонга на полке — батарея бутылок со спиртным всех размеров: «Олд Грин-ривер», «Олд-таунхаус», «Олд-кенл» и любимое «Олд Тенесси», виски четырехмесячной выдержки, очень дешевое, называемое в этих местах «Старая тенисовка». Ли Чонг умышленно стоял между посетителем и спиртным. Приходилось быть начеку, его не раз пытались заманишь к другому прилавку, но это никому еще не удавалось. Остальным в лавке торговала многочисленная семья — братья, племянники, сыновья, снохи. Сам же Ли никогда не покидал своего поста за табачным прилавком. Верхнее стекло служило ему конторкой. Его красивые пухлые ручки покоились на стекле, похожие на сардельки пальцы беспрестанно двигались. Единственным их украшением было толстое золотое обручальное кольцо на среднем пальце левой руки; он неслышно барабанил им по резиновой подушечке для сдачи, на которой давно стерлись пупырышки. Губы у Ли Чонга были полные, любезно изогнутые, улыбка одаряла посетителя теплым глубоким блеском золота. На носу у него сидели очки с половинками стекол, а так как он на все смотрел сквозь очки, то, глядя вдаль, откидывал назад голову. Короткими пальцами-сардельками он щелкал на счетах; складывал, отнимал, подсчитывал скидки и проценты; дружелюбные карие глаза не спеша обегали лавку, а губы улыбались приветливой золотой улыбкой.
Как-то вечером, стоя за табачным прилавком на стопе газет, чтоб не зябли ноги, он с юмором и грустью вспоминал сделку, которую заключил нынче днем в два приема. Если выйти из лавки и двинуться по диагонали через заросший бурьяном пустырь мимо больших ржавых труб, выброшенных хозяевами рыбных заводиков, заметишь в бурьяне стежку. Она ведет к кипарису, а от него к железнодорожной линии; за линией идет вверх куриная тропа с деревянными ступеньками и упирается в длинное невысокое строение. В нем одна большая комната без потолка, где много лет хранилась рыбная мука. Сарай принадлежал человеку по имени Хорэс Аббервилл, вечно чем-то озабоченному. У Хорэса было две жены и шестеро детей, и за несколько лет он умудрился, прибегая к страстным мольбам, задолжать Ли Чонгу астрономическую цифру. В тот день он вошел в лавку и его усталое выразительное лицо жалко сморщилось при виде легкой тени, пробежавшей по лицу Ли Чонга. Толстенький палец Ли забарабанил по резиновой подушечке. Хорэс положил на табачный прилавок руки ладонями вверх.
— Я много тебе задолжал, я знаю, — против обыкновения просто сказал он.
Ли Чонг блеснул золотой улыбкой, отдав должное этой простоте. И молча кивнул, ожидая, что последует за столь необычным вступлением.
Хорэс облизнул губы от одного уголка до другого.
— Не хочу, чтобы над моими ребятками это висело, — сказал он. — Ты ведь уж верно не будешь больше давать им мятных леденцов?
Лицо Ли Чонга выразило согласие.
— Очень, очень задолжал, — сказал он.
— Ты знаешь мой участок земли с сараем? Там, где рыбная мука.
Ли Чонг кивнул. Мука принадлежала ему.
— Если я отдам тебе и сарай, и землю, ты спишешь мой долг? — с жаром спросил Хорэс.
Ли Чонг откинул назад голову и взглянул на него сквозь половинки стекол, правая рука нервно потянулась к счетам, в уме замелькали колонки цифр. Строение было ветхое, а участок земли, пожалуй, может и окупиться, если, конечно Консервный Ряд станет когда-нибудь расползаться в стороны.
— Спишу, — сказал Ли Чонг.
— Давай сюда все счета и немедленно составим купчую, — Хорэс, казалось, куда-то спешил.
— Все счета не нужны. Я дам тебе одну общую бумагу.
Сделку совершили чинно, не теряя достоинства, и Ли Чонг поставил четверть пинты «Старого Тенесси». После чего Хорэс Абервилл, держась очень прямо, прошествовал по пустырю, мимо кипариса, через линию, и по куриной тропе к сараю, который только что перестал быть его, и на куче рыбной муки пустил себе пулю в лоб. И хотя это не имеет отношения к нашей истории, замечу все же, ни один аббервиллев отпрыск от той и другой матери никогда с тех пор не испытывал нужды в мятных леденцах.
Но вернемся к тому дню. Хорэс лежал на козлах, из тела его торчали иглы, через которые вливалась заморозка, а на ступеньках дома сидели обнявшись две его жены — они оставались подружками до самых похорон. После чего разделили детей и никогда уже больше не разговаривали друг с другом. А Ли Чонг стоял за табачным прилавком, его добрые карие глаза были обращены внутрь, туда, где пряталась извечная китайская печаль. Он знал, что не мог бы ничем помочь, и все-таки жаль, что не понял тогда, с чем пришел Аббевиль — мог хотя бы попытаться помочь. Право человека убить себя неотъемлемо — это было его глубокое убеждение, рожденное состраданием к ближнему. Но он также знал, что иногда помощь друга может оказаться спасительной. Ли уже внес свою толику на похороны и послал убитым горем семействам по корзине съестных припасов.
Так вот нежданно-негаданно Ли Чонг стал хозяином аббервиллевского сарая — справная крыша, крепкий еще пол, два окна, дверь. Правда, в нем гора рыбной муки, а запах у нее на любителя и с трудом выветривается. Ли Чонг прикинул, нельзя ли пустить его под склад для своих товаров. Но тут же отбросил эту мысль. Дом стоял на отшибе, а в окно залезть ничего не стоит. Он барабанил золотым кольцом по резиновой подушечке, прикидывая, что делать с обновкой; тут как раз дверь отворилась и вошел Мак. Мак был старейшина, вождь, наставник и в совсем крошечной степени эксплуататор небольшого сообщества, которое объединялось отсутствием у его членов семей и денег, а также тем, что, кроме еды, питья и удовольствий, никаких других потребностей у них не было. В отличие от других людей, которые в погоне за жизненными благами разрушают себя и падают замертво в двух шагах от вожделенной цели, Мак и его приятели продвигались к своей цели без суеты, ничего не планируя, а преуспев, мирно пользовались плодами достигнутого. Мак и Элен, молодой человек, обладающий огромной физической силой; Эдди, запасной бармен у «Ла Иды»; Хьюги и Джонс, ловившие иногда котов и лягушек для Западной биологической, жили в больших ржавых трубах, лежавших на пустыре по соседству с лавкой Ли Чонга. Сказать точнее, они жили в трубах, когда шел дождь, в ясную же погоду обретались под сенью черного кипариса, росшего на возвышении. Ветви кипариса свисали вниз наподобие полога, под которым было хорошо лежать, наблюдая за ходом жизни всего Консервного Ряда.
Увидев Мака, Ли Чонг слегка напрягся и глаза его обежали лавку, не явились ли следом его дружки — Эдди или Элен, Хьюги или Джонс, и не прицеливаются ли они к какой-нибудь банке.
Но Мак выложил свою карту с покоряющей откровенностью.
— Ли, — сказал он. — Мы с Эдди и с другими слышали, что теперь ты хозяин участка Аббервилля.
Ли кивнул.
— Мы с друзьями подумали, может, ты позволишь нам поселиться в его сарае. Мы будем сторожить твою собственность, — поспешил он прибавить. — Никто не посмеет залезть туда или причинить какой-нибудь ущерб… А ведь могут выбить стекла, сам знаешь… — Мак стал перебирать грозящие опасности:— Или начнегся пожар. Без сторожа плохо.
Ли откинул назад голову, посмотрел в глаза Маку сквозь половинки стекол и глубоко задумают, средний палец замедлил барабанную дробь. В глазах Maкa он прочитал благожелательность, братскую солидарность, готовность осчастливить всех. Почему же все-таки Ли Чонг чувствовал себя чуть-чуть как бы загнанным в угол? Почему ум его прощупывал очередной шаг так же осторожно, как кот, пробирающийся среди кактусов? Придумано прекрасно, даже отдаст филантропией. В уме Ли рисовалось возможное развитие событий. Нет, пожалуй, вполне вероятное развитие, и палец его задвигался еще медленнее. Он мысленно услыхал свое «нет», сказанное Маку, и увидел разбиваемые окна. Мак повторно предложит охранять его собственность, опять получит отказ, и Ли увидел языки пламени, лижущие стены. Мака, бегущего тушить пожар, почуял запах дыма. Палец перестал стучать по резиновой подушечке. Да, Ли положен на обе лопатки. Он понимал это. Ему оставили только возможность сохранить лицо.
— Вы хотите алендовать мой дом? Жить как в отеле?
Лицо Мака засияло улыбкой. Конечно, он человек великодушный.
— Это мысль! — воскликнул он. — Какая будет плата?
Ли задумался. Сколько ни назови — не имеет значения, все равно ему не видать ни цента. А значит — надо назвать настоящую хорошую цену — как иначе сохранишь лицо? И Ли сказал:
— Пять доллалов в неделю.
Мак поддержал игру и довел ее до конца.
— Надо поговорить с ребятами, — сказал он, выражая голосом сомнение. — На четырех долларах не сойдемся?
— Пять доллалов, — не уступал Ли.
— Ладно, пойду послушаю, что скажут мои.
Так вот и состоялась та сделка. И все были счастливы. Если кто и говорил, что Ли Чонг, верно, хочет разорить себя, то сам Ли Чонг так не думал. Окна в доме целы. Пожара нет и не будет; пусть он в глаза не видел арендной платы, но если у его жильцов заводились деньжата. что было не так уж и редко, никому в голову не приходило тратить их на стороне, а не в лавке Ли Чонга. Что получил Ли Чонг? Пятерых постоянных покупателей. Но это не все. Случись, забредет в лавку пьяный и начнет дебош, случись, парни из Нового Монтерея спустятся вниз с недобрыми намерениями, Ли Чонг только крикнет, и его жильцы со всех ног мчатся ему на помощь.
Сделка эта имела еще один плюс. Разве кто станет красть у своего благодетеля? Уцелевшие таким образом банки бобов, помидоры, молоко и арбузы с лихвой возмещали Ли Чонгу мифическую арендную плату. А то, что в бакалейных лавках Нового Моптерея в последнее время участились кражи, было не его заботой.
Мак с друзьями въехал в сарай Абервилла, рыбная мука сысхала. С чьей-то легкой руки их новое жилье стало именоваться Королевской ночлежкой. Нo кому мы обязаны этим названием, и по сей день тайна. Живя в трубах и под кипарисом, друзья меньше всего думали о мебели и других бытовых удобствах, которые суть не только показатель цивилизованной жизни, но и рубеж, с которого она начинается, — ни в трубах, ни под кипарисом для них просто не было места. Поселившись в Королевской ночлежке, парни сразу принялись обустраивать ее. Сначала появился стул, потом кровать, потом еще стул. Хозяин скобяной лавки снабдил новоселов банкой красной краски, сам того не ведая, отчего и расстался с ней без всякого сожаления; и с тех пор каждая новая вещь красилась в красный цвет, что было не только красиво, но и разумно: вещь становилась неузнаваемой. И началась в Королевской ночлежке жизнь. Парни садились у себя перед входом, и взгляд их устремлялся через линию, пустырь, улицу, прямо в окна Западной биологической. Ночью оттуда слышалась музыка. Они видели, как Док шел через улицу к Ли Чонгу за пивом. И Мак говорил: «Док — славный парень. Надо будет сделать для него что-то приятное».
ГЛАВА II
Слово — это символ и наслаждение, оно заглатывает людей, деревья, траву, заводы, китайских мопсов. И Вещь становится Словом, а потом опять Вещью, но теперь уже ввязанной, вплетенной в некую фантастическую ткань. Слово заглотило Консервный Ряд, подержало и выплюнуло, и он заиграл отблесками зеленого мира и отраженной морем небесной голубизной. И вот уже Ли Чонг не просто китаец-лавочник. Да иначе и быть не может. Есть в нем и зло и добро, и они взаимно уравновешены — восточная планета, которую держит на орбите сила притяжения Лао Дзы, а стремится сорвать с орбиты центробежная сила кассы и счетов. Так вот и вращается Ли Чонг, так и крутится от бакалейных товаров к духам прошлого. Суровый человек — если на уме банка консервировапицх бобов, добрый — если в мыслях прах деда. Ведь Ли Чонг раскопал могилу на китайском кладбище, нашел желтые кости, череп с прилипшими седыми жесткими волосами. Осторожно сложил кости в ящик-бедренные и берцовые (совершенно прямые), тазовые, ключицы, посредине череп, а по бокам — дугами — ребра. И послал своего хрупкого, упакованного в ящик деда за моря-океаны покоиться в священной земле предков.
Мак с друзьями тоже вращались на своих орбитах. Орбиты эти — Добродетель, Милосердие, Красота суматошных, битых-перебитых, безумных — Монтерея-малого и Монтерея-вселенского, где люди с голоду и перепугу уничтожают желудки в погоне за нелепой пищей, где люди, жаждущие любви, уничтожают вокруг себя все достойное любви. Мак и его парни — орбиты Добродетели, Милосердия, Красоты. На этой Земле, которой правят тигры с язвой желудка и телицы, обуреваемые похотью к волам; на Земле, которую подметают слепые шакалы, Мак с ребятами умудрялись мирно делить трапезу с тиграми, ублажать обезумевших от страсти телиц; утаивать крошки для чаек Консервного Ряда. Какая польза человеку приобрести весь мир, получив взамен язву желудка, опухоль простаты и косоглазие? Мак и его ребята избежали западни, уклонились от чаши с ядом, перескочили через капкан, а эти несчастные, защелкнутые мышеловкой, с отравой в желудке, спеленутые по рукам и ногам, кричат на них, осыпают бранью: и веревка-то по ним плачет, и бездельники они, паршивая овца в стаде, воры, подонки, бродяги. Отче наш иже еси повсюду в природе, наделивший даром выживания койота и крысу, воробья, муху и моль, Ты, конечно, должен питать великую, неизреченную любовь ко всем бездельникам, паршивым овцам и бродягам, среди которых числятся и Мак с ребятами. Добродетель и милосердие, лень и радость бытия. Отче наш иже еси повсюду в природе.
ГЛАВА III
Лавка Ли Чонга справа от пустыря (хотя почему пустырь — ведь он завален старыми котлами, ржавыми трубами, тяжелыми балками, грудами пустых пятигаллонных банок, — сказать не может никто). За пустырем железнодорожная линия и Королевская ночлежка. По левой его границе стоит исполненный строгого достоинства публичный дом Доры Флад, добропорядочное, чистое, честное, старомодное увеселительное заведение, где человек может выпить в кругу друзей кружку пива. Это не ночной дешевый бардак для случайного посетителя: это серьезный добродетельный клуб, построенный, учрежденный и вымуштрованный Дорой. Эта мадам, пятьдесят лет умно распоряжаясь своими талантами — тактом, честностью, состраданием и здравомыслием, снискала уважение всех умных, образованных и добрых людей. По той же причине ее ненавидело все лицемерное и похотливое сообщество местных замужних девственниц, чьи мужья уважали семейный очаг, но особенной любви к нему не питали.
Дора — великая женщина, пышнотелая и высокая, с огненно-рыжими волосами и пристрастием к изжелта-зеленым вечерним платьям. Она содержала честное заведение, где весь товар был в одной цене, где запрещалось пить крепкие вина, кричать и сквернословить. Среди ее девочек было несколько ни на что не годных из-за возраста или болезней, еще несколько могли работать не больше трех раз в месяц, но все они имели право на свои три кормежки в день. В патриотическом порыве Дора назвала свое заведение «Ресторация Медвежий стяг» [На флаге Калифорнии изображен медведь. Монтерей находится в этом штате], и ходило много баек о людях, заглянувших к Доре, чтобы заморить червячка. Обычно в доме жило двенадцать девочек, включая старушек. Кроме них, штат составляли повар-грек и привратник, по крайней мере так назывался этот мужской персонаж. В действительности на нем лежало множество деликатных, а подчас и опасных обязанностей. Он прекращал драки, выдворял пьяных, останавливал истерики, лечил головную боль и заведовал баром. Перевязывал порезы и синяки; днем якшался с местными полицейскими; и поскольку добрая половина «девочек» исповедовала Христианскую науку [Христианская наука — христианская религиозная секта, отрицающая врачей. Ее учение изложено в книге «Наука и здоровье», написанной основательнидей секты Мэри Бэккер], по воскресеньям читал вслух очередную порцию из «Науки и здоровья». Предшественник нынешнего привратника, будучи человеком не очень уравновешенным, кончил печально (об этом несколько ниже). Нынешний же, Альфред, сумел возвыситься над своим окружением, мало того, со временем сумел и окружение подтянуть до себя. Он знал, каких мужчин можно пускать и каких нельзя. И, конечно, он знал о частной жизни граждан Монтерея больше, чем кто-нибудь другой в городе.
Что касается Доры, жизнь ее была не такой уж безоблачной. Нарушая закон, или вернее букву закона, ей приходилось быть дважды законопослушной противу своих сограждан. В заведении у нее не было драк, попоек, грубостей, нчаче Дору давно бы закрыли. И еще, нарушая закон, ей приходилось откупаться благотворительностью особенно крупных масштабов. Каждый старался оттяпать у Доры кусок побольше. Давала полиция бал в пользу своего пенсионного фонда, все вносили по доллару, Дора вносила пятьдесят. Коммерческая палата обустраивала свой парк, торговцы города вносили по пять долларов, Дору просили дать сто, и сна давала. Кто бы на что ни собирал: Красный Крест, Общественная касса, бойскауты — Дорины незаконные, неафишируемые, грязные, постыдные, греховные деньги всегда возглавляли благотворительный список. Но особенно пострадала Дора во время депрессии. Она видела голодных детей, безработных отцов, отчаявшихся матерей и два года налево-направо платила долги несчастных, не имевших ни цента на кусок хлеба, так что под конец чуть сама не вылетела в трубу. Девочки Доры были приветливы и хорошо воспитаны. Они никогда не заговаривали на улице с мужчиной, даже если принимали его накануне ночью.
Нынешний сторож Альф поступил в «Медвежий стяг» после случившейся там трагедии, которая никого не оставила равнодушным. Прежнего сторожа звали Уильям, вид у него был нелюдимый, лицо хмурое. Днем работа его не обременяла, и он изнывал в обществе стольких женщин. В окна он видел, как Мак с ребятами сидят на трубах посреди пустыря в зарослях мальвы, болтают ногами, загорают и не спеша философствуют о предметах интересных, но малозначительных. То и дело, замечал он, кто-нибудь вынимал из кармана бутылку тенисовки и, вытерев рукавом горлышко, отпивая, передавал другим. Уильяму очень хотелось посидеть с этими славными ребятами. И однажды он не вытерпел, пошел на пустырь и сел на трубу. Разговор тотчас смолк, наступила настороженная, недобрая тишина. Немного спустя Уильям встал и уныло побрел обратно в «Медвежий стяг», посмотрел в окно — ребята опять пустились беседовать; Уильяму стало совсем тошно. Его некрасивое лицо потемнело, губы покривились от невеселых размышлений.
На другой день он опять вышел, прихватив с собой бутылку виски. Мак с ребятами виски выпили, что они дураки, что ли. Но весь их разговор с ним ограничился двумя фразами — «Счастливо тебе» и «Да ты взгляни на себя».
Уильям опять скоро вернулся в «Медвежий стяг» и опять смотрел на ребят в окно. До него донеслись громко сказанные Маком слова: «Не люблю, черт побери, сутенеров!» Это была беспардонная ложь, но ведь Уильям этого не знал. Просто Мак с ребятами не любили Уильяма.
Уильям совсем пал духом. Бродяги не принимают его к себе в компанию, он даже для них слишком плох. Уильям был всегда склонен к самобичеванию. Он надел шляпу и побрел один по берегу до самого маяка. Постоял немного на маленьком уютном кладбище, слушая, как рядом бьются о берег волны, и будут так биться до скончания века. Он стоял и думал угрюмую тягостную думу. Никто не любит его. Никто его не жалеет. Он считается у них привратником, а на самом деле никакой он не привратник, он сутенер, грязный сутенер; самое низкое существо на свете. Потом он подумал, что ведь и он, как все, имеет право на жизнь, на счастье. Видит бог, имеет. Он пошел обратно, клокоча от гнева; подошел к «Медвежьему стягу», поднялся по ступенькам, и гнев его улетучился. Был вечер, музыкальный автомат играл «Осеннюю луну», Уильям вспомнил, что эту песню любила его первая девушка, которая потом бросила его, вышла замуж и навсегда исчезла из его жизни. Песня очень его расстроила. И он пошел к Доре, которая пила чай у себя в гостиной.
— Что случилось? Ты заболел? — спросила Дора, увидев вошедшего Уильяма.
— Нет, — ответил Уильям. — Но какая разница? В душе у меня мрак. Думаю, пора это дело кончать.
Дора немало перевидала на своем веку психопатов. И считала, что шутка — лучший способ отвлечь от мыслей о самоубийстве.
— Только кончай, пожалуйста, не в рабочее время. И ковры смотри не испорти.
Набрякшая свинцовая туча тяжело опустилась Уильяму на сердце; он медленно вышел, прошел по коридору и постучал в дверь рыжей Евы. Ева Фланеган была девушка верующая, каждую неделю ходила на исповедь. Она выросла в большой семье среди многочисленных сестер и братьев, но, к несчастью, любила пропустить лишний стаканчик. Ева красила ногти и вся перепачкалась — тут как раз Уильям и вошел. Он знал, что Ева уже крепко навеселе, а Дора не пускала девушек в таком виде к клиентам. Пальцы у нее были чуть не до половины вымазаны лаком, и она злилась на весь мир.
— Чего надулся, как мышь на крупу? — вскинулась она.
Уильям тоже вдруг обозлился.
— Хочу с этим кончать! — выпалил он, ударив себя в грудь.
Ева взвизгнула.
— Это страшный, гадкий, смердящий грех, — выкрикнула она и прибавила: — Как это на тебя похоже — убивать себя, когда я совсем набралась храбрости ехать в Ист Сент-Луис. Подонок ты после этого.
Уильям поскорее захлопнул дверь и поспешил на кухню, еще долго провожаемый ее визгом. Уильям очень устал от женщин. Повар-грек мог показаться после них ангелом.
Грек, в большом фартуке, с засученными рукавами жарил в двух больших сковородках свиные отбивные, переворачивая их пешней для льда.
— Привет, сынок. Как дела?
Котлеты скворчали и шипели на сковородке.
— Не знаю, Лу, — ответил Уильям. — Иногда я думаю — самое лучшее взять и — чирк!
Он провел пальцем по горлу.
Грек положил пешню на плиту и повыше закатал рукава.
— Знаешь, что я слышал, сынок, — сказал он. — Если кто об этом говорит, никогда этого не сделает.
Рука Уильяма потянулась за пешней, она легла ему в ладонь легко и удобно. Глаза впились в черные глаза грека, он прочел в них интерес и сомнение, сменившиеся под его взглядом растерянностью и страхом. Уильям заметил перемену: в первый миг грек почувствовал, что Уильям может совершить это, в следующий он знал — Уильям это совершит. Прочитав приговор в глазах грека, Уильям понял, что назад ходу нет. Ему стало очень грустно, потому что теперь он понимал, как это глупо. Рука его поднялась, и он вонзил острие пешни себе в сердце. Удивительно, как легко оно вошло. Уильям был привратником до Альфреда. Альфред нравился всем. Он мог сидеть с парнями Мака на трубах, когда хотел. Он даже бывал гостем в Королевской ночлежке.
ГЛАВА IV
Вечером в сумерки в Консервном Ряду случалась одна странная вещь. Случалась в те короткие, тихие серенькие минуты сразу после захода солнца, до того, как загорятся уличные фонари. С городского холма спускался старый китаец, миновал Королевскую ночлежку, шел по куриной тропе и пересекал пустырь. На нем была допотопная соломенная шляпа, синие джинсы, такая же куртка и тяжелые башмаки, подошва одного наполовину оторвалась и шлепала, когда он шел. В руках он нес закрытую крышкой корзину. У него было худое коричневое лицо, точно в жгутах вяленого мяса, и глаза были коричневые, даже белки, и сидели они так глубоко, точно смотрели на вас со дна колодца. Он появлялся в сумерки, переходил улицу и двигался дальше в проем между Западной биологической и заводиком «Эдиондо» [Вонючий (исп.)]. Затем пересекал маленький пляж и терялся между стальных и деревянных свай, поддерживающих пирс. До рассвета его никто больше не видел.
А на рассвете в те минуты, когда фонари уже не горят, а солнце еще не встало, старик-китаец отделялся от свай, пересекал пляж, улицу. Корзинка у него была мокрая, тяжелая, с нее капало. Оторванная подошва башмака громко хлопала по дороге. Он шел вверх по холму до второй улицы, входил в ворота в высоком длинном заборе и исчезал до вечера. Люди в домах, услыхав стук подошвы, на миг просыпались и тут же снова засыпали. Вот уже много лет слышится этот стук, но никто так и не привык к нему. Одни люди думали, что китаец Бог; старики говорили, что это сама смерть, а мальчишки кричали, что это просто-напросто старый смешной китаец. Ведь мальчишкам все старое и странное всегда кажется смешным. Но они не дразнили его, не кричали ему вслед, потому что все-таки он шел, окутанный крохотным облачком опасности. И только один красивый и смелый мальчишка десяти лет, Энди из Салинаса, отважился подразнить старого китайца. Энди гостил в Монтерее и как-то увидел старика. Он сразу понял, что должен подразнить его, иначе утратит самоуважение; но даже храбрый Энди ощутил это облачко опасности. Каждый вечер следил он за стариком и в нем боролись два чувства — дерзание и страх. И вот однажды Энди собрался с духом и пошел за китайцем, распевая тонким мальчишеским голоском дразнилку:
Китаеза говорила: Я хвостатая горилла. Белый Джоняя прибежал, Хвост китайцу оторвал.Старик остановился и обернулся. Энди тоже остановился. Коричневые, глубоко запавшие глаза уставились на Энди, тонкие, как шнур, губы задвигались. Что случилось потом, Энди так никогда и не понял, но не забыл. Глаза старика стали расти, шириться, и вот уже старик растворился в них. Остался только один огромный коричневый глаз величиной с церковную дверь. Энди заглянул в эту блестящую прозрачную дверь и увидел пустынную землю, плоскую на многие мили, обрамленную вдали цепью фантастических гор, похожих на коровьи и собачьи головы, на гигантские грибы и юрты. Земля эта поросла жесткой короткой травой, там и здесь возвышались на ней песчаные бугорки и возле каждого сидел зверек, похожий на суслика. Кругом было пустынно, одиноко, кроме него — ни души. Энди не выдержал и заплакал. Чтобы не видеть этого ужаса, он зажмурился; когда открыл глаза, опять оказался в Консервном Ряду, а старый китаец, хлопая подошвой, удалялся, завернув в проем между Западной биологической и заводиком «Эдиондо». Только один Энди отважился подразнить старого китайца, но и он никогда больше этого не делал.
ГЛАВА V
Западная биологическая стояла по ту сторону улицы, окнами прямо на пустырь. Лавка Ли Чонга была по диагонали направо от него, «Ресторация Медвежий стяг» Доры — налево. Западная биологическая торговала красивым и странным товаром. Товаром этим были морские животные: губки, оболочники, актинии, всевозможные морские звезды, моллюски, усоногие раки, черви, ползающие цветы моря, морские ежи — колючие, невзрачные головачи, крабы, морские коньки, морские козочки — такие прозрачные, что почти не дают тени, — словом, сказочный многоликий мир меньших братьев, обитателей океана. Западная биологическая продавала жуков, улиток, пауков, гремучих змей, крыс, пчел, ящериц-ядозубов. Живность — на любой вкус. Имелись еще человеческие зародыши, целые и в срезах, помещенные на стеклышки. Здесь препарировали для университетов акул: из них выпускали кровь и заполняли вены красной жидкостью, артерии голубой, чтобы наглядно исследовать кровеносную систему. Были и кошки с цветными артериями и венами, и даже лягушки. В Западной биологической вы могли заказать любой живой организм, пребывая в полной уверенности, что рано или поздно вы его получите.
Лаборатория — невысокое здание, фасадом на улицу. Первый этаж — кладовая с полками до самого потолка, на которых расставлены банки с заспиртованными экспонатами. Здесь же моечная и инструменты для бальзамирования и инъекций. Пройдя через задний двор, вы попадете в сарай на сваях, вбитых в дно океана, где находятся бетонные резервуары для более крупных животных: акул, скатов, осьминогов — для каждого свой. Но вернемся к фасаду — высокое крыльцо ведет к входной двери, за дверью — контора, где стоит письменный стол, заваленный нераспечатанной корреспонденцией, ящичками с картотекой и сейф с незакрывающейся дверцей. Однажды дверцу по ошибке захлопнули, кода никто не знал, а там осталась открытая банка сардин и кусок сыра рокфора. Пока узнавали код, в сейфе назревали неприятности. Вот тогда Док и придумал наказание для банка, если он в чем-нибудь перед вами провинится. «Снимите в банке сейф для хранения ценностей, — сказал он, — поместите туда свежую семгу, а сами уезжайте куда-нибудь на полгода». После этой истории с сейфом решили еду туда больше не ставить. Теперь еда в картотечных ящиках. За конторой комната, где в аквариумах живет прорва морской нечисти. Комната набита всякой всячиной — микроскопы, предметные стекла, полки с препаратами, химическая посуда, верстаки, маленькие электромоторчики, реактивы. Ваш нос различит в ней многочисленные запахи — сушеных морских звезд, морской воды, ментола, озона от работающих моторчиков, оберточной бумаги, соломы, веревки, острый раздражающий запах гремучих змей и терпкий, тошнотворный — крыс; отсюда разит хлороформом, эфиром, карболкой, формалином, уксусной кислотой; прибавьте еще сюда запахи высокосортной стали, смазки, бананового масла и резиновых трубок, сушащихся шерстяных носков и сапог. Из задней двери в отлив несет водорослями и раками, в прилив — соленой морской пеной.
Левая дверь ведет в библиотеку. Стены в ней от пола до потолка заняты полками; на них ящики с брошюрами и оттисками, разными книгами: словарями, энциклопедиями, поэзией, пьесами. У стены — огромный проигрыватель, рядом коробки с сотней пластинок. Под окном — кровать красного дерева, на стенах и полках приколоты на уровне глаз репродукции Домье, Грэма, Тициана, Леонардо, Пикассо, Дали, Джорджа Гроза, так что можете полюбоваться ими в любую минуту. В этой небольшой комнате всюду стулья и скамьи. Иногда в нее набивается до сорока человек.
За этой библиотекой или музыкальной комнатой — как хотите — кухня, узкое помещение с газовой плитой, колонкой и мойкой. Хотя кое-какую еду и держали в картотечных ящичках в конторе, тарелки, масло и овощи стояли за стеклом книжных полок на кухне. Это не была чья-то прихоть. Так получилось само собой. Под потолком висели окорока, колбаса-салями и черные трепанги. За кухней была уборная и душ. Пять лет уборная протекала, пока среди гостей не нашелся умник, заклеивший трещину кусочком жевательной резинки.
Хозяин Западной биологической и ее работник — Док. Он невысок ростом, но крепок и силен. Его щуплая на вид фигура может ввести в заблуждение — в минуты гнева Док бывает страшен. Его обрамленное бородой лицо напоминает Христа и сатира, и впечатление это не обманчиво. О нем говорят, что он помогает девушкам выпутаться из беды, и тут же впутывает их в новую. У Дока руки думающего хирурга и трезвый, но добрый ум. Увидев собаку, Док приветливо касается шляпы, и собака отвечает ему улыбкой. Если необходимо, он может убить, но ради удовольствия и мухи не обидит. Боится он, и боится сильно, только одного — замочить под дождем голову и потому летом и зимой носит непромокаемую шляпу. Он может идти в воде по грудь, не испытывая неудобства, но стоит одной капле дождя упасть на голову, он чуть не падает в обморок от ужаса.
За несколько лет Док так сжился с Консервным Рядом, что его и самого брало удивление. Он стал кладезем искусства, науки и философии. В лаборатории девочки Доры впервые в жизни услышали старинные литургии и Грегорианские песнопения. Ли Чонг слушал здесь Ли Бо [китайский поэт VIII века] по английски. Анри-художник познакомился с Книгой мертвых и был так потрясен, что изменил своей творческой манере. Прежде он творил с помощью клея, ржавчины и цветных петушиных перьев; теперь же материалом для картин стали исключительно ореховые скорлупки. Док терпеливо выслушивал всякий бред и умел переиначить его так, что бред становился в ваших глазах мудростью. Ум его не знал шор, сострадание не знало исключений. Он обладал даром говорить с детьми, втолковывал им самые серьезные вещи, и они понимали его. Он жил в бурлящем мире чудес. Он был любвеобилен как кролик и мягок как черт знает что. Его знакомые были у него в долгу, И все, подумав о мысленно прибавляли: «Надо обязательно сделать для Дока что-нибудь хорошее».
ГЛАВА VI
Док собирал морских животных в бухте Большого прилива у мыса. Место это сказочное: во время прилива желтовато-белая пенящаяся вода бурлила от волн, бегущих вдогонку приливной воде со стороны сигнального буя на скалах. В отлив же бухта становилась тихой и ласкающей взгляд. Вода была кристально чистая, а на дне разыгрывались фантастические представления: обитатели моря сновали туда-сюда, сражались, закусывали, размножались. Крабы спешили от одной колышущейся водоросли к другой. Морская звезда садилась на мидию или морское блюдечко, пускала в ход миллионы крошечных присосков и начинало тянуть вверх с неправдоподобной силой, пока не отрывала жертву от скалы. Наружу вытягивался желудок звезды и обволакивал добытую пищу. Оранжевые, в крапинках аэлиды изящно скользили над скалами, их вуаль полоскалась, как юбки испанских танцовщиц. Черные угри высовывали головы из расщелин, высматривая добычу. Раки-щелкуны громко щелкали своими клешнями. Весь этот яркий прекрасный мир был точно помещен под стекло. Раки-отшельники как очумелые сновали по песчаному дну. Вот один увидел пустую раковину, которая понравилась ему больше своей; он вылез из старой, подставив на миг врагу свое мягкое тельце, и тут же влез в новую. Через каменную гряду перекатилась волна, потревожила и вспенила гладкую, как стекло, воду, но скоро она опять прозрачна, покойна, ласкает глаз и — смертоносна: вон краб ухватил за ножку сородича и тянет изо всех сил. Актиния распустила зеленовато-желтые переливающиеся лепестки, приглашая какую-нибудь притомившуюся кроху понежиться в ее объятиях; и если соблазненный ею краб или бычок опрометчиво примет приглашение, лепестки скрутятся жгутом, жалящие клетки выстрелят ядовитыми стрелами и жертва ослабеет, впав в забытье, а тем временем едкие пищеварительные соки начнут делать свое черное дело.
Но вот крадучись выходит на охоту тихий убийца — осьминог; выплывет медленно, точно мягкое серое облако, уподобляясь то мотку водорослей, то камню, то груде гниющей плоти; его зловещий козлиный глаз холодно озирает все вокруг. Плывет, переваливаясь, все ближе к увлеченному едой крабу. Вот вспыхнул свирепо его желтый глаз, тело налилось пунцовым и пульсирует в предвкушении пищи. Еще миг — он легко встал на самые кончики щупалец, напрягся, как готовая к прыжку кошка. И в бешенстве пал на краба, выпустив клубы черной жидкости. Она постепенно обволокла бьющуюся живую массу, внутри которой совершалось убийство. На выступивших из воды камнях усоногие раки булькают под своими панцирями, а бедняги блюдечки на глазах высыхают под лучами солнца. Над камнями роятся черные мухи, падкие до всякой дохлятины. Резкий йодистый дух, источаемый водорослями, известковый от хитиновых скелетов, запахи всесильных живых белков, спермы, смешались в воздухе. На камнях морские звезды мечут из межлучевых пазух сперму и яйца. Ароматы жизни и изобилия, смерти и пищеварительных соков, гнили и рождения ударяют по нервам. С каменной гряды летят соленые брызги, за грядой притаился океан — набирает приливную силу. А над всем протяжно гудит сигнальный буй, как печальный, томящийся в неволе бычок.
Док вышел с Эленом собирать в бухте морских животных. Элен жил с Маком и ребятами в Королевской ночлежке. Он получил свое имя по чистой случайности, что и предопределило его дальнейшую жизнь, ибо все в ней происходило по воле случая. Его мать за восемь лет родила семерых детей. Элен был восьмой; и бедная женщина, вконец очумев, не разобралась с полом младенца. Стараясь обуть, одеть и накормить всю эту ораву, включая отца, она вертелась как белка в колесе. Чем только не пробовала она зарабатывать — делала бумажные цветы, разводила дома грибы, держала кроликов ради мяса и шкурок, а муж ее, сидя в полотняном шезлонге, давал ей бесчисленные советы, которые подсказывал его критический и изобретательный ум. У нее была тетка по имени Элен, о которой поговаривали, что она застрахована. В честь ее и назвали восьмого ребенка. Когда до матери дошло, что родился мальчик, она уже так привыкла к этому имени, что не захотела его менять. Элен вырос, четыре года провел в обычной школе, четыре в исправительной колонии; и ни тут, ни там ничему не научился. Известно, что в колониях прививают жестокость и другие дурные наклонности, и что выходят оттуда готовые преступники. Но Элен был на редкость невосприимчив. Ничего не вынес ни из школы, ни из колонии; так и остался на всю жизнь вполне невинным по части порока, равно как по дробям и делению столбиком. Больше всего на свете Элен любил вести разговор, но слова для него ничего не значили — пленяла нескончаемая череда звуков. И вопросы он задавал не из любознательности, а чтобы протянуть разговор. Ему было двадцать шесть лет, он был располагающей внешности, темноволос, силен, отличался верностью и готовностью услужить. Элен часто ходил с Доком собирать морских тварей и, получив точное указание, что делать, исполнял все наилучшим образом. Пальцы у него были легкие и цепкие, как щупальца осьминога, схватывали и держали крепко, как лепестки актинии. Он уверенно ступал по скользким камням, охота явно доставляла ему удовольствие.
Док вышел охотиться в непромокаемой шляпе и высоких резиновых сапогах. Элен шлепал по воде в кедах и джинсах. Они собирали морских звезд: у Дока был заказ на три сотни.
Элен поднял со дна лиловатую звезду и опустил ее в свой почти полный мешок.
— А что с ними делают? — сказал он.
— С кем? — спросил Док.
— С морскими звездами. Вы ведь их продаете бочонками. А есть их нельзя.
— Их изучают, — терпеливо ответил Док, вспомнив, что он уже говорил это раз десять. Но Док неколебимо верил, что если его опрашивают, значит хотят что-то узнать. Так, во всяком случае, обстояло с ним самим. Он спрашивал только тогда, когда что-то интересовало его. И не представлял себе, как может быть иначе. А Элен любил самый разговор и наловчился вести его нескончаемо; задавал вопросы так, что ответы на них заключали ростки новых вопросов.
— А что в них изучать? — продолжал он. — И всего-то морская звезда. Вон их здесь сколько, тыщи. Я могу запросто собрать вам тыщу этих звезд.
— Морская звезда интересный и сложный организм, — ответил насторожившись Док. — А эти к тому же поедут на Средний Запад в университет.
— А там морские звезды не водятся? — сел Элен на своего конька.
— Там нет океана.
— Ух ты! — воскликнул Элен, и ум его заметался в поисках очередного вопроса: невозможно стерпеть, чтобы разговор прекратился. Но увы, на ум ничего не шло. А тут еще Док возьми и сам задай вопрос. Теперь придется рыскать в извилинах за ответом; а рыскать в извилинах Элена все равно, что бегать по заброшенному музею среди груд неопознанных экспонатов. Чего только не осело в памяти Элена. Он никогда ничего не забывал, но ни разу не удосужился навести порядок в этих завалах. Все было свалено в общую кучу, как рыболовные снасти на дне лодки — крючки, грузила, лески, приманка, багры — все вперемешку.
— Как дела в Королевской ночлежке? — спросил Док.
Элен пальцами расчесал темные волосы и напрягши ум отвечал:
— Неплохо. Этот парень Гай теперь живет с нами. Жена его колотит. Да ладно бы когда не спал, а то дождется, когда уснет, и давай бить… Очень неприятно. Гай проснется, даст сдачи и опять уснет. Так она не угомонится, опять давай кулаками махать. Глаз не дает сомкнуть. Он собрался и ушел к нам.
— Это что-то новое, — ответил Док. — Она ведь обычно шла в полицию и его сажали в тюрьму.
— Ха! — воскликнул Элен. — Чего вспомнили. Тогда в Салинасе была старая тюрьма и Гай рвался на свободу. Месяц казался годом. А теперь там новая тюрьма, такая благодать, в камере тебе радио, койки мягкие и шериф — свой парень. Посадят Гая в тюрьму, а он там блаженствует. И жена решила больше его в тюрьму не сажать. Наладилась бить сонного. Гай говорит, нервы у него совсем сдали. Вы ведь знаете, сам он драться не любит. Но как тут стерпишь, себя уважать не будешь. Он говорит, все ему осточертело. И теперь он живет с нами.
Док выпрямился. Волны стали уже перехлестывать через скалы. Начинался прилив, и рожденные им ручейки заструились по камням. Со стороны буя задул свежий ветер, принеся лай морских львов. Док сдвинул шляпу на затылок.
— Звезд уже достаточно, — сказал он и, подумав, прибавил:— Послушай, Элен, у тебя на дне мешка штук шесть-семь маленьких абалоний [Морское ухо, моллюск]. Если нас остановит рыбнадзор, скажешь, что поймал их по моему распоряжению, идет?
— Эх ты, черт, идет.
— Видишь какое дело, — продолжал Док, — конечно, можно сказать, что я получил заказ на абалоний. А вдруг инспектор надзора решит, что я злоупотребляю своей лицензией на отлов? И этих абалоний ем.
— Эх ты, черт, — повторил Элен.
— Та же история с промышленным спиртом. В этом надзоре сидят очень подозрительные люди. Они уверены, что я их спирт пью. Они про всех так думают…
— А вы его правда пьете? — спросил Элен.
— Совсем немного, — ответил Док. — В него добавляют какую-то гадость. И ее очень трудно отделить.
— Совсем не гадость. Мы с Маком пили. А что они туда добавляют?
Док хотел было ответить, но вовремя спохватился, заметив, что Элен опять взялся за свое.
— Пора уходить, — сказал он. Вскинул на плечо мешок с морскими звездами. И про абалоний в мешке Элена больше не было сказано ни слова.
Элен пошлепал за Доком по дну заводи и дальше по скользкой тропинке, взбегающей на берег. Маленькие крабы врассыпную улепетывали у них из-под ног. Элен чувствовал, что абалоний лучше не касаться, воздвигнуть над ними бетонное надгробье и забыть.
— А художник опять приходил к нам, — предложил он новую тему.
— Приходил?
— Да. У нас висят его картины. Из петушиных перьев. Он сказал, их надо переделать, заменить перья на ореховые скорлупки. Он сказал, у него теперь новый этот… как его… материал.
— Он все еще строит лодку? — со смешком спросил Док.
— Строит, — кивнул Элен. — Всю переделал снаружи. А теперь, кажется, хочет совсем разобрать. И начать все по новой. Он немного того, а, Док?
Док остановился, опустил мешок на землю и перевел дыхание.
— Говоришь, немного того? — сказал он. — Думаю, что да. Так же, как мы все, только на свой манер.
Эта мысль еще не приходила Элену в голову. Он ощущал себя кристально чистым сосудом; но люди не понимали чистоты его помыслов и потому жизнь его была полна мути. Так что последнее замечание даже слегка рассердило его.
— А лодка-то… — воскликнул он. — Он ведь строит ее семь лет. Деревяшки под ней успели сгнить, теперь она на бетонных подставках. Столько раз все начинал сначала. Я уверен, что он того. Семь лет строить лодку!
Док сидел на земле и стаскивал резиновые сапоги.
— Ты просто не понимаешь, — мягко возразил он. — Анри любит лодки, но боится океана.
— Зачем же тогда ему лодка? — спросил опять Элен.
— Он любит лодки, — сказал Док. — Вообрази себе — вот он построил наконец лодку. Все начнут спрашивать: «Когда ты спустишь ее на воду?» Ну, он спустит ее на воду, и значит придется в ней плавать. Теперь ты видишь, он никогда не закончит эту лодку. Чтобы не плавать в ней.
Элен дослушал рассуждение Дока до середины, а дальше стал придумывать новый вопрос. Но ничего не придумал, а только не совсем уверенно произнес:
— Все-таки он того…
По черной земле среди цветущей хрустальной травки ползали сотни черных жуков-вонючек. Многие из них ползали, задрав вверх брюшко.
— Гляньте на этих вонючек, — нашелся наконец Элен, благодаря жуков в душе за то, что они так кстати здесь оказались.
— Интересные жуки, — рассеянно заметил Док.
— А почему они, когда ползают, задирают задницы?
Док скатал шерстяные носки и сунул их в резиновые сапоги, затем вынул из кармана сухие и пару легких мокасинов.
— Не знаю, — ответил он. — Я совсем недавно их обнаружил. Обыкновенные жуки и делают самое обыкновенное дело — задирают брюшко. А вот почему — ни в одной ученой книжке не сказано, да и вообще не сказано, что они задирают брюшко.
Элен перевернул на спину одного жука носком кеда, и черный блестящий жук отчаянно задергал лапками, силясь перекувырнуться.
— А вы думаете, почему?
— Думаю, это они молятся.
— Что? — поперхнулся от удивления Элен.
— Замечательно не то, что они задирают брюшко, поистине замечательно другое — то, что нам это кажется замечательным. Мы привыкли судить обо всем по себе. Когда мы сами делаем что-то странное и непонятное, то в большинстве случаев мы молимся, возможно, и они молятся.
— Давайте уйдем отсюда поскорее к черту, — сказал Элен.
ГЛАВА VII
Королевская ночлежка, такая как есть, родилась не в одночасье. Мак, Элен, Эдди, Хьюги и Джонс на первых порах относились к ней только как к укрытию от дождя ветра, как к месту, куда можно удалиться, когда все остальное для тебя заказано и всем ты уже порядочно надоел. Тогда ночлежка была всего только длинной пустой комнатой, тускло освещенной двумя маленькими окошками, а от некрашеных дощатых стен сильно разило рыбной мукой. Они тогда не любили свое жилье. Но Мак знал: необходимо внести хоть какую-то видимость быта, тем более для этих отъявленных индивидуалистов с наклонностями хищников. Армия на учениях не пользуется боевыми винтовками и пушками; их заменяют фальшивые винтовки да ряженые под пушку грузовики; и новобранцы, упражняясь с бревнами на колесах, успешно учатся обращению с настоящими полевыми орудиями.
Мак нарисовал мелом на полу пять прямоугольников — каждый семь футов в длину, четыре в ширину — и в каждом написал имя. Получилось как бы пять постелей. Обитатель Королевской ночлежки, находясь в своем четырехугольнике, обладал неотъемлемым правом собственности на него. И мог пойти войной на захватчика, простершего руку на чужое имущество. Остальная комната была совместным достоянием. Так было в самом начале. У себя в доме Мак с ребятами сидели прямо на полу, играли в карты па корточках, спали на голых досках. И если бы не капризы погоды, так бы они и жили по сей день. Причиной перемены были небывалые для этих мест ливни, длившиеся месяц. Загнанным под крышу парням в конце концов надоело корячиться на полу. Глазам невтерпеж стало созерцать весь день голые доски. Но самый дом, оказавшийся надежным убежищем в ненастье, очень им полюбился. Главная его прелесть заключалась в том, что в его стенах никогда не звучали проклятия домовладельца. Ли Чонг близко не подходил к Королевской ночлежке. И вот как-то вечером Хьюги принес походную армейскую раскладушку с порванной парусиной. Два часа зашивал он прореху рыболовной лесой. В тот вечер обитатели ночлежки, лежа в своих четырехугольниках, ошеломленно смотрели, как Хьюги ловко укладывался на свое новое ложе, и с завистью слушали, как он вздыхал от избытка чувств и комфорта; в ту ночь он заснул первый, оповестив об этом соседей здоровым храпом.
На другой день Мак, отдуваясь, притащил по идущей в гору тропе пружинный матрац без обивки, который нашел на свалке. И тут ребят как прорвало. Один перед другим украшали они Королевскую ночлежку, так что, пожалуй, даже немного переборщили. Пол теперь устилали полысевшие ковры, появилось несколько стульев с сиденьями и без оных. Маку принадлежал плетеный шезлонг, выкрашенный им в красный цвет. Еще было два или три стола и напольные часы без механизма и циферблата. Побелили стены, и как будто сразу прибавилось света и воздуха. На стенах появились картины, по большей части листы календарей, изображавших умопомрачительных красавиц с бутылкой кока-колы в руке. Анри подарил две картины периода петушиных перьев. В одном углу красовался букет позолоченных камышей, а рядом с часами было прибито опахало из павлиньих перьев.
Очень долго искали плиту; наконец нашли, что хотели — монстра в серебряных завитушках с духовкой, увитой цветочными гирляндами, и передней стенкой в никелированных тюльпанах. Но пока стали ее счастливыми обладателями, сильно намучались. Такую громадину не украдешь, а хозяин наотрез отказался с ней расстаться; Мак стал просить ее для больной вдовы с восемью детьми, которую с ходу выдумал, представив себя ее опекуном. Хозяин назначил цену — полтора доллара. Убили три дня, чтобы сбавить цену до восьмидесяти центов. Наконец ударили по рукам и дали хозяину долговую расписку, которая, по-видимому, хранится у него и по сей день. Плита была куплена довольно далеко от дома, в Сисайде, а весила она чуть не сто пятьдесят килограммов. Десять дней Мак с Хьюги искали, кто бы отвез плиту в Королевскую ночлежку; убедившись, что охотников нет, взялись сами тащить ее. Тащили три дня — от Сисайда до Консервного Ряда как-никак пять миль, ночью стояли у плиты лагерем. Наконец водворили плиту на место, и она стала очагом, центром, славой их дома.
Никелированные цветы и листья весело блестели, поистине это была жемчужина Королевской ночлежки. Затопишь ее — в доме тепло. А на черных блестящих конфорках можно даже яичницу жарить.
С появлением чудо-плиты сердца наполнились гордостью, и с тех пор Королевская ночлежка стала родным кровом. Эдди посадил у самого входа ипомею, и она оплела цветущими побегами дверь, а Элен где-то раздобыл несколько фуксий, посадил их в пятигалонные банки и поставил по обе стороны двери, отчего вход стал немного тесноват и официален. Мак с ребятами полюбили свой дом, они даже изредка его убирали. И в душе слегка презирали бездомных, которым негде приклонить головы: гордые своим домом, они иной раз приглашали кого-нибудь погостить у них день-другой.
Эдди был подсменный бармена в «Ла Иде». Он подменял Уайти, когда тот болел. А болел Уайти ровно столько, сколько мог позволить себе. Всякий раз, как Эдди подменял его, исчезало куда-то две-три бутылки, и потому болел Уайти не так уж часто. И все-таки Уайти был рад, что его подменяет именно Эдди, ведь Эдди был единственный человек, не претендующий на его место. Да и урон по части бутылок был не очень велик. Эдди всегда держал под стойкой галлонный кувшин с узким горлышком, из которого торчала воронка. Перед тем как мыть бокалы, Эдди сливал из них в эту воронку остатки спиртного. Случалось, пойдет разговор по душам, начнется застольное пенье, засидится компания до позднего часа так, что сердца воспылают любовью к ближнему, тут уж Эдди своего не упустит, улучит минутку и сольет в кувшин полбокала, а то и две трети живительной влаги. В результате коктейль, приносимый в Королевскую ночлежку, всегда имел интересный и неожиданный букет. Постоянными ингредиентами были виски — ржаное, пшеничное, шотландское, — пиво, вино, ром, но, бывало, какой-нибудь чудак заказывал мятный ликер, анисовку или кюрасо; и эти мизерные добавки сообщали коктейлям Эдди ни с чем не сравнимый аромат. Тем более что Эдди взял за правило подмешивать в зелье немножко ангостуры [Настой из трав с добавлением эссенций]. В особенно удачный вечер Эдди наполнял кувшин чуть не доверху. Эдди особенно гордился тем, что никто от этого не был в убытке. Он давно заметил, что если человек хочет захмелеть, то хмелеет от полбокала, как от целого.
Эдди был общим любимцем ночлежки. Его никто никогда не просил помочь с уборкой. А один раз Элен даже выстирал для него четыре пары носков.
В тот день, когда Элен с Доком поехали за морскими звездами в бухту Большого прилива, парни собрались в ночлежке и, усевшись в кружок, потягивали очередную разновидность коктейля Эдди. Новый жилец Гай тоже был здесь. Эдди отпивал из стакана, сосредоточенно пощелкивая.
— Как странно иногда бывает, — сказал он. — Взять хотя бы вчера. Сразу человек десять заказали Манхеттен. Вообще-то его заказывают раза два в месяц. Чувствуете, отдает гвоздикой. Это Манхеттен.
Мак тоже сделал глоток, вернее сказать, одним глотком осушил стакан. И налил еще.
— Да-а, все дело в мелочах, — глубокомысленно изрек он и обвел всех взглядом — оценил ли кто-нибудь его перл. Оценил только Гай.
— Что верно, то верно, — сказал он, — а знаешь…
— Куда делся Элен? — перебил его Мак.
— Пошел с Доком собирать морских звезд, — ответил Джонс.
Мак кивнул.
— Док чертовски хороший парень, — улыбнулся Мак. — У него всегда можно стрельнуть монетку-другую. Надо что-то для него сделать, что-нибудь очень хорошее. Чтобы ему понравилось.
— Дамочка ему понравится, — сказал Хьюги.
— У него их три или четыре, — заметил Джонс. — Я точно знаю, когда у него дамочка — занавески задернуты и играет церковная музыка.
Мак укоризненно глянул на Хьюги.
— Раз Док не бегает по улице за голыми бабами, — так ты решил, что он целебал? — сказал он.
— Что это за зверь такой?
— Это когда дают обет не спать с бабами.
— А я всегда думал, это какой-то бал.
Помолчали. Мак зашевелился в шезлонге. Хьюги качнулся на стуле, передние ножки громко стукнули об пол. Он уставился в пространство, потом глянул на Мака.
— Г-м, — протянул Мак.
— А что если и правда устроить бал? Не бал, а просто угостить Дока, — сказал Эдди.
— Этим, что ли? — спросил Джонс, показывая на кувшин.
— Док из этого кувшина пить не станет, — задумчиво проговорил Мак.
— А ты откуда знаешь? — спросил Хьюги. — Ты что, угощал его?
— Я-то знаю, — ответил Мак. — Он учился в колледже. А один раз к нему приезжала мадам вся в мехах. И в тот день обратно от него не вышла. Во всяком случае, до двух часов ночи, и опять играла музыка, как в церкви. Нет, этим его угощать нельзя, — и Мак снова наполнил стакан.
— Очень даже ничего после третьего стакана, — примирительно заметил Хьюги.
— Только не для Дока, — не сдавался Мак. — Тут нужно виски, настоящее.
— Док любит пиво, — сказал Джонс. — То и дело гоняет за пивом к Ли Чонгу. Даже иногда в полночь.
— Я про пиво думаю вот что, — сказал Мак. — Глупо покупать пиво — слишком много платишь за всякую ерунду. Возьмите восьмипроцентное. За что там выкладывать свои денежки? Ведь что в нем — девяносто два процента воды, краски и хмеля. Эдди, — прибавил он, — ты не мог бы принести из «Ла Иды» четыре-пять бутылок виски, когда Уайти опять заболеет?
— Мог-то бы мог, — ответил Эдди. — Но это уж будет все, кончатся наши золотые денечки. По-моему, они уже кое-что заподозрили. Я слышал, кто-то на днях сказал: «Чую мышку по имени Эдди». Сейчас бы лучше с бутылками повременить, обходиться пока кувшином.
— Какой разговор! —заволновался Джонс. — Упаси тебя бог потерять эту работу. Ведь случись что с Уайти, ты, может, целую неделю постоишь за стойкой. Пока не найдется другой бармен. Нет, если угощать Дока, виски надо купить. Интересно, сколько стоит галлон виски?
— Не знаю, — ответил Хьюги. — Больше полкварты никогда не покупал, то есть разом не покупал. Купишь кварту — друзья как мухи на мед. А полкварты успеваешь до них один выпить.
— Да, угощение влетит в копеечку, — сказал Мак. — Но уж угощать так угощать. Хорошо бы испечь большой пирог. Интересно, когда у него день рождения?
— Угощать можно и без дня рождения, — сказал Джонс.
— Можно. Но день рождения все-таки отметить приятно. Вечеринка обойдется, чтобы не было стыдно, думаю, долларов в десять-двенадцать.
Друзья переглянулись.
— Рыбзавод «Эдиондо» нанимает на работу, — сообщил Хьюги.
— Только не это, — поспешно возразил Мак. — У нас хорошая репутация, этим рисковать нельзя. Мы ведь как? Наймемся и работаем хоть месяц, хоть два. А сейчас нам работа нужна на день, другой, обманем — и плакала наша репутация. Припрет нас — на работу ведь никто больше не возьмет.
Все энергично закивали.
— Я вообще думаю, — сказал Джонс, — месячишко — полтора поработать: ноябрь и декабрь до Рождества. Хочется в этом году индейку зажарить.
— Было бы здорово, — подхватил Мак. — Я знаю одну ферму в долине Кармел, там сейчас индюков тысячи полторы гуляет.
— В долине Кармел? — навострил уши Хьюги. — Я там когда-то собирал для Дока черепах, раков и лягушек. Он платил за одну лягушку пять центов.
— И мне, — вспомнил Гай. — Я поймал за один раз пятьсот квакушек.
— Если Доку нужны лягушки, то дело в шляпе, — объявил Мак. — Пойдем вверх по реке Кармел, устроим привал. Доку не будем объяснять, что и зачем. Но угостим мы его чертовски здорово.
Благостное волнение воцарилось в Королевской ночлежке.
— Гай, — сказал Мак, — выгляни за дверь, стоит ли на месте его авто?
Гай поставил на стол стакан и выглянул.
— Нет еще.
— С минуты на минуту будет, — сказал Мак. — Вот как мы все это обстряпаем…
ГЛАВА VIII
В апреле 1932 года в котле на «Эдиондо» опять лопнула труба, третья за две недели, и совет директоров, состоявший из мистера Рандольфа и стенографистки, решил, что дешевле купить новый котел, чем то и дело останавливать старый.
Новый котел вскоре привезли, а старый выволокли на пустырь между лавкой Ли Чонга и «Ресторацией Медвежий стяг» и поставили на колоды дожидаться, пока мистера Рандольфа не осенит, что еще можно из него выжать. Постепенно заводской механик извлек из котла все его внутренности латать другое изношенное оборудование. Лежащий на колодах котел походил на старый локомотив без колес. Наверху у него была зачем-то большая дверь, а с одного конца маленькая дверца топки. Шло время, металл ржавел, краснел, трухлявел; вокруг котла буйно разрослись мальвы — осыпающаяся ржавчина служила хорошим удобрением. Цветущий мирт обвил бока, дикий анис приятно раздражал обоняние. Кто-то бросил рядом с котлом корневище дурмана, оно не погибло, скоро из него вырос мясистый стебель и над дверцей топки повисли огромные белые колокольчики, источающие по ночам томительный аромат любви, неправдоподобно сладкий и пьянящий.
В 1935 году в котел этот въехала семья — мистер и миссис Сэм Мэллой. Жилье оказалось надежное, просторное и сухое — котел уже давно был пустой. Правда, входить приходилось на четвереньках, через дверцу топки, но внутри можно было вытянуться и ходить по средней линии во весь рост. Словом, квартирка вышла отличная, сухая и теплая, пойди-ка поищи такую. Втиснули сквозь дверцу топки матрац и зажили припеваючи. Мистер Мэллой был доволен и счастлив, миссис Мэллой тоже — до поры до времени.
Ниже котла по склону валялись большие трубы, выброшенные тем же заводиком. Конец 1937-го ознаменовался богатейшим уловом сардин, рыбзаводы работали на полную мощность, и скоро сезонным рабочим стало негде жить. Тогда-то мистер Мэллой и начал сдавать трубы, что пошире, одиноким мужчинам по сходной цене. Одно отверстие заделал толем, другое завесил дерюжкой, и получились удобные спальни; правда, парням, привыкшим спать, поджав ноги, приходилось либо менять привычку, либо расстаться с мыслью о ночлеге под крышей. Были и такие, что не могли спать в трубе — будил собственный храп, отдававшийся гулким эхом. Как бы то ни было, мистер Мэллой получил хоть и маленький, но верный доходец и был теперь вдвойне счастлив.
Миссис Мэллой, как сказано, тоже была счастлива, — пока муж ее не стал домохозяином. Тут ее как подменили. Сначала ей захотелось коврик, потом ванну, потом шелковый цветастый абажур. А в один прекрасный день она вошла в котел, выпрямилась во весь рост и, переведя дух, сказала:
— У Холмана продаются шикарные шторы. Тюлевые с голубой и розовой каемкой. И стоят вместе с карнизом доллар девяносто восемь центов.
Мистер Мэллой сел на матраце.
— Шторы? — переспросил он. — Во имя всего святого, зачем тебе шторы?
— Мне нравятся красивые вещи, — ответила миссис Мэллой. — Я так хочу, чтобы тебе в нашем доме было уютно.
И у нее задрожала нижняя губка.
— Солнышко! — воскликнул Сэм Мэллой. — Я не против штор. И мне нравятся шторы. — Всего один доллар девяносто восемь центов, — дрожащим голосом проговорила миссис Мэллой. — Тебе жалко для меня одного доллара?
Она хлюпнула носом, и грудь у нее поднялась и опала.
— Ничего мне для тебя не жалко, солнышко, — горячо проговорил мистер Мэллой. — Только, господи помилуй, что мы будем делать со шторами? Ведь окон-то у нас нет.
Миссис Мэллой плакала, плакала и никак не могла остановиться. А мистер Мэллой крепко обнял ее, пытаясь утешить.
— Мужчины совсем, совсем не понимают, что чувствуем мы, женщины, — рыдала миссис Мэллой. — Они просто не могут встать на наше место.
Сэм лег рядом с ней и долго гладил ее по плечу, пока она не уснула.
ГЛАВА IX
Машина Дока подъехала к лаборатории. Мак с ребятами незаметно следили за тем, как Элен помогает Доку переносить в лабораторию мешки с уловом. Через пять минут он уже шагал весь мокрый по куриной тропе к ночлежке. Штаны его намокли выше колен, там, где они просохли, белесыми кольцами выступала морская соль. Войдя в комнату, он тяжело опустился в кресло-качалку — его личная собственность — и стащил нога об ногу хлюпающие кеды.
— Как самочувствие Дока? — спросил Мак.
— Прекрасно, — ответил Элен. — Ни слова у него не поймешь. Знаете, что он сказал про жуков-вонючек? Нет, лучше не буду говорить.
— Он сегодня в хорошем настроении? — спросил Мак.
— А как же, — сказал Элен. — Мы собрали двести или триста звезд. Док очень доволен.
— Не знаю, как лучше, всем нам пойти или мне одному? — спросил Мак и сам же ответил:— Думаю, лучше пойти одному. Пойдем все вместе, получится столпотворение.
— Это ты о чем? — спросил Элен.
— У нас есть один план, — ответил Мак. — Я сейчас пойду к Доку. А вы, ребятишки, оставайтесь здесь и ждите меня. Я вернусь через три минуты.
Мак вышел и нетвердой походкой двинулся по куриной тропе. На пустыре возле своего котла сидел на кирпиче мистер Мэллой.
— Как дела, Сэм? — приветствовал его Мак.
— Ничего.
— Как миссис Мэллой?
— Ничего, — опять ответил мистер Мэллой и прибавил: — Ты не знаешь, каким клеем приклеивают материю к металлу?
В другой раз Мак не преминул бы вникнуть в эту проблему, но сейчас он спешил и только коротко бросил:
— Не знаю.
Миновав пустырь, он перешел улицу и не мешкая двинулся в лабораторию.
Док был уже без шляпы, потому что голове здесь влага не угрожала — разве только лопнет водопроводная труба. Он вынимал из мокрых насквозь мешков морских заезд и раскладывал их на холодном, бетонном полу первого этажа. Их лучи перепутались и даже кое-где завязались в узлы — морские звезды любят к чему-нибудь прицепиться, а уже целый час они были только в обществе друг дружки. Док раскладывал их длинными рядами. Они медленно расправлялись, вытягивались, и вот уже на полу как по линейке выстроились шеренги пятиконечных звезд. Док работал усердно, его каштановая клинышком бородка взмокла от пота. Услыхав шаги, Док бросил на вошедшего взгляд, и в глазах у него мелькнуло беспокойство. Нельзя сказать, что Мак всегда вносил в лабораторию какую-нибудь неприятность, но что-то несомненно вносил.
— Как дела, Док? — спросил Мак.
— В порядке, — ответил Док и внутренне поежился.
— Слышали, что случилось с Филлис Мэй из «Медвежьего стяга»? Она дала пьяному кулаком в зубы, и зуб застрял у нее в руке. Теперь рука распухла до локтя. Она показала мне зуб. Он оказался искусственным. А что, Док, искусственные зубы ядовитые?
— Все, что выходит из уст, ядовито для человека, — наставительно ответил Док. — Врач смотрел руку?
— Привратник смотрел, — ответил Мак.
— Надо отнести ей сульфамидный препарат, — ответил Док, ожидая, когда же грянет гром, он знал, Мак пришел неспроста. И Мак знал, что Док знает это.
— Док, вам сейчас нужна какая-нибудь живность? — спросил он.
Док с облегчением вздохнул.
— А что? — тем не менее спросил он с опаской.
Мак ответил открыто и доверительно:
— Я вам сейчас объясню, Док. Нам с ребятишками нужно позарез заработать. Нужно, и все тут. Зачем? Причина хорошая, благородная.
— Рука Филлис Мэй?
Мак чуть было не клюнул на эту приманку, но вовремя спохватился.
— Нет, конечно, — сказал он. — Причина куда более важная. Девку ничто не может убить. Нет, у нас совсем другая причина. Мы с ребятами прикинули, может, вам сейчас что-нибудь нужно. Мы наловим и немножко заработаем.
Дело оказалось самым простым и невинным. Док положил на пол еще четыре звезды.
— Мне нужно сотни три-четыре лягушек, — сказал он. — Я бы и сам их наловил, но сегодня вечером уезжаю в Ла-Джоллу. Мне надо поймать несколько осьминожков, а завтра как раз хороший отлив.
— Цена за лягушек та же? — спросил Мак. — Пять центов за штуку?
— Цена та же, — ответил Док.
Мак просиял.
— Не волнуйтесь больше о лягушках. Док, — сказал он. — Мы вам наловим лягушек. Выкиньте их из головы. Я знаю одно место на реке Кармел, там их видимо-невидимо.
— Ну и отлично. Возьму всех, что наловите. Но мне нужно сотни три.
— Перестаньте и думать о лягушках. Спите спокойно. Вы их получите семь-восемь сотен.
Сняв с Дока заботу о лягушках. Мак, однако, впал в какую-то свою заботу. Во всяком случае, по его лицу явно пробежало облачко.
— Док, — сказал он, — нельзя ли на вашей машине доехать до того места?
— Нельзя, — сказал Док. — Я же тебе сказал, сегодня вечером еду в Ла-Джоллу, мне надо успеть к завтрашнему отливу.
— Ах да, — разочарованно протянул Мак. — Ладно. Забудьте об этом, Док. Может, Ли Чонг даст нам свой старый фордик.
Тут по лицу его опять пробежало облачко.
— Док, — сказал он, — раз договор есть, не ссудите ли два-три доллара на бензин? У Ли Чонга просить бензин бесполезно.
— Не ссужу, — ответил Док. Он уже раз попался на эту удочку. Как-то Гай обещал наловить черепах; условились, что он отправится за ними через полмесяца. Док заплатил ему вперед. А через неделю жена посадила Гая в тюрьму. И деньги пропали, и черепах Док не увидел.
— Ну тогда мы, наверное, не сможем поехать, — печально проговорил Мак.
А Доку лягушки и впрямь были нужны. Он стал прикидывать в уме, как обернуть дело честным бизнесом, а не филантропией.
— Знаешь, как мы поступим? — сказал он. — Я дам тебе записку на заправочную станцию, где всегда заправляюсь. И там тебе нальют бензина. Десять галлонов хватит?
— Конечно, — опять просиял Мак. — Здорово придумано. Мы с ребятишками завтра пораньше и отчалим. Вернетесь, вас будет ждать море лягушек.
Док подошел к конторке и набросал несколько слов Рыжему Уильяму, своему приятелю-заправщику. По ней Маку полагалось получить десять галлонов бензина.
— Держи, — протянул он записку.
— Док, — осклабился во всю ширь лица Мак, — можешь сегодня спать, ни о чем не думая. Все будет в полном ажуре. — Даже в ночных горшках будут квакать лягушки.
С этими словами Мак поспешил домой. Док смотрел ему вслед, и смутная тревога не покидала его. Отношения его с компанией Мака были всегда полны неожиданностей, но лично ему очень редко приносили пользу. Он вспомнил с сокрушением, как однажды Мак продал ему пятнадцать котов, а вечером к нему нагрянули их хозяева и всех пятнадцать забрали. «Мак, — спросил он тогда, — почему были только коты?» «Док, — ответил ему Мак, — это мое изобретение. Но с вами я, конечно, поделюсь, потому что вы настоящий друг. Все очень просто. Делаешь из проволоки ловушку, а вместо приманки сажаешь туда… эту самую… кошку. Таким способом можно отловить всех котов страны».
Выйдя за порог лаборатории, Мак пересек улицу и вошел сквозь бамбуковую штору в лавку Ли Чонга. Миссис Ли на мясном прилавке резала ветчину. Кузина Ли подправляла чуть привядшие кочаны салата, как подправляет девушка слегка развившиеся локоны. На большой груде апельсинов сладко спал кот. Ли Чонг стоял по обыкновению за табачной стойкой спиной к полкам со спиртным. Увидев вошедшего Мака, он чуть быстрее забарабанил пальцами по резиновой подушечке.
Мак приступил к делу без околичностей.
— Ли, — начал он, — у Дока проблема. Он получил из нью-йоркского музея заказ на большую партию лягушек. Для Дока это очень важно. Дело не только в деньгах, получить такой заказ — большая честь. А Док, как на грех, едет завтра в Ла-Джоллу. И мы с ребятами решили ему помочь. По-моему, люди всегда должны приходить на помощь друг другу. А помочь такому человеку, как Док, — просто наша обязанность. Бьюсь об заклад, он тратит в этой лавке не меньше семи-десяти долларов в месяц.
Ли Чонг настороженно молчал. Его толстые, как сардельки, пальцы перестали барабанить, а только слегка подрагивали, как хвост у недовольной кошки.
И тут Мак сделал главный ход.
— Ты не дашь нам свой старый фордик съездить на реку Кармел за лягушками для Дока, нашего славного старины Дока?
Ли Чонг торжествующе улыбнулся.
— Фолдик не лаботает, — сказал он, — совсем сломался.
Это был удар ниже пояса. Но Мак очень быстро оправился от него. Он положил на стекло записку Дока заправщику.
— Гляди, — сказал он. — Доку очень нужны лягушки. По этой записке я получу десять галлонов бензина. Я не могу подвести Дока. Ты ведь знаешь, какой механик Гай. На все сто. Он починит твой фордик. Так ты уж дай нам его.
Ли закинул назад голову, чтобы сквозь очки поглядеть на Мака. Как будто подвоха нет. Фордик и правда не работает. Гай и правда отличный механик, а записка насчет бензина — бесспорное доказательство честной игры.
— Вы надолго собилаетесь ехать? — спросил он.
— Может, на полдня, может, на день. Как получится.
И все-таки на душе у Ли Чонга кошки скребли. Однако выхода нет. Придется рискнуть. А что риск был — Ли знал наверняка.
— Холосо, белите, — сказал он.
— Вот и ладненько, — обрадовался Мак. — Я был уверен, Док может всегда на тебя рассчитывать. Сейчас же пошлю Гая чинить автомобиль, — он уже повернулся к выходу, но как будто что-то вспомнил и опять обратился к Ли Чонгу: — Док платит пять центов за лягушку. А наловим мы ему семь или восемь сотен. Не дашь в счет будущих денег пинту старой тенисовки?
— Не дам, — сказал Ли Чонг.
ГЛАВА Х
Фрэнки впервые появился в Западной биологической, когда ему было одиннадцать лет. Неделю он каждый день подходил к двери и смотрел внутрь. Потом день простоял на пороге, а через десять дней был уже в помещении. У него были огромные черные глаза и жесткая спутанная грязная шапка волос на голове. Руки он не мыл вечность. Фрэнки поднял с пола стружку, бросил ее в корзину с мусором и стал смотреть, как Док приклеивает ярлыки к банкам с экспонатами — лиловыми парусниками. Наконец он подошел к верстаку и положил на него свои чумазые ладони. Это постепенное внедрение в обитель Дока заняло недели три, и все это время Фрэнки был готов в любую минуту сорваться с места и убежать.
— Как тебя зовут, малыш? — спросил Док.
— Фрэнки.
— Где ты живешь?
— А там. — Взмах руки в сторону холма.
— Почему ты не в школе?
— Я не хожу в школу.
— Почему?
— Они меня не берут.
— У тебя грязные руки. Ты давно их не мыл?
Фрэнки, как побитый, подошел к раковине и стал изо всех сил тереть мылом руки; с тех пор он всегда мыл руки чуть не до ссадин.
Он стал приходить в Биологическую почти каждый день. Это был союз, в котором не было места праздной болтовне. Док выяснил по телефону, что Фрэнки сказал про школу сущую правду. Его в школу не брали. Он не мог учиться, и еще у него было что-то с координацией движений. Ему нигде в жизни не было места. Он не был идиотом, не был опасен, но родители или родитель не могли поместить его в специальное заведение, не было денег. Фрэнки редко ночевал в лаборатории, но с утра до вечера ни на секунду никуда не отлучался. Иногда он забирался вечером в ящик со стружками и засыпал. По-видимому, когда дома было совсем уж плохо.
— Почему ты приходишь сюда? — спросил Док.
— Потому что вы не бьете меня и не даете пять центов, —ответил Фрэнки.
— А тебя дома бьют?
— Дома все время дядьки. Они выгоняют и дерутся или дают пять центов.
— Где твой отец?
— Умер, — тихо сказал Фрэнки.
— А где мать?
— С дядьками.
Док состриг с головы Фрэнки колтун и вывел у него вшей. Купил у Ли пару штанов и полосатый свитер. И Фрэнки стал его верным рабом.
— Я вас люблю, — сказал он однажды. — Да, люблю.
Он хотел что-нибудь делать в лаборатории. Стал каждый день подметать пол. Но всегда у него получалось что-то не так. Даже пол не мог чисто вымести. Попробовал сортировать раков по величине. Раки, большие, средние, мелкие, лежали в ведре. Их надо было разложить по большим кастрюлям — трехдюймовые в одну, четырехдюймовые — в другую, и так далее. Фрэнки стал раскладывать, но не смог, хотя его даже пот прошиб от усердия. Он не различал предметы по величине.
— Смотри, Фрэнки, — сказал Док. — Я тебя научу. Положи рака на ладонь и увидишь, что один больше, другой меньше. Этот до кончиков пальцев доходит, а этот только до середины. Этого кладешь сюда, а того в ту кастрюлю. Возьмем следующего. Этот опять до середины, значит, и его сюда.
Фрэнки попробовал сам мерить по ладони, и опять у него ничего не вышло. Док поднялся наверх. А Фрэнки спрятался в ящик со стружками и до вечера не вылезал.
Но в общем Фрэнки был хороший паренек, добрый и приветливый. Он научился зажигать для Дока сигары и мечтал, чтобы Док курил день и ночь. Он бы тогда все время был нужен Доку.
Больше всего Фрэнки любил, когда в лабораторию приезжали гости. Молодые женщины и мужчины сидели и беседовали, большой проигрыватель играл музыку, которая отдавалась у него под ложечкой, а в голове возникали смутные, но прекрасные величественные картины, и Фрэнки все это очень нравилось. Он прятался в какой-нибудь, уголок за стулом, сидел там притаившись, смотрел и слушал. Когда раздавался хохот над какой-нибудь непонятной шуткой, Фрэнки за своим стулом заливался радостным смехом, а когда разговор заходил об отвлеченных вещах, он наморщивал лоб, и вид у него становился серьезным и озабоченным.
Однажды он решился на безрассудство. В лаборатории собралась небольшая компания. Док на кухне разливал по стаканам пиво. Фрэнки тихонько проскользнул в кухню, схватил стакан, вбежал в большую комнату и подал стакан девушке, сидящей в большом кресле.
— Спасибо тебе, — сказала девушка, взяла стакан и улыбнулась Фрэнки.
Док, увидев в дверях эту сцену, сказал:
— Фрэнки — настоящий помощник.
Фрэнки не мог этого забыть. У него все вертелась в памяти картина, как он берет стакан пива, как девушка сидит в кресле, он слышал ее голос: «Спасибо тебе!», слышал голос Дока: «Фрэнки — настоящий помощник». Настоящий помощник! Конечно, Фрэнки — помощник. Он, Фрэнки… о, господи!
Как-то ожидались гости; много гостей — догадался Фрэнки, потому что Док купил отбивные и много пива; вместе с Доком — Док не возражал — они убрали весь верх. Но все это пустяки — главное было в том, что в голове у него родился грандиозный план; он видел его до мельчайших подробностей. Снова и снова перебирал он их в уме. План был очень хороший. Можно сказать, великолепный.
И вот вечеринка началась, понаехало много гостей: мужчины, женщины и совсем юные девушки. Фрэнки стал ждать, когда из кухни все уйдут и закроют дверь. Ждать пришлось долго. Наконец он один и дверь в комнату закрыта. За дверью голоса и музыка из большого проигрывателя. Франки действовал очень тихо, взял поднос, поставил на него стаканы и ни один не разбил. Теперь налить пива, подождать, пока осядет пена, и долить доверху.
И вот все готово. Он набрал полные легкие воздуха и открыл дверь. Музыка и громкие голоса оглушили его. Он взял поднос и вошел в дверь. Он знал, куда идти. И двинулся прямо к девушке, которая тогда сказала: «Спасибо тебе». Это случилось прямо перед ней; он потерял равновесие, руки у него дрогнули, мышцы подали сигнал бедствия, но нервы передали сигнал мертвому рецептору, и мускулы не получили приказа. Поднос с пивом упал прямо на колени молодой женщине. На мгновение Фрэнки оцепенел. Потом повернулся и убежал.
В комнате стало совсем тихо. Было слышно, как он бежит по лестнице вниз, в подвал. Затем донесся глухой царапающий звук и все замерло.
Док тихонько спустился вниз. Фрэнки забился в ящик со стружками, зарылся в них с головой так, что его не было видно. И горько плакал. Док немножко подождал, а потом так же тихонько поднялся наверх.
Фрэнки не мог делать ничего на свете.
ГЛАВА XI
У фордика модели Т, собственности Ли Чонга, была почтенная биография. В 1923 году это был легковой автомобиль, принадлежавший врачу У.Т.Уотерсу. Врач ездил на нем пять лет и продал страховому агенту мистеру Рэттлу. Мистер Рэттл аккуратностью не отличался. Он купил чистенькую, хорошенькую легковушку и гонял на ней как бешеный. По субботним вечерам мистер Рэттл напивался, и машине особенно доставалось. У нее побились и покорежились крылья, к тому же мистеру Рэттлу приходилось часто нажимать на тормоз, отчего быстро снашивались тормозные ленты. Их приходилось часто менять. Дело кончилось тем, что он бежал с деньгами клиента в Сан-Хосе, где его через десять дней поймали в обществе роскошной блондинки.
Корпус фордика был так избит, что новый хозяин отрезал половину верха и приделал на его место кузов грузовичка.
Следующий владелец снял кабину и ветровое стекло. Он возил приманку для рыб и любил, чтобы в дороге его обдувало. Звали его Фрэнсис Алмонс, жизнь у него была печальная, потому что он всегда зарабатывал меньше того, что тратил. Отец оставил ему немного денег, но от года к году, от месяца к месяцу, как бы усердно он ни работал, как бы ни экономил, деньги все таяли, таяли. Наконец не осталось ни цента, и он с потрохами вылетел в трубу.
Ли Чонг взял его автомобиль в уплату за долги.
К этому времени от форда осталась одна тележка с мотором; а мотор впал в такой маразм, что наладить его мог только первоклассный механик своими неусыпными заботами. Ли Чонг таким механиком не был, и фордик почти все время дремал на задворках бакалейной лавки среди высокой травы, и сквозь спицы его колес весело выглядывали головки мальв. На задних колесах шины были накачаны; передние стояли на подпорках.
Пожалуй, любой из Королевской ночлежки починил бы фордик, все они были прекрасные механики, но Гай был механик милостью божьей. Жаль, что о механиках нет никаких поговорок, а должны быть, вроде того, например, как говорят о портных — «пальцы клеят». Ведь есть же настоящие волшебники; посмотрят, постучат, что-то приладят, подкрутят, и машина поехала. И вот таким волшебником был Гай. Его пальцы, чего бы ни коснулись, были умны, легки, уверенны. Он налаживал в лаборатории изящные электромоторчики. И мог бы постоянно работать механиком на Консервке, если бы захотел; хозяева заводиков горько сетовали, если не удавалось удвоить за год вложенный капитал; цифры в бухгалтерских книгах застили все. Консервировать бы сардины при помощи гроссбухов — то-то было бы счастье. И, разумеется, машины у них были дрянь: допотопные, дышащие на ладан уродины, которым требовался постоянный уход такого механика, как Гай.
Мак разбудил ребят пораньше. Выпили кофе и сейчас же двинулись туда, где в густой траве дряхлел забытый всеми фордик. Спасательную группу возглавлял Гай. Обогнули лавку Ли Чонга, он подошел к машине и ударил ногой по передним колесам, покоящимся на подставках.
— Ступайте попросите у кого-нибудь насос, — сказал он. — Передние надо накачать.
Затем он опустил в бензобак длинный прут. В бензобаке, находившемся под доской, служившей сиденьем, каким-то чудом оказалось на полдюйма бензина. Затем Гай принялся проверять наиболее вероятные неисправности. Снял магнето, зачистил контакт, подправил зазор и поставил магнето на место. Снял крышку карбюратора и проверил подачу бензина. Провернул вал, посмотрел, вращается ли он, проверил, не заржавели ли поршни в цилиндрах.
Тем временем прибыл насос, и Эдди с Джонсом стали накачивать передние шины.
— Там-ти-ти-там, — напевал, работая, Гай.
Он вывинтил свечи, зачистил на них контакты, достал кусок шланга. Затем отсосал немного бензина в консервную банку, плеснул из нее в цилиндры и ввинтил свечи на место. Выпрямившись, проговорил:
— Где бы разжиться парой батареек? Пойти, что ли, к Ли Чонгу спросить?
Пошел Мак и сейчас же вернулся с категорическим «нет», пресекшим в корне все дальнейшие просьбы.
Гай задумался.
— Я знаю, — наконец сказал он, — где есть батарейки, к тому же отличные. Но сам я туда пойти не могу.
— Где они? — спросил Мак.
— У меня в погребе, — ответил Гай. — Питают током входной звонок. Если кто может залезть ко мне в погреб, чтобы жена не засекла, то они лежат на притолоке, слева как войдешь. Только боже упаси попасться на глаза жене.
Обсудили, кого послать, выбор пал на Эдди. И он отправился.
— Смотри, если нарвешься на жену, меня не выдавай, — крикнул ему вдогонку Гай. И занялся дальнейшим осмотром. Педаль сцепления чуть-чуть не доставала до пола, значит, пока еще работает. Тормозная педаль касалась пола — значит, тормоз не действовал. Зато педаль задней скорости была в полном порядке. У модели Т педаль задней скорости была палочкой-выручалочкой. Если у вас отказывал тормоз, вы тормозили, нажимая педаль. Если барахлила низшая скорость, и машина не могла влезть в гору, надо было развернуться, и задом наперед модель Т одолевала любой подъем. Обнаружив, что у фордика Ли Чонга задняя скорость действует, Гай понял, что они сегодня уедут.
Скоро вернулся Эдди с батарейками — доброе предзнаменование. Миссис Гай была на кухне. Эдди слышал, как она там ходила, а она Эдди не слышала. Он был по этой части специалист.
Гай подсоединил батарейки, прибавил газ и уменьшил искровой промежуток.
— А ну, крутаните, — скомандовал он.
Этот маленький механик был настоящее чудо. Святой Франциск, заступник всего, что движется, вертится и взрывается, всех магнето, передач и сцеплений. Если бы когда-нибудь все отслужившие век автомобили, все разрезанные на куски дюзенберги, бьюики, де-сото, плимуты, американские остины и изотта-фраскини восславили господа одним великим песнопением, то это случилось бы благодаря Гаю и его святому братству.
Один рывок, всего один рывок ручки — и мотор заработал, чихнул и опять заработал. Гай прибавил опережение и убавил газ. Переключил зажигание на магнето, и фордик Ли Чонга вдруг счастливо зафыркал, затарахтел, задергался, будто знал, что старается для человека, который понимает его и любит.
Но было еще две закавыки юридического порядка — у автомобиля были старые номера и не горели фонари. Задний номер как бы случайно закрыла свесившаяся циновка, а передний пришлось густо залепить грязью. Снаряжение ловцов лягушек было самое примитивное — сачки на длинных палках и несколько мешков. Местные охотники, отправляясь за город пострелять дичь, нагружались провизией — едой и спиртным. Мак был исключением, справедливо считая, что пищу надо везти не в лес, а из леса. Две буханки хлеба и кувшин с остатками коктейля Эдди — вот и весь провиант, захваченный в дорогу. Путешественники как могли расселись в машине. За руль сел Гай, рядом примостился Мак; завернули за лавку, выехали на пустырь, лавируя между трубами, подкатили к тротуару, осторожно съехали с его бортика — передние шины были лысые чуть не по всему ободу. Мистер Мэллой, сидевший на кирпичиках возле своего котла, помахал им вслед. Несмотря на кипучую энергию, проявленную во время сборов всеми участниками похода, выехали только в полдень.
Скоро остановились у заправочной Рыжего Уильяма. Мак сошел со своего места и дал Уильяму записку Дока.
— У Дока не было мелочи, — сказал он, — так ты налей всего пять галлонов, а вместо остальных дай нам доллар. Таково желание Дока. Он поехал на юг. Получил большой заказ.
— Слышь, Мак, — добродушно улыбнулся Рыжий Уильям. — А Док ведь смекнул, как можно словчить. Док — умная голова. Он вчера вечером мне звонил.
— Ладно, лей все десять, — сказал Мак. — Хотя стой. Бак ведь будет прыгать и расплещется. Налей пять, а еще пять дай в банке. В запечатанной.
— А Док и это предусмотрел, — рот хозяина растянулся чуть не до ушей.
— Лей десять, — махнул рукой Мак. — И смотри, до последней капли.
Центр Монтерея решили объехать кругом. Помня о негорящих фарах и щекотливом положении с номерами. Гай вел машину, выбирая окраинные улицы. Им еще придется ехать по шоссе, где полно полиции, через холм Кармен и дальше по долине реки до поворота на сравнительно глухую дорогу — целых четыре мили. Гай свернул в переулок, который вывел их на шоссе у Питерс-гейт как раз там, где начинается подъем на холм. Ужасающе тарахтя, фордик полез в гору. Проехав метров пятьдесят, Гай включил низшую передачу, он знал, что она не работает — ленты совсем износились, но на всякий случай решил попробовать. На ровном месте фордик шел хорошо, но подъем без низшей передачи не одолеть. Гай остановил машину, развернулся и пустил ее вниз. Затем дал газ и включил заднюю скорость. Задняя скорость работала. И фордик медленно, но уверенно, хоть и задним ходом, стал взбираться на холм.
И он почти одолел подъем. Правда, вода в радиаторе закипела, но знатоки в один голос утверждали, что модель Т, если не закипит — не поедет.
Давно пора написать серьезное исследование о моральном, физическом и эстетическом воздействии модели Т на американскую нацию. Два поколения американцев разбирались в ее сцеплении стократ лучше, чем в собственных гениталиях, а ее планетарный механизм, в отличие от солнечных систем вселенной, знали как свои пять пальцев. С появлением модели Т принцип частной собственности был существенно подорван. Плоскогубцы и отвертки стали общественным достоянием, а владельцем насоса считался тот, кто последний раз им пользовался. Большинство младенцев того времени были зачаты в салоне этой машины, и немалое их количество было рождено там же. Англо-саксонское понятие домашнего очага так сильно деформировалось, что до сих пор не может вернуться к исходному состоянию.
Фордик усердно лез вверх, вот уже позади поворот на дорогу «Пик Джека», осталось преодолеть последний крутой участок, и тут мотор поперхнулся, захрипел, задышал с трудом и смолк. Стало очень тихо. Гай пустил машину вниз, проехали метров пятнадцать и свернули на «Пик Джека».
— Что случилось? — спросил Мак.
— Думаю, карбюратор, — ответил Гай.
От высокой температуры мотор сипел и свистел, из сливной трубы била горячая струя пара и шипела, как аллигатор.
Карбюратор модели Т имел простое устройство, но не мог действовать, если чего-нибудь в нем не хватало. В нем есть игольчатый клапан, кончик иглы которого должен сидеть в своем седле, если же он не сидит, карбюратор не работает.
Гай держал в руке иглу — кончик ее был обломан.
— Черт, как это могло случиться? — произнес он.
— Фантастика, — сказал Мак, — чистой воды фантастика. Наладить можешь?
— Нет. Надо менять.
— Сколько стоит?
— Новый — доллар. С разбитой машины — двадцать пять центов.
— У тебя есть доллар?
— Есть. Но попробуем обойтись без него.
— Ладно, иди. Только нигде не задерживайся. Мы тебя подождем здесь.
— Само собой. Без этой иглы далеко не уедешь, — сказал Гай и вышел на дорогу голосовать.
Четвертый автомобиль остановился. Гай влез в него и покатил вниз, провожаемый взглядами ребят. Они увидели его снова через сто восемьдесят дней.
О, неодолимость случайностей!
Надо же было случиться, чтобы машина, подобравшая Гая, сломалась, не доехав до Монтерея. Если бы Гай не был механиком, он не починил бы ее. Если бы не починил, владелец машины не пригласил бы его к Джимми Бручиа пропустить стаканчик-другой. Из всех возможных случайностей, из миллиона миллионов случайностей происходили только те, что вели Гая прямехонько в Салинасскую тюрьму. Джимми праздновал день рождения; вместе с ним праздновали его приятели Щеголь Енеа и Крошка Коллети, которые в тот вечер крепко поссорились. В зал вошла блондинка, у музыкального ящика завязался спор, какую песню играть. Новый приятель Гая знал один приемчик дзюдо и решил применить его на Спарки, но приемчик не получился и приятель сломал руку. Явился полицейский, у которого на тот случай расстроился желудок — все это не имело прямого отношения к делу, но лило воду на одну мельницу. Судьба была против участия Гая в охоте на лягушек, и злодейка нагородила целую гору случайностей — новые знакомства, внезапные бедствия, — только бы помешать Гаю. Ситуация достигла апогея, когда вся компания пошла на приступ обувного магазина Холмена, захватила витрину и расположилась в ней примерять выставленный на обозрение публики товар. Только один Гай не услыхал вой пожарной сирены, только он один не кинулся поглазеть на пожар; когда на место происшествия явилась полиция, он сидел посреди витрины, на одной его ноге красовался коричневый штиблет, на другой — парадная лаковая туфля, отделанная серой материей.
А ребята ждали Гая, ждали; стемнело, с океана потянуло холодом; пришлось разложить небольшой костер. Сосны над головой шумели от свежего соленого ветра. Парни лежали на толстой подстилке из хвои и смотрели сквозь ветви на пустынное одинокое небо. Перебирали трудности, которые могли встретиться Гаю, ищущему новый клапан; но время шло, и постепенно они перестали о нем говорить.
— Зря он пошел один, — заметил Мак.
Около десяти Эдди встал.
— Тут недалеко строительная площадка, — сказал он. — Пойти, что ли, посмотреть, не стоит ли там модель Т.
ГЛАВА XII
Монтерей — городок, имеющий длинную и славную литературную традицию. Его жители вспоминают с гордостью и удовольствием, что здесь когда-то гостил Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ бесспорно напоминает топографией и береговой линией мыс Лобос. Последние годы в Кармеле жило множество литераторов, но тот старинный аромат, благородное изящество старинного письма канули в прошлое безвозвратно. В памяти нынешних жителей Монтерея живо происшествие, глубоко возмутившее город и расцененное им как неуважение к Автору. Оно связано с Джошем Биллингсом, великим юмористом, точнее с его смертью.
Там, где сейчас новая почта, был раньше глубокий овраг, наполненный водой, через который перекинут легкий пешеходный мостик. По одну сторону оврага стояло красивое старинное здание, где расположился местный кабачок «Домашний бар», по другую жил доктор, пользовавший всех больных в городе, всех рожениц и всех умирающих. Еще он ставил опыты на животных, а так как медицину изучал во Франции, то ввел в городе новшество — бальзамировал трупы перед тем, как их предавали земле. Одни старожилы считали бальзамирование сантиментами, другие — бесцельной тратой денег и времени, третьи — святотатством, поскольку ни в одной священной книге об этом почти ничего не сказано. Но лучшие фамилии города с удовольствием подхватили это веяние моды, и скоро бальзамирование стало в Монтерее чуть не всеобщим помешательством.
Однажды утром мистер Карриага, джентльмен почтенных лет, шел иа своего дома вниз по холму в сторону улицы Альварадо. Перешел пешеходный мостик и вдруг увидел мальчишку с собакой, выбирающихся из оврага. У мальчишки в руках была печень, а за собакой тянулись кишки, несколько ярдов, на конце которых болтался желудок. Мистер Карриага остановился.
— Доброе утро, — приветливо обратился он к мальчишке.
В те дни мальчишки еще были приветливый народ.
— Доброе утро, сэр, — ответил он.
— Куда ты идешь с этой печенкой?
— Ловить скумбрию.
Мистер Карриага улыбнулся.
— А песик тоже идет ловить скумбрию?
— Пес это сам нашел. Это его добыча, сэр. Мы это здесь нашли, в пруду, — мальчик махнул рукой на овраг.
Мистер Карриага улыбнулся, пошагал дальше, и тут ум его заработал. Это не говяжья печенка, слишком маленькая для говяжьей. И не телячья печенка, слишком красная. И не овечья… В уме нарастало беспокойство. На углу он встретил мистера Района.
— Кто-нибудь вчера вечером умер в Монтерее? — спросил мистер Карриага.
— Нет, насколько мне известно.
— А никого не убили?
— Тоже нет.
Пошли дальше вместе, и мистер Карриага рассказал приятелю о мальчике с собакой.
В кабачке «Домашний бар» собрались в этот час завсегдатаи для утреннего обмена новостями. Мистер Карриага повторил свой рассказ; не успел он закрыть рта, как в бар вошел местный констебль. Уж ему-то наверняка известно, умер ли кто в Монтерее.
— Никто в Монтерее не умирал, — категорически заявил констебль. — Но в гостинице «Дель Монте» скончался Джош Биллингс.
За столиками стало тихо. Одна и та же мысль мелькнула в голове у всех. Джош Биллингс — великий человек, замечательный писатель. Он оказал Монтерею особую честь тем, что из всех мест на земле предпочел умереть именно здесь — и так над ним надругаться! Без дальних слов все присутствующие образовали комитет спасения. Мужчины с суровыми непреклонными лицами поспешили к оврагу, перешли по мостику и забарабанили в дверь доктора, научавшего медицину во Франции.
Доктор накануне заработался допоздна. Услыхав стук в дверь, он вскочил с постели и, как был, непричесанный, с всклокоченной бородой, в пижаме вышел к неожиданным посетителям.
— Вы бальзамировали Джоша Биллингса? — строго спросил его мистер Карриага.
— Да.
— А что вы сделали с его внутренностями?
— Что и всегда — бросил в овраг.
Комитет спасения велел ему скорее одеться, и все вместе чуть не бегом отправились на берег океана. Если мальчишка не мешкая уплыл в море ловить свою скумбрию, то дело плохо. Но он как раз садился в лодку, когда комитет в полном составе явился на берег. Брошенные собакой кишки валялись на берегу.
Француза заставили собрать, что можно. Велели ему хорошенько все вымыть, чтобы в складках песчинки не осталось. За свой счет он купил свинцовый ящичек, который поместили в гроб Джоша Биллингса. Ибо Монтерей не мог допустить бесчестья в отношении литератора.
ГЛАВА XIII
Мак с ребятами мирно спали в ту ночь на сосновой хвое. Эдди вернулся под утро. Много пришлось походить, но модель Т он все-таки нашел. А когда нашел, стал сомневаться, ладно ли будет, если принести один клапан. Вдруг он не подойдет? Эдди на всякий случай прихватил с собой весь карбюратор. Когда он пришел, никто из ребят не проснулся. Эдди лег рядом и тоже заснул под соснами. Модель Т хороша не только тем, что детали одной машины подходят к любой другой, но и тем, что их нельзя опознать.
Со склона холма открывался замечательный вид: вдали дуга залива, обрамленная по кромке пенящимся прибоем; поближе песчаные дюны, за ними у подножья холма, как в чаше, уютно раскинулся городок.
Мак поднялся с рассветом, бодро поддернул штаны и стал любоваться заливом. Вон к берегу потянулись сейнеры. А там к причалу приткнулся танкер, принимает нефть. За спиной копошились кролики в кустах. Взошло солнце и выбило из всех закоулков ночную прохладу, как хозяйка выбивает пыль из половика. Мак ощутил прикосновение первых солнечных лучей, и по телу его пробежала дрожь.
Эдди стал менять карбюратор, ребятишки принялись жевать хлеб. Наконец карбюратор был на месте. Никому не хотелось надрываться, крутить ручку; навалились все разом, выкатили фордик на шоссе и толкали до тех пор, пока мотор не завелся. Эдди сел за руль, и фордик опять полез на гору задом наперед. Наконец достигли гребня, развернулись и покатили вниз, как положено, носом вперед. Скоро миновали Хэттонские луга и въехали в Кармелскую долину. Долина встретила серо-зелеными полями артишоков и густыми зарослями ивняка, тянувшегося вдоль реки. В долине свернули налево. Удача сопутствовала охотникам с самого начала. Сразу за поворотом дорогу перебежал рыжий род-айлендский петух, сильно запорошенный пылью, которого нелегкая занесла за тридевять земель от родной фермы. Эдди тюкнул его, и даже не надо было долго гнаться за ним по полю. Сидя сзади, Элен ощипывал его на ходу, пуская по ветру огненные перья — разрекламированная на весь свет улика: в то утро сверху из Джейтсбурга дул ветер, и рыжие петушиные перья долетали даже до мыса Лобос, а некоторые отнесло далеко в океан.
Кармел — прелестная речушка, не очень длинная и широкая, но может похвастаться всем, что положено иметь рекам. Она берет начало в горах и первые мили несется вниз сломя голову, на равнине она немного мелеет; там, где запруды, разливается озером; встретив валуны, пенится и бурлит, а потом опять лениво катит волны под сенью платанов; в ее тихих заводях плещется форель, а прибрежные отмели богаты раками. Зимой это бешено мчащийся поток, не очень широкий, но коварный, летом же кроткая Кармел сулит безопасное купание детям и богатый улов рыбакам. На ее берегах мигают зеленые спинки лягушек и курчавятся густые папоротники. Утром и вечером приходят на водопой тайными тропами лисы и олени, иногда спустится с горы пума и, припав всем телом к земле, лакает бегущую воду. Сюда выходят задами фермы, издавна обосновавшиеся в этой плодородной долине; фермеры орошают ее водами сады и огороды. Перепела кричат на берегах, в сумерки прилетают дикие голуби и гуляют в прибрежных зарослях. По отлогим откосам семенят еноты, охотясь за лягушками. Словом, у этой реки есть все, что полагается иметь рекам.
На пятой миле в долине река проточила ложе под высокой скалой, с которой в воду свешивались плети дикого винограда и папоротников. В тени скалы спряталась заводь, зеленая и очень глубокая, и тут же небольшая песчаная отмель манила путника отдохнуть, развести костер и сварить на нем пищу.
Мак с ребятами расположились на этой отмели и были на верху блаженства: лучшего места на земле поискать! Если где и водится множество лягушек, то, конечно, здесь. Всю дорогу сюда им сопутствовала удача. Кроме большого рыжего петуха, они разжились еще мешком моркови, упавшим с встречного грузовика, и полдюжиной луковиц, которые попали им в руки несколько иным путем. У Мака в кармане оказался пакет кофе. В фордике нашлась жестяная пятигаллонная банка с отрезанным верхом. Коктейля Эдди осталось еще почти полкувшина. Соль и перец захватили с собой. Мак с ребятами считали — очень глупо не брать в дорогу соль, перец и кофе.
Без лишних споров и суетни притащили четыре камня и сложили из них очаг. Рыжий петух, который еще утром заливисто приветствовал зарю, теперь лежал вымытый и расчлененный в пятигаллонной жестянке, а вокруг плавали в воде белые луковки; под банкой среди камней потрескивал маленький костер из ивового сушняка, совсем маленький. Только круглые дураки разводят большие костры. Сварить такого петуха — дело не одного часа, да ведь и не в один же день достиг он таких размеров и столь мощной мускулатуры. Вода наконец закипела, и от петуха сразу пошел такой аппетитный дух, что у всех потекли слюнки.
— Самое лучшее время для ловли лягушек — ночь, — порадовал ребят Мак и добавил: — Так что пока можно и соснуть.
Скала давала уютную тень; ребята один за другим повалились на песок и незаметно для себя заснули.
Мак был прав. Днем лягушки не очень выдавали себя; прятались в чаще папоротников, лишь изредка выглядывая из расщелин. Ловят лягушек ночью, при свете электрических фонариков, и ребята сладко спали в предчувствии бурных событий. Бодрствовал только Элен — поддерживал огонь под банкой с петухом.
Солнечному полдню места под скалой не было. В два часа солнце совсем зашло за скалу и кругом воцарились шелестящие тени. Полуденный ветер играл с листьями платанов. Маленькие водяные змейки заползали на камни, мягко скользили в воду и плавали в заводи, выставив головки как крошечные перископы и разводя мелкую волну. Выпрыгнула из воды большая форель. Боящиеся солнца комары и москиты слетелись в тень и громко звенели над водой. А светолюбивые жуки, мухи, стрекозы, осы, шершни — все попрятались по своим домикам. Только что тень коснулась берега, закричали первые перепела, Мак с ребятами проснулись. Запах от куриного рагу шел умопомрачительный. Элен сорвал с куста свежий лавровый листок и бросил в банку. Морковь уже была там. В другой банке кипел кофе. Мак открыл глаза, встряхнулся, потянулся, проковылял к воде, вымыл лицо, сложив ладони ковшиком, хакнул, сплюнул, прополоскал рот, пустил ветры, затянул пояс, почесал ноги, разгладил пальцами мокрые волосы, отпил из кувшина, икнул и сел у огня.
— Клянусь небом, пахнет недурно, — сказал он.
Все мужчины в мире проснувшись ведут себя одинаково. И дружки Мака, продрав глаза, почти точно повторили описанный выше порядок действий. Скоро все расселись у костра и каждый произнес в адрес Элена похвальное слово. Элен попробовал петуха перочинным ножом.
— Эту курятину нежной не назовешь, — сказал он. — Две недели надо варить, тогда она будет таять во рту. Как по-твоему. Мак, сколько было лет этому петуху?
— Петуху? Мне сейчас сорок восемь. Но, надеюсь, я еще не такой жесткий.
— Интересно, до скольких лет живут петухи? — сказал Эдди, — если умирают своей смертью?
— Этого, я думаю, никто не знает, — ответил Джонс.
Лучшего времяпрепровождения не придумать. Кувшин ходил по кругу, и в теле разливалось приятное тепло.
— Ты, Эдди, только не обижайся, — вдруг сказал Джонс. — А что если тебе под стойку поставить три кувшина и сливать в один виски, в другой вино, а в третий пиво…
Потрясенные приятели потеряли дар речи.
— Я не хотел сказать ничего плохого, — поспешил поправиться Джонс, — вообще-то мне и так очень нравится…
Он почувствовал, что ляпнул глупость, и смешавшись сыпал словами без остановки.
— Мне почему нравится? Пьешь и понятия не имеешь, это такое выкинешь. Вот, например, виски, — частил он, — выпьешь и более-менее знаешь, что произойдет. У кого кулаки чешутся — подерется. У кого глаза на мокром месте — заплачет. А тут… — сказал он, и в голосе у него зазвучали похвальные нотки, — неизвестно: то ли на сосну полезешь, то ли захочется плыть в Санта-Крус. Так оно гораздо интереснее получается…
— Кстати о плавании, — прервал его Мак, стараясь замять неловкость. — Интересно, что стало с Мак-Кинли Мораном, ныряльщиком. Помните такого парня?
— Как же, помню, — отозвался Хьюги, — мы с ним одно время вместе болтались. Работы у него было мало, и он начал пить. А ныряльщикам пить нельзя, опасно. Он стал бояться воды, взял и продал шлем, костюм и насос. Затем и сам куда-то уехал. С ним ведь что случилось? Одного итальяшку с «Двенадцати братьев» утянуло за борт якорной цепью. Мак-Кинли нырнул за ним без всего. Барабанные перепонки у него и лопнули. После этого все пошло кувырком. А итальяшка и сейчас жив-здоров.
Мак опять приложился к кувшину.
— Когда был сухой закон, — сказал он, — Мак-Кинли много заколачивал. Он тогда проверял, не спрятано ли где на дне спиртное. Надзор платил ему двадцать пять долларов в день. А Луи платил еще по три доллара за каждый ненайденный ящик со спиртным. Один ящик в день он все-таки находил, чтобы надзор был доволен. И Луи не возражал. Могли ведь другого ныряльщика нанять. Он тогда имел хорошие деньги.
— Да, это верно, — кивнул головой Хьюги. — Заработал много и решил жениться, как все. Три раза женился, пока были деньги. Вижу, раз купил он белую лисью шубу — ну так и знай, женится. Я это сразу понял.
— Что все-таки могло случиться с Гаем? — вдруг спросил Эдди, упомянув имя Гая первый раз за все время.
— А то же самое, — ответил Мак, — вернулся к жене. Женатым доверять нельзя. Как бы он ни ругал свою бабу, все равно к ней вернется. Начнет думать, вспоминать и не выдержит. Нет уж, раз женился — веры тебе нет, — про должал Мак. — Вот, пожалуйста, Гай. Баба поколотила его. А он, бьюсь об заклад, три дня не прошло, давай себя винить, раскаиваться. Ну и побежал домой просить прощения.
Ели петуха долго, с чувством. Выловят кусок, а с него так и капает, остудят немного и рвут зубами жесткие петушиные жилы с косточек; острыми ивовыми прутиками подцепят морковку — и в рот. Потом пустили по кругу банку и выпили до дна бульон. А вечер разливался в воздухе как тихая музыка. Окликали друг друга перепела, спускаясь к реке. Форель плескалась в заводи. Явились ночные бабочки и тихо шелестя порхали над водяной гладью. Тьма все заметнее примешивалась к дневному свету. Выпили кофе, передавая жестянку из рук в руки. Сидели сытые, довольные, умиротворенные.
— Черт побери, — нарушил молчание Мак. — Ненавижу тех, кто врет.
— А кто тебе что наврал? — спросил Эдди.
— Я говорю не о тех, кто врет, если иначе не проживешь, и не о тех, кто любит приврать. Ненавижу того, кто врет сам себе.
— Кто же это сам себе врет?
— Да хотя бы я, — ответил Мак. — И вы, наверное, тоже, — прибавил он горячо, — вся наша честная компания. Мы решили угостить Дока. Приехали сюда, наслаждаемся природой. Потом вернемся домой, Док нам заплатит деньги. Нас пятеро, а Док один, значит ему достанется в пять раз меньше, чем нам, взятым вместе. Я не уверен, что мы затеяли это для Дока, а не для своего собственного удовольствия. А так поступать с Доком нельзя, стыдно. Я не встречал таких людей, как Док. И не хочу пользоваться его добротой. Как-то хотел я выудить у Дока доллар. Помню, плету ему что-то несусветное и вдруг вижу, он прекрасно знает, что все это треп. Тогда я говорю ему: «Извините, Док, я все вам наврал». А он сунул руку в карман и вынимает доллар. «Мак, — говорит, — я знаю одно: если человек из-за доллара лжет, значит, ему действительно этот доллар нужен». И дает мне этот проклятый доллар. Я вернул ему его на другой же день. Я не истратил его. Он пролежал у меня ночь, и я вернул его.
— Док очень любит всякие вечеринки, — сказал Элен. — Мы устроим ему вечеринку. Не знаю, какая муха тебя укусила.
— И я не знаю, — ответил Мак. — Просто я думаю, нельзя делать что-то для Дока и самим к этому примазываться.
— А если что-нибудь ему подарить? — предложил Хьюги. — Давайте купим виски и подарим ему, пусть что хочет, то и делает.
— Верно, — поддержал его Мак. — Так и поступим. Дадим ему виски и смоемся.
— А знаете, что будет? — охладил их пыл Эдди. — Анри и другие с холма учуют виски и сбегутся к Доку, так что вместо пяти человек примажется двадцать. Док сам говорил, что запах его бифштексов долетает из Консервного Ряда даже до Пойнт— Сура. Не скажу точно, сколько к нему сбежится. Но лучше, если мы пятеро устроим ему вечеринку.
Мак задумался.
— Возможно, ты прав, — сказал он наконец. — А что если подарить ему кроме виски еще что-нибудь? Например, запонки с его инициалами.
— Ерунда, — сказал Элен. — Док это дерьмо терпеть не может.
Ночь уже раскинулась над миром, и в небе зажглись белые звездочки. Элен подбросил в огонь хворост, и в темноте взметнулась башенка света. Где-то за скалой резко пролаяла лисица. С гор долетел сильный горьковатый запах мяты. Там, где глубокая заводь опять становилась речкой, слышался мелодичный плеск воды о камни.
Мак обдумывал последнее замечание Элена, как вдруг из темноты донеслись чьи-то шаги и все разом повернули голову. К свету огня твердой походкой подошел высокий темный человек с дробовиком в руке, за ним деликатно, даже застенчиво, бежал пойнтер.
— Что, черт побери, вы здесь делаете? — спросил он.
— Ничего, — ответил Мак.
— Это частное владение. Здесь запрещено ловить рыбу, охотиться, устраивать привалы. Собирайтесь, тушите огонь и идите отсюда.
Мак покорно-почтительно встал.
— Я этого не знал, капитан, — сказал он. — Честное слово, капитан, мы не видели запретного знака.
— Знаки здесь на каждом шагу. Их нельзя не увидеть.
— Простите, капитан. Наша вина, мы очень сожалеем, — проговорил Мак, помолчал немного, поглядел на сутулящуюся фигуру. — Вы ведь военный, не так ли, сэр? Я сразу узнал. У военных особая выправка. Я сам долго служил в армии. И сразу узнаю военного человека.
Плечи подошедшего незаметно распрямились; и манера держаться стала другая, явно другая, хотя и нельзя сказать, что изменилось.
— Я не разрешаю разводить костры на моей земле, — сказал он.
— Мы очень, очень сожалеем, — повторил Мак. — Мы сию минуту уходим, капитан. Видите ли, мы работаем на ученых. Думали наловить здесь лягушек. Ученые изучают рак, а мы помогаем им, ловим лягушек.
Человек секунду колебался.
— А что они делают с лягушками? — не удержался он.
— Как что, сэр, — ответил Мак, — прививают им рак, а потом изучают, ставят опыты. Чуть не облизывают. Им их только подавай. Но раз на вашей земле ловить лягушек нельзя, мы сию минуту уйдем, капитан. Никогда бы не посмели расположиться здесь, знай мы, что это ваше владение. Боже, какая восхитительная сука! — Мак прикинулся, что только что увидал собаку. — Вылитая Нола. Помните, прошлогодняя победительница соревнований в Вирджинии? Она ведь у вас из Вирджинии, капитан?
Капитан опять заколебался.
— Да, — коротко ответил он, погрешив против истины. — Она хромает. У нее клещ под правой лопаткой.
У Мака сразу сделался озабоченный вид.
— Не возражаете, капитан, если я взгляну? Поди сюда, умная собака.
Собака взглянула на хозяина и боком подвинулась к Маку.
— Подбрось еще хворосту в огонь, — велел он Элену, — мне плохо видно.
— Вот здесь, где невозможно зализать.
Мак выдавил немного гноя из зловещего вида вздутия под лопаткой.
— У одной из моих собак тоже была такая штука, прорвалась внутрь и собака погибла. У вашей, кажется, есть щенки?
— Да, — ответил капитан. — Целых шесть. Я помазал клеща йодом.
— Нет, йодом его не возьмешь, — сказал Мак. — У вас есть дома горькая соль?
— Целая бутылка.
— Сделайте горячую припарку из этой соли на больное место. Ее тянут щенки, вот она и ослабла. Ей сейчас болеть нельзя, боже упаси. Так вы и щенков потеряете.
Собака заглянула в глаза Мака и лизнула ему руку.
— Знаете что, капитан. Я сам ее полечу. Горькая соль творит чудеса. Это самое лучшее средство.
Капитан погладил собаку по голове.
— У меня возле дома пруд, — сказал он. — В нем полно лягушек. Они по ночам не дают спать. Почему бы вам не поохотиться у меня? Они квакают ночи напролет. Я все думал, как от них избавиться.
— Прекрасно придумано, сэр, — сказал Мак. — Держу пари, ученые будут вам благодарны. Но мне бы хотелось поскорее начать лечение. Дело не терпит.
Мак повернулся к друзьям.
— Потушите костер, — сказал он. — Смотрите, не оставьте ни одной искры. И уберите весь мусор, чтобы не было ни соринки. Мы с капитаном пойдем к нему домой, займемся Нолой. Когда все уберете, тоже приходите туда.
И Мак с капитаном ушли.
ГЛАВА XIV
Раннее утро в Консервном Ряду — время чудесных превращений. В серые сумерки, когда уже брезжит, а солнце еще не взошло, Консервный Ряд точно висит вне времени, окутанный серебристым светом. Уличные фонари погасли, изумрудно зеленеет трава. Рифленое железо Консервного Ряда излучает жемчужный блеск платины или старой оловянной кружки. Автомобили как вымерли. Улицы отдыхают от прогресса и бизнеса. Слышно только, как плещутся волны, набегая на сваи консервных цехов. Это час великого покоя, пустынное время, крошечная эра полной праздности. Кошки увесистыми каплями падают с заборов и текут по земле, как густой сироп, вынюхивая рыбные головы. Важно прогуливаются ранние молчаливые псы, придирчиво ища местечко, которое можно было бы оросить. Чайки тяжело хлопают крыльями, опускаясь на крыши Консервного Ряда, ожидают дня, а с ним рыбных отбросов. Они тесно сидят на коньках крыш, крыло к крылу. Со скал, расположенных у станции Хопкинса, доносится лай морских львов, похожий на голоса гончих. Воздух свеж и прохладен. За домами в садах суслики вспучивают свежую сырую землю, вылезают наружу, срезают цветы и тянут в свои норки. Редко кто пройдет в этот час по улице, от этого город кажется еще пустыннее. Возвращается домой одна из девочек Доры; она была у клиента, либо очень богатого, либо немощного — те и другие по разным причинам не посещают «Медвежий стяг». Помада у нее на лице расползлась, ноги еле идут. Ли Чонг вынес из дома баки с мусором и поставил на край тротуара. Из моря вышел старый китаец и застучал подошвой по улице мимо Королевской ночлежки. Выглянул сторож консервных цехов и замигал от утреннего света. Привратник «Медвежьего стяга» вышел на крыльцо без пиджака, потянулся, зевнул, почесал живот. Из труб с пустыря доносится храп постояльцев Мэллоя, имеющий зычное, туннельное звучание. Час жемчужного цвета — вот что такое щель между днем и ночью, время в этот час прекращает бег и созерцает самое себя.
Таким утром, полным жемчужного света, весело шля по улице два солдата и две девушки. Шли они из «Ла Иды» очень счастливые и усталые. Девушки, здоровые, сильные, грудастые, одеты в вискозные розовые платья, сейчас помятые и облегающие все надлежащие округлости; светлые волосы у обеих слегка растрепались. На головах у девушек — солдатские фуражки, одна сдвинула ее почти на затылок, у другой она чуть не на носу. Это были толстогубые, широконосые, задастые девки, очень усталые.
Мундиры у солдат были расстегнуты, ремни сняты и брошены через плечо. Воротнички рубашек нараспашку и узлы галстуков сдвинуты вниз. На головы нацеплены шляпки подруг, одна маленькая, соломенная с букетиком маргариток на маковке; другая белая, вязаная, прикрывающая полголовы, с медальонами из синего целлофана. Четверка шла, держась за руки и ритмично ими размахивая. У солдата, шедшего с краю, в руке была большая бумажная сумка с банками холодного пива. Четверка шла, мягко ступая сквозь жемчужный свет. Они чертовски повеселились и были счастливы. Они улыбались застенчиво, как улыбаются дети, вспоминая веселый праздник. Они поглядывали друг на друга, улыбались и размахивали руками. Проходя мимо «Медвежьего стяга», крикнули привет привратнику, чесавшему живот. Послушали трубный храп и немного посмеялись. У лавки Ли Чонга остановились и долго разглядывали витрину со всякой всячиной, платьями, инструментом, едой. Качая сцепленными руками, чуть не спотыкаясь, они дошли до конца Консервного Ряда и повернули к железной дороге. Девушки встали на рельсы и дальше пошли по ним, а солдаты поддерживали их за пухлые талии. Миновали верфи и вошли в парк, который был, собственно, частным владением — «Морская станция Хопкинса». Станция находилась на берегу крошечной бухточки, образованной двумя скалами. Ласковые утренние волны лизали берег и тихо шептались. От выступавших из воды камней шел тонкий запах водорослей. Четверка подошла к берегу, и тотчас над землей Тома Уорка, лежавшей прямо за бухтой, появился краешек солнца, позолотив воду и мазнув желтым прибрежные камни. Девушки чинно опустились на песок, натянув платья на колени. Один солдат проткнул банки с пивом и дал каждому по банке. Потом парни легли, положив головы на колени девушкам. Они улыбались друг дружке — чудесная, усталая, умиротворенная загадка природы.
Со стороны станции послышался собачий лай — их увидели сторож, мрачный, смуглый человек, и его пес, черный, мрачный кокер-спаниель. Сторож закричал на них; нарушители как не слыхали, тогда он спустился на берег, сопровождаемый однотонным лаем спаниеля.
— Вы что, не знаете, здесь не разрешается лежать. Убирайтесь отсюда. Это частная собственность!
Солдаты как не слышали. Они улыбались, а девушки гладили им волосы. Наконец один солдат медленно повернул голову и щека его оказалась между ног девушки. Он благосклонно улыбнулся сторожу.
— Катись отсюда знаешь куда, — проговорил добродушно и повернул голову, чтобы смотреть на девушку.
Солнце озарило ее светлые волосы, она чуть нагнулась к парню и почесала у него за ухом. Они не заметили, как сторож убрался восвояси.
ГЛАВА XV
Когда ребята подошли к фермерскому дому, Мак был уже на кухне. Собака лежала на боку, а Мак держал на клеще тряпочку, густо смоченную горькой солью. Между ее ног копошились крупные, толстые щенки, тыкались в шерсть носами, ища соски, а сука глядела в лицо Маку, как будто хотела сказать: «Видишь вот, как оно? Я ему пыталась объяснить, но он не понимает».
Капитан держал лампу и смотрел на Мака.
— Как здорово! Теперь я знаю, что делать с клещами, — сказал он.
— Не хотел бы вмешиваться в ваши дела, — сказал Мак, — но щенят уже пора прикармливать. У нее мало молока, и щенята просто растерзают ее.
— Знаю, — ответил капитан. — Наверное, надо было оставить одного, а других утопить. Но я так занят хозяйством. Теперь мало кто любит охотничьих собак, то есть с которыми охотятся на дичь. Заводят одних пуделей, боксеров да доберманов-пинчеров.
— Да, — согласился Мак. — А по-моему, лучше пойнтера собак нет. Не знаю, что случилось с людьми. Но ведь вы не станете их топить, сэр?
— О-хо-хо, — вздохнул капитан. — Моя жена ударилась в политику, и у меня голова кругом. Ее избрали в Ассамблею от нашего округа, а между сессиями она ездит с лекциями. Когда она дома, она все время читает и составляет законы.
— Как, однако, гнусно… то есть я хотел сказать, грустно одиночество, — сказал Мак и, взяв в руки барахтающегося тупорылого щенка, прибавил: — Бьюсь об заклад, я смог бы вырастить из такого щенка отличную суку. Я, знаете ли, держу только сук.
— Вы хотите взять одного щенка? — спросил капитан. Мак поднял голову.
— А вы могли бы дать мне его? Господи, вот было бы счастье.
— Берите любого, — сказал капитан. — Сейчас мало кто знает толк в пойнтерах.
Ребята стояли на кухне и бегло обозревали кухню. Было ясно, что хозяйка в отлучке — открытые консервные банки, сковородка с кружевам белка, оставшегося от яичницы, хлебные крошки на столе, открытый ящичек с дробью на хлебном коробе — все вопияло об отсутствии женщины; белые же занавески, застланные бумагой полки, два маленьких полотенца на вешалке говорили о том, что вообще-то в доме женщина есть. Подсознательно все были рады, что эта женщина сейчас отсутствует. Женщины, которые застилают полки бумагой и вешают на кухне два полотенчика, питают инстинктивное недоверие и неприязнь к людям, подобным Маку и его друзьям. Эти женщины знают, что от таких исходит самая большая угроза домашнему очагу, так как они стоят за свободу, праздность, приятельство и созерцание в противовес аккуратности, порядку и приличию. Они были рады, что хозяйки не было.
Мало-помалу капитан стал проникаться убеждением, что эти люди появились здесь, чтобы оказывать ему благодеяние. Он уже не хотел, чтобы они очистили его владения. И он неуверенно спросил:
— Может, ребятки, выпьете немного для согрева перед охотой?
Ребятки поглядели на Мака. Мак нахмурился, как будто соображал, достойно ли принять подобное предложение.
— Мы взяли за правило, — сказал он, — ни капли спиртного во время научной работы. — И тут же прибавил, испугавшись, что его слова будут приняты за чистую монету. — Но видя ваше искреннее расположение, я лично не откажусь пропустить по маленькой. А ребята пусть решают сами.
Ребята решили, что и они не прочь пропустить по маленькой. Капитан взял фонарик и спустился в погреб. Было слышно, как он двигает там что-то тяжелое; поднялся он наверх, держа в руках пятигаллонный дубовый бочонок. Поставил его на стол и сказал:
— Когда был сухой закон, я сделал из кукурузы немного виски и спрятал его. А сейчас подумал, не попробовать ли, как оно у меня получилось. Виски довольно старое. Я совсем забыл про него. Дело в том, что моя жена…
Капитан не закончил фразы, было ясно, что ребята поняли его. Капитан выбил из бочонка дубовую пробку и снял с полки, покрытой бумагой с фестонами, стаканы на всю братию. Нелегкое дело налить в стакан немножко виски из пятигаллонного бочонка. И каждый получил полстакана прозрачной коричневой влаги. Вежливо подождали капитана, хором воскликнули «со знакомством» и поднесли стаканы к губам. Проглотили, прищелкнули языками, облизнули губы, и в глазах появилось неземное выражение. Мак заглянул в стакан и точно увидел на дне священные письмена, возвел глаза к небу и, глубоко вздохнув, произнес:
— Слов нет… —опять вздохнул и прибавил:— Ничего лучшего в жизни не пробовал.
Капитан был явно польщен. Глаза его вперились в бочонок.
— А ведь правда неплохо, — сказал он. — Как вы думаете, не отведать ли еще чуть-чуть?
— Разве самую малость, — согласился Мак. — Только не лучше ли сначала отлить в кувшин. А то еще расплещется.
По какому делу попали сюда, вспомнили только часа через два.
Пруд был прямоугольный — пятьдесят футов в ширину, семьдесят в длину и в глубину четыре фута. Берега его заросли густой, мягкой травой, вода в пруд текла из реки по большой канаве, а с другой стороны по нескольким канавкам устремлялась в сад. Лягушки там были, прорва лягушек. Их кваканье заполонило ночь, они стрекотали, верещали, булькали, гремели. Они воспевали месяц, звезды, колыхание трав. Рассыпались любовными руладами, бросали вызов соперникам… Люди тихонько подкрадывались во тьме. Капитан нес почти полный кувшин виски. Охотники сжимали в руке по стакану. Капитан дал каждому исправный фонарик. Хьюги с Джонсом несли мешки из дерюги. Вот уже пруд совсем близко. И тут наконец лягушки услышали их. Только что воздух гремел от лягушачьих трелей, и вдруг воцарилась глубокая тишина. Мак, ребята и капитан сели на траву последний раз хлебнуть самую малость и обсудить план кампании. План отличался размахом и смелостью.
Люди и лягушки не первое тысячелетие живут бок о бок; и люди, должно быть, неоднократно охотились на лягушек. За этот немалый срок сложились неписаные правила охоты. Человек, вооруженный сетью, луком, копьем или ружьем, неслышно, как ему кажется, ползет к лягушкам. Согласно правилам, лягушки сидят тихо, тихо и ждут. Ждут до последнего. За долю секунды до того, как брошена сеть, пущено копье, нажат курок, лягушки хором бултыхаются в воду и плывут на дно, уповая на то, что человек уйдет. Так было всегда. И лягушки надеются, что так оно будет и впредь. Случалось, конечно, что сеть падала слишком быстро, копье попадало в цель, ружье не давало осечки, и какой-то бедной лягушке приходил конец. На это лягушки не обижались: ведь охота велась по-честному, а на охоте смерть в порядке вещей. И наши лягушки представить себе не могли, какое коварство задумал против них Мак. Не могли вообразить размеров надвигающейся катастрофы. В ночной тиши вспыхнули фонарики, затопали ноги, завопил не своим голосом невидимый противник. Лягушки, как одна, бултыхнулись в воду и без памяти пошли на дно. Тогда враги, построившись цепью, вступили в воду; они топали, прыгали, плясали, баламутили воду и неотвратимо продвигались вперед. Лягушки в панике покинули укромные закутки на дне и бросились удирать от этих ножищ, а ножищи наступали! Лягушки — отличные пловцы, но у них совсем нет терпения. Они плыли вперед, плыли, пока передние не наткнулись на берег. Началось столпотворение, задние напирали и лезли на передних. А охотники были уже совсем близко; тогда несколько обезумевших лягушек повернули назад, навстречу явной гибели, но между но — о чудо! — оказались просветы, лягушки ринулись в них и спаслись! Большинство же решило навсегда покинуть родной пруд и отправиться на поиски нового жилья, нового отечества, где подобные безобразия немыслимы. Отчаявшиеся, возмущенные до глубины души лягушки — большие и маленькие, зеленые и бурые, лягушки-дяди и лягушки-тети волна за волной выплескивались на берег, прыгали, спотыкались, ползли, путались в траве, задевали друг друга, маленькие вскакивали на больших. И тут — ужас, кошмар! — их настиг свет фонариков. Двое мужчин нагнулись и стали собирать их, как клубнику с грядки. Тем временем вражеская цепь вышла из воды и отрезала отступление. Теперь уже собирали лягушек, как выкопанный картофель. Десяток за десятком падали они в разверстые мешки. И скоро мешки были полны обессилевших, перепуганных, утративших иллюзии квакушек, мокрых, несчастных, всхлипывающих. Кое-кому все же удалось спастись, да и в пруду осталось десятка полтора. Но никогда еще в лягушачьей истории не было катастрофы подобных масштабов. Считать их не считали, но было их, наверное, пять или шесть сотен. Довольный Мак завязывал мешки. Все промокли до нитки, в воздухе уже повеяла предутренняя прохлада. И перед тем как идти домой, выпили еще самую малость — упаси бог схватить простуду.
Капитан славно повеселился, как никогда в жизни. И чувствовал себя в долгу у Мака и его друзей. Немного позже в кухне вспыхнули занавески, их удалось загасить хозяйкиными полотенчиками. Капитан просил гостей из-за этого не расстраиваться, он почел бы за честь, спали они весь его дом.
— Моя жена замечательная женщина, — сказал он в экстазе. — Редкостная. Ей надо было родиться мужчиной. А если бы она родилась мужчиной, я бы на ней не женился.
Он долго смеялся своей шутке, три или четыре раза повторил ее, чтобы не забыть сказать приятелям, пусть посмеются. Налил полный кувшин виски и дал Маку. Как бы ему хотелось жить с ними в Королевской ночлежке! Он уверен, что и его жена полюбила бы Мака и его друзей, они обязательно должны познакомиться. В конце концов он уснул на полу, примостив голову среди щенят. Мак с ребятами выпили по маленькой и задумчиво поглядели на него.
— Он ведь дал мне этот кувшин, правда? — сказал Мак. — Вы ведь слышали?
— Конечно, дал, — подтвердил Эдди. — Я сам слышал.
— И подарил мне щенка?
— Да. Сказал, бери любого. Мы все слышали. А что?
— Я никогда не воровал у пьяного. И не собираюсь начинать сегодня, — ответил Мак. — Нам пора выметаться отсюда. Ему лихо будет, когда проснется. И во всем виноваты мы. Не хочу дольше здесь оставаться. — Мак обвел глазами обгоревшие занавески, пол, на котором блестели лужи, не то щенячьи, не то от пролитого виски, плиту с потеками застывшего свиного жира. Подошел к щенкам, внимательно осмотрел каждого, пощупал костяк, лапы, заглянул в глаза, проверил челюсти и выбрал красивую, пятнистую сучку в бурым носиком и чудесными, изжелта-карими главами.
— Иди ко мне, девочка, — сказал он.
Задули лампу во избежание пожара. Когда вышли из дома, уже начало светать.
— Удачная поездка, лучшей у меня в жизни не было, — заметил Мак. — Но что будет, когда вернется его жена! Меня от этой мысли бросает в жар.
Щенок заскулил у него на руках, и он сунул его за пазуху.
— Мировой он парень, — продолжал Мак. — Конечно, если сумеешь расположить его к себе.
И они поспешили к тому месту, где их ждал фордик.
— Только не забывайте, что все это мы делаем для Дока, — прибавил немного погодя Мак. — Судя по тому, как идет дело, Док, пожалуй, родился в рубашке.
ГЛАВА XVI
Наверное, самым загруженным месяцем у девочек Доры был тот март, когда сейнеры вернулись с особенно большим уловом сардин. Не только лились серебряные реки рыбы, деньги лились рекой. В форт прибыл новый полк, и солдаты на первых порах целыми днями шатались по городу, приглядываясь ко всему. А Дора как раз в это время испытывала затруднения со штатами: Ева Фланеган уехала на каникулы в Ист-Сент-Луис, Филис Мэй сломала ногу, вылезая из роликовых саней в Санта-Крусе, а Элси Даблботтом только что провела девять дней в строгом посте и молитвах и ни на что не годилась. Рыбаки с сейнеров с туго набитыми кошельками целые дни проводили в «Ресторации Медвежий стяг». Они уходили в море вечером, всю ночь ловили рыбу, а днем, само собой, желали развлекаться. По вечерам в «Медвежий стяг» заглядывали солдаты нового полка, слушали музыкальный автомат, пили кока-колу и приглядывались к девочкам, загодя выбирая под первое жалование. Ко всему, у Доры были трудности с налогами, она запуталась в неразрешимом противоречии: бизнес ее был незаконный, а доход от него налогом облагался. Кроме сезонных посетителей были постоянные, годами ходившие к Доре: рабочие с карьера, ковбои с близлежащих ранчо, железнодорожники (эти все шли с парадного входа), городские чиновники и богатые дельцы, проникавшие в заведение через черный ход со стороны железнодорожных путей, для них у Доры были особые маленькие гостиные, обитые ситцем.
В общем, март был ужасный, а тут еще в середине месяца вспыхнула эпидемия инфлуэнцы, мгновенно охватившая весь город. Заболели миссис Талбот с дочерью, владевшие гостиницей «Сан Карлос». Слег Том Уорк, слегли Бенджамин Пибоди с женой. Слегла ее превосходительство Мария Антониа Филд, подхватило инфекцию все семейство Гроссов.
Врачи Монтерея — а их было вполне достаточно для лечения заурядных болезней, несчастных случаев и нервных расстройств — с ног сбились. Им не хватало времени на пациентов, которые, если и не платили по счетам, то хотя бы имели деньги, чтобы заплатить. Консервный Ряд, населенный более крепкой породой людей, дольше других не поддавался эпидемии, но в конце концов не устоял и он. Закрылись школы. Не было дома, где бы на постели не метался в жару больной ребенок, а зачастую вместе с детьми болели и взрослые. Болезнь была не смертельная, как в 1917 году, но детям давала осложнение на уши. Врачей и сестер не хватало; дело было еще и в том, что в Консервном Ряду жили бедняки, которым нечем было платить.
Док из Западной биологической не имел права лечить. Не его вина, что все население Консервного Ряда обращалось к нему за помощью. Не успел он оглянуться, как уже бегал из одной лачуги в другую, меряя температуру, давая лекарства, доставая для больных одеяла и даже разнося еду в те дома, где матери с постелей глядели на него воспаленными глазами, благодарили, видели в нем единственного спасителя. Когда случай оказывался особенно тяжелым, он звонил местным врачам и кто-нибудь приходил, если положение становилось угрожающим. Но почти все считали свое положение угрожающим. Док сутками не спал. Ел только консервы из сардин, запивая пивом. У Ли Чонга, куда он зашел купить пива, Док встретил Дору, пришедшую за щипчиками для ногтей.
— Вы что-то осунулись, — сказала Дора.
— Осунешься, — ответил Док, — неделю почти совсем не сплю.
— Знаю, — сказала Дора. — Плохо дело. И у меня, как на грех, трудное время.
— К счастью, нет смертей, — сказал Док. — Но дети по большей части очень тяжело болеют. У малышей Рэнселов осложнение на уши.
— Я могла бы чем-нибудь помочь? — спросила Дора.
— Конечно, — ответил Док. — Люди совсем пали духом. Вот хотя бы Рэнселы. Живут в таком страхе, боятся остаться одни. Было бы хорошо, если бы вы или кто-то из ваших девочек просто посидел с ними.
У Доры был очень мягкий характер, мягкий как мышиное брюшко, но если надо, она становилась твердой как гранит. Вернувшись в «Медвежий стяг», Дора развила бурную деятельность. Эпидемия случилась очень некстати, но остаться в стороне она не могла. Помогать так помогать. Повар-грек варил крепкий бульон — и пятигаллонный котел всегда был полон. Девочки старались не срывать работы и ходили посидеть с больными посменно, захватив с собой кастрюльку с бульоном. Дока разрывали на части. Дора спрашивала у него, кому еще помочь, и посылала девочек, куда он скажет. И все это время в «Медвежьем стяге» кипела своя работа. Музыкальный автомат играл не смолкая. Солдаты, рыбаки с сейнеров выстаивали очередь. Девочки, отработав, брали кастрюльку с супом и спешили к Рэнселам, к Мак-Карти, к Ферри. Они ускользали через черный ход и, сидя у постели спящего ребенка, иногда сами забывались сном прямо на стуле. На работе они перестали прибегать к косметике, не было надобности. Дора сказала, что в такое безумное время она могла бы трудоустроить всех старушек из дома престарелых. Девушки Доры не помнили такой запарки. Все были очень рады, когда этот март кончился.
ГЛАВА XVII
Несмотря на открытый характер и множество друзей, Док был человек одинокий, державшийся особняком. Мак, пожалуй, понимал это больше других. В компании Док всегда был один. Когда у него в окнах горел свет, шторы были опущены, а проигрыватель играл Грегорианские песнопения, Мак садился возле окна у себя в Королевской ночлежке и смотрел на лабораторию. Он знал, что у Дока сейчас девушка, и ему передавалось безысходное ощущение одиночества: даже нежная близость женщины не спасала Дока. Док был ночной птицей. Свет в лаборатории горел всю ночь, но и днем, казалось, он не смыкает глаз. Денно и нощно из окон лаборатории катились мощные волны музыки. Казалось иногда, весь мир уже погрузился в сон, но нет — со стороны Западной биологической долетали чистейшие детские голоса Сикстинской капеллы.
Постоянным занятием Дока было собирательство. Он не пропускал ни одного хорошего отлива на всем побережье. Его угодьями были скалы и песчаные отмели. Он точно знал, где что взять: в этой бухте трубочники, в той осьминоги и губки, а еще дальше — морские лилии.
Места он знал, да нельзя было пойти туда и взять что надо, когда захочешь. Природа держит свои богатства под замком. И лишь изредка соизволит поделиться ими. Док знал не только время приливов и отливов, он знал и то, когда и в каком месте ожидается наибольший отлив. Накануне отлива Док снаряжался в путь, складывал в машину орудия ловли, упаковывал банки, бутыли, стекла, спирт и спешил в ту бухту, на ту скалу или гряду камней, где обитали нужные ему морские животные.
В этот раз он получил заказ на осьминогов-детенышей: самым близким их обиталищем была бухта Ла-Джолла, ее усеянное камнями дно; бухта находилась между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, пятьсот миль туда и столько же обратно. Попасть в Ла-Джоллу надо было точно к началу отлива.
Осьминоги жили среди камней, торчавших из песчаного дна. Они были еще маленькие и пугливые, селились там, где много расщелин и укромных уголков, где можно спрятаться от волн и хищников. Здесь же водились тысячи губок. И Док решил, охотясь за осьминогами, пополнить запас и этих морских обитателей.
Малая вода наступит в четверг в пять семнадцать утра. Если выехать из Монтерея в среду утром, поспеешь на место вовремя. Хорошо бы взять с собой кого-нибудь для компании, но как назло все приятели были заняты или в отлучке. Мак с ребятами поехали за лягушками в долину Кармел. Все три приятельницы, чье общество было приятно, ходили на службу и в будни, естественно, не могли ехать. Анри-художник был очень занят. Универмаг Холмана держал у себя на сигнальной мачте вместо дозорного конькобежца. Конькобежец укрепил на высоком шпиле, торчащем на крыше универмага, небольшую площадку в виде диска и кружил там на коньках без устали и без отдыха. Он кружил вот уже трое суток — решил поставить новый рекорд продолжительности катания на коньках в воздухе. Последний рекорд равнялся ста двадцати семи часам, так что ему еще было кататься и кататься. Анри расположился со своими живописными принадлежностями через улицу на заправочной станции Рыжего Уильяма. Он был в экстазе. Он мечтал создать полотно под названием «Субстрат мечтаний конькобежца, парящего на флагштоке». И, разумеется, Анри не мог покинуть свой пост, пока столпник кружился. Он утверждал, что проблема «конькобежец на флагштоке» имеет философские аспекты, до сих пор ускользавшие от внимания специалистов. Анри сидел на табуретке, откинувшись на деревянную решетку, загораживающую двери мужского туалета на заправочной Рыжего Уильяма. Он не отрывал глаз от площадки конькобежца, парящей в небе как орлиное гнездо над пропастью, и, конечно, он не мог составить Доку компанию. Так что Док собрался ехать один — отлив ждать не будет.
Рано утром Док уложил вещи. Личные в саквояж, инструменты в другой, побольше. Затем причесался, подровнял бородку; потрогал карман рубашки — на месте ли карандаши; проверил, приколота ли к лацкану пиджака лупа. Все было в порядке. Упаковал лотки, бутыли, предметные стекла, спирт; резиновые сапоги и одеяло сложил на заднее сиденье машины. На все ушло полчаса жемчужного света; вымыл грязную посуду трехдневной давности, выплеснул воду в пенистую кромку прибоя. Закрыл двери, но запирать не стал и в девять часов утра отбыл.
Док проводил в дороге больше времени, чем другие автомобилисты. Он ездил не спеша, часто останавливался перекусить. Поднимаясь по Маячной улице. Док помахал собаке, которая посмотрела ему вслед и улыбнулась. Еще не выехав из Монтерея, он захотел есть, остановился у Германа и заказал котлету с пивом. Док жевал хлеб, тянул пиво, и в голову ему лезла всякая дребедень. Как-то Блейзделл, поэт, сказал ему: «Вы так любите пиво, Док, что в один прекрасный день, зайдя в кафе, закажете молочный коктейль с пивом». Это был обыкновенный треп. Но с тех пор коктейль с пивом преследовал его. Интересно, какой у него вкус? Правда, при мысли об этом тошнило, но стоило поднести к губам кружку пива, треклятый коктейль начинал подзуживать: что, слабо заказать молочный с пивом? С сахаром или без сахара? А молоко не скиснет? Молочный коктейль с пивом все равно, что мороженое из креветок. Да ведь если какая дурь втемяшится в голову, ничем ее не выбьешь. Док доел котлету, заплатил Герману. И нарочно старался не смотреть на никелированные аппараты для коктейлей, блестевшие на темном фоне стены. Если уж заказывать молочный коктейль с пивом, лучше заказывать его в городе, где тебя никто не знает. Но с другой стороны, если мужчина с бородкой закажет такой коктейль, где его никто не знает, то могут и полицию позвать. Вообще-то мужчина с бородкой повсюду внушает легкое подозрение. И ведь никому не объяснишь, что ты носишь бороду потому, что тебе это нравится. Скажешь человеку правду, и он тотчас чувствует к тебе антипатию. Приходится говорить, что у тебя шрам и поэтому ты не бреешься. Когда-то еще в Чикагском университете Док сильно переутомился и чуть не бросался на людей. И он подумал, неплохо бы совершить дальнюю прогулку пешком. Вскинул на плечи рюкзак и пошел куда глаза глядят. Прошел Индиану, Кентукки, Северную Каролину, Джорджию и дошел до Флориды. Он встречался с фермерами, с жителями гор и болотистых низин, с рыбаками, и везде его спрашивали, чего это он разгуливает пешком по стране.
А поскольку Док был человек честный, то он говорил людям истинную правду: что, у него сдали нервы, что он давно хотел посмотреть страну, подышать запахами земли, осязать траву, деревья, послушать пение птиц, словом, отведать приволья, вот и отправился бродить пешком по градам и весям. Людям был не по душе этот честный человек. Они качали головами, хмурились, стучали себя пальцами по лбу; смеялись, уверенные, что он все врет, и отдавали должное его искусству морочить людей. А были и такие, что гнали его прочь, боясь за сохранность своих хрюшек и дочерей; кричали ему, пусть убирается подобру-поздорову, покуда цел.
И тогда он решил говорить неправду, отвечал, что отправился бродить на пари, поспорив с друзьями на сто долларов. И ему все верили, он всем очень нравился. Его приглашали обедать, оставляли ночевать, кормили завтраком и желали счастливого пути. А потом вспоминали о нем, как о чертовски славном парне. Док не учился говорить правду, но теперь он знал, что правду любят немногие, что она — опасная возлюбленная.
Салинас Док проехал мимо. Остановился он в Гонзалесе, Кинг-сити и Пасо-Роблесе. В Санта-Марии съел котлету и выпил кружку пива, даже две, так как от Санта-Марии до Санта-Барбары было довольно далеко, В Санта-Барбаре съел суп, зеленый салат, салат из фасоли, мясо в горшочке с картофельным пюре, ананасовый пирог, сыр и выпил кофе. Пообедав, залил в бак бензин и пошел помыться. Пока на заправочной проверяли баллоны и масло, Док умылся, причесал бородку, а, вернувшись к машине, увидел возле нее очередь желающих ехать на попутке.
— На юг едете, мистер?
Док немало поколесил за рулем и знал по опыту, что попутчика надо выбирать с умом. Лучше всего ехать с бывалым человеком, такой сидит тихо; новичок же от неловкости болтает без умолку — хоть чем-нибудь заплатить за даровую поездку. Выбрав попутчика, вы ему говорите из осторожности, что едете недалеко. Вдруг попутчик станет вам докучать, тогда вы ссадите его через несколько миль и все. Но бывает и повезет — посадишь такого человека, что один на тысячу. Док мельком оглядел очередь и выбор его пал на узколицого, худощавого человека в синем костюме, по виду коммивояжера; от крыльев носа к уголкам губ у него шли глубокие морщины, а черные глаза смотрели хмуро, задумчиво.
Он поглядел на Дока с легкой неприязнью.
— Едете на юг? — спросил он.
— Да, — ответил Док. — Не очень далеко.
— Меня не захватите?
— Садитесь.
Доехали до Вентуры, Док остановился выпить пивка после недавнего плотного обеда.
До сих пор попутчик ехал молча. Док подкатил к придорожному пивному ларьку.
— Пива хотите? — спросил Док.
— Нет, — отрезал коммивояжер. — И позволю себе заметить, что вести машину в нетрезвом состоянии — весьма неразумно. Меня не касается, как вы относитесь к своей жизни. Но вы за рулем, а в руках пьяного автомобиль может стать орудием убийства.
При первых словах попутчика Док слегка опешил. А выслушав тираду до конца, тихо сказал:
— Вон из машины.
— Что?
— Получите по шее, если не уберетесь. Считаю до десяти. Раз, два, три…
Человек задергал ручку дверцы и поспешно вылез задом на обочину. Очутившись в безопасности, он заорал.
— Я заявлю в полицию! Вас арестуют!
Док открыл вещевой ящик и взял гаечный ключ. Попутчик это заметил и чуть не бегом кинулся прочь.
Продавщица, красивая блондинка с намечающимся зобом, приветливо улыбнулась ему.
— Что будете пить?
— Молочный коктейль с пивом, — брякнул Док.
— Что?
А черт, хотя ладно. Не все ли равно — сейчас или завтра.
— Вы шутите? — спросила блондинка.
— У меня с мочевым пузырем непорядок, — ответил он. — Бипаликетсонектомия, если по-научному. Мне полагается пить молочный коктейль с пивом. Врачи прописали.
Блондинка сочувственно улыбнулась.
— А я подумала, вы шутите, — чуть лукаво ответила она. — А как он делается? Значит, вы больны? Ни за что не скажешь.
— Очень болен, — кивнул головой Док. — И болезнь все прогрессирует. А делается он просто. Немного молока и полбутылки пива. Остальное налейте в стакан, я так выпью. И, пожалуйста, без сахара.
Когда коктейль был готов, Док с опаской отпил один глоток. Нельзя сказать, чтобы совсем отвратительно. Вкус как у выдохшегося пива, если в него плеснуть молока.
— По-моему, ужасная гадость, — сказала она.
— Если привыкнешь, то ничего, — ответил Док. — Я его пью уже семнадцать лет.
ГЛАВА XVIII
Док вел машину не спеша. Он пил пиво в Вентуре уже далеко за полдень, так что в Карпентарии съел только бутерброд с сыром и зашел в туалет. К тому же он рассчитывал поужинать в Лос-Анджелесе. Туда он приехал, было уже совсем темно. Проехал весь город и остановился у знакомого ресторана «Цыплята на скорую руку». Заказал жареного цыпленка, картофельный суп-жульен, горячую булочку с медом, кусок ананасового пирога и сыр. Налил в термос горячий кофе и купил в дорогу шесть бутербродов с ветчиной и пинту пива.
Ночью ехать не так интересно. Не видно собак, да и вообще видишь только шоссе, освещенное собственными фарами. Теперь Док гнал, спешил приехать на место вовремя. В Ла-Джолле он был около двух часов ночи. Городок остался позади, теперь вниз к той скале, под которой его отмель. И вот Док на месте; остановил машину, съел бутерброд с ветчиной, выпил пива, свернулся на сиденье калачиком и уснул.
В будильнике Док не нуждался. Он так давно имел дело с приливами и отливами, что чуял движение воды даже во сне. Проснулся Док с первыми лучами, выглянул в окно — отлив уже начался. Выпил горячий кофе, съел три бутерброда и запил все квартой пива.
Вода оттекала незаметно. И вот уже показались камни, как будто некая сила толкала их вверх; океан отступал, оставляя мелкие лужи, мокрые водоросли, мох, губки, светящиеся, коричневые, синие, оранжевые. Дно было усеяно странным океанским мусором: обломки раковин, клешни, большие и мелкие куски скелетов, — фантастическое кладбище, точнее нива, кормящая морских обитателей.
Док натянул резиновые сапоги и со всей серьезностью напялил на голову непромокаемую шляпу. Взял свои ведра, банки, ломик, в один карман сунул бутерброды, в другой термос с кофе, спустился со скалы и стал работать, преследуя по пятам уходящую воду. Он переворачивал ломиком камни, часто рука его стремглав уходила в воду и он выхватывал из-под камня рассерженного детеныша осьминога, который пунцовел от гнева и плевал ему на руку чернильную жидкость. Док тут же опускал осьминога в банку с морской водой к другим пленникам; почти каждый новичок в ярости бросался на своих сородичей.
Охота в тот день была очень удачная. Он поймал двадцать два маленьких осьминога, набрал много морских губок и сложил их в деревянное ведро. Вода все отступала, Док подвигался следом, взошло солнце, утро вступило в свои права. Отмель уходила в море на двести ярдов до барьера — гряды оплетенных водорослями скал, и только за ними начиналась настоящая глубина. Док дошел до края гряды. Он уже собрал почти все, ради чего приехал, и теперь бесцельно заглядывал под камни, наклонялся к воде, вглядывался в оставленные отливом лужицы, любуясь их переливчатой мозаикой, их дышащей и суетящейся жизнью. Постепенно он добрался до внешнего края барьера. Здесь по скалам сползали в воду длинные кожистые плети бурых водорослей, лепились колонии красных морских звезд, а за барьером мерно вздымалось и опадало море, ожидая своего часа. Доку почудилось, что между двумя скалами, под водой среди водорослей мелькнуло что-то белое. Он полез туда по скользким камням, стараясь не оступиться, осторожно нагнувшись к воде, раздвинул плавающие плети. И оцепенел. На него глядело девичье лицо, бледное, красивое лицо, овеянное темными волосами, ясные глаза широко открыты, в чертах неподвижность. Тела не видно, оно застряло в расщелине. Губы разомкнуты, жемчужно белеют зубы, на лице написаны мир и покой. Слой воды, чистой как стекло, делал его прекрасным. Доку казалось, что он вечность смотрит на это лицо. И оно вошло навсегда в его образную память. Очень медленно Док поднял руку и водоросли опять скрыли лицо. Сердце его глухо билось, горло сдавило. Он взял ведро, банки, ломик и побрел по скользким камням к берегу.
Лицо девушки, казалось, плыло перед ним. На берегу Док сел на сухой жесткий песок и стянул сапоги; маленькие осьминожки в банке сидели все порознь, сжавшись в комок. В ушах Дока пела музыка: тонкий, высокий, острый, как игла, сладчайший звук флейты выводил мелодию, которую он никак не мог узнать; ее сопровождал прибой, похожий на шум ветра в кронах. Флейта забирала все выше, уходя за предел слышимости, но и там таинственная мелодия не прекращалась. У Дока по телу побежали мурашки. Его била дрожь, глаза увлажнились, как будто в их фокус попало видение несказанной красоты. Глаза девушки были серые, ясные, волосы колыхались в воде, набегая легкими прядями на лицо. Картина эта будет жить у него в памяти до конца дней. Так он сидел на берегу, по скалам барьера уже потекли ручейки — вестники прилива. Сидел и слушал флейту, отбивая ладонями такт, а море все затопляло усеянную камнями отмель. Тонкий, пронзительный звук флейты высверливал мозг; глаза были серые, губы слегка улыбались, дыхание замерло от немого экстаза.
Чей-то голос вернул его к действительности. Он поднял голову, рядом стоял человек.
— Ловите рыбу? — спросил он.
— Нет, собираю морских животных.
— Животных? Каких?
— Детенышей осьминогов.
— Рыба-дьявол? А разве они здесь водятся? Сколько лет здесь живу, — не видал ни одного.
— Их так просто не увидишь, — едва шевеля губами, ответил Док.
— Вам плохо? — спросил мужчина. — У вас совсем больной вид.
Флейта опять устремилась ввысь, ей вторили низкие струны виолончелей, а море все ближе подступало к берегу. Док стряхнул с себя музыку, лицо, собственное оцепенение.
— Полиция далеко отсюда?
— В городе. Что-нибудь случилось?
— Там в расщелине — тело.
— Где?
— Вот там, между двух скал. Девушка.
— Ничего себе… —протянул мужчина и прибавил:— Если найдешь труп, полагается вознаграждение. Забыл сколько.
Док поднялся на ноги, взял свои вещи.
— Вы не могли бы сообщить об этом в полицию? Мне что-то нехорошо.
— Это на вас так сильно подействовало. Он что, очень страшный? Объеденный или уже совсем разложился?
Док отвернулся.
— Вознаграждение возьмите себе, — сказал он. — Мне не надо.
И пошел к своей машине. В голове у него едва звучал тоненький голос флейты.
ГЛАВА XIX
Пожалуй, ни одна из затей, рекламирующих универсальный магазин Холмана, не имела столько благожелательных откликов, как этот конькобежец на флагштоке. День за днем он кружил и кружил на маленькой круглой площадке, а ночью его темный силуэт маячил в небе и все люди знали, что он не покинул место бдения. Все, однако, знали и то, что ночью через центр площадки пропускается стальной прут и конькобежец привязывается к нему. Но сидеть не сидит, и поэтому возражений против стального прута не было. Посмотреть на него приезжали из Джеймсбурга и из других городков побережья, вплоть до Граймз-пойнта. Салинасцы приходили смотреть толпами, а финансовые тузы города предложили сделать Салинас местом следующего выступления, когда конькобежец наберет сил для нового мирового рекорда. Чтобы и Салинасу было чем гордиться. Поскольку не так-то много в мире конькобежцев на флагштоке, а этот к тому же признан лучшим из лучших, то в прошлом году именно он побил мировой рекорд, свой собственный.
Холман был в восторге от этого предприятия. Магазин как раз проводил четыре распродажи — полотняных изделий, остатков, алюминиевой посуды и фаянса. Улицы были полны народа, глазевшего на одинокую фигуру в небе.
На второй день герой публики дал знать вниз, что в него кто-то стрелял из духового ружья. Отдел выставок и вернисажей раскинул мозгами. Высчитали углы и установили нарушителя общественного спокойствия. Им оказался старый доктор Мерривейл; он прятался за шторами у себя в кабинете, долго колдовал над своим ружьем и нажимал курок. Решили не обнародовать имя виновника, и доктор дал обещание больше не баловаться с оружием. Он был очень важной персоной в местном отделении масонской ложи.
Анри-художник все это время не покидал наблюдательного поста на заправочной Рыжего Уильяма. Он испробовал все возможные философские подходы к решению данной проблемы средствами живописи и решил построить такую площадку у себя дома, чтобы поставить эксперимент на себе. Весь город в той или иной степени подпал под влияние этого уникального зрелища. На тех улицах, откуда ничего не было видно, торговля совсем захирела; зато чем ближе к Холману, тем она шла бойчее. Мак с ребятами тоже не устояли, пришли посмотреть на диво. Пришли и тут же ушли — чепуха какая-то.
Холман поместил за стеклом витрины двуспальную кровать. Поставив новый мировой рекорд, герой сразу спустится вниз и ляжет спать, даже не снимая коньков. В изножье кровати висела небольшая карточка с фирменным ярлыком матраса.
Весь город только и говорил об этом спортивном мероприятии, но особенно интересовал и волновал всех один пикантный вопрос, которого никто в разговоре не касался. Его избегали решительно все, тем не менее язык у всех так и свербел. Миссис Тролат мучилась над ним, выходя из шотландской булочной с полной кошелкой сдобных плюшек с изюмом. Тщетно бился над ним мистер Холл из мужской одежды. Три девицы Уиллоуби, всякий раз вспомнив об этом, хихикали. Но никто в целом городе не имел смелости высказаться открыто.
Больше всех это мучило Ричарда Фроста, блестящего но очень нервного молодого человека. Он совсем потерял покой. Ломал голову и в среду вечером, и в четверг. А вечером в пятницу не выдержал, напился и разругался с женой. Она немного поплакала и сделала вид, что уснула Ричард Фрост тихонько выскользнул из постели, прошел на кухню и еще выпил. Потом оделся и ушел из дому. Жена опять стала плакать. Было уже за полночь. И миссис Фрост не сомневалась, что муж отправился в заведение Доры.
Ричард решительно шагал вниз по холму, миновал сосновую рощу и вышел на Маячную улицу. Тут он свернул влево и устремился к магазину Холмана. Карман его оттопыривала бутылка; подойдя к магазину, он сделал для храбрости еще глоток. Уличные фонари едва светились. Город как вымер. Кругом не было ни души. Ричард стоял посреди улицы и смотрел вверх.
На верху высокой мачты еле различалась одинокая фигурка. Ричард еще отхлебнул из бутылки. Сложил рупором ладони и хрипло крикнул:
— «Эй!»
Никакого ответа.
— «Эй!» — крикнул он громче и огляделся кругом, не идут ли полицейские, чей пост рядом с банком.
— Что тебе надо? — донесся с неба недовольный голос.
Ричард опять поднял ладони ко рту.
— Как… как вы… как вы ходите в туалет? — прокричал он.
— У меня здесь банка, — ответил голос.
Ричард повернулся и той же дорогой пошел обратно. Он шагал по Маячной улице, через сосны, наконец, подошел к дому и скорее открыл дверь. Раздеваясь, понял, что жена не спит. Она во сне слегка посапывала. Ричард лег в постель, жена подвинулась, давая ему место.
— У него там банка, — сказал Ричард.
ГЛАВА XX
Еще до полудня фордик с победой вернулся домой в Консервный Ряд; перепрыгнул сточную канаву, скрипя преодолел заросший травой пустырь и благополучно встал на свое место на задворках лавки Ли Чонга. Ребята поставили передние колеса на подставки, слили оставшийся бензин в пятигаллонную банку, взяли своих лягушек и побрели усталые к себе домой в Королевскую ночлежку. После чего Мак отправился с церемониальным визитом к Ли Чонгу, а ребята стали растапливать свою удивительную плиту. Мак с достоинством поблагодарил Ли Чонга и рассказал, какой успешной оказалась поездка — они наловили и привезли сотни лягушек. Ли застенчиво улыбался, опасаясь неизбежного.
— Мы теперь богачи, — с жаром произнес Мак. — Док платит пятицентовик за лягушку, а у нас их около тыщи.
Ли кивнул. Кто станет спорить. Цена стандартная.
— Дока сейчас нет, — продолжал Мак. — Вот он будет счастлив, увидев этих лягушек.
Ли опять кивнул. Он знал, что Дока нет, и знал, куда клонится разговор.
— Между прочим, — сказал Мак, как будто его только что осенило, — сейчас мы не при деньгах.
Тон его предполагал, что не при деньгах они по чистой случайности.
— Виски нет, — сказал улыбаясь Ли.
Мак даже обиделся.
— При чем тут виски? У нас есть галлон прекрасного, отличного виски. Целый галлон, черт возьми, через край льется. Между прочим, — добавил он, — мы будем рады, если ты к нам зайдешь, отведаешь. Ребята мне наказали пригласить тебя.
Ли, довольный, вопреки себе, улыбнулся. Не будь у них виски, не стали бы звать.
— Дело не в этом, — продолжал Мак. — Скажу тебе напрямик. Мы сейчас на мели, а очень хочется есть. Лягушки идут двадцать на доллар. Док еще не вернулся, а у нас животы подвело. Мы что тебе предлагаем — двадцать пять на доллар. Чистой прибыли у тебя пять лягушек. И все счастливы.
— Нет, — сказал Ли, — денег нету.
— Ах ты черт. Нам нужно всего-навсего немного еды. Мы хотим угостить Дока, когда он приедет. Виски у нас хватит, нужно несколько отбивных и тому подобное. Док — славный парень. Черт, помнишь, у твоей жены болел зуб? Кто дал ей настойку опия?
Это был удар ниже пояса. Ли был должником Дока, давним его должником. Но одного Ли не мог понять, сколько ни старался, при чем здесь Мак, почему из-за этого он ему должен открыть кредит.
— И обойдемся без всякого заклада, — продолжал Мак. — Просто передадим тебе из рук в руки по двадцать пять лягушек за каждый пакет еды стоимостью в доллар. И если хочешь, приходи на ужин, который мы устроим для Дока.
Осторожный Ли обнюхивал предложение, как мышонок обнюхивает все уголки в кладовке, где хранится сыр. Ничего плохого, кажется, нет. Все законно. Если Доку нужны лягушки, они могут сойти за валюту; цена известная, и Ли получал даже двойную выгоду. Во-первых, на доллар — двадцать пять лягушек, во-вторых, провизию Маку можно продать подороже. Дело оставалось за одним — есть ли лягушки?
— Пойдем покажешь лягушек, — предложил Ли.
У дверей Королевской ночлежки он отведал виски, увидел мокрые мешки с лягушками, заглянул в них и согласился на сделку с одним условием — мертвыми лягушками не расплачиваться. Мак отсчитал пятьдесят лягушек, пустил их в банку и вернулся вместе с Ли в лавку, где получил бекон, яйца и хлеб на два доллара.
Предвидя бойкую торговлю, Ли принес большой упаковочный ящик, поставил его в овощном отделе и вытряхнул туда пятьдесят лягушек, покрыв ящик мокрым мешком, чтобы его подопечным было уютнее.
И торговля действительно пошла бойко. Зашел Эдди, купил жевательного табаку на две лягушки. Джонс захотел выпить кока-колы и с возмущением узнал, что цена выросла с одной лягушки до двух. К негодованию ребят, вечером цены подскочили на все. Отбивные, например, даже самые лучшие, которые должны были стоить самое большее десять лягушек за фунт, стоили уже двенадцать с половиной. А консервированные персики, даже страшно сказать, стоили восемь лягушек банка. Ли Чонг взял покупателей за глотку. Он был уверен, что и Холман, и магазин «Дешевые вещи» откажутся принимать в уплату этот новый вид денежных знаков. Если ребятам нужны отбивные, что ж, платить придется цену, назначенную Ли. Но особенно все возмутились, когда Элену, уже давно мечтавшему о шелковых желтых нарукавниках, было сказано, что или он выложит за них тридцать пять лягушек, или пусть идет торгуется куда-нибудь в другое место. Яд алчности начал отравлять честное, невинное и достойное всякой похвалы коммерческое соглашение. Недовольство накапливалось, но и лягушки накапливались в упаковочном ящике Ли Чонга.
Это недовольство однако не так уж сильно влияло на душевное равновесие Мака и ребят, — ведь люди они были не меркантильные. Их радость мерялась не количеством проданного товара, их самооценка не зависела от величины банковского вклада, а в любимых женщинах они уж, конечно, искали не богатства. Разумеется, они были недовольны Ли, который, видно, решил их разорить, но в желудках у них покоилась двухдолларовая яичница с беконом, пропитанная снизу и сверху отличным старым виски. К тому же они сидели в своих собственных креслах у себя дома и смотрели, как Милочка учится лакать консервированное молоко из консервной банки. Надо сказать, что Милочке на редкость повезло, ибо эти пятеро мужчин имели пять различных точек зрения на воспитание собак и споры доходили до таких баталий, что Милочка осталась на всю жизнь невоспитанной собакой; но зато с первых дней проявила незаурядный ум. Она ложилась спать к тому, кто последний угостил ее лакомством. Ребята ради нее опускались даже до воровства. Они ласкали и голубили се, стараясь перещеголять друг друга. Время от времени они заявляли в один голос, что дальше так продолжаться не может, что Милочку надо учить, затевался педагогический спор и благие намерения сами собой куда-то девались. Они обожали ее, лужицы, которые она оставляла на полу, приводили их в восхищение. Они прожужжали приятелям все уши, расписывая ее ум и другие достоинства; они бы, наверное, закормили ее до смерти, если бы у Милочки было столько же здравого смысла, сколько у ее обожателей.
Джонс сделал ей гнездышко внутри часов, но Милочка никогда там не спала. Она забиралась в постель то к одному, то к другому, как ей заблагорассудится. Она жевала одеяла, рвала матрасы, выпускала перья из подушек. Она кокетничала со своими хозяевами и стравливала их друг с другом. Они говорили, что она восхитительна. Мак решил дрессировать ее и выступать с ней на эстраде, но не сумел даже приучить ее проситься.
Так они сидели под вечер у себя дома, переваривая яичницу, куря, разглагольствуя и время от времени отхлебывая из кувшина виски. Каждый раз они говорили при этом, что выпьют только один глоточек, ведь виски для Дока. Этого нельзя забывать ни на миг.
— Как вы думаете, в каком часу вернется Док? — спросил Эдди.
Он обычно возвращается из поездки часиков в восемь, девять, — ответил Мак. — Интересно, когда лучше отдать ему это виски? Наверное, лучше всего сегодня вечером.
— Да, конечно, — согласились все.
— А вдруг он очень устанет с дороги? — предположил Элен. — По-моему, лучше пойти к нему завтра. Дорога-то дальняя.
— Черт, самый лучший отдых — хорошая вечеринка, — сказал Джонс. — Помню, я однажды так устал, с ног падал. Посидел с друзьями, и усталость как рукой сняло.
— Надо все хорошенько обмозговать, — сказал Джонс. — Где мы будем угощать Дока, здесь?
— Док очень любит музыку. У него когда гости, всегда играют пластинки. Может, устроить ужин у него?
— В этом, между прочим, что-то есть, — заметил Мак. — Но хотелось бы устроить сюрприз. И чтоб была вечеринка, а не просто сунуть этот кувшин с виски.
— А может, повесить всякие украшения? — предложил Хьюги. — Как на Четвертое июля или канун Дня всех святых [4 июля — национальный праздник, День независимости США. Канун Дня всех святых празднуется 31 октября].
Мак разинул рот, взгляд устремился в пространство.
— Хьюги, — сказал он, — в твоих словах есть смысл. Никогда бы не подумал, что ты способен такое придумать. Ты просто гений.
Голос его зазвенел, глазам виделась чудесная картина.
— Только вообразите, — сказал он, — Док подъезжает к дому. Он очень устал. Он весь день за рулем. Вдруг видит — окна в лаборатории ярко освещены. Он думает, к нему влезли. Поднимается по лестнице. И что же? Весь дом красиво украшен: гофрированная бумага, ленты и большой пирог. «Боже, — говорит он, — вечеринка, да не просто вечеринка, а потрясающий праздник». Мы, конечно, спрячемся. Док смотрит и не может понять, кто это сделал. И тут мы все с криком выскакиваем. Только вообразите, какое у него будет лицо. Нет, правда, Хьюги, как ты до этого додумался?
Хьюги покраснел. Честно говоря, его идея была куда скромнее, он просто вспомнил Новый год у «Ла Иды»; но если уж на то пошло, почему бы и не приписать себе честь этой выдумки.
— Да так как-то. Подумал — будет неплохо.
— Действительно, неплохо, — согласился Мак. — И знаешь что, когда Док придет в себя, я скажу ему, кто все это придумал.
Откинулись в креслах и стали мечтать. Разукрашенная лаборатория Дока представлялась им в виде оранжереи отеля «Дель Монте». Еще пару раз приложились к кувшину, чтобы сильнее прочувствовать великолепие своего плана.
Лавка Ли Чонга была по части товара уникальным торговым заведением. Большинство магазинов запасается черно-желтой гофрированной бумагой, черными бумажными котами и тыквами из папье-маше в октябре. Перед кануном Дня всех святых торговля идет полным ходом, а на другой день всей этой мишуры точно и не было. Может, удается все распродать, а, может, остатки просто выбрасывают; но, скажем, в июне товар этот нигде не купишь. То же и с Четвертым июля; в январе не найдешь ни флагов, ни материи для них, ни ракет для фейерверка. Исчезло все с прилавков, и никто не знает куда. А вот лавка Ли Чонга — счастливое исключение. Еще в ноябре здесь можно купить все ко дню Св. Валентина; трилистник, топорик и бумажные вишневые деревья — в августе. [День Св. Валентина — 14 февраля. Трилистник покупают ко дню Св. Патрика (17 октября), топорик с вишневыми деревьями ко дню Джорджа Вашингтона (22 февраля)]
У Ли Чонга имелись шутихи, которые он раздобыл еще в 1920 году. Где он хранил запасы в таком тесном помещении — его профессиональная тайна. Он торговал купальными костюмами, купленными в те времена, когда в моде были длинные юбки, черные чулки и шелковые головные платки. Были у него велосипедные зажимы для брюк, челноки для плетения кружев, наборы для игры в маджонг, значки со словами «Помним Майн», вымпелы из фетра, выпущенные в честь «Боба-бойца», сувениры международной Тихоокеанской выставки в Панаме 1915 года — маленькие башенки из драгоценных камней. Торговое дело Ли Чонга отличалось еще одной особенностью. Он никогда не устраивал распродаж, никогда не снижал цен, никогда не продавал остатков по дешевке. Товар, стоивший тридцать центов в 1912 году, стоил столько же и сейчас, хотя кое-кому могло показаться, что мыши и моль сделали свое дело и качество слегка ухудшилось. Однако о снижении цены не могло быть и речи. Так что если вам вздумалось устроить в лаборатории Дока нечто среднее между веселыми сатурналиями и пышным чествованием, то идите за покупками только к Ли Чонгу. Мак с ребятами знали это, но Мак сказал:
— А где нам взять большой пирог? У Ли Чонга продаются только пирожные.
Хьюги, вдохновленный недавним успехом, опять внес предложение.
— Пусть Эдди испечет торт, — сказал он. — Он ведь когда-то работал поваром в Сан-Карлосе.
Предложение было встречено с таким восторгом, что Эдди пришлось признаться, что тортов он в жизни не пек.
Мак внес в разговор о торте сентиментальную нотку.
— Доку было бы очень приятно, — сказал он. — Домашний торт — это не какой-нибудь вонючий покупной. В домашний торт душу вкладываешь.
Чем ближе к вечеру, тем меньше оставалось виски и тем сильнее ребят разбирал азарт. То и дело кто-нибудь бежал к Ли Чонгу. Один мешок опустел, зато в ящике Ли становилось все многолюднее. К шести часам виски был прикончен, перешли на тенисовку, платя за бутылку пятнадцать лягушек. На полу уже высилась гора гофрированной бумаги, из которой можно было наделать украшений для всех нынешних и забытых праздников.
Эдди следил за огнем в плите как мать-наседка. Он пек в тазу торт. Рецепт торта взяли с банки фритюра, фирма гарантировала кулинарам полный успех. Но торт с самого начала повел себя очень странно. Когда тесто было готово, оно вдруг запыхтело и стало корчиться, как будто внутри извивались змеи, и когда его посадили в духовку, на нем стал дуться пузырь; достиг размеров бейсбольного мяча, натянулся, заблестел и вдруг с шипением лопнул. На поверхности торта образовался глубокий кратер, Эдди сделал еще немного теста и заполнил дыру. На этом странное поведение торта не кончилось: низ скоро начал гореть и дымиться черным, а верх вздымался и опадал как резиновый, то и дело постреливая. Когда Эдди поставил его остывать, он напоминал собой одну из миниатюр Белли Геддеса, изображавшую поверхность лавы, рябую, как лицо, изрытое оспой.
Этому торту явно не повезло: пока ребята украшали лабораторию, Милочка выела из него, что могла, потом ее тут же вырвало, и она улеглась спать прямо на теплое еще тесто.
А Мак с ребятами взяли гофрированную бумагу, маски, палки от половых щеток и тыквы из папье-маше, красные, белые и синие ленты и двинулись через пустырь и улицу к лаборатории. Остатки лягушек они истратили на кварту Старой тенисовки и два галлона вина, цена которого сорок девять центов бутылка.
— Док любит вино, — сказал Мак. — Думаю, он любит вино больше виски.
Док никогда не запирал лабораторию. У него была теория, что если кто захочет к нему влезть, он влезет, несмотря на запоры, что человек по природе своей честен, а главное — в лаборатории было мало того, на что позарился бы простой смертный. Ценными вещами были книги и пластинки, хирургические инструменты, оптические стекла и все в том же духе — словом, то, на что уважающий себя взломщик смотреть не станет. Применительно к ворам, грабителям и клептоманам эта теория работала, но Док не учитывал друзей. Книги у него часто зачитывались; вернувшись домой, он не находил ни одной банки бобов, но зато мог найти у себя в постели нежданного гостя.
Украшения сваливали в кладовку, и вдруг Мак остановил ребят.
— Что может особенно порадовать Дока? — спросил он.
— Вечеринка! — сказал Элен.
— Нет, — помотал головой Мак.
— Украшения, — предположил Хьюги, он чувствовал за них особую ответственность.
— Нет, — опять сказал Мак. — Лягушки, — вот что должно по-настоящему обрадовать Дока. А ведь может случиться, что к его приезду Ли запрет лавку и Док увидит лягушек не раньше утра. Нет, нет и нет! — воскликнул Мак. — Лягушки этим вечером должны быть здесь, посреди комнаты, завязанные лентой с надписью: «Милости просим домой, Док».
К Ли была тотчас отправлена делегация, которая встретилась с решительным сопротивлением. Чего только не было пущено в ход, чтобы победить подозрительность Ли… Ему напомнили, что он сам будет присутствовать на вечеринке и, значит, лягушки не выйдут из-под его контроля, его уверяли, что никто никогда не посягнет на его имущество. Мак написал бумагу, официально подтверждающую, что Ли законный владелец лягушек — на случай, если кто вздумает претендовать на них.
Когда протесты Ли стали слабеть, ребята взяли ящик с лягушками, отнесли в лабораторию, обвязали его красными, белыми и синими лентами и положили на него открытку, где йодом было выведено сочиненное Маком приветствие; и начались декоративные работы. Виски был к этому времени выпито, и потому настроение у всех был праздничное. Под потолком крест-накрест развесили гофрированную бумагу, тыквы взгромоздили куда повыше.
Скоро к веселью присоединились случайные прохожие. Раз такое дело — сгоняли к Ли, принесли еще спиртного.
Явился и сам Ли Чонг, но у него, как известно, был слабоват желудок; его вырвало, и ему пришлось удалиться домой. В одиннадцать изжарили отбивные и съели.
Кто-то полез смотреть пластинки, нашел альбом Куин-Бейси, и знаменитый проигрыватель загремел на весь околоток. Шум был слышен от доков до «Ла Иды».
Несколько клиентов «Медвежьего стяга», решив, что Западная биологическая — конкурирующее заведение, вопя от восторга, ринулись на приступ. Возмущенные хозяева отразили нападение, битва была долгая, самозабвенная и кровавая; слетела с петли входная дверь, и было выбито два окна. Разбилось, к сожалению, несколько банок. И еще Элен по дороге из кухни в туалет опрокинул на себя сковороду с горячим жиром и сильно обжегся.
В час тридцать по полуночи в лабораторию зашел пьяный и отпустил в адрес Дока замечание, показавшееся оскорбительным. Мак нанес ему удар, который до сих пор помнят и обсуждают. Пьяный оторвался от пола, описал в воздухе дугу и приземлился прямо на ящик с лягушками. Кто-то хотел сменить пластинку, уронил нечаянно звукосниматель и игла сломалась.
Никто никогда не изучал психологию умирающего веселья. Вначале оно может быть бурным, ревущим, неистовым; затем наступает нервная лихорадка, затем шум стихает и очень, очень быстро веселье испускает дух; гости расходятся кто куда — спать, домой, в какое-нибудь еще злачное место, оставив позади себя бездыханный труп.
В лаборатории везде горел яркий свет; входная дверь болталась на одной петле. Пол усыпан осколками стекла. Всюду разбросаны пластинки — одни разбиты, другие только в зазубринах. Тарелки с застывшим жиром и косточками отбивных валялись на полу, под кроватью, а некоторые вознеслись на самый верх книжных полок. Стопки печально опрокинулись набок. Кто-то, видно, пытался залезть на полки, уронил целую секцию, и книги рассыпались по полу, заглянув в глаза смерти. Все было кончено, катастрофа произошла.
Сквозь пролом из ящика выпрыгнула лягушка, села, замерла — нет ли опасности; тут же выпрыгнула вторая, села рядом. Но чуяли они только свежий, влажный, прохладный воздух, лившийся в комнату через сорванную дверь и разбитые окна. Одна из них сидела на открытке с надписью «Милости просим домой, Док». Посидев немного, обе лягушки скромненько запрыгали к двери.
Какое-то время по ступенькам на улицу катился, прыгая и завихряясь, поток лягушек. Какое-то время Консервный Ряд был переполнен, кишел лягушками. Такси, привезшее в «Медвежий стяг» припоздавших гостей, раздавило на улице пять бедных квакуш. Но к утру все лягушки исчезли. Одни нашли сточную канаву, другие поскакали вверх по холму в ближайший водоем, третьи обрели прибежище в дренажных трубах; еще несколько десятков попряталось на пустыре.
А в окнах лаборатории ярко и сиротливо горел свет.
ГЛАВА XXI
В дальней комнате Западной биологической белые крысы бегали и пищали в своих клетках. В углу, в отдельной клетке лежала крысиная матка со своим пометом — слепыми, голыми, сосущими ее крысятами, и смотрела кругом нервно и даже свирепо.
В другой клетке гремучие змеи лежали, свернувшись кольцами, и уткнувшись в кольцо нижней челюстью, смотрели прямо перед собой злобными, туманными черными глазками. Рядом ящерица ядозуб, как будто расшитая крупным бисером, медленно поднимала вверх голову и лениво царапала тяжелыми когтями прутья клетки. Актинии в аквариуме выпустили алые и зеленые щупальца-лепестки, выставив на обозрение бледно-зеленые желудки. Маленький насос, накачивающий морскую воду, мягко жужжал, тонкие струи воды с шипеньем вливались в резервуары, и путь их отмечался цепочкой пузырьков.
Наступил час жемчужного света. Ли Чонг вынес на кромку тротуара баки с мусором. На пороге «Медвежьего стяга» стоял привратник и чесал живот. Сэм Мэллоу выполз из своего котла, сел на деревянный чурбан и стал любоваться светлеющим востоком. На скалах у станции Хопкинса лаяли на одной ноте морские львы. Старик-китаец вышел из моря со своей мокрой насквозь корзиной и зашагал, хлопая подошвой, в сторону холма.
На улицу Консервного Ряда свернула машина, это Док, наконец, вернулся из путешествия. Глаза у него были красные от усталости, движения замедленные. Подъехав к лаборатории. Док посидел немного за рулем, дал нервам успокоиться после дорожной тряски. Вот он вылез из машины, зашагал по ступеням. Услыхав его, гремучие змеи высунули раздвоенные язычки и стали покачивать ими. Крысы заметались в клетках как бешеные. Док поднялся по лестнице. Посмотрел с удивлением на болтающуюся дверь и выбитые окна. Усталость как рукой сняло. Он быстро вошел внутрь. Обошел комнаты, стараясь не наступить на осколки стекла. Резко нагнулся, поднял разбитую пластинку, прочитал название.
В кухне на полу белел застывший жир. Глаза Дока вспыхнули гневом. Он сел на кровать, втянул голову в плечи, поежился. Вскочил с кровати и включил свой знаменитый проигрыватель. Поставил пластинку, опустил звукосниматель. Из динамика вырвалось только шипение. Он поднял звукосниматель, остановил диск и снова сел на кровать. На ступеньках послышались неверные, заплетающиеся шаги, и в дверь вошел Мак. Лицо его было красно.
Он в нерешительности остановился посреди комнаты.
— Док… — начал он, — мы с ребятами…
Какой-то миг казалось, что Док не видит его. Но вот он вскочил на ноги. Мак попятился.
— Это вы сделали?
— Да… мы с ребятами…
Маленький, крепкий кулак Дока описал дугу и ударил Мака в зубы. Глаза Дока горели красным от животной ярости. Мак тяжело сел на пол. Кулак Дока был крепкий, секущий. Губы у Мака разбились, а один зуб загнулся внутрь.
— Вставай! — приказал Док.
Мак, шатаясь, поднялся на ноги. Руки были опущены по швам. Док опять ударил его, ударил холодно, расчетливо, карающе. На губах Мака выступила кровь и потекла по подбородку. Он пытался облизнуть разбитые губы.
— Подними руки, защищайся, сукин сын, — кричал Док, ударил еще раз и услыхал, как хрустнули зубы.
Голова Мака мотнулась в сторону, но он уже напряг всю свою волю и устоял на ногах. Руки его были опущены.
— Бей, Док, — прохрипел он сквозь распухшие губы. — Я за этим пришел.
Плечи у Дока поникли — он потерпел поражение.
— Сукин сын, — проговорил он с горечью. — Чертов сукин сын.
Опустился на кровать и посмотрел на костяшки пальцев. Кожа на них лопнула.
Мак сел в кресло и посмотрел на Дока. Глаза его расширились от боли. Он даже не вытер кровь, струившуюся по подбородку. В голове у Дока зазвучало монотонное вступление к «Тогда сказали небо и земля» Монтеверди [Итальянский композитор (1567-1643), новатор в области оперной музыки и контрапункта], бесконечно печальный плач по Лауре смирившегося Петрарки. Док видел разбитые губы Мака сквозь музыку, звучавшую в голове и разлитую в воздухе. Мак сидел тихо-тихо, точно и он ее слушал. Док глянул на то место, где стоял альбом с Монтеверди и вспомнил, что проигрыватель сломан.
Он встал на ноги.
— Пойди, умойся, — сказал он, вышел из комнаты, сбежал по ступенькам, пересек улицу и вошел в лавку Ли Чонга. Доставая из холодильника, набитого льдом, две кварты пива. Ли ни разу не глянул на Дока и, взяв деньги, не промолвил ни слова. Док пошел через улицу к себе.
Мак в туалете вытирал окровавленное лицо мокрыми бумажными полотенцами. Док открыл бутылку, мягким движением налил пиво в стакан и подержал его немного под углом, чтобы не пенилось. Налил второй и понес оба в комнату. Вернулся Мак, похлопывая по губам влажным полотенцем. Док кивнул головой на стакан с пивом. Мак разинул глотку и опрокинул в нее половину стакана. Оглушительно вздохнул и уставился на пиво. Док свой уже выпил. Принес бутылку, опять налил в оба стакана. И сел на кровать.
— Что произошло? — спросил он.
Мак посмотрел на пол, капля крови упала в стакан с пивом. Опять промокнул разбитые губы.
— Мы с ребятами хотели устроить для вас вечеринку. Мы думали, вы вернетесь к вечеру.
— Ясно, — кивнул головой Док.
— А она пошла-поехала не туда, — сказал Мак. — Какой толк говорить, что я сожалею. Я ведь сожалею всю жизнь. Со мной это не первый раз. Всегда все получается по-идиотски, — Мак сделал хороший глоток. — С женой было то же самое. Что ни сделаю, все вверх тормашками. И она не выдержала. Придумаю как нельзя лучше, а выходит как нельзя хуже. Куплю подарок, и обязательно будет какой-то вред. Натерпелась она от меня. Ну и не вынесла. И всегда это так со мной. Вот до чего докатился, стал клоуном. Кто я теперь? Никто, клоун. Смешу ребят.
Док опять кивнул. Музыка все звучала в голове, жалуясь и вместе смиряясь.
— Понимаю, — сказал он.
— Я обрадовался, когда вы ударили, — пpoдoлжaл Мак. — Я сказал себе: «Может, хоть это меня научит. Может, на всю жизнь запомню». Но, черт, не запомню ведь. Так и останусь клоуном. Док! — вдруг крикнул Мак. — Док, ведь я как думал? Всем будет хорошо и весело. Вы будете рады, что вам устроили вечеринку. И мы тоже. Ведь я думал — будет хорошая вечеринка. — Он махнул рукой на пол, усеянный стеклом и книгами. — Вот так и с женой. Думал, как лучше, а вышло… Всегда выходит хуже некуда.
— Я понимаю, — сказал Док. Он открыл вторую кварту пива и наполнил стаканы.
— Док, — сказал Мак. — Мы с ребятами все уберем. И заплатим за все, что испортили. Пусть будем пять лет работать.
Док медленно покачал головой и вытер с усов пену
— Не надо, — сказал он. — Я сам все уберу. Я знаю, куда что ставить.
— Мы за все заплатим, Док.
— Не заплатите. Мак. Вы будете думать об этом и мучиться еще очень долго, но не заплатите. Разбитое стекло — это ведь настоящие музейные экспонаты, стоят, наверное, триста долларов. Даже не говори, что заплатите. Но стыдно вам будет еще долго. Года два или даже три. Вот когда забудется эта история, тогда вам станет опять легко. Но заплатить вы не заплатите.
— Да, Док, вы наверное правы, — сказал Мак. — Черт, я знаю, что вы правы. А что же нам делать?
— Пережить как-то, — сказал Док. — Я уже об этом забыл. Этот мордобой отрезвил меня. И вы забудьте.
Мак допил пиво и встал.
— Пока, Док, — сказал он.
— Пока. Слушай, Мак, а что сталось с твоей женой?
— Не знаю, — ответил Мак. — Ушла и все.
Он неуклюже спустился по ступенькам, пересек улицу, пустырь и по куриной тропе вернулся в Королевскую ночлежку. Док наблюдал за ним из окна. Потом, не пряча усталости, взял метлу из-за титана. Он наводил порядок весь день.
ГЛАВА XXII
Анри-художник не был французом и звали его не Анри. И настоящим художником он тоже не был. Анри зачитывался рассказами о Левом береге Парижа, мысленно он жил там, хотя Парижа в глаза не видел. Он с жаром листал газеты и журналы в поисках новых сведений о дадаистах и других ересях в искусстве, об их странной, чисто женской, ревности, о религиозности и обскурантизме нарождающихся и гибнущих школ. Время от времени он а сам восставал против традиционной техники и материала. Сначала отказался от перспективы. А через год выкинул из своей палитры красный цвет и все его производные. Впоследствии он совсем отказался от красок. Трудно было сказать, хороший ли Анри художник: он с такой страстностью кидался в новомодные течения, что времени у него ни на какую живопись не оставалось.
Вообще говоря, его талант художника был под сомнением. Да и как о нем судить по его творениям из цветных петушиных перьев и ореховых скорлупок? Зато строитель лодок он был замечательный. У Анри были золотые руки. Когда-то давно, живя в палатке, он начал строить для себя лодку. Закончив каюту с камбузом, он туда переехал. А переехав, все свое время посвятил созданию шедевра. Лодка скорее была изваяна, чем построена. Она была тридцати пяти футов длиной, а ее очертания находились в процессе вечного преображения. Какое-то время нос у нее был как у быстроходного клипера, а корма как у миноносца. Но потом она стала смахивать скорее на каравеллу. Деньги у Анри не водились, и, бывало, он месяцами искал подходящую доску, кусок металла или дюжину медных шурупов. Это его устраивало, ведь на самом деле он и не думал кончать строительство.
Лодка стояла среди сосен на клочке земли, который Анри арендовал за пять долларов в год, что равнялось сумме налога, и хозяин земли был вполне доволен. Лодка покоилась на бетонном основании. В отсутствие Анри сбоку висела веревочная лестница. Придя домой, он подтягивал ее на борт и спускал только для гостей. В крошечной каюте вдоль трех стен тянулась мягкая скамья-банка. На ней он спал, на ней же сидели гости. Под потолком висел медный фонарь, и еще в каюте откидывался столик. Камбуз был чудо вместительности, каждая вещь в нем была результатом нескольких месяцев размышлений и труда.
Анри был смугл, черноволос, занудлив. Носил берет, хотя они давно вышли из моды, курил трубку из тыквы— горлянки, характерным движением откидывал волосы, которые то и дело падали ему на лицо. У него было много друзей, правда, временных, он их делил на две группы: те, кто кормит его, и те, кого он кормит.
Его лодка никак не называлась. Анри говорил, вот кончит строить, тут же и назовет.
Анри жил в лодке и строил ее вот уже десять лет. За этот срок он дважды женился и было еще несколько связей. Все женщины уходили от него по одной причине. Каюта два на два была явно мала для супружеской пары. Мало приятного стукаться головой о потолок, и, конечно, без туалета женщины обойтись не могли. Но судовой гальюн не годился для сухопутной лодки. А на обычный, земной туалет Анри не соглашался. И приходилось ему с подругой справлять нужду среди сосен. Возлюбленные покидали Анри одна за другой.
После ухода молодой женщины, которую Анри звал Элис, с ним случилась одна очень странная вещь. Когда его покидала возлюбленная, Анри обычно объявлял траур, хотя в душе и чувствовал облегчение. Как хорошо пожить на свободе, растянуться вольготно в своей каюте, есть что хочешь, забыть хоть на время о нескончаемых проявлениях женской физиологии, так осложняющей жизнь. У него стало привычкой отмечать очередную разлуку. Он покупал галлон вина, удобно растягивался на банке и начинал пить. Иногда он плакал наедине с собой — непозволительная роскошь, приносящая однако поразительное ощущение счастья. Он декламировал Рембо с очень плохим произношением, удивляясь и радуясь беглости своего французского.
Эта странная вещь произошла с ним во время траура по ушедшей Элис. Дело было ночью, под потолком горела лампа, он только что начал хмелеть, как вдруг почувствовал, что не один. Боязливо обшарил взглядом каюту и, о дьявол, увидел напротив себя мужчину, смуглого молодого красавца. Глаза его вдохновенно горели умом и энергией, белые зубы влажно поблескивали. Было в его лице что-то притягательное и вместе ужасное. Рядом с ним сидел златокудрый маленький мальчик, почти младенец. Мужчина поглядел на мальчика, мальчик ответил взглядом и счастливо засмеялся, как бы в ожидании чего-то прекрасного. Затем мужчина взглянул на Анри и опять посмотрел на малыша. Вынул из левого верхнего кармана жилетки старомодную опасную бритву, открыл ее и кивнул малышу. Опустил ладонь на златокудрую головку, и малыш опять весело засмеялся, тогда мужчина откинул голову вверх и чиркнул бритвой по тоненькой шейке, а мальчик все продолжал смеяться. Анри взвыл от этого кошмара. И долго не мог опомниться, а опомнившись, увидел: мужчины с мальчиком и след простыл.
Когда бившая его дрожь немного унялась, он выскочил из каюты, перепрыгнул через борт и помчался вниз между сосен прочь от этого страшного места. Несколько часов он бродил где-то как неприкаянный и под конец вышел к Консервному Ряду.
Анри появился у Дока, когда тот препарировал кошку. Он стал описывать ужасное происшествие, а Док слушал и продолжал работать. Наконец Анри замолчал. Док пристально взглянул на него — интересно, сколько в его лице страха, а сколько игры. В лице Анри был почти один страх.
— Вы думаете, это привидения? — спросил Анри. — Отражение того, что когда-то правда случилось, или выплыл из подсознания какой-то фрейдистский кошмар? Может, я просто сошел с катушек? Но я видел это, клянусь. Видел собственными глазами, как вижу сейчас вас.
— Не знаю, не знаю, — проговорил Док.
— Вы не сходите со мной на лодку? Вдруг они вернутся?
— Нет, не могу. Если и я их увижу, то значит они — привидения, и я до смерти испугаюсь, потому что не верю в них. А если ты увидишь, а я нет, значит, у тебя галлюцинации, и тогда ты испугаешься.
— Что же мне делать? — сказал Анри. — Если я и опять увижу, я знаю, что будет — я просто умру. Знаете он ведь не походил на убийцу. У него было очень приятное лицо, и у малыша тоже. И оба они ни капельки не волновались. Но он зарезал его. Я видел.
— Не знаю, не знаю, — повторил Док. — Я не психиатр и не охотник за ведьмами. И не собираюсь им стать.
Снаружи послышался девичий голос.
— Привет, Док. Можно к вам зайти?
— Заходи.
Вошла довольно хорошенькая, очень живая девушка. Док представил ей Анри.
— У Анри проблема, — сказал Док. — То ли он видел привидения, то ли у него комплекс какой-то вины. Никак не может решить. Расскажи ей, Анри.
Анри рассказал — глаза у девушки заблестели.
— Это ужасно! — воскликнула она. — Я никогда в жизни не видела ни одного настоящего привидения. Давай пойдем туда. Может, они опять появятся.
Док смотрел им вслед с довольно кислой миной. В конце концов это его подружка.
Девушка не увидела привидений, но Анри ей понравился; она ушла от него через пять месяцев. Надоело мучиться в тесноте и без туалета.
ГЛАВА XXIII
Черная туча опустилась на Королевскую ночлежку. Всякое веселье угасло в ней. Мак вернулся из лаборатории с выбитыми зубами и разбитой губой. Чтобы еще больше наказать себя, Мак не стал мыть лицо. Он лег в постель, натянул на голову одеяло и не вставал весь день. Сердце его болело так же сильно, как разбитая губа. Он перебирал в уме все плохое, что сделал в жизни, и оказалось, все, что он делал, было плохо. Ему стало очень горько.
Хьюги с Джонсом посидели немного, глядя в пространство, и пошли на рыбозавод «Эдиондо», попросили работу и получили ее.
Элен почувствовал себя так погано, что двинулся в Монтерей, затеял драку с солдатом и был сильно побит. Ему сразу стало легче, еще бы — получить хорошую трепку от человека, которого мог уложить на обе лопатки мизинцем.
Милочка одна была счастлива из всей компании. Она весь день сидела под кроватью Мака и с наслаждением грызла его туфли. Она была умная собака, и зубки у нее были острые. Два раза в приступе лютого отчаяния Мак вытаскивал ее из-под кровати и брал под одеяло для компании, но она вырывалась и продолжала терзать туфли.
Эдди побрел как во сне в «Ла Иду» поговорить с другом-барменом. Выпил немного, занял несколько пятицентовиков, опустил их в музыкальный автомат, пять раз слушал «Грустную девушку».
Весь Консервный Ряд отвернулся от Мака с ребятами; они знали это и знали, что поделом. Они стали отщепенцами общества. Были забыты все их благие намерения Они ведь хотели угостить Дока, но этот факт, даже если и был известен, никем не упоминался и не принимался в рассуждение. Об учиненном разгроме судачили в «Медвежьем стяге». О нем говорили в консервных цехах В «Ла Иде» разгром обсуждали пьяницы, добродетельно покачивая головами. Ли Чонг отказывался давать какие-нибудь объяснения. Его финансовое нутро было все в синяках и кровоподтеках. Слухи в конце концов вылились в следующую историю: «Они украли спиртное и деньги. Вломились в лабораторию и перевернули все вверх дном исключительно из жестокости и по чистой злобе». Причем это говорили люди, хорошо знавшие, как все произошло. Пьяницы из «Ла Иды» предлагали пойти и поколотить их к чертовой матери, чтобы неповадно было обижать такого человека как Док.
Только сплоченность и бойцовские качества команды Мака спасли их от возможной расправы. Люди, давно утратившие благородство души, кипели благородным негодованием. Сильнее всех метал громы и молнии Том Шелиган, а уж он бы не преминул участвовать в дебоше, будь он поблизости.
Общество отринуло от себя Мака с ребятами. Сэм Мэллой перестал заговаривать с ними, когда они шли мимо его котла. Они замкнулись в себе, и никто не знал, удастся ли им вернуть общее расположение. Социальный остракизм влияет на людей по-разному: либо человек преисполнится решения стать лучше, чище, добрее, либо напротив, совсем испортится, бросит всему свету вызов и пустится во все тяжкие. Последнее встречается во сто крат чаще.
Добрые деяния Мака с ребятами точно поместили на чашу весов добра и зла. И что оказалось: они были ласковы и добры с Милочкой, они были великодушны и терпимы друг с другом. Когда схлынул острый приступ отчаяния, они устроили в Королевской ночлежке генеральную уборку, какой никогда прежде не устраивали. Вычистили до блеска плиту, выстирали всю одежду, белье и даже одеяла. Финансовые их дела благодаря трезвому поведению поправились. Хьюги и Джонс работали и приносили домой всю зарплату. Провизию они покупали в магазине «Дешевые товары» — не могли вынести укоряющего взгляда Ли Чонга.
Именно в эти дни Док высказал одну мысль, которая могла бы быть верной, но в цепи его рассуждений отсутствовало одно звено, а потому и не узнать теперь, верна ли та мысль. Было четвертое июля. Док сидел у себя в лаборатории с Ричардом Фростом. Они пили пиво, слушали новый альбом Скарлатти и смотрели в окно. Возле Королевской ночлежки лежало большое бревно, на котором сидели Мак с ребятами, греясь в лучах полуденного солнца Они сидели на склоне холма и смотрели вниз на лабораторию.
— Поглядите на них, — сказал Док. — Вот вам истинные философы. Я думаю, что Мак и ребята знают все, что когда-либо случалось в мире, более того, они наверняка знают, что еще в мире случится. По-моему, они гораздо успешнее, чем другие, выживают на этой земле. В то время, как люди убивают себя, потворствуя своим амбициям и алчности, надрывая нервы, они живут безо всякого напряжения. Все наши так называемые преуспевающие мужчины и женщины — больны, у них расстроены желудки к души. Мак же и его ребята — здоровы и на удивление чисты. Они делают, что хотят. Они удовлетворяют свои потребности, называя вещи своими именами.
От этой длинной речи горло у Дока пересохло, и он осушил стакан пива. Помахал в воздухе двумя пальцами и улыбнулся.
— Ничего нет приятнее первых глотков, — сказал он.
— А по-моему, они ничем не отличаются от всех остальных людей. Просто у них нет денег.
— Они могут иметь их, — сказал Док. — Могут погубить свою жизнь и разбогатеть. У Мака задатки гения. Все они смекалистые ребята; если им что надо, головы у них работают. Просто им открыта истинная сущность вещей и они не ловятся на всякую глупость.
Знай Док, в каком унынье пребывает сейчас компания Мака, он на этом бы остановился. Но Доку никто не говорил, каким презрением окружило их общество.
Он медленно налил пиво себе в стакан.
— Думаю, я смогу убедить тебя в своей правоте, — сказал он. — Видишь, они сидят на бревне и смотрят в нашу сторону? Ну так вот — через полчаса на Маячной улице появится парадное шествие, посвященное Четвертому июля. Стоит им повернуть головы, и они увидят его, стоит встать, и они смогут им полюбоваться, а уж если пройти два коротеньких квартала, так парад прошествует в двух шагах от них. Так вот, они даже головы не повернут.
— Ну и не повернут, — сказал Ричард Фрост. — Что это доказывает?
— Что доказывает? А то, что они знают все об этом параде. Они знают, что первым поедет мэр и на капоте его машины будут развеваться флаги. За ним последует Длинный Боб на белом коне с флагом, пойдут городской совет и две роты солдат из форта, затем члены Общества в защиту американских оленей под лиловыми зонтиками, рыцари-тамплиеры, украшенные белыми страусовыми перьями, с мечами в руке; рыцари Колумба, украшенные алыми перьями, с мечами в руке. Будет играть оркестр. Мак с ребятами все это знают. Они все это видели. И не хотят смотреть еще раз.
— Нет такого человека, который не хотел бы посмотреть парад, — сказал Ричард Фрост.
— Поспорим?
— Поспорим.
— Меня что всегда удивляло, — сказал Док. — Качества, которыми мы восхищаемся в человеке — доброта, щедрость, открытость, прямодушие, понимание, чувствительность, — все они обеспечивают неуспех в нашей системе. Те же черты, которые мы считаем гнусными — лукавство, алчность, жажда наживы, подлость, низость, эгоизм, своекорыстие, — все это, напротив, гарантирует успех. Людей восхищает первый джентльменский набор, но пользоваться они любят плодами второго.
— Кто согласится быть честным, но голодным? — сказал Ричард Фрост.
— Дело не в голоде. Дело совсем в другом. Каждый волен выбирать между спасением души и всеми царствами мира, и почти все выбирают земные царства. Все да не все. Везде в мире встретишь такого Мака с его ребятами. Я видел его в продавце мороженого в Мексике, в алеуте на Аляске. Вы ведь знаете, ребята хотели угостить меня. Но что-то в какой-то миг пошло не так. А ведь они хотели устроить мне вечеринку. Вот что ими двигало. Стоп, — прервал себя Док, — кажется, уже слышен оркестр.
Он поспешил наполнить стаканы, и оба подошли к окну.
Мак с ребятами в полном унынье сидели на бревне и смотрели на лабораторию. Звуки оркестра доносились со стороны Маячной улицы, барабанная дробь эхом отскакивала от домов. Наконец из-за поворота выехала машина с мэром, над капотом у нее полоскались флаги, следом скакал Длинный Боб на белой лошади, неся в руке флаг, затем оркестр, затем солдаты, члены Общества в защиту американских оленей, рыцари-тамплиеры, рыцари Колумба. Ричард с Доком не отрываясь смотрели в окно. Но привлекал их внимание не парад, а цепочка людей, сидевших на бревне.
И что же? Не повернулась ни одна голова, не вытянулась ни одна шея, Парад шествовал мимо, и никто из ребят не двинулся. Парад прошел. Док осушил стакан и мягко помахал двумя пальцами в воздухе.
— Ха! Ничего нет приятнее первых глотков.
Ричард двинулся к двери.
— Какое принести пиво?
— То же самое, — сказал мягко Дон. Он улыбался, глядя вверх на Мака с ребятами.
«Время исцеляет; все пройдет; все забудется» — хорошо говорить тем, кого беда обошла; для тех же, кого она коснулась, ход времени остановился, никто ничего не забыл и ничего не менялось. Док понятия не имел, какая боль, каков разрушительное самобичевание поселились в Королевской ночлежке, а то бы он что-нибудь придумал. И Мак в ребятами не знали этих мыслей Дока; если бы знали, ходили бы уже опять с поднятой головой.
Плохое наступило время. Зло незаметно вползло на пустырь. Сэм Мэллоу то и дело воевал с женой, и она не переставая плакала. Из-за эха, рождавшегося в котле, казалось, что плачет она под водой. О Маке с ребятами и говорить нечего. Добродушный привратник «Медвежьего стяга» вышвырнул за дверь пьяного; швырнул его слишком далеко, не рассчитав силы, и бедняк сломал спину. Три раза пришлось Альфреду ездить в Салинас давать показания; дело закрыли, но Альфреду от этого не стало легче. Он был хороший привратник, до этого никогда никого не увечил.
И в довершение всего несколько высокоумных городских дам, лечась о нравственности молодого поколения, потребовали закрыть вертеп, где свил гнездо самый гнусный разврат. Обычно городские дамы выступали в поход против Доры раз в году в мертвый сезон между Четвертым июля и окружной ярмаркой. Дора в таких случаях закрывала «Медвежий стяг» на неделю. Это было даже не так и плохо. Все получали отпуск, и делался небольшой ремонт — заново оклеивали обоями комнаты и чинили канализацию. Но в этом году дамы объявили священную войну. Они жаждали снять с кого-нибудь скальп. Летом жить было скучно, и в них точно бес вселился. Они стали докапываться, кто настоящий владелец дома, где предавались пороку, какова арендная плата за дом и к каким побочным мелкомасштабным бедствиям может привести закрытие заведения. Вот какая серьезная угроза нависла над «Медвежьим стягом».
Дора была закрыта полные две недели; за это время Монтерей принял у себя три съезда. Слух о новоявленных неудобствах мгновенно разлетелся по всей округе. И Монтерей лишился пяти съездов, намеченных на следующий год. Дела были плохи повсеместно. Доку пришлось взять в банке ссуду, чтобы заплатить за экспонаты, разбитые во время пирушки. Элмер Рекати улегся спать на полотно Южной Тихоокеанской, и ему отрезало обе ноги. Налетел внезапный, совершенно неожиданный шторм, сорвал с якоря один сейнер, три лодки, их разбило о скалы и выбросило печальным грузом на берег у Дель Монте.
Не находилось объяснений всем этим бедствиям, обрушившимся на монтерейцев. Каждый винил себя. Отчаявшиеся люди перебирали в памяти тайные прегрешения и спрашивали себя, не этим ли они прогневили судьбу. Одни винили во всех бедах пятна на солнце, другие, ссылаясь на закон вероятностей, снимали с солнца всякую вину. Что интересно, даже врачи — и те не могли поживиться на этих несчастьях: верно, болели многие, но все это были настоящие болезни, недоходные, которым не поможешь патентованным средством.
И тут заболела Милочка. Она была очень толстеньким веселым щенком, но пять дней жестокой лихорадки превратили ее в маленький, обтянутый кожей скелетик. Коричневый носик покраснел, десны как будто выцвели. Глаза у нее лихорадочно блестели, все тельце пылало, а иногда бил озноб. Она ничего не ела и не пила, ее кругленький животик опал, прилип к позвоночнику, даже в хвосте сквозь кожу просвечивали косточки. Очевидно, у нее была чумка.
Паника охватила обитателей Королевской ночлежки. Милочка была для всех бесценным сокровищем. Хьюги с Джонсом бросили работу, чтобы ухаживать за больным щенком. Сидели возле нее по очереди. Держали на ее лобике прохладную влажную тряпку, но с каждым днем Милочке становилось все хуже и хуже. В конце концов отправили к Доку делегацию, Элена и Джонса, хотя им очень не хотелось идти. Док в это время изучал карту морских приливов и отливов и одновременно поглощал куриное рагу, главным составным которого была не курятина, а морские огурцы [То же, что голотурии, беспозвоночный тип иглокожих]. Посланцам Королевской ночлежки показалось, что Док взглянул на них не очень приветливо.
— Мы из-за Милочки, — сказали они. — Милочка заболела.
— Что с ней?
— Мак говорит — чумка.
— Я не ветеринар, — сказал Док. — Не знаю, как лечат чумку.
— Ну и что ж? Вы только взгляните на нее. Она черт-те как болеет.
Пока Док осматривал Милочку, ребята стали в кружок, не отрывая от нее глаз. Он посмотрел глазные яблоки, десны. Пощупал ребрышки, которые выпирали, как спицы, слабенький позвоночник.
— От пищи отказывается? — спросил Док.
— Ничего не ест.
— Кормите ее насильно крепким бульоном и яйцами, давайте рыбий жир.
Док показался им холодным и официальным. Осмотрев Милочку, он вернулся к своим картам и рагу.
Но у Мака и ребят теперь появилось занятие. Они варили мясо, пока бульон не приобретал крепости виски. Они вливали ей рыбий жир как можно глубже в глотку, чтобы она хоть сколько-нибудь проглотила. Они держали морду так, чтобы рот образовал воронку, и лили туда теплый бульон. Ей оставалось или захлебнуться, или глотать. Они кормили ее каждые два часа и все время давали пить. Раньше они спали по очереди, теперь не спал никто, сидели возле нее молча и ждали кризиса.
Кризис наступил под утро. Ребята дремали в своих креслах, бодрствовал только Мак, не сводя глаз с Милочки. Вдруг он заметил, что у нее дрогнули ушки, поднялась и опустилась грудная клетка. Шатаясь, она поднялась на свои тонюсенькие ножки, потащилась к двери, попила немножко воды и, обессилев, легла на пол.
Мак радостным воплем разбудил ребят. Он неуклюже плясал по комнате. Все стали что-то кричать друг дружке. Ли Чонг, вынося баки с мусором, услыхал их и презрительно фыркнул. Альфред, привратник, решил, что у Мака пирушка.
К девяти часам Милочка сама съела сырое яйцо и выпила полпинты взбитых сливок. К полудню она стала заметно набирать вес. Через день она уже немножко играла, а к концу недели Милочка опять стала веселым, здоровым щенком.
Наконец-то в этой полосе бедствий забрезжил луч надежды. Признаки добрых перемен стали заметны всюду. Сейнер починили, спустили на воду, и он опять вышел в море. Доре передали, что можно спокойно открывать «Медвежий стяг». Эрл Уэйкфилд поймал двухголового ерша и продал его музею за восемь долларов. Полоса бедствий и тщетного ожидания кончилась. От нее не осталось и следа. В ту ночь занавески в окнах лаборатории были опущены, до двух часов ночи слышались Грегорианские песнопения, а когда музыка смолкла, от Дока никто не вышел. Какая-то работа совершалась в сердце Ли Чонга, и в минуту восточного влияния он простил Мака и ребят, списал лягушачий долг, который был главной причиной душевных мук. В знак примирения Ли Чонг взял пинту Старой тенисовки и понес Маку. Их хождения в магазин «Дешевые товары» задевали его чувства, но теперь с этим будет покончено. Визит Ли как раз совпал с первым здоровым проявлением разрушительного инстинкта у Милочки после болезни. Ее вконец избаловали, и никто больше не собирался приучать ее к чистоплотности. Когда Ли Чонг вошел в Королевскую ночлежку с бутылкой тенисовки, Милочка самозабвенно уничтожала единственные кеды Элена, а хозяева радостно ей хлопали.
Мак никогда не ходил в «Медвежий стяг» по чисто мужской надобности. По его мнению, это отдавало бы кровосмешением. Подобное заведение было у бейсбольных площадок, туда он и наведывался. Вот почему, когда Мак переступил порог гостиной, все решили, что он заглянул выпить пива.
— Дора у себя? — спросил он Альфреда.
— А какое у тебя к ней дело? — в свою очередь, спросил Альфред.
— Мне надо кое-что у нее спросить.
— Что?
— Не твое, черт возьми, дело, — ответил Мак.
— Ладно. Как знаешь. Пойду узнаю, захочет ли она говорить с тобой.
Секунду спустя он провел Мака в святая святых «Медвежьего стяга». Дора сидела за откидной конторкой. Ее апельсинового цвета кудряшки были уложены в высокую прическу, глаза защищал зеленый козырек. Толстым пером она делала записи в бухгалтерской книге-старинном добротном гроссбухе для ведения двойной бухгалтерии. На ней был роскошный шелковый розовый халат с кружевами у запястий и горла. Услыхав, что вошел Мак, Дора повернулась на вращающемся стуле и посмотрела на него. Мак стоял и молчал, ожидая, когда Альфред уйдет. Альфред ушел и притворил за собой дверь.
Дора подозрительно смотрела на Мака.
— Ты зачем пришел? — спросила она.
— Видите ли, мэм, — сказал Мак, — вы, конечно, слыхали, что мы наделали недавно у Дока?
Дора сдвинула на темя козырек и сунула ручку в старинную, из спиральной пружины державку.
— Да, — сказала она, — слыхала.
— Видите ли, мэм, мы хотели угостить Дока. Можете не верить, но мы хотели устроить ему вечеринку. А он не приехал вовремя. И все пошло-поехало не туда.
— Слыхала, слыхала, — сказала Дора. — А чем же я могу вам помочь?
— Видите ли, — сказал Мак, — мы с ребятами решили спросить вас, что нам такое сделать, чтобы Док понял.
— Хм-м, — протянула Дора.
Она откинулась на стуле, положила ногу на ногу и разгладила на коленях халат; взяла сигарету, закурила и стала думать.
— Вы устроили для него вечеринку, на которой его не было. Ну так сделайте для него вечеринку, чтобы он на ней был, — сказала она.
— Бог ты мой, — сказал Мак дома ребятам, — все так просто. Дора — гениальная женщина. Неудивительно, что она хозяйка. Гениальная женщина.
ГЛАВА XXIV
Мэри Талбот, жена Тома Талбота, была красотка. У нее были рыжие волосы, чуть в прозелень, золотистая кожа, как бы подсвеченная изнутри зеленым, и зеленые глаза с золотистыми искорками. Овал лица у нее был лисий, треугольный — широкий в скулах и сужающийся к подбородку. У нее были длинные ноги танцовщицы и стопы, как у балерины. Когда она шла, ноги ее почти не касались земли. Чуть она разволнуется, а волновалась она постоянно, лицо ее вспыхивало золотом. Ее пра-пра-пра-пра-прабабку сожгли на костре как ведьму.
Больше всего на свете Мэри Талбот любила приглашать гостей и ходить в гости. Том Талбот зарабатывал совсем мало, и Мэри редко устраивала званые вечера; что поделаешь, приходилось иногда звонить приятельнице и напоминать: «Мне кажется, тебе уже пора пригласить нас на чай».
Мэри праздновала шесть дней рождений в году, устраивала маскарады, вечеринки с фантами, словом, всякие развлечения. На Рождество у нее в доме было особенно весело. Мэри расцветала на праздниках. И муж ее держался на гребне ее энтузиазма.
Под вечер, когда муж работал, Мэри иногда приглашала на чашку чая соседских кошек. Ставила кукольные чашки с блюдцами на табуретку для ног. Собирала в дом кошек, а их было кругом множество, и вела с ними долгую, увлекательную беседу. Это была ее любимая игра. Смех и горе — игра эта заслоняла, застила ей тот факт, что у нее совсем не было красивых платьев, а у мужа денег. Почти всю жизнь они были на мели, но стоило немножко наскрести денег, Мэри непременно устраивала веселый праздник.
Она это умела. Она могла заразить весельем весь дом этот свой дар она использовала как оружие против депрессии, которая всегда бродила поблизости, подкарауливая Тома. Мэри видела в этом свое призвание — оберегать Тома, ведь все же знали, что Тому уготовано судьбой блестящее будущее. По большей части ей удавалось не пускать на порог мрачные мысли, но иногда они все-таки прорывались и посылали Тома в нокдаун. Тогда он садился в угол и часами уныло глядел в одну точку, а Мэри принималась лихорадочно раздувать встречный огонь веселья.
Как-то первого числа месяца навалились сразу все неприятности: пришло суровое напоминание от водопроводной компании, нечем было платить за квартиру, вернули рукопись и несколько карикатур из журналов; в довершение всего обострился плеврит; Том ушел в спальню и лег.
Мэри тихонько вошла к нему — из-под двери и сквозь замочную щелку валили клубы самой черной тоски. В руках у нее был букетик белых и розовых ибериек, обернутый бумажным кружевом.
— Понюхай, — сказала она и поднесла цветы к его носу. — Ты знаешь, какой сегодня день? — спросила она и стала судорожно рыться в памяти — вдруг на счастье сегодня чей-нибудь день рождения.
— Почему хоть один раз не взглянуть правде в лицо? — сказал Том. — Мы банкроты. Мы на самом дне. Какой смысл заниматься самообманом?
— Ничего подобного, — лепетала Мэри. — Мы волшебники. Настоящие волшебники. Помнишь, как ты тогда в книжке нашел десять долларов? А потом — помнишь, твой брат вдруг прислал нам пять долларов? С нами ничего не может случиться.
— Уже случилось, — сказал Том. — Очень жаль, но на этот раз разговорами меня не убаюкать. Мне надоело притворяться. Взгляни хоть раз трезво на жизнь.
— Мне бы хотелось устроить небольшую вечеринку сегодня вечером, — сказала Мэри.
— На какие шиши? Ты ведь не собираешься второй раз подать на блюде вырезанную из журнала жареную ветчину. Меня уже воротит от таких шуточек. Это не смешно. Это страшно.
— Я хочу устроить совсем крошечный праздник, — настаивала Мэри. — Малюсенький. Никаких нарядов. Ведь сегодня годовщина основания Лиги женщин в шароварах с юбочками. Ты даже этого не помнишь.
— Хватит дурить, — сказал Том. — Я понимаю, подло с моей стороны так говорить. Но у меня нет сил подняться. Иди, пожалуйста, закрой дверь и оставь меня в покое. Если не уйдешь, я тебя просто вышвырну.
Мэри внимательно поглядела на мужа и поняла, что он не шутит. Мэри спокойно вышла и закрыла дверь, а Том лег на живот, положил руки на подушку и зарылся в них лицом. Он слышал, как Мэри шуршала чем-то в другой комнате.
Мэри украсила дверь прошлогодними рождественскими игрушками, стеклянными шарами, мишурой и повесила плакат: «Добро пожаловать, Том, наш герой». Послушала у двери в спальню — за дверью ни звука. Немножко расстроившись, она выдвинула в середину табуретку для ног и постелила на нее салфетку. Поставила в центре стакан со своим букетиком и вокруг четыре маленькие чашки с блюдцами. Затем пошла на кухню, насыпала в чайник чай, поставила на огонь кастрюлю с водой. И вышла во двор.
У забора на улице грелась на солнышке киска Рандольф.
— Мисс Рандольф, — сказала Мэри, — я жду к чаю гостей, не придете ли и вы выпить чашечку?
Киска Рандольф лениво перевернулась на спину и, вытянувшись, подставила живот теплому солнышку.
— Приходите не позже четырех, — прибавила Мэри. — Мы с мужем собираемся пойти в отель на столетнюю годовщину основания Лиги женщин в шароварах с юбочками.
Обогнув дом, Мэри вышла на задний двор, где забор весь зарос кустами ежевики. Киска Казини, припав к земле, громко мурлыкала и била хвостом.
— Миссис Казини, — начала Мэри и тут увидела, чем занята кошка — играла с мышью. Она легонько ударила ее мягкой лапой, и мышка в ужасе бросилась прочь, волоча парализованные задние лапки. Она уже почти достигла спасительных кустов, но кошка точно прицелилась, метнулась вперед, на лапе у нее выросли белые когти. Изящным движением она вонзила их в спину мышки, потянула бьющееся тельце к себе и от удовольствия заколотила по земле вытянутым, как струна, хвостом.
Том уже почти забылся сном, как вдруг за окном раздался отчаянный крик жены. Он вскочил с кровати и крикнул: «Что такое? Где ты?» В ответ Мэри заплакала. Том выбежал во двор и увидел, что произошло.
— Отвернись, — крикнул он жене и убил мышь. Киска Казини прыгнула на забор и злобно уставилась на Тома.
Он схватил камень, попал ей в живот, и кошка убежала.
Дома Мэри еще долго всхлипывала. Налила кипяток в чайник с чаем и поставила его на стол.
— Садись, — сказала она Тому, и Том присел на корточки перед табуреткой.
— Можно мне большую чашку? — спросил он.
— Я знаю, что киска Казини не виновата, — сказала Мэри. — Она ведь кошка. Это не ее вина. Так кошки устроены. Но, Том! Мне теперь нелегко будет звать ее в гости. Несколько времени я не смогу ее любить, как бы ни старалась.
Мэри взглянула на мужа и увидела — лоб его больше не хмурится и глаза не щурятся злобно.
— Но я так буду занята юбилеем Лиги женщин в шароварах с юбочками, — сказала она. — Просто не знаю, как и управлюсь.
В этом году Мэри Талбот устроила вечеринку по поводу беременности. И все говорили: «Господи! Весело будет жить ее младенцу».
ГЛАВА XXV
Весь Консервный Ряд, да, пожалуй, и весь Монтерей почувствовал, что наступила пора перемен. Можно не верить в приметы и предзнаменования. Никто в них и не верит. Но шутить с ними все-таки не годится, да никто и не думал шутить. Обитатели Консервного Ряда, как все другие люди, не верили приметам, но вряд ли кто из них прошел бы под лестницей и раскрыл дома зонтик. Док был настоящий ученый, чуждый суеверию, но когда он, придя поздно вечером домой, обнаружил на пороге гирлянду белых цветов, он слегка поежился. Большинство в Консервном Ряду просто не верило подобным вещам, хотя и жило с ними бок о бок.
Мак не сомневался, что Королевская ночлежка долгое время была во власти черных сил. Он вспоминал неудавшуюся вечеринку во всех подробностях и видел мысленным взором злой рок, тучей клубившийся над Западной биологической, и в каждой щелке затаившуюся беду. Он знал: если попадешь в такой переплет, заройся под одеяло и жди, пока наваждение исчезнет. Сопротивляться ему нельзя. Хотя, конечно, Мак суеверным не был.
Но вот в Консервном Ряду проклюнулся первый росток удачи и пустил побеги по всем окрестностям. Доку стало неслыханно везти с приятельницами. Причем сам он палец о палец для этого не ударил. Щенок в Королевской ночлежке рос, как на дрожжах, а имея в прошлом тысячу поколений ученых собак, принялся учить сам себя. Милочке стало противно делать лужицы на полу, и она скоро привыкла выходить во двор. Она росла умной и красивой собакой. Чумка не оставила у нее никаких следов.
Доброе веяние распространялось, как газ, по Консервному Ряду. Дошло до ларька Германа, торгующего котлетами с булкой, и дальше до отеля «Сан-Карлос». Его ощутили Джимми Бручия и Джонни-буфетчик. Щеголь Енея тоже ощутил его и включился в озорную войну с тремя загородными полицейскими. Проникло оно и сквозь стены окружной тюрьмы в Салинасе, где жил припеваючи Гай, проигрывая шерифу в шашки все партии: его вдруг укусила какая-то муха, он загордился и перестал проигрывать. Вследствие чего потерял привилегии, но зато опять обрел самоуважение.
Ощутили это веяние и морские львы, их лай приобрел виртуозность и тембр, которые обрадовали бы и святого Франциска. Школьницы, зубрившие катехизис, стали вдруг отрывать головы от страниц и без всякой причины хихикать. Если бы кто изобрел электрическую ищейку и с ее помощью обнаружил источник всеобщей радости, то этим источником наверняка оказалась бы Королевская ночлежка. Источник этот бил, как говорится, ключом. Мак с ребятами излучали сияние. Джонс как-то сидел на стуле, вдруг ни с того, ни с сего соскочил; отстучал чечетку и снова сел. Элен все время чему-то улыбался. Радость выплескивалась через край, и Мак с трудом сдерживал ее, направляя в нужное русло. Эдди, работавший в «Ла Иде», чуть не каждый день пополнял вожделенный погребок. Он перестал сливать в свой кувшин оставшееся в стаканах пиво. От этого у коктейля отбивается крепость, объяснил он.
Сэм Мэллой посадил вокруг своего котла ипомею. Сделал тент, и они с женой по вечерам сидели под ним. Миссис Мэллой вышивала тамбуром покрывало на постель.
Радость пришла даже в «Медвежий стяг». Дела у Доры шли успешно. Нога у Филлис Мэй почти срослась, и она могла вот-вот приступить к работе. Ева Фланеган вернулась из Ист-Сент-Луиса и была счастлива, что вернулась. Там было очень жарко и совсем не так весело, как ей помнилось. Но тогда она ведь была моложе, наверное, потому и было весело.
Правда о вечеринке не сразу осенила общество. Не сразу расцвела лазоревым цветом. В глубине души люди, конечно, знали правду, но дали ей созреть. И она созрела, как куколка в коконе.
Мак был человек здравомыслящий.
— Прошлый раз перестарались мы с этой вечеринкой. Так не делается. Надо сидеть сложа руки и ждать, пока все получится само собой.
— Ну и когда же это будет? — с нетерпением спросил Джонс.
— Не знаю, — ответил Мак.
— Это будет сюрприз? — спросил Элен.
— Думаю, да. Это ведь самое лучшее, — ответил Мак.
Милочка принесла ему теннисный мяч, который где-то нашла, Мак взял его и бросил в открытую дверь. Милочка побежала искать его в траве.
— Вот если бы знать, когда у Дока день рождения, мы могли бы устроить ему праздник.
У Мака отвисла челюсть. Элен постоянно удивлял его.
— Боже ты мой, Элен! — воскликнул он. — Это идея. На день рождения ведь можно дарить подарки. Как раз то, что надо. Узнать бы, когда у него день рождения.
— Проще простого, — сказал Хьюги. — Пойти и спросить.
— Черт, — сказал Мак. — Он сразу сообразит, что к чему. Ты спрашиваешь у парня, когда у него день рождения, а сам только что устроил ему праздничек вроде нашего, да ведь он сразу смекнет, что у тебя на уме. Наверное, мне надо пойти к нему вроде как на разведку, но о главном помалкивать.
— И я с тобой, — сказал Элен.
— Ни в коем случае, если придем вдвоем, он сразу насторожится, вдруг мы опять что-нибудь такое затеяли.
— Но ведь это же я придумал, — сказал Элен.
— Знаю, — сказал Мак. — Ну и что? Когда все устроим, я, конечно, скажу Доку, что это твоя идея. Но идти лучше мне одному.
— А он как — не сердится? — спросил Эдди.
— Док в порядке.
Мак застал Дока в нижнем этаже. На нем был длинный резиновый фартук и резиновые перчатки, чтобы защитить руки от формальдегида. Он вливал в вены и артерии маленьких акул цветные растворы. Работала шаровая мельница, готовя синюю жидкость. Красная жидкость уже была в пневматическом шприце. Умные пальцы Дока работали четко, игла сразу попадала в вену; нажим на собачку, и сжатый воздух гонит в вены красную краску. Готовых акул Док складывал в аккуратную стопку. Ему надо будет пройтись по ним еще раз — влить в артерии синюю жидкость. Из этих акул получаются отличные препараты.
— Привет, Док, — сказал Мак. — Вы, вижу, очень заняты.
— Постольку поскольку, — сказал Док. — Как ваш щенок?
— Замечательно. Если бы не вы, он бы сдох.
На миг Дока окатила волна подозрительности, но только на миг. Обычно комплименты Мака его настораживали. Он ведь очень давно его знал. Но сейчас в тоне Мака звучали только нотки благодарности. Док знал, как ребята любили Милочку.
— Как дела в Королевской ночлежке? — спросил он.
— Прекрасно, Док. У нас прибавилось два новых стула. Зашли бы к нам, посмотрели. У нас стало очень уютно.
— Зайду, — ответил Док. — Что, Эдди так все и носит кувшины?
— А то как же, — сказал Мак. — Но теперь он пива не добавляет. По-моему, так лучше, крепости больше.
— Ну, крепости там и так было достаточно.
Мак терпеливо ждал. Рано или поздно Док сам выйдет на жилу, надо только набраться терпения: если он первый заговорит о деле, будет не так подозрительно. Мак давно усвоил этот прием.
— Что-то Элена не видать. Он не болеет?
— Нет, — ответил Мак и пошел в наступление. — Элен здоров. У него с Хьюги война. Вот уже целую неделю, — Мак хохотнул. — Но самое смешное, — спорят, а сами в этом ни уха, ни рыла. Я не вмешиваюсь. Я тоже в этом ничего не смыслю. А они чуть не дерутся.
— Из-за чего же спор?
— А вот из-за чего, — ответил Мак. — Элен давно уже покупает эти карты, ну где счастливые дни, планеты и все такое. А Хьюги заявил, что все это брехня. «Хьюги, — говорит Элен, — если знаешь, чей день рождения, то все можно о нем узнать». А Хьюги отвечает: «Тебя просто облапошивают, всучат карту и опустят в карман твой десятипенсовик». Я в этом ничего не смыслю. А вы как думаете, Док?
— Я, пожалуй, соглашусь с Хьюги, — сказал Док, выключил мельницу, вымыл шприц и наполнил его синей жидкостью.
— Вчера вечером опять давай спорить. Спрашивают меня, когда я родился. Я ответил — двенадцатого апреля. Элен пошел, купил мою карту. И прочитал. Некоторые вещи сходятся. Но там написано только хорошее, а хорошему о себе всегда веришь. Карта говорит, что я смелый, умный и добрый с друзьями. Элен уверяет, что все это правда. А у вас, Док, когда день рождения?
Вопрос в конце длинного разговора прозвучал вполне невинно. Придраться было не к чему. Но нельзя забывать, что Док знал Мака очень, очень давно. Если бы он его не знал, он бы сказал честно: восемнадцатого декабря; а так он слукавил, ответил — двадцать седьмого октября.
— Спроси у Элена, — прибавил Док, — что эти карты говорят обо мне.
— Наверное, все это и правда брехня, — сказал Мак. — Но Элен верит. Я попрошу его посмотреть вашу карту.
С этим Мак ушел, а Док стал ломать голову, что бы это могло значить. Он, конечно, понял, что разговор был затеян неспроста. Он знал Мака, знал его приемы. Учуял его стиль. И Док спрашивал себя, каким образом Мак может использовать полученную информацию. Только спустя время, когда по всей округе поползли слухи, Док разгадал замысел Мака. И вздохнул с облегчением — взаймы просить не будет.
ГЛАВА XXVI
Как-то на лодочной верфи играли двое мальчишек, играли, пока на забор не вспрыгнула кошка. Мальчишки немедленно затеяли охоту, погнали кошку через линию и на насыпи набрали полные карманы отличных разноцветных камней. Кошка удрала от них, нырнув в густую траву, но камни они не выбросили. Такой камушек может пригодиться в любую минуту. Они спустились к Консервному Ряду и швырнули камень в рифленое железо одного из цехов. В окно конторы выглянуло испуганное лицо; увидев мальчишек, человек бросился наружу, но у них ноги оказались быстрее. Он еще не добежал до двери, а мальчишки уже лежали в траве, спрятавшись за бревно, валявшееся на пустыре. Он бы их за сто лет не нашел.
— Спорим, он хоть всю жизнь ищи, не найдет, — сказал Джон.
Но никто их не искал, и скоро им стало скучно лежать в траве. Они встали и пошли вдоль Консервного Ряда. Долго глядели в окно лавки Ли Чонга, страстно мечтая о плоскогубцах, ножовке, касках строителей и бананах. Потом перешли улицу и сели на нижнюю ступеньку Западной биологической.
— Знаешь, говорят у этого дядьки стоят бутылки с мертвыми человечками.
— Какими человечками? — спросил Уиллард.
— Обыкновенными, которые еще не родились.
— Врешь, — сказал Уиллард.
— А вот и не вру. Знаешь сына Спрейгов? Он сам видел. Говорит, они маленькие-премаленькие, у них ручки, ножки и даже глаза.
— А волосы? — спросил Уиллард.
— Он про волосы не говорил.
— А ты бы спросил его. Врет он все.
— Смотри, чтобы он тебя не услышал, — сказал Джон
— А ты пойди повтори ему, что я сказал. Я его не боюсь. И тебя не боюсь. Я никого не боюсь. Понял?
Джон не отвечал.
— Понял, говорю?
— Нет, — ответил Джон. — Я думаю, может, пойти спросить этого парня, правда, что у него в бутылках мертвецы. Может, он их нам покажет, если они у него есть?
— А его нет дома, — ответил Уиллард. — Видишь, его машины нет. Куда-то уехал. Я думаю, это все брехня. И этот Спрейг все тебе набрехал. Брехун он. И ты брехун.
Такой уж был скучный день. Ничего интересного, и Уиллард стал задираться.
— Ты еще и трус, да, трус. Понял?
Джон не отвечал. Тогда Уиллард сменил тактику.
— А где твой старик? — обычным тоном спросил он.
— Умер, — ответил Джон.
— Умер? Что-то я не слыхал. А от чего умер?
Какой-то миг Джон молчал. Он знал, что Уиллард знает от чего, но не мог этого сказать, тогда драки не избежишь, а он боялся Уилларда.
— Он покончил… убил сам себя.
— Да? — лицо у Уилларда вытянулось. — А как покончил?
— Съел крысиного яду.
— Он что, решил, что он крыса? — загоготал Уиллард.
Джон улыбнулся шутке самую малость.
— Конечно, он считал себя крысой, — кричал Уиллард. — Он, наверное, не ходил, а ползал — вот так, гляди, Джон! И нос морщил вот так, гляди! А хвост у него был длинный-предлинный! — Уиллард зашелся от хохота. — Лучше бы он нашел крысоловку и сунул туда голову! — Теперь уже хохотали оба. Уиллард своего добился. — А как он выглядел? — Новая шутка. — Вот так? — он скосил глаза, оскалил рот и вывалил наружу язык.
— Он весь день мучился, — сказал Джон. — Умер ночью. Ему было очень больно.
— Зачем это он?
— Не мог найти работу, — сказал Джон. — Почти год искал. И что смешно, знаешь? Наутро пришел человек и сказал, что отцу есть работа.
— А я думаю, он считал себя крысой, — Уиллард повторил шутку, но даже у него самого она больше не имела успеха.
Джон встал, сунул руки в карманы. И вдруг увидел блестящую монетку на дне канавы, он кинулся туда, протянул руку, но Уиллард оттолкнул его и схватил монету из-под ноги у Джона.
— Я первый увидел, — крикнул Джон. — Отдай!
— Так я тебе и отдал, — сказал Уиллард. — Пойди лучше съешь крысиного яда. Понял?
ГЛАВА XXVII
Мак с ребятами — Добродетель, Милосердие, Красота. Вот они сидят в Королевской ночлежке, а доброе их влияние, точно круги по воде от брошенного камня, расходятся по всему Консервному Ряду и дальше — до Пасифик-гроув, в Монтерей и даже за холм в долину Кармел.
— На этот раз, — сказал Мак, — мы должны сделать все, чтобы он был на вечеринке. Если его не будет, не будет и вечеринки.
— А где мы устроим праздник? — спросил Джонс.
Мак откинулся со стулом назад, так что спинка стула уперлась в стену, и обвил ногами передние ножки.
— Я сам все время об этом думаю, —сказал он, — конечно, можно было бы пригласить всех сюда, но тогда никакого сюрприза не будет. К тому же Док любит свой дом. У него там музыка.
Мак, нахмурившись, посмотрел на ребят.
— Не знаю, кто тогда сломал проигрыватель, — сказал он. — Но если кто-нибудь в этот раз дотронется до него, своими руками убью.
— По-моему, надо праздновать у него, — сказал Хьюги.
Никто никому не говорил про день рождения, как-то потихоньку узналось само собой. И никого не звали. Но собирались прийти все. У каждого в памяти двадцать седьмое октября было обведено красным. А раз день рождения, то должны быть подарки.
Взять хотя бы «Медвежий стяг». Все его обитательницы хоть один раз, да наведывались в лабораторию за советом, медицинской помощью или просто побыть в обществе мужчины, который дружит с тобой просто так. И все они видели, чем застлана его постель — старым выцветшим одеялом, на котором оставили следы лисохвост и репейник, да и сама земля; Док брал его во все свои путешествия. Если появлялись деньги, Док покупал новое оборудование. Ему в голову не приходило купить себе новое одеяло. И девочки Доры решили сшить для него шелковое лоскутное одеяло неописуемой красоты. А поскольку лоскутки были когда-то шелковыми комбинациями и вечерними платьями, то одеяло переливалось розовым, сиреневым, лимонным и светло-вишневым цветами. Девочки шили его перед полуднем и после обеда, до прихода рыбаков с сейнеров. Объединенные работой, они перестали ссориться и дуться друг на друга, что постоянно бывает в доме греха.
Ли Чонг достал из своих запасов целую гирлянду шутих длиной двадцать пять футов и большую корзину луковиц китайских лилий. По его мнению, без этих вещей не мог обойтись ни один настоящий праздник.
У Сэма Мэллоя была своя теория антикварных вещей. Он считал, что старая мебель, стекло, керамика, не представлявшие в свое время ценности, по прошествии лет приобретают ореол старины и цена их вырастает стократ сравнительно с реальной стоимостью и пользой. Он видел однажды стул, который продали за пятьсот долларов. Сэм коллекционировал части древних автомобилей и был уверен, что придет день, когда за его коллекцию ему дадут баснословные деньги и выставят ее на черном бархате в лучших музеях. Сэм долго думал о дне рождения, потом осмотрел свои сокровища, хранившиеся в большом запертом ящике позади котла. И решил подарить Доку один из самых лучших своих образцов — шатун и поршень от «чалмерса» 1916 года. Он чистил и полировал эти железки, пока они не засверкали, как старинные доспехи. Сам сделал для подарка ящик и обил его изнутри черной материей.
Мак с ребятами тоже долго обдумывали, что бы такое подарить. И вспомнили, что Док всегда нуждается в кошках, а поймать их — проблема. Мак достал свою двойную клетку. Поймали кошку, которая как раз просила кота, посадили в клетку, а клетку поставили под кипарис на самом высоком месте пустыря. Затем ребята соорудили из проволоки еще одну клетку-ловушку и поставили ее в углу своего дома. Количество котов росло каждую ночь в геометрической прогрессии. Джонс два раза в день ходил к рыбозаводам, приносил рыбьи головы, чтобы кормить пленников. Мак справедливо рассудил, что двадцать пять котов — подарок хоть куда.
— На этот раз никаких украшений, — сказал Мак. — Просто солидная доброкачественная пирушка. Но чтобы спиртное лилось рекой.
Известие о предстоящем дне рождения дошло и до Гая в Салинасскую тюрьму, он договорился с шерифом, что тот отпустит его на вечер, да еще взял взаймы два доллара на билет туда и обратно. Гай в прошлом много доброго сделал шерифу, а шериф не тот человек, кто забывает добро, тем более, что приближались выборы, а Гай обещал обеспечить ему голоса. Гай, между прочим, мог, если б захотел, очернить Салинасскую тюрьму, что было нежелательно.
Что касается Анри-художника, то он недавно вспомнил про старинные подушечки для булавок. Анри решил возродить этот вид искусства, процветавший в девяностых годах, и с восторгом увидел, что разноцветные булавки могут творить чудеса. Причем картина всегда не окончена — в любой миг можно совсем по-иному натыкать булавки. Он как раз готовил несколько подушечек для персональной выставки и вдруг услыхал о дне рождения; он тут же отставил свою работу и начал творить гигантскую подушку для Дока. Получался затейливый пикантный узор из зеленых, желтых и синих булавок. Все тона были холодные, и называлось творение «Прикембрийский завет».
Друг Анри Эрик, ученый брадобрей, собиравший первые издания авторов, у которых никогда не было ни второго издания, ни второй книги, решил подарить Доку тренажер для гребли. Он достался ему по суду, когда объявил банкротство один его клиент, которого он стриг и брил в долг три года. Машина была в отличном состоянии. Никто ею помногу не пользовался. Впрочем, тренажерами для гребли вообще не пользуются.
Заговор рос и ширился, посвященные сновали туда-сюда, обсуждали подарки, спиртное, в какой час торжество начнется, и напоминали друг другу не проговориться.
Док не помнил, когда первый раз заметил, что вокруг него плетется интрига. Когда он входил к Ли Чонгу, разговор тотчас смолкал. Сначала ему показалось, что люди почему-то дуются на него. Но тут сразу несколько человек спросили, что он делает двадцать седьмого октября. Это очень его озадачило: он брякнул тогда «двадцать седьмого» наобум и тотчас забыл об этом. Вообще-то ему было интересно услышать свой гороскоп, составленный по фальшивой дате. Но Мак больше не возвращался к этому, и дело само собой забылось.
Однажды вечером он зашел в пивную «У дороги», там было пиво, которое он любил, и они хранили его как надо, при нужной температуре. Он выпил первый стакан и уже поудобней уселся, чтобы с наслаждением тянуть второй, как вдруг ушей его коснулся любопытный разговор. Какой-то пьяный спросил у бармена:
— Ты идешь на вечеринку?
— Какую вечеринку?
— Как какую? Ты ведь знаешь Дока из Консервного Ряда, — сказал он доверительно.
Бармен посмотрел в зал и опять воззрился на пьяного.
— Так вот, — сказал пьяный, — они устраивают ему день рождения.
— Кто они?
— Да все.
Док призадумался. Этого пьяного он совсем не знал. Известие породило в нем сложные чувства. На сердце стало тепло — ему готовят праздник, его день рождения, и в то же время внутри у него все задрожало — он вспомнил прошлую вечеринку.
Все сразу встало на свои места — вопрос Мака и молчание, наступавшее при его появлении. Он долго не спал в ту ночь, сидел за своим столом и думал. Оглядел комнату, соображая, что надо убрать и запереть. Он знал: вечеринка может дорого ему обойтись.
На другой день он сам занялся приготовлениями. Лучшие пластинки унес в дальнюю комнату, где их придется запереть. Отнес туда же все оборудование и препараты, которые бьются. Он знал, как будет — гости придут голодные, еды не принесут. Очень скоро выпьют все спиртное, как обычно бывало, и тогда… Док, уже немного усталый, побрел в магазин «Дешевые товары», где был умный, все понимающий с одного взгляда мясник. Обсудили, какое приготовить мясо. Док заказал пятнадцать фунтов бифштексов, десять фунтов помидоров, двенадцать кочанов салата, шесть буханок хлеба, большую банку арахисового масла, банку клубничного джема, пять галлонов вина и четыре четверти хорошего, не очень дорогого виски. Он знал, что первого числа придется выдержать объяснение в банке. Еще три-четыре таких вечеринки, и можно распроститься с лабораторией.
А Консервный Ряд бурлил. Док был прав. Никто не думал о еде, но каждый, кто мог, припрятывал лишнюю бутылку. Число подарков росло, список гостей, если бы существовал, напомнил бы перепись населения. В «Медвежьем стяге» только и разговоров было, что о нарядах. Девочки собирались не на работу и им не хотелось идти в длинных красивых платьях, которые, в сущности, были для них рабочей одеждой. И решили надеть обычные, уличные. В общем, все было не так просто. Дора настаивала, что в доме должна остаться дежурная бригада, чтобы постоянные клиенты потом не жаловались. Разбились на смены — сначала одни пойдут, потом другие. Никак не могли договориться, кто пойдет в первую очередь, пришлось бросить жребий. Ведь первые увидят лицо Дока, когда ему преподнесут неописуемое одеяло. Они шили его на раме, и оно уже было почти готово. Миссис Мэллой отложила на время свое покрывало и принялась вышивать салфетки для пивных кружек Дока. Первое волнение наконец схлынуло, уступив место истовой серьезности. В ловушке Мака было уже пятнадцать котов, их дикий вой по ночам немного нервировал Милочку.
ГЛАВА XXVIII
Рано или поздно Фрэнки должен был услышать про день рождения Дока. Фрэнки носило туда-сюда, как маленькое облачко. Он всегда был вблизи какой-нибудь кучки людей. Никто не замечал его, не обращал на него внимания. Нельзя было понять, слышит он что-нибудь или нет. Но он слышал о дне рождения, о подарках для Дока, и в нем росло ощущение полноты и какого-то щемящего томления.
За стеклом витрины ювелирного магазина Джейкобса стояла самая красивая на свете вещь. Она стояла очень давно. Это были часы из черного оникса с золотым циферблатом, прекраснее всего была статуэтка наверху — бронзовая фигурка святого Георгия, убивающего дракона. Дракон, пронзенный копьем, задрал вверх когтистые лапы. Святой был закован в латы, забрало шлема поднято, он сидел на жирной, с тяжелым крупом лошади. Своим копытом она пришпилила дракона к земле. Удивительная вещь — у святого была острая клинышком бородка, и он немного смахивал на Дока.
Фрэнки несколько раз проходил по улице Альварадо мимо витрины и любовался этой красотой. Он грезил о святом Георгии, ощущал пальцами его гладкую тяжелую бронзу. Он уже давно заметил ее, еще до того, как услыхал о дне рождения и подарках.
Он стоял перед стеклом целый час, пока решился войти.
— Ну? — спросил мистер Джейкобс. Он уже составил представление о посетителе — в карманах у того не наберется и десяти центов.
— Сколько стоит? — охрипнув от волнения, спросил Фрэнки.
— Что?
— Вот это.
— Ты говоришь о часах? Пятьдесят долларов, с фигуркой — семьдесят пять.
Фрэнки, ничего не ответив, вышел. Пошел на берег, заполз под перевернутую лодку и смотрел сквозь щели на мелкие волночки. Бронзовая группа не выходила у него из головы, он и сейчас видел ее воочию. Безумная, неотступная страсть охватила его и подчинила себе. Он должен завладеть этой красотой. Он думал о ней, и глаза его загорались яростным блеском.
Он просидел под лодкой весь день, а ночью вылез и пошел на улицу Альварадо. Люди шли в кино, возвращались, спешили в «Золотой мак», а он все ходил и ходил мимо витрины. И он не устал, не захотел спать, потому что красота жгла его как огнем.
Подошел полицейский.
— Ты что здесь делаешь? — спросил он у Фрэнки.
Фрэнки помчался что есть духу, завернул за угол и спрятался за бочку, стоявшую в переулке. В половине третьего он подкрался к двери магазина и потянул за ручку. Дверь заперта. Фрэнки опять убежал в переулок, сел за бочку и стал думать. Увидел рядом с бочкой кусок цемента и поднял его.
Полицейский потом говорил на суде: он услышал звон разбитого стекла и побежал. Витрина у Джейкобса была разбита. Он увидел, что нарушитель быстро уходит прочь, и бросился за ним. Он не понимает, как мальчишка с такой ношей мог бежать так быстро — ведь часы и бронза весили пятьдесят фунтов. Но мальчишка чуть было не ушел от погони. Если бы не тупик, куда он нечаянно забежал, его бы не догнали.
Шеф полиции на другой день позвонил Доку.
— Зайдите ко мне. Я бы хотел поговорить с вами.
Ввели Фрэнки. Он был грязный и нечесаный. Глаза красные, но рот плотно сжат. Увидев Дока, он чуть улыбнулся ему.
— Что случилось, Фрэнки? — спросил Док.
— Он этой ночью вломился в окно ювелирного магазина, — сказал шеф. — И украл какую-то вещь. Мы обратились к его матери. Но она сказала, что она здесь ни при чем. Он дома не бывает, вертится все время возле лаборатории.
— Фрэнки, — сказал Док, — ты не должен был этого делать.
Сердце заныло от предчувствия неизбежного.
— Не могли бы вы отпустить его мне на поруки? — спросил Док.
— Думаю, что судья не согласится, — сказал шеф. — У нас есть медицинское заключение. Вы ведь знаете, что с ним?
— Да, — ответил Док, — знаю.
— И знаете, что может быть, когда начнется переходный возраст?
— Да, — повторил Док, — знаю.
Сердце сдавило нестерпимой болью.
— Врач говорит, лучше его отправить. Раньше мы не могли, а теперь он совершил преступление. Думаю, это будет самое лучшее.
Фрэнки слушал, и слабая улыбка постепенно таяла в его лице.
— Что он украл? — спросил Док.
— Большие часы с бронзовой статуэткой.
— Я заплачу за нее.
— Нет надобности. Часы уже на месте. Я думаю, судья не станет и слушать. Это случится еще не раз. Вы ведь знаете.
— Да, — мягко проговорил Док, — знаю. Но, может, была какая-нибудь причина.
— Фрэнки, — сказал Док, — зачем ты их взял?
Франки долго глядел на него.
— Я люблю вас, — сказал он.
Док выбежал от шерифа, сел в машину и поехал собирать морских животных в пещерах у мыса Лобос
ГЛАВА XXIX
Двадцать седьмого октября в четыре часа пополудни Док кончил препарировать медуз последнего, богатого улова. Он вымыл банку из-под формалина, вычистил пинцеты, попудрил и стащил резиновые перчатки. Пошел наверх, покормил крыс, отнес микроскоп и еще несколько пластинок в заднюю комнату. Запер их там. Бывает, что просвещенному гостю захочется поиграть с гремучей змеей. Приняв все меры предосторожности, Док надеялся, что праздник обойдется без человеческих жертв. Но нельзя чтобы и мухи дохли с тоски.
Он поставил на огонь кофейник, включил проигрыватель, достал «Большую фугу» и пошел принимать душ. С душем справился быстро, не успела фуга доиграть — он уже сидел во всем чистом за чашкой кофе.
Он выглянул в окно, посмотрел на пустырь, на Королевскую ночлежку, — нигде никакого движения. Док не знал, сколько народу придет и кто именно. Но чувствовал, что за ним наблюдают. Он чувствовал это весь день. Никого не видел поблизости, но знал — не одна пара глаз неотступно следит за ним. Так значит, это сюрприз. Что ж, так и будем действовать. И Док не стал нарушать заведенный распорядок, вел себя, как всегда. Пошел к Ли Чонгу, купил две кварты пива. У Ли царило приглушенное на восточный лад волнение. Значит, они тоже придут. Док вернулся в лабораторию и налил себе стакан пива. Первый выпил, чтобы утолить жажду, второй — для удовольствия Пустырь и улица как вымерли.
Мак с ребятами сидели у себя дома как взаперти. Becь день гудела плита, кипятили для мытья воду. Выкупало даже Милочку и повязали ей на шею красный бантик.
— Когда мы туда пойдем? — спросил Элен.
— Думаю, не раньше восьми, — ответил Мак. — Но я не против выпить сейчас по маленькой для согрева.
— Может, и Док хочет выпить для согрева, — сказал Хьюги. — Я бы пошел отнес ему бутылку просто так.
— Не надо, — сказал Мак. — Док пошел к Ли за пивом
— Ты думаешь, он ничего не подозревает? — спросил Джонс.
— С чего бы ему подозревать? — сказал Мак.
Два кота в клетке затеяли свару, и весь наличный состав взвыл, выгнул спину дугой. Поймали двадцать одного кота, меньше, чем наметили.
— А как мы отнесем туда этих котов? — спросил Хьюги. — Такая большая клетка в дверь не пройдет.
— А мы и не понесем, — сказал Мак. — Помните, что получилось с лягушками. Просто скажем про них Доку. Он потом придет и сам заберет их.
С этими словами Мак встал и открыл один из кувшинов с коктейлем Эдди.
— Что ж, пожалуй надо выпить для согрева, — сказал он.
В половине шестого старик китаец спустился с холма, прошлепал мимо Королевской ночлежки и исчез между Западной биологической и рыбозаводом «Эдиондо».
Девочки в «Медвежьем стяге» были уже в полной готовности. Расписание смен составили с помощью жребия — тянули соломинки. Смены решили менять каждый час.
Дора была великолепна. Ее только что покрашенные в оранжевый цвет волосы были завиты и уложены в виде башни. На пальце красовалось обручальное кольцо, а на груди горела бриллиантовая брошь. Платье на ней было шелковое — по белому фону черные листья бамбука. В спальнях шла процедура, обратная обычной: не раздевались, а одевались.
Кто оставался, облачались в длинные вечерние туалеты, кто шел в гости, надели короткие набивные платья и выглядели очень мило. Готовое одеяло на подкладке уложили в большой картонный ящик, а ящик пока поставили в бар. Привратник разворчался: его было решено оставить. Кто-то ведь должен присмотреть за домом. Вопреки строгому приказу у каждой девушки в спальне была припрятана пинта спиртного, и все только ждали сигнала — как не подкрепиться перед таким походом.
Дора величественно прошествовала в свой кабинет и заперла дверь. Отомкнула ключиком верхний ящик бюро с откидной доской, достала бутылку, рюмку и немного в нее плеснула. Бутылка легонько звякнула о рюмку. Девушка, стоящая начеку у двери, услышала сигнал, и тотчас «Медвежий стяг» облетела радостная весть. Теперь Дора не учует запаха спиртного у своих воспитанниц. Девушки разбежались по комнатам и достали свои пинты. Сумерки опустились на Консервный Ряд — серенький час между дневным светом и электрическими фонарями. Филлис Мэй отогнула штору в гостиной и глянула в окно.
— Ты его видишь? — спросила Дорис.
— Вижу. Он включил свет. Сидит, по-моему, читает. Господи помилуй, сколько можно читать. Он погубит себе глаза. В руке у него кружка пива.
— Думаю, и нам не мешает выпить, — сказала Дорис.
Филлис Мэй еще немножко хромала, а в остальном была хоть куда.
— Вот смеху-то, — сказала она. — Сидит себе там и в ус не дует, а тут ему такой праздник готовится.
— Он никогда не заходит к нам повеселиться, — сказала печально Дорис.
— Многие мужчины не хотят платить, — заметила Филлис Мэй. — Это им дороже обходится, но они так не считают.
— Но, черт, может, они ему нравятся.
— Кто нравится?
— Да девушки, которые ходят к нему.
— Наверное. Я была у него один раз. Ко мне он не приставал.
— Он и не будет приставать, — сказала Дорис. — Но не думай, ты бы все равно вряд ли ему понравилась, даже если бы не жила здесь.
— Ты думаешь, он презирает нашу профессию?
— Не думаю. Просто он, наверное, считает, если девушка работает, у нее к этому другое отношение.
Выпили еще немного.
У себя в кабинете Дора тоже еще плеснула себе, выпила и заперла верхний ящик. Погляделась в зеркало, поправила безупречное сооружение на голове, полюбовалась ярко-красными ногтями и пошла в бар. Альфред, привратник, сидел надувшись. Ни в его словах, ни в лице это никак не выражалось. И все равно он явно надулся. Дора холодно оглядела его.
— Я вижу, ты не в настроении?
— Ничего подобного, — ответил Альфред. — Все в порядке.
Ответ взбесил Дору.
— Говоришь, все в порядке? Это твоя работа. Ты ею дорожишь или нет?
— Все в порядке, — ледяным тоном повторил Альфред. — У меня прекрасное настроение.
Он положил локти на стойку и погляделся в зеркало.
— Идите спокойно и веселитесь, — продолжал он. — Я за всем присмотрю. Ни о чем не беспокойтесь.
Такое усердие смягчило Дору.
— Видишь, Альфред, — сказала она. — Нельзя, чтобы дом оставался без мужчины. Какой-нибудь пьяный начнет куражиться, а девочкам с ним не сладить. Но ты можешь пойти туда немножко позже, а за домом будешь смотреть в окно. Ты ведь сразу заметишь, если что не так. Пойдешь?
— Да, мне бы хотелось пойти, — сказал Альфред.
Разрешение хозяйки пролило бальзам на его сердце.
— Заскочу раз-другой попозже минут на пять. Вчера вечером один буйный пытался ворваться. Знаешь, Дора, — я как зашиб того малого, вроде сам не свой. Потерял ощущение силы. Боюсь, попридержу удар, тут мне и крышка.
— Тебе надо отдохнуть, — сказала Дора. — Попрошу Мака, пусть поработает за тебя, а ты пару недель отдохнешь.
Замечательная все-таки женщина эта Дора.
Док у себя в лаборатории выпил после пива чуть-чуть виски. И вдруг умилился. А здорово, что они решили устроить ему праздник. Он поставил «Павану умершей принцессе», и у него слегка защемило сердце. В тон настроению поставил «Дафниса и Хлою». Там был кусок, вызывающий в воображении одну и ту же картину. Жители Афин накануне Марафона: видят длинное облако пыли, катящееся по равнине, слышат лязг оружия, элевсинские богослужения. Вот опять эта музыка и опять эта картина. Кончилась пластинка, Док налил еще виски и задумался — не поставить ли Бранденбургский концерт. Это собьет с него меланхолию, в которую он погружался. А что, собственно, плохого в меланхолии? Даже приятно. «Я могу ставить, что хочу, — сказал он громко, — могу поставить „Лунный свет“ и „Девушку с волосами цвета льна“. Я свободный человек».
Он еще налил виски и выпил. И остановился на «Лунной сонате». В окно он видел, как мигала неоновая вывеска на «Ла Иде», как загорелся фонарь перед «Медвежьим стягом».
Огромные коричневые жуки тучей ринулись на огонь и сразу же попадали на землю, дергая в воздухе ножками и шевеля усами. Вдоль сточной канавы прогуливалась в одиночестве кошка, ища приключений. И недоумевала, куда могли подеваться коты, так скрашивающие жизнь днем и превращающие ее в ад ночью.
Мистер Мэллой выполз на четвереньках из котла взглянуть, не идут ли гости к Доку. В Королевской ночлежке парни сидели как на иголках и не спускали глаз с черных стрелок будильника.
ГЛАВА XXX
Природа вечеринок изучена недостаточно. Но общее мнение таково, что у вечеринок есть какая-то патология, что патология эта своя в каждом отдельном случае и что по большей части она граничит с извращением. Утверждают также, что вечеринка вряд ли когда-нибудь развивалась по задуманному плану. Это, конечно, не относится к тошнотворным, рабским вечеринкам, которые устраиваются, погоняются и управляются профессиональными хозяйками-людоедками с тираническими наклонностями. Да, впрочем, какие это вечеринки — это парад с демонстрацией, почти столь же непроизвольные, как перистальтика, и столь же интересные, как ее конечный продукт.
Наверное, все обитатели Консервного Ряда создали в воображении картинку празднества — приветствия, поздравления, галдеж и общая радость. Но все получилось совсем по-другому. Ровно в восемь Мак с ребятами, причесанные и умытые, взяли кувшины и двинулись вниз по куриной тропе, перешли линию, миновали пустырь и вышли через улицу к крыльцу Западной биологической. Поднялись по ступенькам, ощущая какой-то трепет и смущение. Док отворил дверь, и Мак произнес коротенькую речь.
— Как у вас день рождения сегодня, — сказал Мак, — мы с ребятами пришли вас поздравить. Мы желаем вам счастья и поймали для вас двадцать одну кошку.
Он замолчал, ребята стояли на ступеньках, точно потерянные.
— Входите, — сказал Док, — Такая… неожиданность. Я и не представлял себе, что вы знаете про мой день рождения.
— И все коты, — сказал Элен. — Мы их оставили дома.
Чинно расселись в комнате, расположенной слева от входа. Воцарилось долгое молчание.
— Ну раз уж вы пришли, — сказал Док, — не выпить ли нам по маленькой?
— Мы с собой кое-что захватили, — сказал Мак, показав на три кувшина со знаменитым коктейлем.
— Там нет ни капли пива, — сказал Эдди.
Док отбросил послеполуденную меланхолическую грусть.
— Это пока оставим, — сказал он. — Угощать буду я. У меня тут обнаружилось немного виски.
Сидели чинно, деликатно тянули виски — тут как раз вошла Дора с девочками. Они принесли в подарок одеяло. Док накрыл им кровать, стало очень красиво. Гостьи сели и тоже выпили. Следом явились мистер и миссис Мэллой с подарками.
— Никто и не подозревает, какую ценность приобретут с годами эти штуки, — сказал Сэм Мэллой, вынимая шатун с поршнем от «чалмерса» 1916 года. — Их, может, всего три и осталось во всем мире.
Гость повалил косяком. Анри принес подушечку для булавок размером три фута на четыре. Он рвался прочитать лекцию о своем новом материале, но к этому времени официальная часть уже кончилась. Пришли мистер и миссис Гай. Ли Чонг принес огромную гирлянду шутих и корзину с луковицами китайских лилий. Кто-то съел все луковицы к одиннадцати часам. Шутихи удержались дольше. Завалилась малознакомая компания из «Ла Иды». И вечеринка стала быстро набирать темп. Дора сидела, как на троне, увенчанная оранжевым пламенем прически. Держала рюмку виски, изящно оттопырив мизинец. И не спускала глаз с девочек — не дай бог хоть одна допустит какую-то оплошность. Док поставил танцевальную музыку и пошел на кухню жарить бифштексы.
Первая стычка кончилась неплохо. Какой-то парень из «Ла Иды» стал делать одной из девочек Доры непристойные предложения. Она возмутилась, и ребята, разгневанные таким нарушением приличий, быстренько вышвырнули его и даже ничего не разбили. Они были очень довольны, считая себя в какой-то степени блюстителями порядка.
Док на кухне жарил бифштексы на трех сковородах, резал помидоры и горы хлеба. И чувствовал себя превосходно. Проигрывателем лично заведовал Мак. Он нашел альбом Бенни Гудмена с его трио. И по комнатам закружились пары; веселье, кажется, и впрямь началось. Эдди забежал в контору, отстучал чечетку и вернулся. Док сходил за кружкой пива и пока кухарничал, то и дело отхлебывал из нее. Настроение у него все поднималось. Наконец мясо было готово, и Док понес его гостям — общему изумлению не было границ. Все вообще-то были не голодны, но мясо исчезло мгновенно. Насытившись, гости погрузились в приятную послеобеденную истому. Виски все было выпито, и Док откуда-то извлек вино.
— Док, поставьте, пожалуйста, хорошую музыку, — сказала с высоты своего величия Дора. — Мне до смерти надоел музыкальный автомат дома.
Док поставил «Я пылаю» и «Любовь» из альбома Монтеверди. Гости слушали тихо, глаза у всех устремились внутрь. Дора упивалась неземной красотой музыки. Док опять почувствовал тихую, золотистую грусть. Музыка смолкла, гости сидели молча. Док принес книгу и ясным глубоким голосом стал читать:
И поныне, Коль предстанет душе моей образ любимой, Чье лицо — распустившийся лотос, чьи груди — Два плода, золотым напоенные соком, чье тело Пламенеет от раны, стрелою любви причиненной, Не познавши любви до меня в своей младости чи Сразу сердце мое погребается снегом И поныне, Коль увидел бы я ее передо мною Распахнувшую очи, с ланитою плавной Подведенной до уха, до маленькой мочки пунцовой Лихорадкой тоски от разлуки со мною больную, — Из любови моей я б утешные сделал качели, Ночи вечным любовником день бы я сделал. И поныне, Коль вернулась бы снова с очами как звезды, Утомленная ношей любви своей юной, Я бы снова голодным рукам-близнецам ее отдал, Снова пил бы я сладость хмельную из уст ее нежных, Словно шмель, что стремится грабителем к лилии бело Сокровенный у лилии мед отбирает. И поныне Мои очи, вокруг не глядящие боле, Кажут мне лики милой утраченной девы. Украшенья златые ласкают прелестные щеки; О чистейший, белейший, нежнейший, дивнейший пергамент, На котором уста мои лунною ночью писали Поцелуев стихи и уже не напишут. И поныне С смертью споря, является мне колебанье Вежд, припудренных нежно, весь сладостный образ Дивно-хрупкого тела на ложе в усталости счастья; Мне отраду дарившие, рдевшие нежно, живые Два цветка — два сосца над высокой повязкою; свежесть Алых уст; не забуду вовек я утраты. И поныне Среди торжищ твердят, что была она слабой, Полюбить меня силу имевшая; жалки Эти люди, что все покупают и сами Продаются за деньги; а ты же была неподкупна: Раджа трех городов не сумел привести тебя златом На высокое ложе; пребудешь всегда ты со мною, Облекая мне душу, как тело мне платье. И поныне Я люблю ее продолговатые очи, Чей взор ласковей шелка, чьи грусть и веселость Непрестанно друг друга сменяют, чьи томные вежды Лишь смежатся, их тень благодатная сердцу помнится Новым взором пречудным; люблю я и благоуханность Свежих уст; и власов невесомые пышные волны; Легкость дивных перстов; тихий смех украшений. И поныне Помню я, как на ласки мои отвечала Тихой лаской, с душой моей душу сливая, И в любовном огне никогда не бывала бесстыдной, Как богине своей любострастной служащие жрицы, Изощренным чьим играм горящий светильник свидетель И которых сон на пол нагих уроняет.[Из санскритской поэмы «Черный златоцвет», перевод с английского А. Псурцева]
Филлис Мэй, не стесняясь, рыдала, когда он кончил, сама Дора приложила к глазам платок. Элена так захватили звуки, что значение слов совсем от него ускользнуло. Но мировая печаль хоть немного коснулась каждого. Всем вспомнилась утраченная любовь, все услыхали зов.
— Господи, вот красота-то, — сказал Мак. — Напомнило мне одну дамочку… — И умолк.
Налили в бокалы вино и сидели притихшие. Вечеринка погружалась в стадию сладостного томления. Эдди забежал в контору, еще раз отстучал чечетку, вернулся и опять сел в кресло. Вечеринка уже готова была забыться сном, как вдруг на ступеньках снаружи послышался топот многих ног.
— А где девочки? — раздался громовой голос.
Мак поднялся на ноги, чувствуя чуть ли не счастье, и быстро пошел к двери. Лица у Хьюги и Джонса расплылись улыбками.
— Каких девочек вы спрашиваете? — мягко спросил Мак.
— Это не бордель? Таксист сказал, тут он где-то поблизости.
— Вы ошиблись, мистер, — весело отозвался Мак.
— А это что за дамочки?
И тут началось сражение. Пришедшие оказались командой со шхуны, ловящей тунца, из Сан-Педро. Это были бравые, веселые, сильные парни, не дураки подраться. После первой же атаки им удалось прорваться в комнаты. Девочки Доры, каждая, сняли с ноги туфлю и, взяв ее за носок, приготовились защищаться. В разгар сражения они били врага по голове острыми каблуками. Дора бросилась в кухню и вернулась, вращая с воинственным криком тяжеленной мясорубкой. Даже Док развеселился. Он молотил врагов шатуном с поршнем от «чалмерса» образца 1916 года.
Это было славное сражение. Элен поскользнулся на чем-то, упал и получил дважды в лицо, пока вставал на ноги. С грохотом перевернулась чугунная печка. Загнанные в угол враги отражали атаки тяжелыми фолиантами, хватая их с полок. В конце концов они оставили поле боя. Но два окна на улицу были выбиты. Вдруг с тыла появился Альфред, он услыхал шум сражения и поспешил на помощь, вооружившись своим любимым оружием — битой. Дрались на ступеньках, на улице, а потом и на пустыре. Входная дверь опять повисла на одной петле. Рубаха на Доке была порвана, и на худощавом, но мускулистом плече проступили от чьих-то ногтей капельки крови. Врага оттеснили уже почти до середины пустыря, как вдруг загудела сирена полицейской машины. Гости Дока едва-едва успели вернуться в дом, кое-как поставили на место сорванную дверь, выключили свет и затаились. Полицейские не обнаружили ничего подозрительного. А победители сидели счастливые в темноте, посмеивались и потягивали вино. Из «Медвежьего стяга» пришла новая смена. Свежее пополнение еще подняло боевой дух. Вечеринка разошлась на славу. Полицейские вернулись, заглянули, щелкнули языками и присоединились к веселью. Мак с ребятами сели в полицейскую машину и поехали к Джимми Бручиа за вином. Вместе с вином захватили и самого Джимми. Вечеринка гудела на весь Консервный Ряд, от одного конца до другого. Она вобрала в себя лучшие черты мятежа и ночной баррикады. Команда со шхуны из Сан-Педро приползла обратно на брюхе и была принята с распростертыми объятиями. Все ласкали бывших врагов и восхищались ими. Женщина, живущая в пяти кварталах отсюда, отправилась в полицию жаловаться на шум, но не нашла ни одного полицейского. Полицейские потом подали рапорт об угоне полицейской машины. Ее вскоре нашли брошенной на берегу. Док сидел на столе, скрестив по-турецки ноги, и улыбался, мягко похлопывая пальцами по колену. Мак с Филлис Мэй затеяли на полу индийскую борьбу. В разбитые окна дул с залива прохладный ветер. И вот тогда кто-то запалил бесконечную гирлянду шутих Ли Чонга.
ГЛАВА XXXI
В густых зарослях мальвы на пустыре Консервного Ряда поселился молодой суслик. Место было идеальное. Кругом высились зеленые мальвы, упругие, толстые, полные соков. Когда они созревали, их низко висящие плоды так и манили сквозь зелень. И земля была прекрасная для норы — черная, мягкая, с добавкой глины, так что ходы и помещения не осыпались и не обваливались. Суслик был толстый и лоснящийся, в защечных мешках у него всегда было полно еды. Его маленькие ушки были чистые и красиво поставленные, глазки черные, как головки старомодных булавок, и почти такой же величины. Передние лапы-лопатки отличались силой, коричневый мех на спинке блестел, а бежевый на брюшке был неправдоподобно густой и мягкий. Зубы у него были желтые, длинные и изогнутые, а хвостик тонкий и короткий, хотя это был красивый суслик в цветущей поре жизни.
Он пришел на пустырь издалека, место ему понравилось, и он начал рыть нору на небольшом бугре, откуда из-за мальвы хорошо проглядывались все дороги Консервного Ряда. Он не раз следил за ногами Мака и его ребят, когда они возвращались в Королевскую ночлежку. Начав рыть черную как смоль землю, он нашел ее еще лучше, чем ожидал: в земле попадались огромные камни. Главную кладовую он вырыл именно под таким камнем, чтобы она не обвалилась, какой бы сильный ливень ни лил. Да, в такой норе можно прожить всю жизнь и обзавестись не одной семьей, места столько, что хватит еще на десять нор.
Когда он первый раз высунулся из норки, было раннее утро, восхитившее его красотой. Сквозь мальвы сверху сеялся мягкий зеленый свет; первые лучи солнца брызнули в отверстие норы, и он лежал очень довольный, нежась в их тепле.
Вырыв главную кладовую, четыре запасных выхода. и непроницаемую для воды спальню, суслик начал запасать еду. Он срезал только те стебли мальв, которые были без единого изъяна, затем подравнивал их до требуемой длины, тащил в нору и аккуратно складывал в главной кладовой, заботясь о том, чтобы они не загнили и не заплесневели. Действительно, идеальное место. Рядом ни одного огорода или сада, значит, никто не будет ставить на него западни. Кошек, правда, уйма, но они целый день трескали рыбьи головы и давно уже разучились охотиться. Подпочва здесь была песчаная, и вода никогда долго не стояла в норе после дождя. Суслик трудился на совесть, и скоро кладовая была доверху наполнена пищей. Тогда он сделал по бокам несколько маленьких камер для своих будущих деток. Через несколько лет, если ничего не случится, тысячи его потомков разойдутся по окрестностям, а корень их будет находиться здесь, под этим бугром.
Шло время, и суслик начал слегка тревожиться — в его нору не заглянула еще ни одна сусличиха. Каждое утро он садился у входа в нору и пронзительно свистел. Свист этот недоступен человеческому уху, но суслики слышат его даже глубоко под землей. И все равно, сусличихи не появлялись. Вконец истомившись, суслик отправился на разведку; он бежал по тропинке, пока не наткнулся на еще одну нору. Он сел у входа и призывно засвистел. В норе что-то зашуршало, и суслик учуял сладостный для него дух. Немного погодя, однако, из норы вышел старый, в боевых шрамах суслик-самец. Он набросился на пришельца и так искусал его, что тот едва дополз домой, забился в главную кладовую и три дня отлеживался; в этом бою он потерял два пальца на правой передней лапе.
И суслик снова стал ждать. Сидел у своей норы в этом красивейшем уголке и свистел, но ни одна сусличиха так и не пришла к нему; делать нечего, пришлось ему собраться в дорогу и покинуть эти благодатные места. Он поднялся выше по холму и нашел пристанище в саду, полном георгин, но хозяева этого сада каждую ночь ставили на сусликов западню.
ГЛАВА XXXII
Док просыпался трудно и медленно, как выходит из воды толстяк. Его сознание несколько раз выныривало на поверхность и снова проваливалось во тьму. На его бородке краснел след от губной помады. Он открыл один глаз и тут же зажмурился, ослепленный переливчатым блеском одеяла. Немного погодя глаз опять открылся, перешел с одеяла на пол, увидел в углу разбитую тарелку, бокалы, стоящие на перевернутом вверх ногами столе, лужи пролитого вина, сотни прилипших к полу окурков, книги, валявшиеся на полу тяжелыми уснувшими бабочками. Все это усеяно мягкими завитками красной бумаги и все еще пахнет дымом от сгоревших шутих. В открытую дверь на кухню Док разглядел гору тарелок из-под бифштексов и сковородки, облепленные жиром. Дым от шутих перебивался тонкой смесью запахов виски, вина и духов. На один миг глаз задержался на кучке заколок в самом центре комнаты.
Док повернулся на бок, приподнялся на локте и выглянул в разбитое окно. Консервный Ряд был тих и залит солнцем. Дверца котла распахнута. Дверь Королевской ночлежки плотно закрыта. На пустыре в траве мирно спит человек. Двери «Медвежьего стяга» запечатаны наглухо.
Док встал, пошел на кухню, в коридоре у туалета зажег газ под колонкой. Затем вернулся, сел на край кровати и стал сжимать и разжимать пальцы ног, созерцая разгром. Сверху, с холма, донесся колокольный звон. Когда колонка зашумела, Док пошел в ванную, принял душ, надел синие джинсы и рубаху. Лавка Ли Чонга была закрыта, но Ли Чонг увидел, кто у двери, и повернул ключ. Пошел к холодильнику и, не дожидаясь заказа, достал кварту пива. Док заплатил ему.
— Холосо повеселились, — сказал Ли. Его карие глаза, сидящие в подушечках, слегка воспалились.
— Отлично! — ответил Док и пошел в лабораторию, сжимая в руке холодную бутылку. Намазал хлеб арахисовым маслом и стал есть, запивая пивом. На улице было совсем тихо, не слышно ни одного прохожего. У Дока в голове зазвучала музыка — скрипка и виолончель. Они играли мягкую, мирную, исцеляющую мелодию, откуда — невозможно сказать. Он ел бутерброд, пил пиво и слушал. Допив пиво. Док пошел на кухню и вынул из мойки всю грязную посуду. Налил в мойку горячей воды, бросил туда мыльную стружку, пустил воду, и в мойке поднялась шапка белой легкой пены. Затем пошел по комнатам собирать целые бокалы и опустил их в горячую пенистую воду. На плите чуть не до потолка возвышалась стопка слипшихся тарелок, измазанных мясной подливкой и белым застывшим жиром. Док освободил на плите место и стал ставить туда вымытые бокалы. Затем отпер дверь дальней комнаты, принес альбом Грегорианского песнопения и поставил пластинку с «Патер ностра» и «Агнус Деи». Ангельские неземные голоса полились в лабораторию. Они были чисты и прекрасны. Док осторожно мыл бокалы, боясь, что они звякнут и все испортят. Голоса мальчиков вели мелодию от самых низких нот к самым высоким просто, но с такой полнотой звучания, какой не услышишь ни в чьем другом исполнении. Когда пластинка кончилась. Док вытер руки и выключил проигрыватель. Увидел книгу, лежащую на полу, почти под кроватью, поднял ее и сел на кровать. Минуту читал про себя, потом губы его зашевелились, он стал читать громко, внятно, делая паузу после каждой строки.
И поныне Я не внемлю ученым мужам многодумным, Что за стенами башен истратили младость. Ибо в умных речах не смогу отыскать и помина Ее милого лепета, с коим мы в сон погружались: Слов простейших, мудрейших, порой шаловливо-лукавых, Как вода, вкус живого всего перенявших.Вода в мойке остыла, пена оседала и тихо побулькивала. Прилив в это утро был необычно сильный, и море билось о скалы у самой высокой отметины.
И поныне Я не вижу пунцовых цветов, кипарисов, Синих гор величавых и холмов зеленых, Бирюзового моря и звезд. Ибо в давнюю пору Свет нездешних очей я узрел и ладоней порханье, — И тогда для меня вылетал соловей из тимьяна; И тогда для меня дети в струях резвились.Док закрыл книгу. Он слышал, как волны плещут о сваи, как шуршат в клетках белые крысы. Док пошел в кухню, попробовал воду в мойке, подлил горячей. И стал громко декламировать этой мойке, белым крысам, ceбe:
И поныне Знаю я, что отведал я в жизни блаженство, На великом пиру пил из чаши заветной. Ибо в краткое то и безвестно мелькнувшее время Мне любимая дева наполнила очи чистейшим Вечным светом…[Из санскритской поэмы «Черный златоцвет», перевод c английского А. Псурцева]
Он вытер глаза тылом ладони. Белые крысы бегали и карабкались у себя в клетке. За стеклом террариума гремучие змеи лежали спокойно, глядя в пространство хмурым туманным взглядом.
КОНЕЦ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА
Лето 1936 года Стейнбек провел среди сезонных рабочих Калифорнии: жил в их палатках и землянках, работал вместе с ними на полях, ел из одного котла. Он собирал материал для серии статей и очерков под общим названием «Цыгане периода урожая». Все увиденное потрясло писателя. Во-первых, оказалось, что подавляющее большинство сезонников — это не пришельцы из Мексики, а обычные американские граждане, коренные жители страны, «находчивые и изобретательные американцы, но испытавшие ад засухи» в родных краях, «мелкие фермеры, потерявшие свои фермы».
Картины жалкого существования сезонников не выходили из головы, он решает написать о них новую книгу, назовет ее «Дела Салатного города». Но работа продвигалась медленно.
Пройдет три года, Стейнбек совершит еще не одну поездку в лагеря сезонников, проедет на автомашине по их пути из Оклахомы в Калифорнию, прежде чем он напишет книгу, которая в окончательном варианте получит название «Гроздья гнева». С момента публикации в марте 1939 года роман «Гроздья гнева» на многие годы стал фактором не столько литературной, сколько общественно-политической жизни страны. До выхода в свет книги Стейнбека само собой считалось, что переселенцы в Калифорнию являются ленивыми, беспомощными, невежественными и безответственными людьми. И вдруг оказалось, что это самые обыкновенные, не лишенные опыта и сметки фермеры, просто попавшие в беду по воле природы и банков. Проблема сезонников вошла в повестку дня политической жизни страны.
Большая печать развернула широкую кампанию против романа и его автора. Газеты печатали письма «сезонников», которые опровергали все, о чем рассказывалось в романе. Вышло несколько брошюр, описывающих райские условия, якобы созданные для сезонников Калифорнии. Но были свидетельства и другого порядка. Известный журналист впоследствии ставший редактором журнала «Найшн» Кэри Маквильямс летом 1939 года издал книгу «Фабрики на полях», в которой документально подтверждались описанные в романе Стейнбека условия. Супруги президента США Элеонора Рузвельт заявила, что чтение романа произвело на нее «неизгладимое впечатление». В конце 1939 года сенатский комитет по вопросам образования и труда начал слушания о положении сезонных рабочих в Калифорнии,
С течением времени страсти вокруг романа улеглись, и он прочно занял место в мировой литературе, как одно из высших достижений американской литературы XX века.
…Вскоре после публикации «Квартала Тортилья-Флэт» Стейнбека в Калифорнии навестил редактор и издатель Паскаль Ковичи, Стейнбек привез Ковичи в небольшой городок Монтерей, центр производства консервов из сардин. Они прошлись по Приморскому бульвару, на котором размещались консервные фабрики, зашли в Западную биологическую лабораторию Эда Рикеттса, поговорили со многими знакомыми писателя. На Ковичи эта поездка произвела огромное впечатление.
— Вот о чем надо писать, — убеждал он Стейнбека — Опишите этот городок, этих людей, все это так и просится на бумагу,
Стейнбек и сам подумывал об этом, но прошел еще не один год, прежде чем этот замысел вылился в повесть «Консервный Ряд».
Хотя повесть и не является автобиографическим произведением, в ней наиболее полно отразились личность и мысли автора, изображены многие его добрые знакомые и в первую очередь Эд Рикеттс.
Среди критиков повесть успеха не имела. Однако некоторые критики разглядели в ней черты классической пасторали с ее противопоставлением развращенного города нравственно чистой деревне, с ее интересом к миру чувств и быту простых людей.
Противоречие между Доком, образованным и по-своему благоустроенным представителем среднего класса, и необразованным, жаждущим примитивных утех Маком и его товарищами отражало, по мнению этих критиков, извечные противоречия буржуазного общества и в то же время являлось своего рода протестом против подавления простого человека Молохом капиталистического города. При этом подчеркивалось, что Стейнбек перенес действие в трущобы промышленного города, которые в современной Америке являются наиболее подходящим местом для такого рода событий. Критики обращали внимание на классовые противоречия между героями повести и на то, что будущее, по мнению автора повести, будет принадлежать классу трудящихся.


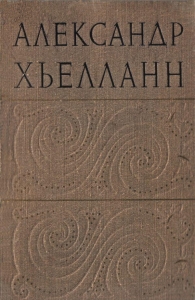
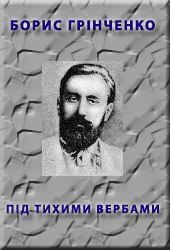
Комментарии к книге «Консервный ряд», Джон Эрнст Стейнбек
Всего 0 комментариев