Стефан Цвейг Совесть против насилия КАСТЕЛЛИО ПРОТИВ КАЛЬВИНА
Потомки не смогут постичь, почему нам снова пришлось жить в такой густой тьме, после того как однажды уже настал свет.
КАСТЕЛЛИО.
Об искусстве сомневаться,
1562 г.
ВВЕДЕНИЕ
Celui qui tombe obstine en son courage, qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relache aucun point de son assurance, qui regarde encore, en rendant l'ame, son ennemi d'une vue ferme et dedaigneuse, il est battu, non pas de nous, mais de la fortune; il est tue, non pas vaincu: les plus vaillants sont parfois les plus infortunes. Aussi y a-t-il des pertes triomphantes a l'envi des victoires…
Montaigne [1]
"Муха против слона». Поначалу она удивляет, эта собственноручная надпись Себастьяна Кастеллио на базельском экземпляре его полемического сочинения против Кальвина, и проще всего было бы предположить здесь одно из обычных для гуманистов преувеличений. Но в словах Кастеллио не было ни гиперболы, ни иронии. Таким резким сравнением этот мужественный человек хотел лишь ясно показать своему другу Амербаху, сколь отчетливо и сколь трагически он осознавал, какого мощного противника вызвал на бой, открыто обвинив Кальвина в том, что тот из-за фанатичной нетерпимости убил в процессе Реформации человека и тем самым свободу совести. С первых мгновений этого опасного спора, подняв перо, подобно копью, Кастеллио хорошо понимает и бессилие любой чисто духовной борьбы против превосходящей силы, закованной в латы и броню диктатуры, и безнадежность своей смелой затеи. Да и как может безоружный одиночка пойти войной против Кальвина и победить того, на чьей стороне тысячи, десятки тысяч приверженцев, да к тому же еще военный аппарат государственной власти! Благодаря превосходной организации Кальвину удалось превратить целый народ, все государство, тысячи свободных прежде граждан в жесткий послушный механизм, искоренить всякую самостоятельность, уничтожить свободу мысли ради своего собственного учения. Вся власть в городе и государстве принадлежит ему, все подчинены ему — ведомства и органы, магистрат и консистория, университет и суд, финансы и мораль, священники, школы, палачи, тюрьмы, написанное, сказанное и даже произнесенное шепотом слово. Его учение стало законом, а того, кто осмеливается сказать хоть слово против, сразу же вразумляют тюрьма, изгнание или костер — эти аргументы всякой духовной тирании; все споры блестяще разрешаются благодаря тому, что в Женеве признается только одна истина и Кальвин — пророк ее. Но и далеко за пределы городских стен распространяется зловещая власть этого зловещего человека; города Швейцарского Союза видят в нем важнейшего политического союзника, протестанты всего мира выбирают violentissimus christianus [2] духовным вождем, князья и короли ищут милости главы церкви, который создал в Европе самую мощную, наряду с римской, организацию христианства. Ни одно политическое событие не происходит больше без его ведома, почти ни одно — против его воли: враждовать с проповедником собора св. Петра стало так же опасно, как с императором или папой.
А его противник Себастьян Кастеллио — одинокий идеалист, во имя свободы человеческой мысли объявивший войну этой и всякой иной духовной тирании, кто он? Поистине муха против слона — против фантастически полновластного Кальвина! Никто, ничто — nemo — в смысле общественного влияния, да к тому же гол как сокол, нищий ученый, которому едва удается прокормить жену и детей с помощью переводов и частных уроков, изгнанник на чужбине, без права на убежище и гражданство, дважды эмигрировавший: как всегда во времена всеобщей одержимости, гуманный человек оказывается в бессилии и полном одиночестве меж сражающихся зелотов[3]. Годами этот великий и скромный гуманист ведет самое убогое существование, обреченный на преследования, бедность, вечно стесненный, но и вечно свободный, не связанный ни с одним лагерем, не присягнувший никому из фанатиков. И только после убийства Сервета, услышав властный голос своей совести, он прерывает мирные занятия, чтобы во имя попранных прав человека обвинить Кальвина, — и тогда это одиночество перерастает в героизм. Ведь Кастеллио не защищен, не окружен тесно сплоченной и четко организованной свитой, как его более привычный к боям противник Кальвин, и ни одна партия, ни католическая, ни протестантская, не оказывает ему поддержки, никакие влиятельные персоны, императоры или короли, не простирают над ним, как некогда над Лютером и Эразмом, свою заботливую десницу[4], и даже немногие друзья, которые им восхищаются, даже они лишь тайком решаются внушать ему мужество. Опасно ведь, опасно для жизни открыто стать на сторону человека, который бесстрашно поднимает голос в защиту обездоленных и угнетенных, в то время как во всех странах ослепление эпохи мучает и травит еретиков, словно загнанных животных, и который, опираясь на единичный случай, раз и навсегда лишает всех сильных мира сею права преследовать за мировоззрение кого бы то ни было на этом свете! Ведь опасно поддерживать того, кто отваживается сохранить ясность и человечность взгляда в один из тех ужасных моментов помрачения разума, какие время от времени переживают народы, и кто осмеливается назвать все эти благочестивые погромы, совершающиеся якобы во славу господа, их истинным именем: убийство, убийство и еще раз убийство! Ведь опасно защищать того, кто, движимый глубочайшим чувством человечности, один лишь не может больше молчать и, страдая от бесчеловечности, взывает к небесам, борясь один за всех и один против всех! Ибо тому, кто поднимает голос против власть имущих и власть дарующих, не следует ожидать широкого признания, учитывая неистребимую трусость нашего земного рода. Так и у Себастьяна Кастеллио в решающий час не было за спиной никого, кроме собственной тени, а при себе ничего, кроме единственного неотъемлемого свойства борющегося художника: непоколебимой совести в бесстрашной душе.
Но именно то, что Себастьян Кастеллио заранее знал о безнадежности своей борьбы и все-таки, послушный голосу своей совести, вступил в эту борьбу — это священное «все-таки» и «несмотря ни на что» на все времена прославит «неизвестного солдата» как героя великой освободительной войны всего человечества. Уже благодаря мужеству одинокого человека, страстно протестовавшего против всемирного террора, борьба Кастеллио против Кальвина должна остаться в памяти каждого мыслящего индивида. Но и по существу поставленного вопроса эта историческая дискуссия выходит далеко за рамки своего времени. Потому что здесь речь идет не только о теологии в узком смысле, не только о человеке по имени Сервет и, конечно, не о решающем разрыве между либеральным и ортодоксальным направлениями в протестантизме[5]: в этом неизбежном столкновении заключается значительно более важный, непреходящий вопрос, nostra res agitur [6] — начинается бой, который под иными названиями и в других формах будет вспыхивать вновь и вновь. Богословская форма всего лишь случайная маска времени, а Кастеллио и Кальвин — только наиболее ощутимое проявление этого скрытого, не непреодолимого противоречия. Неважно, как назвать полюса этого постоянного напряжения: терпимость против нетерпимости, свобода против надзора, гуманизм против фанатизма, индивидуальность против унификации, совесть против насилия — все эти выражения означают по сути своей самое сокровенное и личное наше решение: что считать для себя более важным — человечность или политику, Ethos или Logos[7], индивидуальное или общее?
От подобной необходимости постоянно разграничивать свободу и авторитет не избавлен ни один народ, ни одна эпоха, ни один мыслящий человек, ибо свобода невозможна без авторитета (иначе она превратится в хаос), а авторитет без свободы (иначе он превратится в тиранию). Несомненно, в основе человеческой природы лежит таинственное стремление раствориться в общности, и неистребимым остается извечное наше заблуждение, будто возможно отыскать некую религиозную, национальную или социальную систему, которая, наконец, справедливости ради дарует всему человечеству мир и порядок. Великий инквизитор Достоевского[8] с помощью жестокой диалектики доказал, что, в сущности, большинство людей боится собственной свободы, и на деле вся эта огромная масса, устав от неисчерпаемого многообразия проблем, от сложностей и ответственности жизни, тоскует по унифицированию мира с помощью окончательного, всеобщего, определенного порядка, который освободит ее от необходимости всякой мыслительной работы. Эта мессианская тоска по освобождению от проблем бытия и есть та первоначальная сила, которая прокладывает путь всем социальным и религиозным пророкам. Стоит только идеалам поколения потерять свой огонь, свои краски, и тут же является человек, способный убедить, не слушая возражений, что ему и только ему принадлежит новая формула, и вот уже доверие тысяч потоком устремляется к предполагаемому спасителю народа или мира — новая идеология (и в этом ее метафизический смысл) провозглашает на земле новый идеализм. Ведь тот, кто дарит людям новую иллюзию единства и чистоты, прежде всего высасывает из них самые святые силы: их готовность жертвовать, их воодушевление. Миллионы как зачарованные готовы позволить взять себя, оплодотворить, даже изнасиловать, и чем больше требует от них подобный провозвестник и пророк, тем больше они оказываются в его власти. В угоду ему они послушно отказываются от того, что еще вчера было их высшей радостью, их свободой, только чтобы с еще большей пассивностью позволить руководить собой, и вновь подтверждается древнее Тацитово выражение «mere in servitium» [9] : в страстном упоении солидарностью народы добровольно отдают себя в кабалу и еще славят тот бич, которым их хлещут.
Теперь для каждого духовно развитого человека в самой мысли о том, что снова существует идея — эта самая нематериальная сила на земле, — способная творить в нашем старом, трезвом, технизированном мире столь невероятное чудо убеждения, заключалось нечто возвышающее его, и он легко впадал в искушение, восхищаясь этими всемирными обманщиками и прославляя их, поскольку им удается управлять косной материей с помощью духа. Однако именно эти идеалисты и утописты почти всегда сразу же после своей победы роковым образом разоблачают себя как самые гнусные предатели духа. Потому что власть приводит к всевластию, победа к злоупотреблению победой, и все эти конкистадоры, столь сильно воодушевившие многих людей своей собственной иллюзией, что те с радостью готовы жить и даже умереть за нее, вместо того чтобы удовлетвориться этим, соблазняются возможностью превратить большинство в абсолют, а свою догму навязать и неприсоединившимся. Они не сознают того, что безусловная истина, если она навязывается силой, становится прегрешением против духа.
А дух — явление, полное таинственности. Неосязаемый и невидимый, как воздух, он как будто бы легко укладывается во все формулы и формы. Это постоянно приводит деспотические натуры к заблуждению, что дух якобы можно как угодно сжать, закрыть, закупорить, а затем спокойно разлить по бутылкам. Но с каждым сжатием возрастает его динамическое сопротивление, и, как раз спрессованный и сжатый, он становится взрывчатым, взрывоопасным: всякое подавление рано или поздно ведет к мятежу. Ибо моральная самостоятельность человечества — и в этом наше вечное утешение! — в конечном счете несокрушима. И до чего же банально и тщетно поэтому всякое стремление свести божественное многообразие бытия к единому знаменателю, пометить человечество черным и белым, разделить его на доброе и злое, на богобоязненных и еретиков, на послушных и враждебных государству, основываясь на принципе, осуществленном с помощью кулачного права! Ведь всегда найдутся независимые духом, которые окажут сопротивление такому насилию над человеческой свободой, «conscientious objectors» [10] , решительно отказывающиеся служить всякому насилию над совестью, и никогда эпоха не будет столь варварской, а тирания столь последовательной, чтобы никто не смог избежать массового насилия и защитить право на собственные убеждения от насильников, одержимых только одной, своей собственной, истиной.
И шестнадцатый век знал такие свободные и неподкупные души. Когда читаешь письма гуманистов тех дней, по-братски разделяешь их глубокую печаль из-за растерянности мира перед насилием, взволнованно сочувствуешь их душевному отвращению к тупым, базарно крикливым заявлениям догматиков. Ах, какой ужас охватывает этих просвещенных граждан мира перед бесчеловечными усовершенствователями человечества, которые вломились в их мир, исполненный веры в прекрасное, и теперь с пеной у рта проповедуют свою жестокую ортодоксальность! О, как их воротит от этих Савонарол[11], Кальвинов, Джонов Ноксов[12], которые хотят умертвить красоту на земле и превратить землю в семинарию нравственности! С трагической прозорливостью все эти умудренные гуманисты осознают то зло, которое неистовые упрямцы принесут Европе, за этими горячими речами им слышится бряцание оружия, а в ненависти уже предчувствуется грядущая ужасная война. Но, даже зная истину, эти гуманисты все-таки не отваживаются бороться за нее. В жизни почти всегда существует разрыв между идеей и ее воплощением: мыслители не бывают деятелями, а деятели — мыслителями. Все эти трагические, скорбящие гуманисты пишут друг другу трогательные, изящные письма, они стенают за закрытыми дверями своих кабинетов, но никто из них не выступит против антихриста. Время от времени Эразм отваживался послать несколько стрел из укрытия; Рабле[13], прикрываясь шутовским платьем, хлестал бичом яростного смеха; Монтень, этот благородный и мудрый философ, находит в своих «Опытах» самые убедительные слова, но никто не пытается восстать всерьез и предотвратить хотя бы одно-единственное преследование или казнь. Мудрец не должен спорить с фанатиками, считают эти познавшие мир и потому ставшие осторожными люди, в такие времена лучше уйти в тень, чтобы самого не схватили и не сделали жертвой.
Но Кастеллио — и в этом его непреходящая слава — единственный из всех гуманистов, кто решительно выступает вперед, навстречу своей судьбе. Он отваживается защищать преследуемых соратников, рискуя собственной жизнью. Совершенно лишенный фанатизма, хотя фанатики угрожали ему ежечасно, исключительно бесстрастный, но по-толстовски непоколебимый, он как знамя поднимает над суровым временем свою веру в то, что никому нельзя навязывать мировоззрение и никакая земная власть не может распоряжаться совестью человека; а поскольку он исповедует эту веру не от имени какого-либо лагеря, но из вечного стремления к гуманности, его мысли, как и некоторые его слова, имеют непреходящее значение. Общечеловеческие, не зависящие от времени мысли, если они сформулированы художником, всегда сохраняют свою остроту, вероучение, объединяющее мир, всегда переживет доктринерское и агрессивное. Но беспримерное, достойное подражания мужество этого забытого человека должно остаться образцом, и прежде всего нравственным, для последующих поколений. Ведь если Кастеллио, вопреки всем теологам мира, называет Сервета, принесенного Кальвином в жертву, безвинно убитым, если он в ответ на все софизмы Кальвина бросает бессмертные слова: «Предать человека сожжению не означает защитить учение, это означает только одно: убить человека», если оп в своем манифесте веротерпимости (задолго до Локка[14], Юма, Вольтера и куда более внушительно, чем они) раз и навсегда провозглашает право на свободу мысли, то этот человек делает залогом своих убеждений саму жизнь. Нет, мы не пытаемся сравнить протест Кастеллио против узаконенного убийства Мигеля Сервета с гораздо более известными протестами Вольтера в деле Каласа и Золя в деле Дрейфуса[15] — эти примеры и в малой степени не достигают нравственной высоты его дела. Потому что Вольтер, начавший борьбу за Каласа, живет уже в более гуманном веке; кроме того, всемирно известный писатель пользуется покровительством королей, князей, а за спиной Эмиля Золя невидимой армией стоит восхищение всей Европы, всего мира. Оба они, принимая участие в чужой судьбе, рискуют больше своей репутацией и своим комфортом, но — и в этом принципиальное различие — не собственной жизнью, как Себастьян Кастеллио, которому в борьбе за идеалы гуманизма пришлось испытать всю убийственную бесчеловечность его века.
Целиком, без остатка, отдал все свои силы Себастьян Кастеллио — такова цена морального героизма. И потрясает, как этот провозвестник неприменения насилия, не желавший пользоваться никаким другим оружием, кроме духовного, как он был подавлен жестокой силой. Увы, снова и снова обнаруживаешь, сколь безнадежна всякая борьба, если одиночка, не имеющий никакой иной поддержки, кроме моральной правоты, оказывает сопротивление сплоченной организации. А когда какой-либо доктрине удается однажды овладеть государственным аппаратом, его средствами принуждения, она не задумываясь развязывает террор; тому, кто ставит под сомнение ее всесилие, она затыкает глотку, а чаще всего просто душит. Кальвин ни разу всерьез не ответил Кастеллио; он предпочел заставить его замолчать навеки. Его книги рвут, запрещают, сжигают, конфискуют, с помощью политического нажима добиваются в соседнем кантоне запрещения писать, а как только он не может больше отвечать и опровергать, приспешники Кальвина набрасываются на него с клеветой: вскоре это уже не борьба, а лишь подлое насилие над безоружным. Ибо Кастеллио не может ни говорить, ни писать, его сочинения безмолвно лежат в ящике стола, а у Кальвина книгопечатные машины и церковная кафедра, приходы и синоды, весь аппарат государственной власти, и он безжалостно пускает его в ход; за каждым шагом Кастеллио наблюдают, каждое слово подслушивают, каждое письмо перехватывают — удивительно ли, что такая стоглавая организация одерживает верх над одним человеком, и только преждевременная смерть спасает Кастеллио от возможного изгнания или сожжения. Но бешеную ненависть торжествующих догматиков не останавливает и смерть ученого. Разъедающей известью бросают они ему даже в могилу подозрения и клевету и предают забвению его имя.
И на этот раз вопиющее проявление насилия над беззащитным чуть было не удалось: методичное подавление свело на нет не только влияние этого великого гуманиста на современников, но, на многие годы, и его посмертную славу; и сегодня образованный человек ни в коем случае не должен стыдиться того, что он никогда не встречал, не слышал имени Себастьяна Кастеллио. Ибо откуда можно узнать о нем, если самые значительные его произведения цензура утаивала от печати десятилетиями и веками! Ни один из типографов, близких к Кальвину, не решался опубликовать их, а когда много лет спустя они все же выходят из печати, то уже слишком поздно для заслуженной славы. Но другие восприняли идеи Кастеллио, и теперь уже под новыми именами продолжается борьба, в которой он, первый ее вдохновитель, пал слишком рано и почти незаметно. Некоторым предназначено жить в тени, умереть во тьме — потомки пожинали славу Себастьяна Кастеллио, и еще сегодня в каждом школьном учебнике можно прочитать ошибочное утверждение, что Юм и Локк были первыми, кто провозгласил в Европе идею веротерпимости, как будто еретическое сочинение Кастеллио никогда и не было написано и напечатано. Забыт его великий нравственный подвиг, борьба за Сервета, забыта война Кастеллио против Кальвина, «мухи против слона», забыты его труды: жалкого вида голландское собрание сочинений, несколько рукописей в швейцарской и голландской библиотеках, несколько благодарных слов его учеников — вот все, что осталось от этого человека, которого современники единодушно прославляли не только как одного из самых образованных, но и самых благородных людей своего времени. Какой же долг благодарности следует еще заплатить этому забытому человеку! Какую чудовищную несправедливость следует еще исправить!
Ведь у истории нет времени быть справедливой. Бесстрастный летописец, она ведет счет только успехам, но редко измеряет их нравственной мерой. Она взирает лишь на победителей, а побежденных оставляет в тени; без сомнения, этих «неизвестных солдат» собирают в могиле великого забвения; nulla crux, nulla corona, ни крест, ни венец не прославляют их забытые жертвы, ибо они представлялись напрасными. Но в действительности ни одно усилие, предпринятое из благородных побуждений, нельзя назвать тщетным, ни одно нравственное усилие никогда полностью не теряется во вселенной. И потерпевшие поражение, побежденные, пришедшие слишком рано, они исполнили свое назначение носителей вечного идеала, ибо идея существует на земле только благодаря порождаемым ею приверженцам и убежденным, которые живут и умирают за нее. При серьезном размышлении слова «победа» и «поражение» приобретают иной смысл, и поэтому внимание мира, взирающего только на памятники победителей, снова и снова необходимо обращать на то, что истинными героями человечества являются не те, кто возводит свои недолговечные царства на миллионах могил и растоптанных жизней, а как раз те, чья беззащитность не отступает перед насилием, — таким был Кастеллио, боровшийся против Кальвина за свободу духа и за окончательную победу гуманизма на земле.
КАЛЬВИН ЗАХВАТЫВАЕТ ВЛАСТЬ
В воскресенье, 21 мая 1536 года, граждане Женевы, созванные торжественными звуками фанфар, собрались на городской площади и, единодушно проголосовав поднятием рук, объявили, что отныне они хотят жить только «согласно Евангелию и слову божию». Путем референдума, и по сей день еще столь характерного для Швейцарии архидемократического обычая, в бывшей резиденции епископа была введена реформированная религия — как единственное законное и разрешенное вероисповедание в пределах города и государства. Нескольких лет хватило, чтобы в городе на Роне не только подавить старую католическую веру, но и уничтожить, искоренить ее. Последние священники, каноники, монахи и монахини, которым угрожала чернь, бежали из монастырей, все без исключения церкви были очищены от икон и других признаков «суеверия». И теперь, в этот праздничный майский день, наступил окончательный триумф: отныне по закону протестантизм в Женеве стал не только высшей и преимущественной властью — он стал единственной властью.
Это решительное всеобщее введение реформированной религии в Женеве, по существу, является достижением одного-единственного радикально настроенного человека, убежденного террориста, проповедника Фареля[16]. Эта фанатичная натура, узкий железный лоб, сильный и к тому же беспощадный характер («никогда в жизни не встречал более самонадеянного и наглого человека», — говорил о нем мягкий, сдержанный Эразм), этот «романский Лютер"» осуществлял принудительную диктаторскую власть над массами. Маленький, уродливый, с рыжей бородой и растрепанными волосами, он с церковной кафедры своим грохочущим голосом и безмерной яростью властной натуры приводил чувства народа в лихорадочное смятение; и подобно политику Дантону[17] этот религиозный революционер умел собрать воедино рассеянные и скрытые инстинкты уличной толпы и зажечь их для решающего удара и наступления. Прежде чем победить, Фарель тысячу раз рисковал своей жизнью, крестьяне угрожали побить его камнями, его арестовывали и изгоняли все власти; но с первобытной мощью и непримиримостью человека, которым владеет одна-единственная идея, он силой подавлял всякое сопротивление. Как варвар врывался он со своей гвардией штурмовиков в католические церкви в то время, когда священник совершал причастие у алтаря, и самовольно взбирался на кафедру, чтобы под крики своих сторонников обличать мерзости антихриста. Из уличных мальчишек он формирует юнгфольк[18], он вербует толпы детей, чтобы те во время богослужения влетали в соборы и криками, визгом, смехом срывали службу, наконец, осмелев благодаря все более сильному притоку сторонников, он мобилизует свою гвардию на последнюю атаку и приказывает силой вторгаться в монастыри, срывать иконы со стен и сжигать их. Этот метод открытого насилия оказался успешным: как всегда, малочисленное, но активное меньшинство, проявляющее смелость и не останавливающееся перед террором, запугивает подавляющее, но вялое большинство. Конечно, католики жалуются на нарушение прав и осаждают магистрат, но в то же время, покорные судьбе, они сидят по своим домам; в довершение всего бежавший епископ без сопротивления оставляет свою резиденцию победоносной Реформации.
Но теперь, после победы, становится ясно, что Фарель в порыве фанатизма сумел опрокинуть старый порядок, но отнюдь не был призван для созидания нового. Фарель — хулитель, но не творец, бунтарь, но не созидатель; он мог яростно идти на штурм римской церкви, возбуждать в тупых массах ненависть к монахам и монахиням, своим кулаком бунтовщика он мог разбить скрижали старого закона. Беспомощно и бесцельно стоит он перед обломками. Теперь, когда вместо изгнанной католической религии в Женеве требовалось создать новые устои, Фарель оказался совершенно несостоятельным, как чисто разрушительная сила, он сумел только освободить пространство для нового; но никогда уличный революционер не сможет действовать творчески и в духовной сфере. Разрушив, он выполнил свое дело, но строить должен прийти другой.
Не только один Фарель переживал тогда подобный критический момент неопределенности после слишком быстрой победы; и в Германии, и в остальной части Швейцарии руководители Реформации колеблются, не имея единой точки зрения и ясности в отношении выпавшей на их долю исторической задачи. То, что первоначально хотели осуществить и Лютер, и Цвингли, было не чем иным, как очищением существующей церкви, возвращением веры от авторитета папы и соборов к забытому евангельскому учению. Первоначально Реформация действительно означала для них в прямом смысле слова лишь реорганизацию, то есть улучшение, очищение, преобразование. Но так как католическая церковь упрямо отстаивала свои позиции и не выказывала готовности пойти на какие-либо уступки, перед ними неожиданно встала задача осуществить свои религиозные требования не внутри, а вне католической церкви; и сразу же, как только перешли от разрушения к созиданию, мнения разделились. Само собой разумеется, не было бы ничего логичнее, если бы религиозные революционеры Лютер, Цвингли и другие теологи-реформаторы братски объединились на основе общей веры и новой церкви. Но когда в истории побеждало логическое и естественное? Вместо одной всемирной протестантской церкви повсюду возникают отдельные направления; Виттенберг не хочет принимать закон божий из Цюриха, а Женева — обряды Берна, но каждый город хочет осуществить свою реформацию, на свой, цюрихский, бернский и женевский, лад; уже в этом кантональном кризисе в миниатюре пророчески отражается будущая националистическая заносчивость европейских государств. В мелочных распрях, в теологической казуистике и полемических трактатах Лютер, Цвингли, Меланхтон[19], Буцер и Карлштадт, все те, кто совместно подрывали огромное здание ecclesia universitas [20] , растрачивают теперь свои лучшие силы. А в Женеве Фарель, абсолютно бессильный, стоит перед обломками старого порядка — вечная трагедия человека, который исполнил предназначенное ему историческое деяние, но не чувствует себя соответствующим его результатам и требованиям.
Поэтому счастливым был для трагического триумфатора тот час, когда он случайно узнал, что Кальвин, знаменитый Жан Кальвин, остановился проездом из Савойи на один день в Женеве. Он немедленно посетил его в гостинице, чтобы получить совет и попросить практической помощи. Ибо этот двадцатишестилетний человек, почти на двадцать лет моложе Фареля, считается уже непререкаемым авторитетом. Сын епископального сборщика налогов, нотариуса, родившийся в Нуайоне во Франции, воспитанный в строгой школе Коллегии Монтегю (как Эразм и Лойола), которого прочили сначала в священники, а потом в юристы, Жан Кальвин (или Шовен) в двадцать четыре года должен был бежать из Франции в Базель из-за своей приверженности лютеровскому учению. Но в отличие от большинства людей, теряющих вместе с родиной внутреннюю силу, эмиграция пошла ему на пользу. Именно в Базеле, этом перекрестке Европы, где встречаются и сталкиваются разные формы протестантизма, Кальвин гениальным прозрением логика постигает, что его час настал. От ядра евангелического учения уже откололись наиболее радикальные его последователи, пантеисты и атеисты, мечтатели и фанатики начинают уводить протестантизм в ту или иную сторону от христианства, кровью и ужасом закончилась уже зловещая трагикомедия анабаптистов в Мюнстере[21], уже возникает угроза распада Реформации на отдельные секты и превращения их в национальные религии вместо того, чтобы подняться до всеобщей власти, подобно ее противнику — римской церкви. С пророческой уверенностью двадцатичетырехлетний человек осознает, что этому внутреннему расколу следует своевременно противопоставить объединение, духовную кристаллизацию нового учения в книге, схеме, программе; следует, наконец, создать творческий набросок евангелического догмата. С самого начала этот неизвестный молодой юрист и теолог отважно нацеливается на молодежь. И пока истинные руководители еще сосредоточены на мелочах, он, устремившись к главному, за один год создал в своем «Institutio religionis Christianae» [22] (1535 г.) первый набросок евангелического учения — учебник и руководство, каноническое произведение протестантизма. Это «Institutio» — одна из десяти или двадцати книг в мире, о которых без преувеличения можно сказать, что они определили ход истории и изменили облик Европы, важнейшее произведение Реформации после лютеровского перевода Библии, оно, благодаря своей логической непреклонности, своей конструктивной решимости, с первого же часа оказывало на современников решающее воздействие. Духовному движению всегда необходим гений, который его начинает, и гений, который его завершает. Лютер, вдохновитель, привел Реформацию в движение, а Кальвин, организатор, остановил ее, прежде чем она раздробилась на тысячи сект. Поэтому в определенном смысле «Institutio» так же завершает религиозную революцию, как Кодекс Наполеона[23] — французскую: оба подводят черту, подытоживают их, оба они лишают бурное, перехлестывающее через край начальное движение огненной лавы, стремясь придать этому потоку форму закона и стабильности. Тем самым произвол превращается в догму, свобода в диктатуру, душевный подъем — в жесткую духовную норму. Отныне католической церкви противостоит духовно единая протестантская мировая держава.
Силу натуры Кальвина подтверждает то, что он никогда не смягчал и не изменял жесткости своих первых формулировок; все последующие издания его произведения содержали в себе лишь расширение, но не изменение его первоначальных принципиальных положений. К двадцати шести годам он логически продумал и выработал свое мировоззрение в законченном виде, а все последующие годы будут служить только практической реализации его организаторской идеи. Не изменив ни одного существенного слова, и прежде всего не меняя самого себя, Кальвин не отступит ни на шаг и ни к кому не сделает шага навстречу. Такого человека можно либо сломить, либо самому сломаться о него. Любое нейтральное чувство по отношению к нему бесполезно. Существует только один выбор: отвергнуть его или полностью подчиниться ему.
Все это, — в чем, собственно, и состоит величие человеческой натуры, — Фарель почувствовал сразу же, с первой встречи, с первой беседы. И хотя он был на двадцать лет старше, с этого часа Фарель полностью подчиняется Кальвину. Он признает в нем своего вождя и учителя, с этого момента он становится его духовным слугой, его подчиненным, его рабом. Никогда за последующие тридцать лет Фарель не осмелится возразить ни одного слова младшему по возрасту Кальвину. В любой схватке, в любом деле он будет принимать его сторону, из любого места спешить на любой его зов, чтобы бороться за него и под его началом. Фарель первым подает пример не задающего вопросов, некритического послушания, полного самоотречения, которого Кальвин, фанатик субординации, требует в своем учении как высшего долга от каждого человека. За это Фарель поставил ему только одно условие в своей жизни, и именно в этот час: пусть Кальвин как наиболее достойный возьмет на себя духовное руководство Женевой и с помощью своей превосходящей силы осуществит дело Реформации, для завершения которого сам он слишком слаб.
Кальвин рассказывал впоследствии, как долго и яростно он отказывался последовать этому ошеломляющему призыву. Для духовно развитой личности решение покинуть сферу чисто абстрактного и вступить во мрак реальной политики связано всегда с очень большой ответственностью. Такой тайный страх охватил и Кальвина. Он медлит, колеблется, ссылается на свою молодость, на свою неопытность; он просит Фареля оставить его лучше в творческом мире книг и проблем. Наконец, нежелание Кальвина последовать призыву заставляет Фареля, потерявшего терпение, обрушиться на нерешительного человека с силой библейских пророков: «Ты приводишь в оправдание свои занятия. Но от имени всемогущего бога я объявляю: проклятие ждет тебя, если ты откажешь в помощи делу господа и будешь стремиться более к себе, чем к богу».
Только этот вызов становится решающим для Кальвина и определяет его дальнейшую жизнь. Он заявляет, что готов создать в Женеве новый порядок: то, что до сих пор являлось существом его слов и мыслей, должно теперь воплотиться в делах. Теперь он попытается выразить свою волю не в книгах, а в деяниях города и государства.
Современники всегда меньше всего знают о своем времени. Самые важные моменты незаметно ускользают от их внимания, и действительно, решающие минуты почти никогда не находят должного отражения в их хрониках. Так и в протоколе Женевского совета от 5 сентября 1536 года, в котором отмечено предложение Фареля постоянно использовать Кальвина в качестве «lecteur de la Sainte Escripture» [24] , нисколько не чувствуется необходимости назвать имя того человека, который принес Женеве неизмеримую славу. Писец совета лишь сухо констатирует факт: Фарель предложил, чтобы «iste Gallus», «этот француз», продолжал свою деятельность проповедника. Это все. Зачем стараться разбирать имя по буквам и вносить в документы? Кажется, ни к чему не обязывающее решение — предоставить небольшое содержание этому нищему иностранному проповеднику. Ведь магистрат города Женевы пока еще считает, что он всего лишь взял на службу мелкого чиновника, который впредь будет так же скромно и послушно исполнять свои обязанности, как какой-нибудь вновь принятый школьный учитель, хранитель казны или палач.
Правда, простодушные советники — это не ученые, в часы досуга они не читают богословских книг, и, конечно, ни один из них даже не перелистал раньше «Institutio religionis Christianae» Кальвина. Иначе они, без сомнения, пришли бы в ужас, настолько там четко и повелительно говорилось о том, на какую полноту власти для проповедника в общине претендует «iste Gallus». «Необходимо ясно охарактеризовать власть, которой должны быть облечены проповедники церкви. Поскольку они являются распорядителями и провозвестниками слова божьего, они могут рисковать всем и принуждать всех великих и сильных мира сего склоняться перед величием господа и служить ему. Они имеют право приказывать всем от мала до велика, устанавливать божественные правила и разрушать царство сатаны, защищать агнцев и истреблять волков, увещевать и наставлять покорных, обвинять и уничтожать противников. Они могут схватить и вольны отпустить, могут метать громы и молнии, но все это согласно слову божьему».
Несомненно, что слова Кальвина — «проповедники имеют право приказывать всем от мала до велика» — господа советники упустили из виду, иначе они никогда не отдались бы столь опрометчиво в руки этого деспота. Не имея представления о том, что французский эмигрант, которого они призвали в свою церковь, с самого начала решил стать властителем города и государства, они предоставили ему должность и положение. Но с этого дня их собственной власти пришел конец, поскольку в силу своей неукротимой энергии Кальвин будет захватывать все, будет настойчиво претворять в жизнь свое всеобщее требование и тем самым превращать демократическую республику в теократическую диктатуру.
Уже первые мероприятия обнаруживают дальновидную логику и целеустремленную решимость Кальвина. «Когда я впервые пришел в эту церковь, — писал он позднее об этом времени в Женеве, — там почти ничего не было. Велись проповеди, и только. Разыскивали иконы и сжигали их. Но Реформации не существовало, все находилось в беспорядке». А Кальвин — прирожденный гений порядка: все беспорядочное и бессистемное противоречит его математически точной натуре. Если хочешь воспитать в людях новую веру, то сначала следует дать им возможность узнать, во что они должны верить и что признавать. Они должны четко различать, что можно и чего нельзя; всякому царству духа, как и любому земному, нужны свои конкретные границы и свои законы. Поэтому уже через три месяца Кальвин представляет Совету готовый катехизис, в 21 статье которого с доступной краткостью формулирует основные положения нового евангелического учения, и совет, принципиально одобрив, принимает этот катехизис в качестве десяти заповедей новой церкви.
Но такой человек, как Кальвин, не позволяет себе удовлетвориться простым одобрением, он требует полного послушания, до последней мелочи. Ему совершенно недостаточно, что учение сформулировано, ибо вместе с тем все же для каждого отдельного человека как бы сохраняется некоторая свобода выбора: подчиниться ли учению и если да, то в какой степени. А Кальвин никогда и ни в коей мере не терпит свободы в делах веры и жизни. Он не соглашается отдать внутреннему убеждению отдельного человека ни пяди свободного пространства в религиозных и духовных делах; по его представлению, церковь не только имеет право, но и должна силой навязывать всем людям авторитарное повиновение и неумолимо наказывать даже элементарное равнодушие. «Пусть другие думают иначе, но я не считаю, что у нашей должности такие узкие рамки, будто после прочитанной проповеди мы можем спокойно сложить руки на коленях, словно уже выполнили тем самым свой долг». Его катехизис представляет собой не просто наставление в вере, но государственный закон; поэтому он требует от совета, чтобы граждане города Женевы, каждый в отдельности, один за другим, принуждались бы официально признавать этот катехизис и присягать ему. Как школьники, группами по десять человек со старшими во главе, граждане должны направляться в собор и там, подняв правую руку, давать клятву, текст которой зачитывал вслух государственный секретарь. А тех, кто отказывался дать ее, следовало немедленно заставить покинуть город. Ясно раз и навсегда: отныне в стенах Женевы не может жить ни один гражданин, который в религиозных делах хоть на волосок отклоняется от требований и взглядов Жана Кальвина. В Женеве покончено со «свободой христианина», которой требовал Лютер, с пониманием религии как дела индивидуальной совести. Закон победил мораль, а буква Реформации — ее дух. С тех пор как Кальвин вступил в город, в Женеве покончено со всякой свободой, единая воля господствует теперь надо всеми.
Любая диктатура немыслима и невозможна без насилия. Кто хочет сохранить власть, должен иметь средства принуждения, кто хочет повелевать, должен в то же время обладать и правом карать. А у Кальвина, согласно указу о его должности, не было ни малейшего права давать распоряжения о высылке за религиозные проступки. Советники призвали «lecteur de la Sainte Escripture» — излагать писание верующим, проповедника — проповедовать и наставлять общины в истинной вере в бога. Но право наказывать юридические и нравственные проступки граждан они, вполне естественно, полагали сохранить за собой. Ни Лютер, ни Цвингли, никакой другой реформатор не попытались до сих пор оспорить у гражданских властей это право и самую власть; но Кальвин, как авторитарная натура, сразу же применяет свою огромную волю, чтобы низвести роль магистрата до простого исполнителя его приказов и распоряжений. А так как Кальвин не обладает для этого законными средствами, он создает их по собственному праву, вводя отлучение от церкви: с гениальной изворотливостью превращает он религиозное таинство причащения в личное средство власти и принуждения. Ибо кальвинистский проповедник допустит к «пище господней» исключительно того, чье нравственное поведение покажется ему лично не вызывающим сомнений. А с тем, кому проповедник откажет в причащении — и здесь проявляется вся мощь этого оружия, — с тем покончено и в гражданском смысле. Никто не смеет больше разговаривать с ним, что-нибудь продавать ему или покупать у него; тем самым предписанная религиозной властью и якобы только церковная мера тотчас оборачивается бойкотом в общественной и деловой жизни; если затем отлученный все еще не капитулирует, а отказывается совершить предписанное священником публичное покаяние, то Кальвин распоряжается выслать его. Противник Кальвина, будь он даже самым уважаемым гражданином, не сможет после этого долго жить в Женеве, отныне гражданское существование того, кто навлек на себя ненависть духовенства, находится под угрозой.
С этой молнией в руках Кальвин может поразить всякого, кто оказывает ему сопротивление, одним-единственным смелым приемом он зажал в кулаке огненные и громовые стрелы, которые прежде не сумел метнуть ни разу епископ города. Ибо в католицизме надо было все-таки пройти бесконечный путь по инстанциям, от высоких к самым высоким, прежде чем церковь решалась открыто изгнать одного из своих членов. Отлучение не зависело от отдельного человека и было полностью свободно от его произвола. Кальвин же, целеустремленный и неумолимый в своей жажде власти, изо дня в день легко передавал это право отлучения от церкви в руки проповедников и консистории, он превратил эту ужасную угрозу в почти регулярное наказание и как психолог, точно определивший результат воздействия террора, неизмеримо увеличил свою личную власть с помощью страха перед этим наказанием. Правда, магистрату еще удается с трудом постановить, что причащение должно совершаться только раз в три месяца, а не ежемесячно, как этого требовал Кальвин. Но уже никогда больше Кальвин не позволит вырвать у него самое сильное оружие, поскольку лишь благодаря ему может он начать свое кровное дело: борьбу за полноту власти.
Чаще всего требуется некоторый срок, пока народ начнет замечать, что за временные преимущества диктатуры, ее более строгую дисциплину и повышенную действенность коллективной мощи всегда бывает заплачено ценой личных прав людей и что каждый новый закон неизбежно принимается в обмен на старую свободу. Так и в Женеве лишь постепенно пробуждается это сознание. С открытым сердцем горожане согласились провести Реформацию, добровольно собрались они на рыночной площади, чтобы как свободные люди, поднятием рук, объявить себя сторонниками новой веры. Но все-таки их республиканская гордость возмущается против того, чтобы их группами по десять человек гнали по городу, как сосланных на галеры, под стражей в церковь для принесения торжественной присяги каждому параграфу господина Кальвина. Не для того они одобрили строгую реформу нравов, чтобы теперь этот новый проповедник ежедневно мог грозить им изгнанием и отлучением только за то, что однажды они весело пели за стаканом вина или носили одежду, которая показалась господам Кальвину или Фарелю слишком пестрой или чересчур пышной. И кто же они, наконец, эти люди, которые так властно ведут себя — начинает вопрошать народ. Это граждане Женевы? Это старейшие коренные жители, которые заботились о величии и богатстве города, испытанные патриоты, столетиями связанные родственными узами с лучшими семьями? Нет, это недавние беженцы, пришедшие из другой страны, из Франции. Их радушно приняли, обеспечили пропитанием и хорошо оплачиваемым местом, а теперь этот сын сборщика па-логов из соседней страны, который сразу же перетащил с собой на теплое местечко своего брата и зятя, осмеливается оскорблять их, делать выговор им, коренным гражданам! Он, эмигрант, ими же назначенный служащий, берет на себя смелость определять, кому позволено оставаться в Женеве, а кому нет.
Всякий раз в начале диктатуры, пока свободные души еще не порабощены, а независимые не изгнаны, сопротивление имеет определенную силу: настроенные по-республикански открыто заявляют в Женеве — они и не думали о том, чтобы позволить отчитывать себя, «будто они уличные разбойники». Все улицы, прежде всего Немецкая, отказываются дать требуемую клятву, они ропщут громко и возмущенно, что не будут присягать и не оставят свой родной город по приказу этих приблудных французских голодранцев. Все-таки Кальвину удается вынудить преданный ему «Малый совет», чтобы тот действительно покарал высылкой отказавшихся дать клятву, но непопулярную меру больше не отваживаются проводить в жизнь, а результат новых выборов ясно показывает, что большинство города начало противиться произволу Кальвина. Его ярые приверженцы теряют преимущество в новом Совете в 1538 году, демократия в Женеве сумела еще раз противопоставить свою волю авторитарным претензиям Кальвина.
Кальвин слишком стремительно двинулся вперед. Политические идеологи вечно недооценивают сопротивление, заложенное в инертности человеческой натуры, они полагают, будто решающие нововведения в реальном мире можно осуществить так же быстро, как в рамках их умственных построений. Разум должен был бы подсказать сейчас Кальвину действовать мягче, пока он снова не завоевал на свою сторону светские власти, так как с делом его пока еще обстоит благополучно; и вновь избранный совет выражает по отношению к нему лишь осторожность, а не враждебность. Даже самые крайние его противники за этот короткий срок вынуждены были признать, что фанатизм Кальвина основан на непреклонной воле к укреплению нравственности, что у этого неистового человека речь идет не о мелком честолюбии, а о великой идее. К тому же Фарель, его собрат по борьбе, — все еще идол молодежи и улицы; поэтому напряжение легко можно было смягчить, если бы Кальвин проявил немного дипломатического благоразумия и приспособил свои остро радикальные требования к более осторожным взглядам бюргерства.
Но в этом вопросе наталкиваешься на гранитную основу натуры Кальвина, на его железную непреклонность. На протяжении всей жизни не было ничего более чуждого этому безграничному фанатику, нежели компромиссы. Кальвин не признает среднего пути — только единственный, свой. Он признает только все или ничего, абсолютная власть или абсолютное неприятие. Он никогда не идет на компромисс, ибо быть правым — настолько характерная его особенность, что он совершенно не понимает, не представляет себе, что кто-то тоже может быть по-своему прав. Для Кальвина аксиома, что только он может учить, а другие — учиться у него; с самой искренней убежденностью он говорит буквально следующее: «То, чему я учу, я получил от бога, и это придает силы моей совести». С ужасной, безграничной самоуверенностью он считает свои утверждения равными абсолютной истине — «Dieu m'a fait la grace de declarer ce qu'est bon et mauvais» [25] , — и всякий раз этот одержимый снова бывает огорчен и потрясен, если кто-нибудь осмеливается выразить мнение, противоположное его собственному. Противоречие уже само по себе вызывает у Кальвина что-то вроде нервного припадка, духовная чувствительность глубоко влияет на организм, желудок бунтует и выбрасывает желчь, а если еще противник умеет дельно и разумно изложить свои возражения, то уже один факт, что он осмеливается думать иначе, превращает его для Кальвина в личного смертельного врага и, кроме того, во врага мира, врага господа. Змеями, которые шипят на него, собаками, которые на него рычат, бестиями, негодяями, слугами сатаны — так этот человек, подчеркнуто сдержанный в личной жизни, называет видных гуманистов и теологов своего времени; любое возражение, даже совершенно академическое по форме, сразу же воспринимается Кальвином как оскорбление «чести господа» в лице «его слуги», а когда один из проповедников церкви св. Петра отважился выразиться ad personam [26] как о человеке властолюбивом — сразу же было заявлено, что «церковь Христова находится под угрозой». Побеседовать с кем-нибудь с глазу на глаз — означает для Кальвина только, что собеседник должен признать и принять его мнение: ни разу в жизни этот обычно трезво мыслящий разум не усомнился в своем исключительном праве толковать слово божье и быть единственным, кто познал истину. По именно благодаря этой стойкой вере в самого себя, благодаря этой пророческой одержимости самим собой, этой безграничной мономании, Кальвин оказался правым в реальной жизни; секрет его политического успеха объясняется исключительно этой его упорной непоколебимостью, этой железной, нечеловеческой твердостью. Человечество, постоянно подвергающееся внушению, никогда не подчиняется терпимым и справедливым, а всегда только великим одержимым, у которых хватало смелости провозглашать свою истину как единственно возможную, а свою волю — как основную формулу мирового закона. На Кальвина не производит ни малейшего впечатления, что большинство нового городского совета настроено против него и в самой вежливой форме дает ему понять, что ради сохранения мира ему следовало бы отказаться от своей дикой угрозы и отлучения и присоединиться к более мягкой позиции бернского синода; но такие упрямцы, как Кальвин, не приемлют легкого мира, если для этого необходимо уступить хотя бы в одном пункте. Для его авторитарной натуры совершенно невозможен никакой компромисс, и, когда магистрат возражает ему, Кальвин, требующий ото всех безусловного подчинения любой власти, ни минуты не сомневаясь, сам становится революционером по отношению к власти, стоящей над ним. Он открыто поносит с кафедры «Малый совет» и заявляет, «что предпочел бы умереть, чем отдать священное тело господа на поругание». Другой священник в церкви называет городской совет «собранием пьяниц»; окружение Кальвина, твердое и незыблемое, как каменная глыба, дает отпор власти.
Магистрат не может терпеть такого провокационного неповиновения проповедников своему авторитету. Вскоре он издает недвусмысленный указ: в будущем не злоупотреблять кафедрой для политических целей, а использовать ее исключительно для проповеди слова божьего. Но поскольку Кальвин и его сторонники хладнокровно игнорируют это официальное приказание, не остается ничего иного, как запретить проповедникам подниматься на кафедру; самого агрессивного среди них, Курто, даже арестовывают за открытое подстрекательство к мятежу. Так была объявлена открытая война между церковной и государственной властью, и Кальвин решительно принимает ее. В сопровождении своих приверженцев он проникает в собор св. Петра и упрямо поднимается на запретную кафедру. Но поскольку сторонники и противники обеих партий с мечами ломятся в церковь: одни — чтобы добиться запрещенной проповеди, другие — чтобы помешать ей, возникает ужасающее столпотворение, и дело чуть было не дошло до кровопролития. Это исчерпало терпение магистрата. Он созывает высший орган, Большой совет двухсот, и ставит вопрос о том, не следует ли уволить со службы Кальвина и других проповедников, которые упрямо пренебрегали приказами магистрата. Подавляющее большинство отвечает согласием. Мятежное духовенство отстраняется от должностей и получает приказ покинуть город в течение трех суток. Наказание изгнанием, которым Кальвин в течение последних полутора лет угрожал стольким жителям этого города, теперь постигло его самого.
Первый штурм Женевы Кальвину не удался. Но в жизни диктатора подобная неудача ничего не означает. Напротив, окончательному возвышению неограниченного властителя почти неизбежно предшествует такое драматичное поражение.
Для политика нет ничего более важного, чем время от времени отступать на второй план, потому что именно благодаря своему отсутствию он становится легендой; прославляющая молва будто облако парит вокруг его имени, а когда он возвращается, его встречают стократно усиливающимся напряжением ожидания, которое как бы возникло из воздуха, без его участия. История показала, что почти все народные герои завоевывали огромную эмоциональную власть над своей нацией благодаря изгнанию. То же произошло и с Кальвином.
Конечно, в период изгнания Кальвин многим кажется конченым человеком. Его организация разгромлена, его дело полностью потерпело неудачу, а от успехов не осталось ничего, кроме воспоминания о его фанатическом стремлении к порядку и нескольких дюжин покинутых друзей. Но, как и всем политическим деятелям, которые, вместо того чтобы заключать соглашения, в опасный момент делают решительный шаг назад, на помощь Кальвину приходят ошибки и его последователей, и противников. Вместо Кальвина и Фареля, личностей весьма представительных, магистрат с трудом нашел несколько сговорчивых проповедников, которые, опасаясь, что из-за строгих мер они станут неугодны народу, предпочли совсем отпустить вожжи, вместо того чтобы сильно их натянуть. При них проведение Реформации в Женеве, столь энергично, даже чересчур энергично начатое Кальвином, вскоре застопорилось, и гражданами города овладевает такая неуверенность в религиозных делах, что отмененная католическая церковь постепенно обретает былую силу и пытается с помощью умных посредников снова обратить Женеву в римскую веру. Ситуация становится все более критической; постепенно те же самые приверженцы реформатской церкви, для которых Кальвин был слишком жестким и строгим, начинают беспокоиться и спрашивать себя, не было ли такое железное повиновение в конце концов все-таки более желательным, чем грозящий хаос. Все больше граждан и даже некоторые из прежних противников настаивают на возвращении изгнанного, и, наконец, магистрат не видит иного выхода, кроме как последовать всеобщему желанию народа. Первое послание и письмо к Кальвину — еще слабые и осторожные запросы, но вскоре они становятся более открытыми и настоятельными. Приглашение явно превращается в просьбу: совет вскоре будет писать не «monsieur» Кальвину, чтобы тот вернулся для спасения города, а уже «maоtre» Кальвину; наконец, беспомощные члены совета прямо-таки на коленях просят «доброго брата и единственного друга» снова принять место проповедника и уже добавляют обещание «так вести себя по отношению к нему, что у него будут основания остаться довольным».
Если бы Кальвин обладал слабым характером и его устраивал дешевый триумф, то он мог бы удовольствоваться тем, что его с такими мольбами призвали обратно в город, откуда с презрением выгнали два года назад. Но для того, кто жаждет получить все, никогда не бывает достаточно части, а для Кальвина в этом самом святом его деле речь идет не о личном тщеславии, но о победе авторитета. Он не хочет, чтобы какая-нибудь власть опять чинила ему препятствия; если он вернется, в Женеве можно будет сохранить только одну законную власть — его. Пока город со связанными руками не отдаст себя в его полную собственность и не объявит себя обязанным подчиняться, Кальвин отвергает всякие предложения и с намеренно преувеличенным отвращением долгое время отправляет назад настоятельные призывы. «Я в сто раз охотнее пойду на смерть, чем опять начну эти прежние мучительные стычки», — пишет он Фарелю. Он не делает ни одного шага навстречу своим бывшим противникам. Когда же, наконец, магистрат стал на коленях умолять Кальвина вернуться, даже его ближайший друг Фарель теряет терпение и пишет ему: «Ты ждешь, чтобы в конце концов и камни звали тебя?» Но Кальвин остается твердым, пока Женева не сдается на милость и немилость победителя. Только когда они дали клятву придерживаться его катехизиса и требуемой им «дисциплины», когда советники направили смиренные письма в город Страсбург и по-братски умоляли тамошних граждан, чтобы те все-таки отпустили к ним этого незаменимого человека, лишь когда Женева унизилась не только перед ним, а перед всем миром, Кальвин сдался и объявил, наконец, о своем согласии принять старую должность с новой полнотой власти.
Женева готовится к вступлению Кальвина, как побежденный город к вступлению завоевателя. Будет сделано все мыслимое, чтобы унять его негодование. Спешно вводятся в действие прежние строгие эдикты, только чтобы Кальвин нашел свои религиозные приказы уже осуществленными, члены Малого совета лично занимаются выбором подходящей квартиры с садом для долгожданного гостя и приготовлением необходимой обстановки. В соборе св. Петра специально перестраивается старая кафедра, чтобы она была более удобной для его выступления, а фигуру Кальвина постоянно видели бы все присутствующие. Почесть следует за почестью: еще до того, как Кальвин смог выехать из Страсбурга, ему навстречу высылают глашатая, чтобы тот уже в дороге приветствовал его от имени города, а семье готовят торжественную встречу за счет горожан. Наконец, 13 сентября дорожная карета приближается к воротам Корнавен, и сразу же собираются большие толпы людей, чтобы с ликованием ввести возвратившегося в стены города. Теперь город у Кальвина в руках, мягкий и податливый, как глина, и он не отступит до тех пор, пока не создаст из него искусного произведения воплощенной мысли. С этого часа их больше нельзя отделить друг от друга — Кальвина и Женеву, дух и форму, творца и творение.
«DISCIPLINE»
С того часа, как этот сухопарый, суровый человек в черной ниспадающей рясе священника вступил в город через ворота Корнавен, начинается один из самых примечательных экспериментов всех времен: государство, дышащее с помощью бесчисленных живых клеток, должно превратиться в застывший механизм, а народ со всеми своими мыслями и чувствами — в единую систему; это первая попытка полной унификации, которая предпринимается здесь, в Европе, во имя идеи. С демонической серьезностью, с хорошо продуманной систематичностью приступает Кальвин к своему дерзкому плану — создать в Женеве первый вариант царства божьего на земле: общество без земной подлости, без коррупции, беспорядка, пороков и грехов, истинный новый Иерусалим, откуда должно исходить спасение всего земного — отныне только эта единственная идея определяет его жизнь, а его жизнь в свою очередь служит только этой единственной идее. Необычайно серьезно, невероятно честно относится этот железный идеолог к своей великой утопии, и за четверть века своей духовной диктатуры Кальвин никогда не усомнился в том, что, беспощадно лишая людей всякой индивидуальной свободы, он только помогает им. Ибо этот благочестивый деспот полагал, что с помощью всех своих требований и невыносимых сверхтребований он не добивается от людей ничего иного, кроме обязанности жить правильно, то есть в соответствии с волей и законом божьим.
Это в самом деле звучит очень просто и неопровержимо. Но как узнать эту волю бога? И где найти его указание? В Евангелии, отвечает Кальвин, и только в Евангелии. Там, в вечно живом писании дышит и живет воля и слово божье. Не случайно сохранились для потомков святые книги. Господь ясно выразил свой завет в слове, чтобы заповедь легко воспринималась и доходила до самого сердца. Это Евангелие существовало до церкви и стоит выше церкви, и нет никакой другой истины по ту сторону писания и вне его, «en dehors et au dela». Поэтому в истинно христианском государстве слово Библии, «la parole de Dieu» [27], следует считать единственной нормой морали, мышления, веры, права и жизни, так как в этой книге содержится вся мудрость, вся справедливость, вся истина. Библия для Кальвина — альфа и омега, любое решение любых дел основывается на начертанном в ней слове.
Делая слово писания высшей инстанцией для всякого земного деяния, Кальвин, кажется, по сути дела, лишь повторяет хорошо известное первоначальное требование Реформации. Но в действительности он делает огромный шаг за ее пределы и даже совсем отходит от первоначального круга ее идей. Ведь Реформация началась как движение за духовно-религиозную свободу, она хотела открыто вложить Евангелие в руки каждого человека; не папа римский и соборы, а индивидуальные убеждения должны были формировать свое христианство. Но Кальвин снова беспощадно отнимает у человека эту провозглашенную Лютером «свободу христианина», как и любой другой вид духовной свободы; лично ему слово божье совершенно ясно, следовательно, он по-диктаторски требует покончить со всяким другим толкованием и превратным пониманием божественного учения; чтобы не дрогнула церковь, слово Библии должно «оставаться» непоколебимым, как каменные опоры храма. Отныне оно должно действовать и изменяться не как logos spermatikos [28], как вечно творящая и преобразующая себя истина, а как раз и навсегда запечатленная в толковании Кальвина.
Этим требованием Кальвина вместо папской ортодоксальности de facto [29] вводится новая, протестантская, и эту новую форму догматической диктатуры по праву назвали библиократией. Ибо одна-единственная книга является сейчас в Женеве господином и судьей, богом и законодателем, а ее проповедник — единственным авторитетным толкователем этого закона. Он — «судья» в духе Моисеевой Библии, и его власть над правителями и народом неоспорима. Теперь не магистрат и гражданское право, а только истолкованная консисторией Библия определяет, что позволено и что запрещено, и горе тому, кто осмелится хотя бы в мелочи не повиноваться этому принуждению! Ибо всякого, кто воспротивится диктатуре проповедников, будут судить как бунтовщика против бога, а комментарий к Священному писанию вскоре будут писать кровью.
Все диктатуры начинаются с идеи. Но всякая идея обретает форму и окраску лишь благодаря тому человеку, который ее осуществляет. Учение Кальвина как духовное творение неизбежно должно походить обличьем на своего творца, и нужно только взглянуть на его внешность, чтобы предвидеть: оно будет более суровым, мрачным и недружелюбным, чем какое-либо толкование христианства до этого. Лицо Кальвина напоминает карстовый рельеф, один из тех уединенных, потусторонних скалистых пейзажей, в чьей безмолвной замкнутости присутствует лишь бог, но нет ничего человеческого. Этот недобрый, унылый облик аскета без возраста лишен всего, что обычно делает жизнь плодотворной, наполненной, радостной, цветущей, теплой и чувственной. Все жестко и некрасиво, угловато и дисгармонично в этом угрюмо-удлиненном овале: узкий и строгий лоб, под которым как тлеющие угли мерцают два глубоких и утомленных глаза, острый крючковатый нос, властно возвышающийся между впалыми щеками, узкий, как ножом прорезанный, рот, который мало кто видел улыбающимся. Теплый румянец не просвечивает сквозь морщинистую, сухую, пепельного цвета, иссохшую кожу; будто бы внутренняя лихорадка как вампир высосала кровь из щек — такого серого цвета морщины на них, такие они болезненные и блеклые, кроме тех коротких секунд, когда гнев охватывает их огнем лихорадочных пятен. Напрасно длинная ниспадающая борода библейского пророка (в этом ему послушно подражают все ученики и последователи) пытается придать этому желчному и желтому лицу видимость мужественной силы. Да и борода эта лишена густоты и силы, она не низвергается мощно, как у бога-отца, а закручивается тонкими прядями — печальная поросль, взошедшая на каменистой почве.
Горячий, легко приходящий в возбуждение, сожженный и истощенный собственным духом — таким выглядит Кальвин на изображениях, и хочется уже посочувствовать этому переутомленному, перенапрягшемуся человеку, изнуренному своим собственным усердием, но, переведя взгляд, вдруг пугаешься его рук — жутких рук корыстолюбца, этих исхудавших, лишенных мышц и цвета рук, которые холодно и сильно, как когти, умеют цепко держать своими жесткими, жадными пальцами все, что они однажды смогли ухватить. Невозможно представить себе, чтобы эти костлявые руки когда-нибудь нежно играли цветком, ласкали теплое тело женщины, чтобы они сердечно и радостно протянулись навстречу другу; это руки неумолимого человека, по ним одним угадываешь большую и жестокую силу господства и выдержки, которая исходила от Кальвина на протяжении всей жизни.
Какое мрачное, безрадостное, какое одинокое и отталкивающее лицо, да, впрочем, и весь облик Кальвина! Непостижимо, чтобы кто-нибудь захотел видеть портрет этого непреклонного, требующего и предостерегающего человека на стене своей комнаты: дыхание стало бы холоднее, если бы постоянно чувствовался бдительно наблюдающий за чьими-то ежедневными делами взгляд этого человека, наиболее чуждого радости из всех людей. Можно предположить, что вернее всего изобразил бы Кальвина Сурбаран: в фанатичной испанской манере, как он писал аскетов и анахоретов, темное на темном, простившихся с миром и обитающих в пещерах, с книгой перед собой, всегда с книгой и еще, пожалуй, с черепом или крестом, как единственными символами духовно-религиозной жизни; а вокруг холодное и черное, неприступное одиночество. Ибо всю жизнь вокруг Кальвина существовало это почтительное холодное пространство неприступности. С ранней юности он одевается только в безжалостное черное. Черный берет уменьшает лоб — наполовину капюшон монаха, наполовину шлем воина, черная, широкая, ниспадающая до пола мантия — одеяние судьи, который должен неустанно наказывать людей, одеяние врача, который должен вечно исцелять их грехи и язвы. Черный, всегда черный, всегда цвет серьезности, смерти и неумолимости. Едва ли Кальвин когда-нибудь носил что-то кроме символа своей должности, ведь он хотел, чтобы другие видели и боялись его только как служителя бога, только в одеянии долга, а не любили как человека, как брата. Но, суровый по отношению к миру, он был таким же и по отношению к самому себе. Всю жизнь он держал свою плоть в строгости, питался лишь самым необходимым и на досуге предпочитал заботиться о духе, а не о теле. Он спал ночью три, самое большее — четыре часа, ел только один раз в день, да и то наскоро, за раскрытой книгой. И ни прогулки, ни игры, ни радости, ни отдыха, а главное — никогда настоящего наслаждения: в своей фанатичной преданности духу Кальвин с наслаждением всегда только действовал, думал, писал, работал, боролся, но никогда не жил и часа для себя. Эта абсолютная бесчувственность наряду с извечным отсутствием молодости — самая характерная существенная черта Кальвина; неудивительно, что она стала и наиболее опасной для его учения. Ибо в то время как другие реформаторы верят, что самым добросовестным образом служат богу, когда они с благодарностью принимают из его рук все дары жизни, в то время как они, от природы здоровые нормальные люди, радуются своему здоровью и способности наслаждаться, в то время как Цвингли в первом же своем приходе оставляет внебрачного ребенка, а Лютер однажды шутя сказал: «Если не в духе жена, то сойдет и служанка», в то время как они смело пьют, чревоугодничают и веселятся, у Кальвина все чувственное подавлено или присутствует в виде неясного следа. Как фанатичный интеллектуал он в полной мере самовыражается в слове и духе; только логически ясное является для него истинным, он понимает и терпит лишь упорядоченность и не выносит выходящее за ее рамки. Его фанатичная рассудочность никогда не требовала и не получала радости ни от чего, что опьяняет, — ни от вина, ни от женщины, ни от искусства, ни от каких божественных даров на земле. Единственный раз, когда он сватался, чтобы удовлетворить требования Библии, сватовство происходило так до смешного холодно и деловито, как будто речь шла о заказе на книгу или о новом берете. Вместо того чтобы поискать самому, Кальвин поручает своим друзьям выбрать ему подходящую супругу, и при этом, яростный враг чувственности, он чуть было не нарывается на весьма легкомысленную девицу. Наконец, разочарованный, он женится на вдове обращенного им анабаптиста, но ему судьбой отказано быть счастливым самому или сделать счастливым другого. Единственный ребенок, которого родила ему жена, — нежизнеспособен, так и хочется сказать: само собой разумеется, потому что был зачат такой водянистой кровью и со столь ледяными чувствами. Он умирает через несколько дней, а когда вскоре после этого жена оставляет Кальвина вдовцом, то тем самым для тридцатишестилетнего человека уже раз и навсегда покончено не только с супружеством, но и с женщинами. До своей смерти, то есть еще на протяжении лучших для мужчины двадцати лет, этот добровольный аскет больше никогда не коснется другой женщины, будучи предан духовному, религиозному, «уч ению».
Но тело человека, так же как и его дух, требует своего развития и жестоко карает того, кто его насилует. Каждый орган бренного тела инстинктивно стремится полностью осуществить то, к чему он предназначен природой. Поэтому кровь хочет быстрее бежать, сердце — сильнее стучать, легкие — кричать от радости, мускулы — двигаться, семя — извергаться, а против того, кто постоянно сознательно тормозит эту жизненную силу и сопротивляется ей, органы в конце концов восстают.
Тело Кальвина жестоко отомстило своему господину: чтобы доказать свое существование аскету, который обращается с ними так, как будто их нет, нервы изобретают для своего деспота постоянные мучения, и, вероятно, немногие люди умственного труда так сильно страдали когда-нибудь на протяжении жизни от возмущения своего организма, как Кальвин. Непрерывно один недуг сменяет другой, почти каждое письмо Кальвина сообщает о новом коварном приступе новых неожиданных болезней. То это мигрени, которые на несколько дней укладывают его в постель, затем снова боли в желудке, головные боли, геморрои, колики, простуды, нервные судороги и кровоизлияния, камни в желчном пузыре и карбункулы, резкое повышение температуры и снова озноб, ревматизмы и заболевания мочевого пузыря. Врачи должны постоянно наблюдать его, так как в этом неданом, хрупком теле нет ни одного органа, который бы коварно не причинял ему боли и страдания. И однажды Кальвин, горько сетуя, пишет: «Моя жизнь подобна непрерывному умиранию».
Но этот человек выбрал девизом выражение: «per mediam desperationem prorumpere convenit» — с возрастающей силой вырываться из глубин отчаяния; демоническая духовная энергия этого человека не позволяет пропасть ни единому часу работы. Постоянно обремененный своим организмом, Кальвин снова и снова доказывает ему превосходство духа; если он в лихорадке не может подняться на кафедру, то приказывает нести себя на носилках в церковь, чтобы вести там проповедь. Если он вынужден пропустить заседание совета, то члены магистрата собираются на совет в его доме. Если он в лихорадке лежит в постели, покрыв зябнущее, сотрясаемое ознобом тело четырьмя-пятью согретыми одеялами, то рядом сидят два или три помощника, которым он попеременно диктует. Если он едет на один день к друзьям в недалекое поместье, чтобы глотнуть более свежего воздуха, то секретари сопровождают его в карете, и сразу после приезда посыльные начинают сновать в юрод и обратно. И он снова берется за перо, снова начинается работа. Невозможно представить себе не занятого делом Кальвина, этого гения прилежания, который на протяжении практически всей жизни трудился без единого перерыва. Еще спят дома, еще не настало утро, а на Rue de Chanoines [30] уже горит лампа над его рабочим столом, и наоборот, далеко за полночь, когда все давно уже отправились на покой, в его окне все еще горит этот как будто вечный свет. Его работоспособность непостижима, кажется, будто за него одновременно трудились четыре-пять умов. Водь, действительно, этот постоянно больной человек одновременно исполнял работу четырех или пяти профессий. Предоставленная ему непосредственно должность проповедника в церкви св. Петра — лишь одна среди многих должностей, которые он постепенно захватил благодаря своему истеричному стремлению к власти. И хотя только напечатанные тома тех проповедей, которые он прочитал в церкви, заполняют уже стенной шкаф, и хотя писцу до конца жизни хватит работы только по их переписке, это все-таки лишь небольшая часть всех его трудов. Этот «министр святого слова» единолично управляет и руководит всеми министерствами своего теократического государства: как председатель консистории, которая не принимает без него ни одного решения, как автор бесчисленных богословских и полемических книг, как переводчик Библии, как основатель университета и создатель богословского семинара, как постоянный советник городского совета, как идеолог генерального штаба во время религиозных войн, как дипломат высшего ранга и организатор протестантизма. Он просматривает сообщения проповедников из Франции, Шотландии, Англии и Голландии, он налаживает зарубежную пропаганду, с помощью типографов и распространителей книг создает тайную службу, которая охватывает всю землю. Он дискутирует с другими лидерами протестантизма, ведет переговоры с князьями и дипломатами. Каждый день, почти каждый час прибывает посетитель из-за границы, ни один студент, ни один молодой теолог не проезжает через Женеву, не обратившись к нему за советом или не засвидетельствовав ему своего почтения. Его дом — как почтамт и постоянное справочное бюро по всем государственным и частным вопросам; со вздохом он пишет однажды, что не мог бы вспомнить за время своей деятельности и двух часов, когда бы ему не мешали. Ежедневно из самых дальних стран, из Венгрии и Польши, приходят письма от его доверенных людей; в то же время еще и забота о спасении душ требует бесчисленных личных советов тем, кто обращается к нему за помощью. То эмигрант хочет поселиться и перевезти сюда свою семью: Кальвин собирает деньги, ищет для него пристанище и средства для пропитания. Один хочет жениться, другой — расторгнуть брак: оба пути ведут к Кальвину, ведь ни одно религиозное событие в Женеве не происходит без его согласия, его совета. Но если бы это стремление к власти ограничивалось собственной епархией, религиозными делами! Для Кальвина же не существует границ его власти, потому что как теократ он хочет попытаться подчинить все земное божественному и религиозному. Он властно налагает свою жесткую руку на все в государстве: едва ли есть день, когда в протоколах совета не нашлось бы пометки: здесь следует спросить метра Кальвина. Этот неутомимо зоркий глаз ничего не пропускает, ничего не упускает, а его неустанному деятельному уму следовало бы удивляться как чуду, если бы подобный аскетизм духа одновременно не означал и огромной опасности. Ведь тот, кто так последовательно отказывается в жизни от личных удовольствий, захочет сделать этот отказ — для него самого все-таки добровольный — законом и нормой для всех других и попытается естественное для себя навязать другим как несвойственное им. Аскет-политик, например, всегда является самым опасным типом деспота. Тот, кто сам не живет по-человечески полно и радостно, всегда становится бесчеловечным по отношению к другим людям.
Но повиновение и безжалостная строгость являются подлинным фундаментом кальвинистского учения. Согласно взглядам Кальвина, человек вообще не имеет права идти по жизни с высоко поднятой головой и чистой совестью, он должен постоянно пребывать в «страхе господнем», подавленный смиренно переносимым чувством непоправимого несовершенства. С самого начала пуританская мораль Кальвина отождествляет понятие радостного и непринужденного наслаждения с понятием «греха», а все, что призвано украсить и оживить наше земное бытие, что призвано дать радостное отдохновение душе, возвысить, освободить и облегчить ее — в первую очередь искусство, — эта мораль осуждает как бесполезное и опасное излишество. Даже в религиозную сферу, которая извечно была связана с мистикой и обрядами, Кальвин вносит свою собственную идеологическую целесообразность, из церкви и культа удаляется все без исключения, что могло бы воздействовать на чувства, умиротворять их мягко и неясно, так как истинно верующий должен обращаться к богу с душой, не возбужденной искусством, не опьяненной сладким ладаном, не одурманенной музыкой, не соблазненной красотой якобы благочестивых (а в действительности богохульных) картин и скульптур. Истина заключается только в ясности, достоверность — только в четком слове божьем. Поэтому вон из церкви «идолопоклонство», картины и статуи, вон пестрые одеяния, вон требники и дарохранительницы с алтаря — бог не нуждается в роскоши. Долой все наслаждения, одурманивающие душу: никакой музыки, никакой игры на органе во время богослужения! Даже церковные колокола должны отныне в Женеве молчать: истинно верующему не следует напоминать о его обязанности с помощью мертвого металла. Благочестие никогда не проявляется при помощи внешнего, при помощи жертв и даров, а только лишь благодаря внутреннему послушанию; поэтому вон из церкви торжественные мессы и все церемонии, вон все символы и обычаи, конец всем торжествам и праздникам! Кальвин яростно вычеркивает из календаря все праздничные дни. Ликвидируются пасха и рождество, отмечавшиеся уже в римских катакомбах, упраздняются дни святых, запрещаются старые обычаи: бог Кальвина хочет, чтобы его не чествовали и даже не любили, но чтобы всегда боялись. Со стороны человека является высокомерием, если он пытается навязывать себя богу при помощи экстаза и порыва, вместо того чтобы издалека служить ему в постоянном благоговении. Ибо вот самый глубокий смысл кальвинистской переоценки: чтобы вознести божественное как можно выше над миром, Кальвин с невероятной силой подавляет земное, чтобы придать самое совершенное достоинство идее бога, он лишает прав и достоинства идею человека. Этот реформатор-мизантроп никогда не представлял себе человечество иначе, чем в виде нечестивой, распутной толпы грешников, и всю жизнь он с монашеским отвращением и ужасом возмущался прекрасной, неудержимой, рвущейся из тысяч источников радостью нашего мира. Как непостижима воля божья, — снова и снова стенает Кальвин: создать свои творения столь несовершенными и аморальными, вечно склонными к пороку, неспособными познать божественное, стремящимися предаваться греху! Всякий раз, когда он смотрит на своих собратьев, его охватывает дрожь, и, возможно, ни один из великих основателей религии никогда не унижал достоинства человека столь глубоко и грубо; он называет его «bete indomptable et feroce» [31], и еще хуже, «une ordure» [32], a в своем «Institution Chrйtienne» пишет буквально следующее: «Если посмотреть только на природные данные человека, то с головы до ног в нем не найти даже тени доброты. Все, что хоть немного достойно в нем похвалы, идет от милости божьей… Вся наша справедливость — несправедливость, наши заслуги — дрянь, наша слава — позор. А самые лучшие дела, которые мы творим, все еще порочны и отравлены нечистой плотью и смешаны с грязью». Тот, кто рассматривает человека в философском смысле как подобного рода неудачное и нелепое создание бога, будучи богословом и политиком, разумеется, никогда не согласится с тем, что бог предоставил такому чудовищу хотя бы малейшую степень свободы и самостоятельности. Значит, такое существо, испорченное, и подвергающееся опасности из-за своей жажды жизни, следует безжалостно взять под опеку, ибо «если человека предоставить самому себе, то его душа способна только на зло». Раз и навсегда следует покончить с самоуверенностью детей Адамовых, полагающих, будто у них есть какое-то право строить свои отношения с богом и с земным миром в соответствии со своей личностью, и чем суровее ломают это своеволие, чем больше человека подчиняют и обуздывают, тем лучше для него. Только не давать никакой свободы, потому что человек всегда будет злоупотреблять ею! Унижать его с помощью силы перед величием бога! Отрезвлять его высокомерие и запугивать, пока он безропотно но вольется в благочестивое и покорное стадо, пока все исключительное не растворится бесследно в общем порядке, а индивидуум — в массе!
Для того чтобы столь жестоко лишить личность прав, по-варварски ограбить ее ради общества, Кальвин применяет особую методику, знаменитую «discipline», «церковное повиновение». И едва ли когда-нибудь, вплоть до наших дней, человечеству навязывалась более суровая узда. С самого начала этот гениальный организатор загоняет свое «стадо», свою «общину» в сеть из колючей проволоки параграфов и запретов, так называемых «ордонансов», и одновременно, чтобы следить за осуществлением своего морального террора, основывает собственное ведомство — «консисторию», задача которой вскоре определяется в высшей степени двусмысленно: «наблюдать за общиной, чтобы по-настоящему чтили бога». Но сфера влияния этой инспекции нравов только внешне ограничивается религиозной жизнью. Ведь в тоталитарном представлении Кальвина о государстве земная жизнь и мировоззрение полностью сливаются, и тогда даже самое сокровенное проявление жизни автоматически попадает под контроль власти; ищейкам из консистории, «ansiens» [33], настоятельно предписывается «следить за жизнью каждого». Ничто не должно ускользнуть от их внимания, и «контролировать следует» не только «произнесенное слово, но также мнения и взгляды».
Само собой разумеется, с того дня, когда в Женеве вводится такой всеобщий контроль, больше не существует частной жизни. Кальвин одним махом обогнал католическую инквизицию, которая все же сначала рассылала своих шпионов и соглядатаев для получения сообщений или доносов. Но, согласно мировоззренческой системе Кальвина, каждый человек постоянно склонен к злу, и поэтому в Женеве каждого заранее подозревают в грехах, и он должен мириться с надзором. Со времени возвращения Кальвина во всех домах разом открылись двери, а стены вдруг стали прозрачными. В любой момент, днем и ночью, в ворота могут резко постучать, и появится член религиозной полиции для «досмотра», причем горожанин не может ему помешать. Самый богатый и самый бедный, самый значительный и самый мелкий должны по меньшей мере раз в месяц давать подробный отчет этим профессиональным шпионам от морали. В ордонансах говорится: «Следует располагать достаточным временем, чтобы не спеша вести расследование» — и вот убеленные сединами, почтенные, испытанные мужи, как ученики в школе, должны позволять часами проверять себя: хорошо ли они знают наизусть молитвы или почему они пропустили хоть одну проповедь Кальвина. Но и после такого экзамена по катехизису и рассуждений о морали проверка отнюдь не закончена. Потому что эта полиция нравов вмешивается во все. Она ощупывает женские платья: не слишком ли они длинны или коротки, нет ли на них лишних оборок или рискованных вырезов; она осматривает прическу: не чересчур ли замысловато она сооружена, и пересчитывает кольца на пальцах и туфли в шкафу. Из комнат идут к кухонному столу — не готовится ли супчик или кусок мяса сверх единственного дозволенного блюда, не спрятаны ли где-нибудь сладости или варенье. А благочестивый полицейский идет по дому все дальше. Он влезает в книжный шкаф: нет ли там какой-нибудь книги без штампа августейшей цензуры консистории, он роется в ящиках: не спрятаны ли там икона или четки. Он выспрашивает слуг о господах, детей — об их родителях. Одновременно он прислушивается к уличному шуму: не поет ли кто-нибудь светскую песню, не играет ли на музыкальном инструменте, или, может быть, предается дьявольскому пороку веселья. Ибо теперь в Женеве постоянно преследуется любая форма развлечений, любой «paillardise» [34], и горе тому гражданину, который попадется на том, что зашел однажды после работы в таверну выпить глоток вина либо развлечься игрой в кости или карты!
День за днем идет эта охота на людей, и даже в воскресенье шпионы от морали не делают передышки. Они опять обходят все переулки, стучат в каждую дверь и смотрят, не предпочел ли какой-нибудь лодырь или нерадивый остаться в постели, вместо того чтобы получать духовное наслаждение от проповеди господина Кальвина. А в церкви уже стоят наготове другие соглядатаи, они доносят на каждого, кто слишком поздно входит в храм божий или хочет раньше времени покинуть его. Эти официальные пастыри от морали вездесущи и неутомимы; вечерами они прочесывают темные беседки на берегу Роны: не предается ли какая-нибудь грешная пара невинным ласкам, на постоялых дворах роются в постелях и чемоданах иностранцев. Они вскрывают каждое письмо, которое посылают из Женевы или в Женеву, и хорошо организованная бдительность консистории распространяется далеко за городские стены. В карете, в лодке, на корабле, на иностранных ярмарках и на соседних постоялых дворах — повсюду сидят ее платные шпионы; каждое слово, которое произнес какой-нибудь недовольный в Лионе или Париже, неизбежно становится известным. А вскоре к этим официальным или платным надсмотрщикам присоединяются бесчисленные добровольцы, что делает эту уже самое по себе невыносимую слежку еще более невыносимой. Потому что везде, где государство терроризирует своих граждан, процветает отвратительное явление — добровольный донос. Там, где в принципе разрешается и даже поощряется доносительство, честные в обычных условиях люди из-за страха сами становятся доносчиками: только чтобы отвести от себя подозрение в «преступлении против бога», каждый косо смотрит на своих сограждан и подсматривает за ними. К тому же «zelo della paura», усердие страха, нетерпеливо опережает всех доносчиков. И уже через несколько лет консистория могла бы, по сути дела, прекратить всякий надзор, потому что все граждане стали добровольными контролерами. Днем и ночью течет мутный поток доносов и поддерживает постоянное движение мельничного колеса церковной инквизиции.
Как в условиях такого постоянного морального террора чувствовать себя уверенным и невиновным в нарушении заповедей бога, если Кальвин, в сущности, запретил все, что делает жизнь радостной и желанной? Запрещены театры, увеселения, народные празднества, танцы и игры в любой форме; даже такой невинный спорт, как бег на коньках, вызывает желчное недоброжелательство Кальвина. Запрещена всякая иная одежда, кроме самой скромной, почти монашеской: так, портным запрещено шить по новым фасонам без разрешения магистрата, девушкам в возрасте до пятнадцати лет запрещено носить шелковые платья, а после этого — бархатные, запрещены платья с вышивкой золотом и серебром, золотые галуны, пуговицы и пряжки и вообще всякое употребление золота и украшений из драгоценного металла. Мужчинам запрещено носить длинные волосы с пробором, женщинам — делать любые пышные прически с завивкой, запрещены кафтаны с кружевами, перчатки, оборки и модная обувь. Запрещено пользоваться носилками и voitures roulantes [35]. Запрещены семейные торжества с участием более двадцати человек, запрещено во время крестин или помолвок подавать больше определенного числа блюд или сладостей, например варенья. Запрещено пить иное вино, кроме местного красного, запрещено произносить тосты, запрещены дичь, птица и паштеты. Супругам запрещено во время свадьбы или шесть месяцев спустя делать друг другу подарки. Само собой разумеется, запрещены всякие внебрачные связи; и помолвленным — тоже никакого снисхождения. Местным жителям запрещено заходить в трактир, трактирщику запрещено подавать иностранцу еду и питье прежде, чем он совершит молитву, а, кроме того, ему строго вменяется в обязанность шпионить за своими гостями, «diligemment» [36] следить за каждым подозрительным словом или намерением. Запрещено без разрешения печатать книгу, запрещено писать за границу, запрещено искусство во всех своих формах, запрещены иконы и скульптуры, запрещена музыка. Даже во время благочестивого пения псалмов ордонансы приказывают «тщательно следить за тем», чтобы внимание обращалось не на мелодию, а на дух и смысл слов, так как «бога следует прославлять только живым словом». Отныне некогда свободным гражданам не разрешается даже свободно выбирать имена для крещения детей. Запрещаются хорошо известные на протяжении столетий имена Клод и Амаде, потому что их нет в Библии, а вместо них навязываются библейские, например Исаак и Адам. Запрещено произносить «Отче наш» по-латыни, запрещено отмечать праздничные дни пасхи в рождества, запрещено все, что нарушает торжеством серую однообразность бытия, запрещены, разумеется, даже проблески духовной свободы в печатном или устном слове. И запрещена — как высшее из всех преступлений — любая критика диктатуры Кальвина: под звук барабанов настоятельно предостерегают «говорить об общественных делах иначе, чем в присутствии Совета».
Запрещено, запрещено, запрещено — зловещий ритм. И озадаченно спрашиваешь себя: что же разрешается женевскому гражданину после стольких запретов? Немного. Разрешено жить и умирать, работать и повиноваться и ходить в церковь. И даже больше того, последнее не только разрешено, но и предписывается законом под страхом самого строгого наказания. Ибо горе тому гражданину, который пропускает проповедь в своем приходе, две по воскресеньям, три в течение недели и «урок благочестия» для детей! Ибо принуждение не смягчается даже в воскресенье, неумолимо движется круг обязанностей, обязанностей, обязанностей. После тяжелой службы ради хлеба насущного — служба богу, неделя для работы — воскресенье для церкви; так и только так можно убить в человеке дьявола, а вместе с тем, конечно, всякую свободу и радость жизни.
Но с удивлением спрашиваешь себя, как республиканский город, который десятилетиями жил по-гельветически свободно, мог выносить такую савонаролову диктатуру, а доныне по-южному веселый парод — подобное подавление жизнерадостности? Как удавалось одному аскету-интеллектуалу совершать такое абсолютное насилие над радостью бытия тысяч и тысяч? Секрет Кальвина не нов, он вечен для всех диктатур: террор. Не следует заблуждаться: насилие, которое ничего не боится и издевается над всякой гуманностью как над слабостью, — это чудовищная сила. Систематически совершенствуемый, деспотически осуществляемый государственный террор парализует волю отдельного человека, ослабляет а подтачивает всякую общность. Он въедается в души как изнурительная болезнь и — это его последний секрет — вскоре всеобщая трусость становится ему помощником и прибежищем, потому что если каждый чувствует себя подозреваемым, он начинает подозревать другого, а боязливые из-за страха еще и торопливо опережают приказы и запреты своего тирана. Организованное господство страха всегда совершало чудеса, а Кальвин никогда не медлил, снова и снова осуществляя это чудо, если речь шла о его авторитете; едва ли какой-нибудь духовный деспот превзошел его в неумолимости, и его жестокость не извиняет то, что она — как все свойства Кальвина — была, по сути дела, лишь продуктом его идеологии. Конечно, этот человек духа, этот неврастеник, этот интеллектуал лично питал исключительное отвращение к крови и, будучи неспособным — как он сам признается — выносить жестокость, никогда не был в состоянии присутствовать ни на одной из совершавшихся в Женеве пыток или казней. Жестокое, безжалостное отношение к любому «грешнику» Кальвин считал самым главным положением своей системы, а полное ее осуществление, в том числе и в области мировоззрения, — обязанностью, возложенной на него богом; таким образом, он полагал лишь своим долгом вопреки собственной природе воспитывать в себе неумолимость, систематически закаливать в себе жестокость с помощью дисциплины; он «упражняется» в нетерпимости как в высоком искусстве: «Я упражняюсь в суровости во имя подавления всеобщих пороков». Конечно, этому человеку, обладавшему железной волей, великолепно удалось подготовить себя для совершения зла. Он открыто признает, что предпочитает видеть, как понес наказание невиновный, чем если хоть один виновный избежит божьего суда, и когда случилось, что одна из многих казней из-за неловкости палача превратилась в невольную пытку, Кальвин, извиняясь, пишет Фарелю: «Конечно, не без особой воли божьей вышло так, что приговоренные вынуждены были терпеть такое продолжение мучений». Лучше быть слишком суровым, чем слишком мягким, когда речь идет о «чести бога», аргументирует Кальвин. Нравственное человечество может возникнуть только с помощью постоянной кары.
Нетрудно представить себе, к какому кровопролитию вело осуществление подобного тезиса о неумолимом Христе, о боге, который неустанно «должен защищать свою честь», в том, еще средневековом мире. Уже за первые пять лет господства Кальвина в относительно небольшом городе тринадцать человек повешены, десять обезглавлены, тридцать пять сожжены, кроме того семьдесят шесть изгнаны из своих домов, и это не считая большого числа тех, кто своевременно бежал от террора. Вскоре все темницы в «Новом Иерусалиме» настолько переполнены, что их комендант вынужден сообщать магистрату; он больше не может принимать новых заключенных. Не только приговоренные, по и просто подозреваемые подвергаются столь ужасным мучениям, что обвиняемые предпочитают кончать жизнь самоубийством, нежели следовать в камеру пыток; в конце концов совет вынужден даже издать распоряжение, согласно которому заключенные днем и ночью должны находиться в наручниках, «чтобы предотвратить случаи подобного рода». Но Кальвин никогда не скажет ни одного слова, чтобы прекратить эти зверства; наоборот, по его настоятельному совету наряду с тисками для пальцев и дыбой при допросе с пристрастием вводится еще chauffement de pieds, прожигание подошв ног. Ужасна цена, которую город платит за «порядок» и «дисциплину», ибо никогда Женева не знала стольких кровавых приговоров, наказаний, пыток и ссылок, как с тех пор, когда там от имени бога начал господствовать Кальвин.
Однако наибольшую опасность представляли не эти варварские кровавые приговоры, с помощью которых Кальвин подавил чувство свободы у жителей Женевы; по-настоящему изнуряющее действие оказывали систематические мучения и ежедневные запугивания. Возможно, на первый взгляд покажется смехотворным, в какие мелочи вмешивается «discipline» Кальвина. Но не следует недооценивать изощренности этого метода. Кальвин намеренно соткал сеть запретов с такими плотными мелкими ячейками, что проскользнуть и остаться на свободе, по сути дела, невозможно: он намеренно нагромождает запреты именно в самых незаметных мелочах, чтобы каждый постоянно чувствовал себя виновным и возникало непрерывное состояние страха перед всесильным, всезнающим авторитетом. Ибо чем больше ловушек ставят справа и слева на повседневном пути человека, тем труднее ему ступать свободно и прямо, и вскоре в Женеве становится невозможно чувствовать себя уверенно, так как консистория объявляет грехом любой беззаботный вздох. Нужно лишь полистать список протоколов совета, чтобы понять изощренность метода запугивания. Один горожанин улыбнулся во время обряда крещения: три дня тюрьмы. Другой, утомленный летней жарой, заснул во время проповеди: тюрьма. Рабочие ели на завтрак паштет: три дня на воде и хлебе. Два горожанина играли в кегли: тюрьма. Два других поспорили на четверть вина: тюрьма. Один человек отказался окрестить своего сына именем Авраам: тюрьма. Слепой скрипач играл музыку для танцев: изгнан из города. Другой горожанин хвалил перевод Библии, выполненный Кастеллио: изгнан из города. Девушку уличили в катании на коньках, женщина бросилась на могилу своего мужа, горожанин во время богослужения предложил своему соседу щепотку табаку: вызов в консисторию, строгое предупреждение и покаяние. И так далее и тому подобное, без конца и края. Какие-то весельчаки в день богоявления запекли боб в пирог: на двадцать четыре часа посажены на хлеб и воду. Один горожанин сказал «мсье» Кальвин вместо «метр» Кальвин, двое крестьян, как издавна принято, заговорили о делах: тюрьма, тюрьма, тюрьма! Человек играл в карты: поставлен к позорному столбу с картами вокруг шеи. Другой задорно пел на улице: указано, что «петь на улице» означает быть высланным из города. Двое слуг лодочника подрались, никого не убив при этом: казнены. Трое несовершеннолетних мальчишек, которые творили непристойности друг с другом, сначала приговорены к сожжению, затем помилованы — публично поставлены перед горящим костром. Наиболее жестоко карается, конечно, всякое проявление сомнений в государственной и религиозной непогрешимости Кальвина. Человека, который открыто выступал против учения Кальвина о предопределении, до крови бичуют на всех перекрестках города, а затем высылают. Владельцу типографии, который в пьяном виде обругал Кальвина, прежде чем выгнать его из города, проткнули язык раскаленным железом; Жака Грюе подвергли пыткам и казнили только за то, что он назвал Кальвина лицемером. Каждый проступок, даже самый ничтожный, кроме того, тщательно отмечается в актах консистории, так что частная жизнь любого отдельного гражданина постоянно находится на виду; полиция нравов Кальвина забывает или прощает так же мало, как и он сам.
Такой вечно бодрствующий террор неизбежно должен был разрушить внутреннее достоинство и силу личности и массы. Когда каждый гражданин в государстве постоянно обязан быть готовым к обыску, к осуждению, когда он постоянно чувствует невидимые взоры шпиков, фиксирующие всякое его действие, всякое слово, когда днем и ночью неожиданно могут распахнуться двери дома для внезапных «досмотров», тогда постепенно слабеют нервы, возникает массовый страх, которым со временем заражаются даже самые мужественные. Всякая воля к самоутверждению должна в конце концов ослабевать в столь безнадежной борьбе, и благодаря его системе воспитания, благодаря «discipline» город Женева вскоре действительно стал именно таким, каким хотел его видеть Кальвин: богобоязненным, робким и рассудочным, без сопротивления добровольно подчинившимся одной-единственной воле — его.
Два года такой дисциплины, и Женева начинает изменяться. Как будто серая пелена легла на когда-то свободный и радостный город. Пестрые одежды исчезли, краски поблекли, колокола на башнях больше не звонят, не слышно бодрых песен на улицах, все дома стали безликими, лишенными украшений, как кальвинистская церковь. Опустели трактиры, с тех пор как скрипка больше не играет музыки для танцев, не разлетаются весело кегли, а кости больше с легким треском не постукивают по столу. Танцевальные площадки пустуют, темные аллеи, где обычно попадались влюбленные пары, покинуты, только голое пространство церкви собирает людей по воскресеньям в серьезное и молчаливое сообщество. Город получил иной, строгий и суровый, облик, облик Кальвина, и постепенно все его жители, из-за страха или неосознанного приспособления, принимают его напряженную манеру держаться, его мрачную замкнутость. Они больше не шагают легко и свободно, взгляды больше не отваживаются выказать теплоту из опасения, что сердечность могут посчитать чувственностью. Они разучились быть непринужденными, боясь мрачного человека, который сам никогда не выказывает веселого настроения. Вместо того чтобы говорить, они привыкли шептаться даже в самом узком кругу, потому что за дверью могла подслушивать прислуга, из-за ставшего уже хроническим страха они затылком ощущают повсюду невидимых подлиз и подслушивающих. Только бы стать незаметным! Только бы не выделяться ни одеждой, ни необдуманным словом, ни бодрым выражением лица! Только бы не попасть под подозрение, только бы о тебе забыли! Охотнее всего жители Женевы остаются дома, ведь тогда засов и стены хоть как-то все-таки защищают их от наблюдения и подозрения. Но они сразу же с испугом отшатываются от окна и бледнеют, если случайно видят, что по улице идет один из людей консистории; кто знает, что сообщил или сказал о них сосед? Если же им нужно выйти на улицу, то они крадутся с опущенным взором, немые и тихие, в своих темных одеждах, будто идут к проповеди или на похороны. Даже дети, растущие в этом новом строгом воспитании и сильно напуганные во время «уроков благочестия», больше не играют громко и весело; они уже склоняются как бы в ужасе перед невидимым ударом, невеселые и пугливые, они подрастают подобно цветам, которые с трудом распускаются не на солнце, а в холодной тени.
Равномерно, словно часовой механизм, никогда не нарушаемый праздниками и торжествами, в печальном и холодном «тик-так» движется ритм этого города, монотонный, размеренный и надежный. Новый или чужой человек, идя по улице, подумал бы, что в городе траур — так угрюмо и холодно смотрят люди, так немы и безрадостны переулки, такая будничная и подавленная здесь духовная атмосфера. Конечно, воспитание и дисциплина — это великолепно, но такая строгая размеренность и воздержанность, которую Кальвин навязал городу, куплена неизмеримой потерей всех священных сил, которые всегда возникают только от избытка и изобилия. И если этот город сможет назвать множество своих благочестивых, богобоязненных граждан, прилежных теологов и серьезных ученых, то еще и через два столетия после Кальвина Женева все-таки не породит ни одного художника, ни одного музыканта, ни одного артиста с мировой славой. Исключительное отдано в жертву ординарному, творческая свобода — беспрекословному раболепию. И когда наконец впоследствии в этом городе снова родится человек, обладающий артистической натурой, то вся его жизнь станет гневным мятежом против насилия над личностью; только в лице своего самого независимого гражданина, Жан-Жака Руссо, Женева полностью освободится от Кальвина.
ПОЯВЛЕНИЕ КАСТЕЛЛИО
Бояться диктатора совсем не означает любить его, и поэтому тот, кто внешне подчиняется террору, еще долго не признает его правомерности. Конечно, в первые месяцы после возвращения Кальвина горожане и власти еще единодушно восхищаются им, многие сначала восторженно упиваются единообразием. Но вскоре наступает отрезвление. Ибо, само собой разумеется, все, кто призывал Кальвина для установления порядка, втайне надеялись, что, как только «discipline» будет обеспечена, этот свирепый диктатор ослабит свою жестокость, поставленную выше морали. Вместо этого они видят изо дня в день, что узда натягивается все сильнее, они никогда не слышат ни одного слова благодарности за свои чудовищные жертвы личной свободой и радостью, с горькой обидой они вынуждены выслушивать с кафедры, например, такие речи: необходима была бы виселица для казни семисот или восьмисот молодых жителей Женевы, чтобы ввести, наконец, настоящие нравы и повиновение в этом разложившемся городе. Только теперь они обнаруживают, что вместо врачевателя душ, которого они вымаливали, они призвали в город тюремщика своей свободы, а все более суровые принудительные меры в конце концов возмущают даже самых верных его сторонников.
Итак, прошло всего несколько месяцев, а в Женеве уже опять возникло недовольство Кальвином: издалека, как идеал, его «discipline» выглядела значительно более привлекательной, чем в своей властной реальности. Теперь романтические краски бледнеют, и те, кто вчера ликовал, начинают тихо стонать. Но в любом случае необходим видимый и понятный всем предлог, чтобы развенчать личный ореол диктатора, и вскоре такой предлог находится. В первый раз жители Женевы начинают сомневаться в человеческой непогрешимости консистории во время той ужасной эпидемии чумы, которая в течение трех лет (с 1542 по 1545 год) свирепствовала в городе. Потому что с тех пор, как один из проповедников заразился и умер, остальные проповедники, которые обычно под угрозой самого страшного наказания требовали, чтобы каждый больной в течение трех дней обязательно позвал священника к своей постели, оставляют больных чахнуть и умирать в чумном госпитале без религиозного утешения. Магистрат умоляет: пусть найдется хоть один член консистории «для ободрения и утешения бедных больных в чумном госпитале». Но не вызвался никто, кроме доктора Кастеллио, которому, однако, не доверяют поручения, потому что он не является членом консистории. Сам Кальвин позволяет своим коллегам провозгласить себя «незаменимым» и открыто настаивает, что «не годится оставлять всю церковь на произвол судьбы, дабы помочь ее части». Но и другие проповедники, которые не должны были осуществлять столь важной миссии, упорно скрывались вдалеке от опасности. Напрасны все мольбы совета, обращенные к трусливым пастырям душ: один даже заявляет без обиняков, что «лучше они пойдут на виселицу, чем в чумной госпиталь», и 5 января 1543 года Женева переживает удивительную сцену, когда все городские проповедники реформатской церкви с Кальвином во главе появляются на собрании Совета, чтобы там публично сделать постыдное признание: ни один из них не обладает мужеством пойти в чумной госпиталь, хотя они знают, что в их обязанности входит служить богу и его святой церкви и в хорошие и в тяжелые дни.
Но ничто не воздействует на народ более убедительно, чем личное мужество его вождей. В Марселе, Вене и других городах еще сотни лет спустя отмечается память тех героических священников, которые во время больших эпидемий несли утешение в больницы для бедных. Народ никогда не забывает такого героизма своих пастырей, но еще меньше — их личное малодушие в решающий момент. Жители Женевы теперь с яростной издевкой наблюдают его и насмехаются над тем, как священники, которые еще недавно патетически требовали с кафедры самых больших жертв, оказались не готовы даже к самой малой, и напрасно разыгрывают гнусный спектакль, чтобы направить всеобщее озлобление в другое русло. А именно: по приказу совета схватили несколько нищих и самым жестоким образом пытали до тех пор, пока они не сознались, что они якобы принесли чуму в город, смазав ручки дверей мазью, изготовленной из экскрементов дьявола. И Кальвин, этот ум, всегда обращенный вспять, признает себя убежденным защитником средневекового заблуждения, вместо того чтобы, как подобает гуманисту, с презрением выступить против подобных бабьих сплетен. Но еще больше, чем публично высказанное им убеждение, что «semeurs de peste» [37] получили по заслугам, ему вредит сделанное с кафедры заявление, будто бы одного человека из-за безбожия дьявол средь бела дня вытащил из постели и бросил в Рону; впервые Кальвин вынужден пережить, что некоторые из его слушателей даже не делали усилий, чтобы скрыть свои насмешки над таким суеверием.
Во всяком случае значительная часть той веры в его непогрешимость, которая означает для каждого диктатора необходимый психологический элемент власти, была разрушена во время эпидемии чумы. Наступает несомненное отрезвление: сопротивление распространяется более быстро и во все более широких кругах. Но, к счастью для Кальвина, оно только распространяется, а не сплачивается. Ибо временное преимущество диктатуры, которое обеспечивает ей господство еще и тогда, когда она давно уже находится в численном меньшинстве, неизменно заключается в том, что ее военизированная воля выступает воедино сплоченной и организованной, в то время как противостоящая ей воля, возникая в разных точках и преследуя разные цели, или вообще не объединяется в действительную ударную силу, или делает ото слишком поздно. Даже если многие люди внутренне противятся диктатуре, это не приносит результатов до тех пор, пока они не будут действовать сообща по единому плану, сплоченно. Поэтому в большинстве случаев от того момента, когда авторитет диктатора впервые пошатнулся, до его свержения предстоит долгий и продолжительный путь. Кальвин, его консистория, его проповедники и его сторонники из эмигрантов представляют единый блок воли, сплоченную, целеустремленную силу; его противники, наоборот, рекрутируются без разбора изо всех возможных кругов и классов. Это, с одной стороны, бывшие католики, которые еще тайно привержены своей старой вере, но наряду с ними — и пьяницы, у которых отняли трактир, и женщины, которым не разрешают наряжаться, опять же старые женевские патриции, озлобленные новоиспеченными голодранцами, которые, едва появившись как эмигранты, укрепились на всех должностях, — эта сильная числом оппозиция состоит, с одной стороны, из самых именитых, а с другой — из самых жалких элементов; но пока недовольство не будет объединено идеей, оно остается бессильным ропотом, силой потенциальной, по отнюдь не действительной. Никогда случайно собравшаяся толпа не может противостоять обученной армии, стихийное недовольство — организованному террору. Поэтому в первые годы Кальвину нетрудно обуздывать эти разрозненные группы, они ведь никогда не выступают против него как единое целое, и он может разделываться неожиданным ударом поочередно с каждой из них.
По-настоящему опасным для носителя идеи всегда бывает лишь человек, который противопоставляет ему другую мысль, а это Кальвин сразу видел своим ясным и недоверчивым взглядом. Поэтому с первого до последнего часа он изо всех своих противников больше всего боялся единственного, который духовно и нравственно был равен ему и который со всей страстью свободной совести восставал против его духовной тирании: а именно Себастьяна Кастеллио.
Только один портрет Кастеллио дошел до нас, да и тот, к сожалению, посредственный. На нем — исключительно одухотворенное, серьезное лицо с открытым, так и хочется сказать — искренним, взглядом, с высоким чистым лбом: больше вы ничего не увидите. Этот портрет не позволяет всмотреться в глубину характера, но самую существенную черту этого человека, его внутреннюю уверенность и уравновешенность, он демонстрирует все-таки недвусмысленно. Если портреты обоих противников, Кальвина и Кастеллио, поместить рядом, то противоположность, которая впоследствии так резко проявится в духовной сфере, видна уже в сфере чувственного: лицо Кальвина — сама напряженность, судорожно и болезненно сконцентрированная энергия, которая нетерпеливо и упрямо жаждет разрядиться, облик Кастеллио мягкий, полный выжидающей невозмутимости. Взгляд одного — настоящий огонь, у друтого — абсолютно спокойный, темные глаза, нетерпение против терпения, неуравновешенное рвение против настойчивой решительности, фанатизм против гуманизма.
О молодости Кастеллио мы знаем почти так же мало, как о его внешности. Он родился на шесть лет позднее Кальвина, в 1515 году, в пограничном районе между Швейцарией, Францией и Савойей. Его называли Шатийон или Шатайон, возможно также во время господства Савойи иногда Кастеллионе или Кастильоне, но его родным языком был, по-видимому, не итальянский, а французский. А его собственным языком вскоре становится латынь, так как в двадцать лет Кастеллио оказывается студентом университета в Лионе и там к знанию французского и итальянского языков добавляет абсолютное владение латинским, греческим и еврейским. Позднее он присоединяет к ним немецкий язык, да и во всех других областях знаний его прилежание и эрудиция оказываются столь выдающимися, что гуманисты и теологи единодушно причислили его к самым ученым мужам своего времени. Вначале молодого студента, который под влиянием крайней нужды честно зарабатывал свой хлеб уроками, привлекли художественные искусства; так возникает ряд латинских стихов и сочинений. Но вскоре им овладевает страсть более сильная, нежели отжившая древность: он чувствует, сколь мощно влекут его новые проблемы времени. Классический гуманизм, если рассматривать его исторически, знал, по сути дела, очень короткий и славный период расцвета, всего лишь несколько десятилетий между великими эпохами Ренессанса и Реформации, Только в этот момент молодежь надеется на спасение мира с помощью обновления классиков, систематического образования; но вскоре даже самым страстным, лучшим из этого поколения начинает казаться, что снова и снова обрабатывать старые пергаменты Цицерона и Фукидида — больше занятие для стариков, низкая работа извозчика, и это в то время, когда религиозная революция, начавшись в Германии, словно лесной пожар охватывает миллионы душ. Вскоре во всех университетах больше дискутируют о старой и новой церкви, чем о Платоне и Аристотеле, вместо пандектов[38] профессора и студенты исследуют Библию; как в более поздние времена политическая, национальная или социальная волна захлестывает всю молодежь Европы, так и в шестнадцатом веке ею овладевает неудержимая страсть размышлять, высказываться, содействовать религиозным идеям того времени. И Кастеллио захвачен ею, а решающим для его гуманной натуры становится личное переживание. Когда в Лионе он первый раз присутствует при сожжении еретиков, его до самой глубины души потрясает, с одной стороны, жестокость инквизиции, а с другой — мужественное поведение жертв. С этого дня он желает жить и бороться за новое учение, в котором он видит свободу и освобождение.
Разумеется, с того момента, как двадцатипятилетний человек внутренне решил встать на сторону Реформации, его жизнь во Франции находится в опасности. Там государство или система силой подавляют свободу вероисповедания, для тех, кто не хочет подчиняться насилию над своей совестью, существуют лишь три пути: можно открыто бороться с государственным террором и стать мучеником; этот наиболее смелый путь открытого сопротивления выбирают Беркен и Этьенн Доле[39], конечно, поплатившись за свой протест сожжением на костре. Или же, чтобы сохранить одновременно и внутреннюю свободу и жизнь, можно внешне подчиниться и скрывать свое собственное мнение — это прием Эразма и Рабле, которые внешне поддерживают мир с церковью и государством, чтобы, закутавшись в мантию ученого или прикрывшись колпаком шута, пускать ядовитые стрелы из-за спины, ловко избегая насилия, обманывая жестокость хитростью, на манер Одиссея. Третьим выходом остается эмиграция: попытка унести внутреннюю свободу невредимой из страны, где ее преследуют и подвергает опале, в другую землю, где она может дышать беспрепятственно. Кастеллио, прямой, но в то же время мягкий по природе, выбирает, как и Кальвин, этот самый мирный путь. Весной 1540 года, вскоре после того, как он с истерзанным сердцем наблюдал в Лионе сожжение первого протестантского мученика, он покидает свою родину, чтобы отныне стать вестником и спасителем евангелического учения.
Кастеллио направляется в Страсбург, как и большинство религиозных эмигрантов, «propter Calvinum», из-за Кальвина. Потому что с тех пор, как этот человек в предисловии к «Institutio» столь смело потребовал от Франциска I терпимости и свободы вероисповедания, он, хотя сам был еще так молод, считается среди всей французской молодежи глашатаем и знаменосцем евангелического учения. Все эти преследуемые беженцы надеются с помощью того, кто умеет формулировать требования и ставить цели, обрести цель жизни. Как ученик, и восторженный ученик — ибо свободная натура Кастеллио еще видит в Кальвине представителя духовной свободы, — Кастеллио сразу же направляется к нему в дом и в течение недели живет в студенческом приюте, который организовала в Страсбурге жена Кальвина для будущих миссионеров нового учения. Но до желанных более близких отношений в тот момент дело не дошло, потому что вскоре Кальвина отозвали для участия в соборах в Вормсе и Хагенау. Упущена возможность наладить отношения. Однако вскоре выясняется, что двадцатичетырехлетний Кастеллио уже произвел соответствующее впечатление. Ибо как только был окончательно утвержден отзыв Кальвина в Женеву, то по предложению Фареля и, без сомнения, с согласия Кальвина молодого ученого приглашают преподавателем в женевскую школу. Ему специальным решением присвоено звание ректора, даны в подчинение два сверхштатных учителя, и, помимо того, на него возложена обязанность вести проповеди в церкви в женевском приходе Вандевр, к чему он так стремился.
Кастеллио полностью оправдывает это доверие, и, кроме того, его преподавательская деятельность приносит ему особый литературный успех. Чтобы сделать изучение латыни для учеников более увлекательным, Кастеллио переводит наиболее живые эпизоды из Ветхого и Нового завета в форме латинского диалога. Вскоре небольшая книга, которая была задумана прежде всего как шпаргалка для женевских детей, станет всемирно известной, сравнимой по своему литературному и педагогическому воздействию, возможно, только с «Разговорами» Эразма. И даже столетия спустя будут перепечатывать маленькую книжку, в свет вышло не менее сорока семи изданий ее, сотни тысяч учеников выучили по ней основы своей классической латыни. И если с точки зрения гуманистических устремлений она была лишь побочным и случайным трудом, то этот латинский букварь стал все же первой книгой, благодаря которой Кастеллио выдвинулся в духовном отношении на передний план своего времени.
Но честолюбие Кастеллио стремится к более высоким целям, чем написание интересного и полезного справочника для школьников. Не для того он отошел от гуманистических дел, чтобы растрачивать свои силы и эрудицию на мелочи. Этот молодой идеалист вынашивает высокий план, который в определенной степени должен одновременно и повторить и превзойти грандиозные свершения Эразма и Лютера: он планирует не больше и не меньше, как еще один перевод всей Библии на латинский и на французский языки. И его народ, французы, должны обладать всей истиной, как мир гуманистов и немецкий мир благодаря творческой воле Эразма и Лютера. И со всей упорной и спокойной религиозностью своего существа Кастеллио принимается за эту огромную работу. Молодой ученый, который целыми днями напряженно, малооплачиваемым трудом добывает скудное пропитание для своей семьи, ночь за ночью работает над осуществлением самого священного замысла, которому он посвятит всю свою жизнь.
Однако с первых шагов Кастеллио наталкивается на решительное сопротивление. Один женевский книготорговец изъявил готовность напечатать первую часть его латинского перевода Библии. Но в Женеве Кальвин — неограниченный диктатор во всех духовных и религиозных делах. Без его согласия, без его разрешения в стенах города не может быть выпущена ни одна книга, цензура всегда является естественным порождением, как бы родственницей всякой диктатуры. Поэтому Кастеллио отправляется к Кальвину, один ученый к другому ученому, один теолог к другому теологу, и по-товарищески обращается к нему за разрешением. Но авторитарные натуры всегда видят в самостоятельно мыслящих людях несносного соперника. Первое движение Кальвина — негодование и едва скрытое недовольство. Потому, что он сам написал предисловие к французскому переводу Библии, выполненному одним из его близких, и тем самым в определенной степени признал его «Vulgata»[40] официально действительной для всего протестантского мира. Какова же «смелость» этого «молодого человека», что он не хочет скромно признать единственной законной и правильной самим Кальвином одобренную и при его участии созданную версию, а вместо этого предлагает свою собственную, новую! В письме к Вире ясно чувствуешь раздраженную досаду Кальвина на «самонадеянного» Кастеллио. «Теперь послушай о фантазии нашего Себастьяна: он дает нам повод не только посмеяться, но и прогневаться. Три дня назад он пришел ко мне и попросил разрешения опубликовать свой перевод Нового завета». Уже по этой иронической интонации можно представить, как сердечно он принял своего соперника. Действительно, Кальвин, не долго думая, отделывается от Кастеллио: он готов дать Кастеллио разрешение, но только при условии, что сначала получит возможность прочитать перевод и исправить то, что он, со своей стороны, сочтет нужным исправить.
Для характера Кастеллио по самой сути нет ничего более чуждого, чем самодовольство или самоуверенность. Никогда он, как Кальвин, не считал свое мнение единственно верным, свой взгляд на какой-нибудь предмет безукоризненным и неоспоримым, и его более позднее предисловие к этому переводу представляет собой образец научной и человеческой скромности. В нем он открыто пишет, что сам понял не все места Священного писания, и поэтому предупреждает читателя, чтобы тот не доверял бездумно его переводу, ведь Библия — темная книга, она полна противоречий, а то, что предлагает он, — лишь толкование, но ни в коем случае не окончательный вариант.
Но насколько скромно и по-человечески Кастеллио оценивает свое собственное произведение, настолько неизмеримо высоко он как человек ставит благородство личной независимости. Сознавая, что как знаток древнееврейского и древнегреческого языка, как ученый он ни в коей мере не уступает Кальвину, он справедливо видит унижение в его стремлении подвергать цензуре сверху донизу, в его авторитарной претензии «улучшать». Находясь в свободной республике, ученый рядом с ученым, теолог рядом с теологом, он не хочет ставить себя и Кальвина в отношения ученика и учителя, не хочет допустить, чтобы с его трудом обращались просто как с ученическим заданием, при помощи красного карандаша. Чтобы найти гуманный выход и засвидетельствовать свое личное уважение к Кальвину, он предлагает в любое время, которое устроило бы Кальвина, читать ему рукопись вслух и заранее выражает готовность принять даже самые мелкие его советы и предложения. Но Кальвин в принципе противник всякой любезности. Он не хочет советовать, он хочет только приказывать. Он отказывается коротко и резко. «Я сообщил ему, что даже если он пообещает мне сто крон, я не выражу готовности связать себя уговором на определенное время, чтобы затем в течение нескольких часов спорить об одном-единственном слове. После этого он ушел, обиженный».
Впервые скрестились клинки. Кальвин почувствовал, что Кастеллио не склонен безвольно подчиняться ему в религиозных а духовных делах, среди всеобщей лести он обнаружил извечного противника всякой диктатуры, независимого человека. И с этого часа Кальвин решил при первой же возможности лишить должности и, если получится, убрать из Женевы этого человека, который хочет служить не ему, а лишь своей собственной совести.
Кто ищет предлог, тот всегда сумеет его найти. Кальвину не пришлось долго ждать. Потому что Кастеллио, который не может прокормить свою многочисленную семью на слишком скудное жалованье школьного учителя, добивается более соответствующего его способностям и лучше оплачиваемого места «проповедника слова божьего». С того часа, как он покинул Лион, это было целью его жизни — стать служителем и глашатаем евангелического учения. Вот уже несколько месяцев блестящий теолог ведет проповеди в приходе Вандевр, не вызывая ни малейшего упрека в городе со строгими нравами; и ни один человек в Женеве не может с таким же основанием требовать включения в число проповедников. Действительно, просьба Кастеллио встречена единодушным согласием магистрата, и 15 декабря 1543 года принимается решение: «Так как Себастьян является ученым человеком и весьма пригодным для служения церкви, сим приказываем зачислить его на церковную должность».
Но магистрат не принял в расчет Кальвина. Как? Не спросив его заранее самым почтительным образом, магистрат распорядился сделать проповедником и, значит, членом консистории Кастеллио, человека, который благодаря внутренней независимости может стать неугодным ему? Кальвин сразу же выдвигает протест против назначения Кастеллио и в письме обосновывает свои самовольные действия неясными словами: «Существуют серьезные причины, которые препятствуют его назначению… Я во всяком случае лишь намекнул на эти причины перед советом, но не указал на них, и в то же время выступил против всякого ложного подозрения, чтобы оставить его имя нетронутым. Моим намерением является пощадить его».
Когда читаешь эти темные и таинственно звучащие слова, то прежде всего закрадывается неприятное подозрение. Действительно, разве это не выглядит так, как будто против Кастеллио имелось нечто позорящее его, что делало невозможным для него занять место проповедника, какой-то порок, который Кальвин милосердно скрывает под покровом христианского снисхождения, чтобы «пощадить» его. Спрашивается, какое правонарушение совершил этот многоуважаемый ученый, о чем Кальвин столь великодушно умалчивает? Посягал на чужие деньги, насиловал женщин? Разве его известное всему городу безупречное поведение скрывает какое-нибудь тайное заблуждение? Но с помощью намеренной неясности Кальвин позволяет совершенно неопределенному подозрению витать над Кастеллио, а для чести и престижа человека пет ничего более губительного, чем «щадящая» двусмысленность.
Однако Себастьян Кастеллио не хочет, чтобы его «щадили». Совесть его чиста и ясна, и как только он узнает, что именно Кальвин хотел коварно помешать его назначению, он выступает и требует, чтобы Кальвин публично в присутствии магистрата объяснил, по каким причинам ему следует отказать в должности проповедника. Теперь Кальвин обязан раскрыть карты и указать на таинственное правонарушение Кастеллио; в конце концов становится известно преступление, о котором столь тактично умалчивал Кальвин: Кастеллио — ужасное заблуждение! — в двух второстепенных теологических комментариях к Библии не совсем согласен с мнением Кальвина. Во-первых, он высказал точку зрения — и здесь с ним открыто или молча согласятся, конечно, все теологи, — что «Песнь песней Соломона» является не религиозным, а светским сочинением; гимн Суламифи, груди которой резвятся подобно двум молодым сернам на пастбище[41], явно представляет собой светское любовное стихотворение, а вовсе не прославление церкви. Второе отклонение тоже незначительно: сошествию Христа в ад Кастеллио придает иное значение, чем Кальвин.
Таким образом, «великодушно умалчивавшееся» преступление Кастеллио выглядит чересчур мелким и незначительным, чтобы из-за этого следовало отказать ему в сане проповедника. Но — здесь, по существу, и зарыта собака — для такого человека, как Кальвин, в области учения нет мелкого и незначительного. Для его методичного ума, который стремится к высшему единству и авторитету новой церкви, самое малое отклонение кажется столь же опасным, как и самое большое. В своем грандиозном логическом построении Кальвин стремится к тому, чтобы каждый камень и каждый камешек оставались незыблемыми на своем месте, и как в политической жизни, в области морали и права, так и в религиозном смысле любая форма свободы является для него принципиально невозможной. Если его церкви суждено существовать и дальше, она должна оставаться авторитарной, от фундамента до самого последнего украшения, а кто не признает этого руководящего принципа, кто пытается мыслить самостоятельно, в либеральном духе, тому нет места в его государстве.
Поэтому изначально тщетны усилия, когда совет вызывает Кастеллио и Кальвина на открытую дискуссию, чтобы они мирно уладили свои разногласия. Ведь все время следует помнить: Кальвин хочет только учить, но никогда не позволяет поучать себя или обращать себя в новую веру, он никогда и ни с кем не дискутирует, оп диктует. Сразу, с первого слова оп призывает Кастеллио «признать наше мнение» и остерегает его «доверять собственному суждению», действуя тем самым совершенно в духе своего мировоззренческого вывода о необходимости единства и авторитета в церкви. Но и Кастеллио остается верен себе. Потому что свобода совести для Кастеллио — высшая добродетель, и он готов заплатить за эту свободу любую земную цену. Он точно знает, что достаточно просто подчиниться Кальвину в этих двух ничтожных деталях, и ему сразу же было бы обеспечено выгодное место в консистории. Но, неподкупный в своей независимости, Кастеллио возражает: он не может обещать того, чего он не сможет выполнить, не действуя против своей воли. Поэтому обмен мнениями остается безрезультатным. В эту минуту в лице двух человек сталкиваются либеральное направленно в Реформации, которое требует свободы в религиозных делах для каждого, и ортодоксальное направление; и после этого безуспешного столкновения с Кастеллио Кальвин по праву может написать: «Он — человек, который, насколько я могу судить по нашим беседам, имеет обо мне такие представления, что трудно предположить, что когда-нибудь между нами могло бы возникнуть согласие».
Но что это за «представления» Кастеллио о Кальвине? Кальвин сам разглашает их, когда пишет: «Себастьян вбил себе в голову, что я будто бы стремлюсь к власти». Действительно, нельзя более правильно изобразить положение вещей. Кастеллио довольно быстро догадался о том, что вскоре узнают остальные: в соответствии со своей тиранической натурой Кальвин принял решение терпеть в Женеве только одно мнение, свое, и шить в сфере его духовного влияния можно, только рабски подчиняясь каждой букве его доктрины, как де Без и другие приспешники. Но Кастеллио не хочет дышать тюремным воздухом духовного принуждения. Он не для того сбежал от католической инквизиции во Франции, чтобы подчиняться новому протестантскому духовному надзору, не для того он отказался от старой догмы, чтобы стать служителем новой. Для него Христос не такой, каким его видит Кальвин, непримиримый формалист, Евангелие которого — застывший и схематичный кодекс; Кастеллио видит в Христе только лишь самого человечного из людей, нравственный образец, которому каждый сам по себе и на свой лад должен смиренно следовать в жизни, не утверждая безрассудно по этой причине, что он и только он якобы знает истину. Сильная обида сжимает душу этого свободного человека, когда он вынужден наблюдать, как вновь назначенные проповедники в Женеве надменно и самоуверенно толкуют слово божье, будто оно понятно только им одним; его охватывает гнев по отношению к этим высокомерным людям, которые постоянно похваляются своим священным призванием, а обо всех остальных говорят как об отвратительных грешниках и недостойных. И когда однажды во время публичного собрания комментируются слова апостола: «Мы как посланники бога должны отличаться во всех делах большой терпимостью», Кастеллио неожиданно встает и требует от «посланников бога» все-таки когда-нибудь посмотреть и на себя, вместо того чтобы только проверять, наказывать и судить других. Вероятно, Кастеллио знал немало фактов (позднее они выясняются и из протоколов Совета), которые свидетельствуют, что нравственная безупречность женевских проповедников в их личной жизни была далека от пуританства, и поэтому он считал необходимым покарать когда-нибудь публично подобное ханжеское высокомерие. Дословный текст нападок Кастеллио известен нам, к сожалению, только в редакции Кальвина (который никогда не испытывал долгих сомнений, коли требовалось исказить смысл чужого высказывания, тем паче если речь шла о противнике). Но даже из его одностороннего изложения можно сделать вывод, что в это признание всеобщей греховности Кастеллио включал и самого себя, потому что он говорил: «Павел был слугой бога, а мы служим самим себе, он был терпимым, мы — весьма нетерпимы. Он терпел несправедливость от других, а мы преследуем невиновных».
Кальвин, присутствуя на этом собрании, кажется, совершенно неожиданно был поражен выпадом Кастеллио. Такой страстный, живой участник дискуссий, как Лютер, тотчас же вскочил бы и ответил пламенной речью, гуманист Эразм, вероятно, стал бы поучать и спокойно вести ученый спор; но Кальвин — в первую очередь реалист, тактик и практик, который умеет держать свой темперамент в узде. Он чувствует, как сильно подействовали слова Кастеллио на присутствующих и что было бы нецелесообразным выступать против него сейчас. Поэтому он остается безмолвным и сжимает узкие губы еще плотнее. «Я молчат в тот момент, — оправдывал он позднее эту намеренную сдержанность, — но только, чтобы не разжигатъ яростную дискуссию перед лицом многих врагов».
Он будет вести ее позднее, в узком кругу? Будет спорить с Кастеллио с глазу на глаз, точка зрения против точки зрения? Вызовет его в консисторию, потребует подтвердить общее обвинение именами и фактами? Ни в коем случае. Кальвину всегда была чужда всякая лояльность в политике. Для него любая попытка критики представляет собой не просто теоретическое разногласие во мнениях, а сразу же государственное правонарушение, преступление. Но наказывать за преступления — это дело светской власти. Туда, а не в консисторию тащит он Кастеллио, превращая дискуссию о нравственности в дисциплинарный акт. Его жалоба в магистрат города Женевы гласит: «Кастеллио унизил авторитет духовенства».
Совет собирается без особенно большого желания. Он не очень любит эти ссоры проповедников, потому что кажется, будто бы светской власти даже приятно, что наконец кто-то отважился и выступил с искренними, энергичными словами против самонадеянности консистории. Сначала советники долго откладывают решение, а их окончательный приговор оказывается откровенно двусмысленным. Кастеллио осудили устно, но не наказали и не уволили; только отстранили его от деятельности проповедника в Вандевре впредь до дальнейших распоряжений.
Кастеллио мог бы легко примириться с таким мягким выговором. Но внутренне он уже принял решение. Он снова видит подтверждение тому, что рядом с такой тиранической натурой, как Кальвин, в Женеве нет места для свободного человека. Поэтому он просит у магистрата освобождения от должности. Но уже в этой первой пробе сил он достаточно познакомился с тактикой своих противников, чтобы понять: пристрастные люди всегда обходятся с истиной как диктаторы, если она должна служить их политике; весьма справедливо он предвидит, что его добровольный и мужественный отказ от должности и звания будет задним числом искажен ложью, будто бы он потерял свое место по каким-то неблаговидным причинам. И потому Кастеллио, прежде чем покинуть Женеву, требует письменного свидетельства о происшедшем. Таким образом, Кальвин вынужден собственноручно подписать документ (его еще и ныне можно видеть в библиотеке в Базеле), в котором говорится, что Кастеллио не был назначен проповедником только потому, что существовали разногласия в двух частных теоретических вопросах. И дальше в документе говорится буквально следующее: «Чтобы никто не мог допустить иной причины отъезда Себастьяна Кастеллио, сим публично удостоверяем, что он по собственной воле (sponte) отказался от места учителя, а до того исполнял свои обязанности так, что мы считали его достойным принадлежать к сословию проповедников. Если он все-таки не был допущен, то это произошло совсем не потому, что в его поведении можно было обнаружить какой-нибудь порок, а исключительно по вышеназванной причине».
Изгнание единственного равного ученого из Женевы означает победу деспотизма Кальвина, но, по сути дела, пиррову победу. Потому что в самых широких кругах сожалеют об уходе многоуважаемого ученого, как о тяжелой потере. Открыто говорят, что «Кальвин совершил несправедливость по отношению к метру Кастеллио», и для всего международного круга гуманистов благодаря этому случаю становится очевидным, что Кальвин терпит в Женеве только попугаев и эпигонов, и еще два столетия спустя Вольтер приводит в качестве решающего доказательства тиранической духовной позиции Кальвина расправу с Кастеллио. «Об этой позиции можно судить по преследованиям, которым он подвергал Кастеллио, бывшего куда более крупным ученым, чем он сам, и которого его ревность изгнала из Женевы».
Но для упреков у Кальвина тонкая, очень тонкая кожа. Он сразу чувствует всеобщее недовольство, вызванное устранением Кастеллио. И как только он достиг своей цели, сумев изгнать из Женевы этого единственного независимого человека с именем, его начинает угнетать забота: общественность может поставить ему в вину, что теперь Кастеллио блуждает по свету совершенно без средств. И в самом деле, решение Кастеллио было актом отчаянным. Ведь как открытый противник политически самого могущественного протестанта он нигде в Швейцарии не может рассчитывать на быстрое получение должности в реформатской церкви; поспешное решение низвергло его в самую горькую нищету. Бывший ректор женевской реформатской школы бродит как нищий от двери к двери, и Кальвин достаточно дальновиден, чтобы понять: это откровенно бедственное положение изгнанного соперника должно принести ему самый большой вред. Поэтому теперь, когда Кастеллио больше не докучает ему своей близостью, он пытается облегчить изгнаннику путь к отступлению. С бросающимся в глаза усердием, чтобы оправдать себя, он пишет своим друзьям письмо за письмом, как он озабочен тем, чтобы обеспечить подходящее место бедному и нуждающемуся Кастеллио (который стал бедным и нуждающимся только по его вине). «Я бы желал, чтобы он мог устроиться где-нибудь без помех, и, со своей стороны, я согласился бы на это». Но Кастеллио не позволяет заткнуть себе рот, как надеялся Кальвин. Свободно и открыто он рассказывает повсюду, что вынужден был покинуть Женеву из-за властолюбия Кальвина, и таким образом попадает в самую чувствительную точку Кальвина, потому что тот никогда открыто не признавал своей диктаторской власти, но всегда хотел вызывать удивление собой как самым скромным, самым смиренным исполнителем своей тяжелой обязанности. Теперь тон его писем сразу меняется; у него сейчас же пропало сочувствие к Кастеллио. «Если бы ты знал, — жалуется он другу, — как лает на меня эта собака, — я имею в виду Себастьяна. Он рассказывает, что был изгнан с должности только из-за моей тирании, чтобы я мог править один». В течение нескольких месяцев тот самый человек, которому Кальвин собственноручно подписал документ, что он вполне достоин исполнять святую должность как слуга господа, стал для все того же Кальвина «bestia», «chien» [42] только потому, что он охотнее соглашался на самую горькую бедность, чем позволить купить себя с помощью доходного места и тем самым заткнуть себе рот.
Эта добровольно избранная героическая бедность Кастеллио вызывала удивление уже у современников. Монтень недвусмысленно отмечает: достойно сожаления, что такой заслуженный человек, как Кастеллио, вынужден был терпеть подобную нужду, и, конечно, добавляет он, многие люди были бы готовы помочь ему, если бы они своевременно получили известие об этом. Но в действительности люди совсем не выражают готовности избавить Кастеллио даже и от самой откровенной бедности. Пройдут еще годы и годы, прежде чем изгнанник добьется места, которое хоть сколько-нибудь соответствует его учености; а пока его не приглашает ни один университет, ему не предлагают места проповедника, потому что политическая зависимость швейцарских городов от Кальвина уже слишком велика, чтобы они рискнули открыто принять на службу противника женевского диктатора. Изгнанник с трудом находит, наконец, кое-какие средства к существованию в подчиненной должности корректора в базельской типографии Опорена; но нерегулярной работы недостаточно, чтобы содержать жену и детей, а поэтому Кастеллио вынужден, помимо того, добывать необходимые гроши в качестве домашнего учителя, чтобы прокормить свои шесть или восемь ртов. Еще много мрачных лет он должен прожить в невыразимой, мелкой, презренной, ежедневной, парализующей душу, сковывающей силы нужде, прежде чем, наконец, университет пригласит всесторонне образованного ученого по меньшей мере преподавателем греческого языка! Но и эта скорее почетная, чем доходная должность еще долго не дарует Кастеллио свободы от вечного ярма; всю свою жизнь крупный ученый — некоторые называли его даже первым ученым своего времени — будет вынужден снова и снова исполнять низкую подсобную работу. Он собственноручно вскапывает землю возле своего маленького дома в предместье Базеля, а так как дневной работы недостаточно, чтобы прокормить семью, Кастеллио мучается целые ночи напролет, исправляя печатные тексты, совершенствуя чужие труды, переводя со всех языков; насчитываются тысячи и тысячи страниц, которые он для заработка перевел для базельского издателя с греческого, еврейского, латинского, итальянского, немецкого языков.
Но эта многолетняя нужда сможет подорвать только его организм, его слабое, чувствительное тело, но никогда — независимость и решимость его гордой души. Потому что среди такой необозримой подневольной работы Кастеллио никогда не забывает свою собственную задачу. Он продолжает невозмутимо работать над трудом своей жизни, переводом Библии на латинский и французский языки; по ходу дела возникают статьи и полемические сочинения, комментарии и диалоги, не проходит ни дня, ни ночи, чтобы Кастеллио не работал; никогда этот вечный ломовой извозчик не знал ни радости путешествия, ни блаженства отдыха, ни ощутимого вознаграждения великой славой или богатством. Лучше этот свободный дух станет слугой вечной нужды, лучше предаст свой ночной сон, чем свою независимую совесть — великолепный пример тех скрытых, не замеченных миром героев духа, которые и во тьме забвения ведут борьбу за самое святое для них дело: за неприкосновенность слова, за непоколебимое право на собственные убеждения.
Непосредственное единоборство между Кастеллио и Кальвином еще не началось. Но два человека, две идеи взглянули друг другу в глаза и признали себя непримиримыми противниками. Для обоих стало невозможным даже хоть час жить в одном городе, в одном духовном пространстве; но и разъединенные, наконец, один в Базеле, другой в Женеве, они все-таки бдительно наблюдают друг за другом. Кастеллио не забывает Кальвина, а Кальвин — Кастеллио, и их молчание — только ожидание решающего слова. Ибо подобные, наиболее глубинные противоречия, которые представляют собой не просто различия во мнениях, а извечную вражду между двумя мировоззрениями, не могут поддерживать длительный мир; никогда духовная свобода не может ощущать свою полноту в тени диктатуры, никогда диктатура не может спокойно проявить себя во всей полноте, пока хоть один независимый человек остается в ее пределах. Но всегда нужен повод, чтобы обнаружила себя скрытая напряженность. Только когда Кальвин зажжет костер Сервета, воспламенится обвинение в устах Кастеллио. Только когда Кальвин объявит войну против всякой свободы совести, Кастеллио от имени совести объявит ему войну не на жизнь, а на смерть.
ДЕЛО СЕРВЕТА
Иногда случается, что история выбирает из миллионов людей одну-единственную фигуру, чтобы на ее примере образно продемонстрировать столкновение мировоззрений. Такой человек совсем не обязательно должен быть гением высшего порядка. Часто судьба удовлетворяется, вырвав из множества других совершенно случайное имя, чтобы навсегда вписать его в память потомков. Так и Мигель Сервет стал примечательной фигурой не в силу особого гения, но только лишь благодаря своему ужасному концу. В этом необычном человеке перемешались разносторонние, но не очень удачно совмещенные способности: сильный, живой, любознательный, своенравный интеллект, но мятущийся от одной проблемы к другой; подлинное стремление к истине, но отсутствие творческой ясности. Этот фаустовский ум не мог основательно заняться никакой наукой, хотя и тянулся к каждой, «вольный стрелок» одновременно в философии, медицине, теологии, иногда ослепляющий смелыми наблюдениями, а затем снова вызывающий раздражение легкомысленным шарлатанством. Во всяком случае, однажды в книге его пророческих заявлений сверкнуло действительно перспективное медицинское наблюдение, открытие так называемого малого круга кровообращения, но Сервет и не думает о том, чтобы систематически изучить свою находку и углубить в научном плане; эта гениальная вспышка блеснула из тьмы своего столетия как единственная преждевременная зарница. У этого одиночки много духовных сил, но только внутренняя целеустремленность превращает сильный дух в творческую личность.
То, что в каждом испанце есть частица Дон Кихота, повторялось до отвращения часто; и все же по отношению к Мигелю Сервету это наблюдение поразительно справедливо и прямо-таки бросается в глаза. Тщедушный бледный арагонец с острой бородкой обладает не только портретным сходством с худым и поджарым героем из Ла Манчи; и внутренне его сжигала такая же всепоглощающая и причудливая страсть бороться за то, что лишено смысла, и в неистовом идеализме нападать на все реальные преграды. Абсолютно лишенный всякой самокритичности, постоянно что-то открывая или утверждая, этот странствующий рыцарь теологии несется навстречу всем валам и ветряным мельницам своего времени. Его привлекают только приключения, все потустороннее, странное и опасное, и в неистовом задоре он ожесточенно бьется со всеми другими упрямцами, не связывая себя ни с какой партией, не принадлежа ни к какому клану, всегда в одиночестве, одновременно полный фантазий и лишенный практичности, и потому он — уникальная эксцентричная личность.
Тот, кто так сильно себя переоценивает и постоянно выступает один против всех, прямо-таки поневоле должен испортить со всеми отношения; примерно как и у Кальвина, у Сервета, еще подростка, уже произошло первое столкновение с миром: в пятнадцать лет он вынужден бежать от инквизиции из родного Арагона в Тулузу, чтобы продолжить там свои занятия. Затем из университета исповедник Карла V берет его в качестве секретаря в Италию, а позднее на Аугсбургский конгресс[43]; там юный гуманист, как и все его современники, оказывается во власти тогдашнего политического увлечения великим религиозным спором. При виде всемирно-исторического конфликта между старым и новым учением начинается брожение его беспокойного ума. Там, где все спорят, он тоже хочет участвовать в споре, где все пытаются реформировать церковь — он жаждет участвовать в преобразованиях, и с радикализмом молодости этот пылкий человек считает все предшествующие размежевания и отделения от старой церкви слишком медлительными, слишком спокойными, слишком нерешительными. Даже Лютер, Цвингли и Кальвин, эти смелые новаторы, еще долго кажутся ему недостаточно революционными при освобождении Евангелия, поскольку они продолжают включать догмат о триединстве в свое новое учение. И Сервет с непримиримостью двадцатилетнего человека объявляет Никейский собор[44] просто недействительным, а догмат о трех вечных ипостасях несовместимым с единой сущностью бога.
Подобная радикальная точка зрения ни в коем случае не выделялась бы в такое чересчур бурное время в религиозной жизни. Всегда, когда все ценности и законы уже пошатнулись, каждый стремится обрести для себя право думать самостоятельно и нетрадиционно. Но Сервет роковым образом перенимает у всех спорящих теологов не только страсть к дискуссии, но и самую плохую их особенность — фанатичное упрямство. Ибо человек двадцати лет сразу хочет доказать руководителям Реформации, что они реформировали церковь абсолютно недостаточно и только он, Мигель Сервет, знает истину. Он в нетерпении посещает крупных ученых своего времени Мартина Буцера и Капито в Страсбурге, Эколампадия в Базеле, чтобы призвать их как можно скорее ликвидировать «ложный» догмат о триединстве в евангелической церкви. Легко можно представить себе ужас достойных, зрелых проповедников и профессоров, когда у них в доме неожиданно появляется испанский студент и со всей неистовостью бурного и истеричного темперамента требует, чтобы они сразу отвергли все свои взгляды и послушно присоединились к его радикальному тезису. Они так осеняют крестным знамением этого дикого еретика, как будто дьявол во плоти послал им в рабочий кабинет брата из преисподней. Эколампадий выгоняет его из дома как собаку, называет его «иудеем, турком, богохульником и одержимым демоном», Буцер клеймит его с кафедры как слугу дьявола, а Цвингли публично предостерегает от «дерзкого испанца, ложное, вредное учение которого хочет покончить со всей нашей христианской религией».
Но как рыцарь из Ла Манчи во время своего странствия не позволял запугать себя оскорблениями и побоями, так и его земляк-теолог не позволит себе сомневаться в своей борьбе из-за аргументов или отказов. Если лидеры его не понимают, если мудрые и умные люди не хотят слушать его в своих рабочих кабинетах, то борьбу следует продолжить открыто; теперь пусть весь христианский мир прочтет его доказательства в виде книги! В двадцать два года Сервет собирает свои последние деньги и в Хагенау отдает свои тезисы в печать. Теперь буря против него разражается открыто. Буцер заявляет с кафедры ни много ни мало, что этот наглец заслуживает, чтобы ему «вырвали внутренности из живого тела», и с этого часа во всем протестантском мире Сервет считается избранным посланником воплощенного сатаны.
Разумеется, для человека, который столь провокационно противопоставил себя всему миру, который объявляет ложным одновременно католическое и протестантское учения о церкви, больше не находится спокойного места во всей христианской Западной Европе, для него нет ни дома, ни крыши над головой. С тех пор как Мигель Сервет благодаря своей книге оказался обвиненным в «арианской ереси»[45], человека с таким именем стали травить, он попал в положение более опасное, чем дикий зверь. Для него мыслимо еще единственное спасение: исчезнуть совершенно бесследно, сделаться невидимым и неуловимым, сорвать с себя свое имя как горящее платье; отверженный возвращается во Францию как Мишель Вильнев и под этим псевдонимом поступает корректором к одному типографу в Лионе. Его сильная дилетантская интуиция вскоре и в этой сфере находит новый стимул и полемические возможности. Во время корректуры «Географии» Птолемея Сервет за ночь превращается в географа и снабжает труд подробным введением. При сверке корректуры медицинских книг подвижный ум делает его медиком, через короткое время он уже всерьез принимается за изучение медицины; он едет в Париж, чтобы продолжить образование, и одновременно служит препаратором во время лекций Везалия по анатомии. Но снова, как до этого в теологии, он, нетерпеливый, не доучившись еще как следует до конца и, вероятно, не получив докторской степени, сразу жаждет поучать и превзойти всех других и в этом новом предмете. В медицинской школе в Париже он смело объявляет курс математики, метеорологии, астрономии и астрологии, но такое смешение астрономии и медицины и некоторые из его шарлатанских затей вызывают раздражение у врачей; Сервет-Виллановус [46] вступает в конфликт с авторитетами, и, наконец, его открыто обвиняют в парламенте, что, занимаясь своей астрологией, наукой, которая осуждена божественными и гражданскими законами, он совершает грубое бесчинство. Сервет спасается еще раз благодаря быстрому исчезновению, только поэтому при официальном расследовании не была обнаружена его идентичность с давно разыскиваемым закоренелым еретиком. Ночью доцент Виллановус исчез из Парижа, как некогда теолог Сервет исчез из Германии. Долго о нем ничего не слышно. А когда он вдруг опять появляется, то на нем уже другая маска: кто бы мог предположить, что новый лейб-медик архиепископа Польмье во Вьенне, благочестивый католик, который каждое воскресенье идет к мессе, — это опальный закоренелый еретик и осужденный парламентом шарлатан? Конечно, Мишель де Вильнев благоразумно остерегается распространять во Вьенне еретические тезисы. Он держится совершенно тихо и незаметно, он посещает и лечит многих больных, он зарабатывает достаточно денег, и добродетельные граждане Вьенна, ничего не подозревая, почтительно приподнимают шляпу, когда мимо них с достоинством испанского гранда шествует лейб-медик его архиепископского высокопреосвященства мсье доктор Мишель де Вильнев: какой благородный, благочестивый, ученый и скромный человек!
Но в действительности еретик отнюдь не умер в этом страстно честолюбивом человеке; в глубине души Мигеля Сервета непоколебимо живет старый, ищущий, беспокойный дух. Если однажды идея овладевает человеком, если она подчиняет его до самых глубин его мыслей и чувств, то она неудержимо вызывает внутреннюю лихорадку. Живая мысль никогда не хочет жить и погибать в одном-единственном смертном человеке, она требует пространства, и мира, и свободы. Поэтому у каждого мыслителя наступает час, когда идея его жизни выходит изнутри наружу, как заноза из нарыва на пальце, как ребенок из утробы матери, как плод из скорлупы. Человек со страстью и самоуверенностью Сервета не сможет долго удерживать мысль своей жизни только в себе; он должен неодолимо стремиться к тому, чтобы, наконец, весь мир думал, как и он. По-прежнему ежедневная мука совести для него — наблюдать, как протестантские руководители провозглашают ложные, по его мнению, догматы крещения детей и триединства, как все еще порочат христианство с помощью этих «антихристовых» заблуждений. И разве не его обязанность — выступить, наконец, вперед и принести всему миру послание истинной веры? Эти годы вынужденного молчания должны были ужасно угнетать Сервета. С одной стороны, его мучает невысказанное слово, с другой стороны, он как отверженный и скрывающийся не должен раскрывать рта. В таком мучительном состоянии Сервет пытается, наконец, — понятная потребность — по меньшей мере вдали, найти идейного собрата, с кем он может вести духовный разговор с глазу на глаз; поскольку у себя он ни с кем не отваживается достичь духовного согласия, он высказывает свои теологические убеждения в письменном виде.
Роковым образом именно Кальвин оказывается тем, кому ослепленный дарует свое полное доверие. Сервет надеется на понимание более строгого и более смелого толкования писания именно со стороны этого самого радикального и самого отважного новатора евангелического учения: возможно, тем самым он возобновит также и единственный бывший личный контакт. Ибо уже во время занятий в университете оба ровесника однажды встретились друг с другом в Париже; но только годы спустя, когда Кальвин стал уже властителем Женевы, а Мишель до Вильнев лейб-медиком вьеннского архиепископа, благодаря посредничеству одного лионского книготорговца между ними завязывается переписка. Инициатива исходит от Сервета. С настойчивостью, которую невозможно отклонить, даже с назойливостью, он обращается к Кальвину, чтобы привлечь этого сильнейшего теоретика Реформации к своей борьбе против догмата триединства, и пишет ему письмо за письмом. Сначала Кальвин отвечает, лишь доктринерски сдерживая его; сознавая свою обязанность учить заблуждающихся и в качестве руководителя церкви возвращать отбившихся в нужный загон, он пытается объяснить Сервету его ошибку; но в конце концов его ожесточает как еретический тезис, так и самоуверенный и диктаторский тон, в котором Сервет его высказывает. Писать столь авторитарной натуре, как Кальвин, которого уже малейшее возражение в любой мелочи приводит в ярость: «Я часто уведомлял тебя, что ты находишься на ложном пути, принимая чудовищные различия трех божественных сущностей» — уже это означает вызывать столь опасного противника на крайность. И наконец, когда Сервет посылает домой всемирно известному автору экземпляр его труда «Institutio religionis Christianae», в котором он как школьный учитель ученику отметил на полях замеченные им ошибки, то легко можно представить себе настроение, с которым властитель Женевы принимает эту дерзость теолога-любителя. «Сервет набрасывается на мои книги и марает их оскорбительными замечаниями, как собака, которая кусает камень и грызет его со всех сторон», — с презрением пишет Кальвин своему другу Фарелю. К чему терять время и спорить с таким безнадежным путаником? Он пинком отделывается от аргументов Сервета. «На слова этого индивидуума я обращаю внимание не больше, чем на крики осла (le hin-han d'une ane)».
Но вместо того чтобы почувствовать, на какую броню железной самоуверенности поднимает он свое тонкое копье, злосчастный Дон Кихот не уступает. Он жаждет любой ценой склонить к своей идее именно этого, одного-единственного человека, который не хочет ничего знать о нем, и не сдается; действительно, пишет Кальвин, он был как бы одержим «сатаной». Вместо того чтобы остерегаться Кальвина как наиболее опасного возможного противника, он даже посылает ему для прочтения еще не опубликованные отрывки из подготовленного им теологического труда, и если уже содержание должно возмутить Кальвина, то в первую очередь это относится к названию! Ибо свой труд о вере Сервет называет «Christianismi Restitiitio» [47], дабы весьма наглядно подчеркнуть перед всем миром, что «Institutio» Кальвина следовало бы противопоставить некое «Restitiitio». Теперь Кальвин приходит в бешенство от патологического стремления своего противника к изменениям и от его дурацкой назойливости. Он недвусмысленно уведомляет книготорговца Фреллона, который до сих пор был посредником в переписке, что у него есть поистине более срочные дела, чем возиться с таким самодовольным дураком. Но одновременно он пишет своему другу Фарелю — позднее эти слова приобретут страшный смысл: «Недавно Сервет написал мне и приложил к своему письму толстый том своих измышлений, утверждая с невероятной самонадеянностью, что я прочел бы там удивительные вещи. Он заявляет, что готов приехать сюда, если я этого пожелаю… Но я не хочу давать своего согласия; ибо если он приедет, то я, если я еще обладаю некоторым влиянием в этом городе, не допущу, чтобы он покинул его живым».
Получил ли Сервет сведения об этой угрозе или сам Кальвин (в несохранившемся письме) еще предостерег его — во всяком случае, по-видимому, его, наконец, охватило подозрение, какому страшному врагу он выдал себя; впервые ему становится жутко сознавать, что та опасная рукопись, которую он послал Кальвину «sub sigillo secreti» [48], и впредь будет находиться в руках человека, который столь откровенно выразил свою враждебность по отношению к нему. «Так как ты считаешь, — пишет он, напуганный, Кальвину, — что я для тебя сатана, то я кончаю. Вышли мне мою рукопись обратно и будь здоров. Но если ты искренне веришь, что папа — антихрист, то ты также должен быть убежден, что триединство и крещение детей, которые составляют часть папского учения, являются демонической догмой».
Но Кальвин остерегается отвечать, и еще меньше он думает о том, чтобы вернуть Сервету изобличающую рукопись. Тщательно, как опасное оружие, хранит он еретическое сочинение в ящике стола, чтобы его можно было извлечь в надлежащий момент. Потому что после этого последнего жесткого обмена мнениями они оба знают, что должна начаться борьба, и Сервет в мрачном предчувствии пишет в эти дни одному теологу: «Теперь мне абсолютно ясно, что мне предстоит принять смерть за это дело. Но эта мысль не может ослабить моего мужества. Как ученик Христа я иду вслед за моим учителем».
Каждому — Кастеллио, Сервету и сотням других — ясно, что выступать против такого фанатичного упрямца, как Кальвин, даже один-единственный раз, даже только против второстепенного пункта его учения — смелое и опасное для жизни дело. Ибо ненависть Кальвина, как и все в его характере, непреклонна и методична, это не стремительно возникающий и быстро остывающий порыв гнева, не неистовые вспышки Лютера и грубости Фареля. Его ненависть — неприязненное чувство, суровое, острое и режущее, как металл; она идет не от крови, не от темперамента, вспыльчивости или желчи — жесткая, холодная мстительность Кальвина идет из головы, и у его ненависти страшно хорошая память. Кальвин не забывает никогда и никого — «quand il a le dent contre quelqu'un ce n'est jamais fait» [49], — говорит о нем пастор де ла Map, a имя, которое он однажды вписал в свою память жестким грифелем, сотрется не раньше, чем самого человека вычеркнут из книги жизни. Поэтому и все те годы, в течение которых Кальвин больше ничего не слышит о Сервете, ничего не значат, все равно он его не забудет. Молча хранит он в ящике стола компрометирующие письма, в своем колчане — стрелы, в своей суровой и неумолимой душе — старую, неизменную ненависть.
Действительно, в течение этого долгого срока Сервет внешне держится совершенно тихо. Он отчаялся убедить неисправимого; вся его страсть направлена теперь на сочинение. Со скрытой и поистине потрясающей самоотверженностью лейб-медик архиепископа тайно продолжает трудиться над своим «Restitiitio», которое, как он надеется, должно намного превзойти реформацию Кальвина, Лютера и Цвингли в правдивости и освободить мир для истинного христианства. Ибо Сервет никоим образом и никогда не был тем «циклопическим хулителем Евангелия», как его позднее пытался заклеймить Кальвин, но также не был и смелым вольнодумцем и атеистом, как его иногда прославляют ныне. Сервет всегда оставался в религиозной сфере, и о том, насколько остро он воспринимал себя благочестивым христианином, который должен отдать свою жизнь за веру в божественное, свидетельствует призыв в предисловии к его книге. «О Иисус Христос, сын божий, данный нам свыше, откройся своему служителю, чтобы такое великое откровение стало для нас истинно ясным. Дело, которое я взялся защищать, следуя внутреннему божественному побуждению, принадлежит тебе. Первую попытку я уже сделал раньше; теперь меня снова принуждают к этому, ибо поистине время настало. Ты учил нас не утаивать нашего света; поэтому горе мне, если я не оглашу истину!»
Сервет полностью сознавал опасность, грозящую ему после опубликования книги, об этом свидетельствуют особые предосторожности при печатании. Риск чрезвычайный — печатать еретическое произведение объемом в семьсот страниц, будучи лейб-медиком архиепископа в болтливом маленьком городе. Не только автор, но и типограф и все подручные ставили на карту свою жизнь в столь безумно рискованном предприятии. Но Сервет охотно жертвует все свое состояние, с трудом составленное благодаря многолетней медицинской практике, чтобы подкупить колеблющихся рабочих и чтобы те, назло инквизиции, тайно печатали его произведение. Кроме того, в целях осторожности печатную машину переносят из типографии в уединенный дом, который Сервет снял специально для этой цели. Там над еретической книгой незаметно работают теперь надежные люди, которые под присягой обязались сохранить тайну, и, разумеется, в готовом произведении всякая отметка о месте печатания и выпуска отсутствует. Только на последней странице Сервет роковым образом позволит поместить над годом издания предательские инициалы M. S. V. (Мигель Сервет Виллановус) и таким образом предоставит ищейкам инквизиции неопровержимое доказательство своего авторства.
Но Сервету совсем не обязательно самому выдавать себя, об этом уже заботится внешне дремлющая, а в действительности зорко стерегущая ненависть его неумолимого противника. Грандиозная организация для слежки и шпионажа, которую Кальвин все более методично и тонко создавал в Женеве, действует во всех соседних странах, далеко по ту сторону границы, а во Франции даже лучше, чем папская инквизиция. Произведение Сервета еще не успело по-настоящему увидеть свет, еще почтя вся тысяча томов, связанных в пачки, лежит в Лионе или их нераспакованными в повозках для книг везут на ярмарку во Франкфурт, еще сам Сервет вручил так мало экземпляров, что ныне их всего сохранилось едва ли больше трех, а один все-таки уже находится в руках Кальвина. II тот сразу же приступает к делу, чтобы одним ударом уничтожить обоих, еретика и его произведение.
Это первое (менее известное) покушение Кальвина на убийство Сервета является, по существу, по своему коварству еще более отвратительным, чем публичное убийство на рыночной площади Шамиля впоследствии. Потому что если Кальвин, получив книгу, которую он считал архиеретической, хотел толкнуть своего противника в руки духовных властей, то для этого перед ним был открытый и честный путь. Ему достаточно было только с кафедры предостеречь христиан от чтения этой книги, и уж католическая инквизиция вскоре сама отыскала бы автора даже в тени архиепископского дворца. Но руководитель Реформации избавляет папский Officium [50] от трудов по розыску, причем самым вероломным образом. Тщетно те, кто прославляет Кальвина, пытаются защищать его и в этом, весьма темном вопросе, тем самым они недооценивают и обесцвечивают его характер. Кальвин — несомненно человек безупречного рвения и истинной религиозной воли — утрачивает все свои положительные качества, едва речь заходит о его догме, о «деле». Для своего учения, для своей партии он готов сразу одобрить любое средство, если только оно кажется действенным (и в этом пункте их полярность с Лойолой превращается в тождество). Едва лишь книга Сервета оказывается в руках Кальвина, как уже 16 февраля 1553 года один из его ближайших друзей, сторонник протестантизма, эмигрант по имени Гийом де Три, пишет из Женевы письмо во Францию своему кузену Антуану Арне, который остался таким же фанатичным католиком, каким протестантом стал де Три. В своем письме де Три сначала в общих словах хвалит то, как превосходно в протестантской Женеве подавляют все происки еретиков, пока в католической Франции этому сорняку позволяют буйно разрастаться. Но дружеская болтовня вдруг становится опасно серьезной: там, во Франции, пишет де Три, сейчас, например, находится еретик, который заслуживает сожжения, где бы его ни схватили («qui merite bien d'etre brule partout ou il sera»).
Невольно вздрагиваешь в испуге. Потому что это предложение уже опасно перекликается с заявлением Кальвина в свое время: если Сервет вступит в Женеву, он позаботится о том, чтобы тот больше не вышел из города живым. Но де Три, подручный Кальвина, выражается еще понятнее. Теперь он доносит совершенно открыто и ясно: «Речь идет об испанце из Арагона, имя которого — Мигель Сервет, но он называет себя Мишель де Вильнев и является врачом по профессии». Одновременно де Три прилагает титульный лист книги Сервета, содержание и четыре первых страницы. После этого он, посетовав со вздохом на греховность мира, посылает свое убийственное письмо.
Эта женевская мина заложена по всем правилам искусства, она должна взорваться в нужный час и в нужном месте. И действительно, все происходит так, как и предусматривалось подлым доносом. Благочестивый кузен-католик Арне, вконец растерянный, бросается с письмом к церковным властям Лиона, кардинал срочно призывает к себе папского инквизитора Пьера Ори. Колесо, приведенное в движение Кальвином, начинает вращаться с невероятной скоростью. 27 февраля прибыл донос из Женевы, 16 марта во Вьенне Мишель де Вильнев уже получает вызов.
Но какая горькая досада для благочестивых и усердных доносчиков из Женевы: искусно заложенная мина не взрывается. Чья-то готовая помочь рука, вероятно, обезвредила ее. По-видимому, архиепископ Вьенна in persona [51] подал своему лейб-медику нужный знак, чтобы тот своевременно скрылся. И когда инквизитор появляется во Вьенне, печатный ставок уже магическим образом исчез из того места, где печаталась книга, рабочие клятвенно заверяют, что они никогда не печатали ничего подобного, а многоуважаемый врач Виллановус с негодованием отрицает всякую тождественность с Мигелем Серветом. Странно, но инквизицию удовлетворяет одно это негодование, и столь явная снисходительность лишь подтверждает предположение, что чья-то влиятельная рука, должно быть, защитила тогда Сервета. Суд, который обычно сразу начинает с орудий пыток, оставляет Вильнева на свободе, инквизитор ни с чем возвращается в Лион, где Арне сообщают, что, к сожалению, переданная им информация недостаточна для обвинения. Замысел Женевы разделаться с Серветом окольным путем, через католическую инквизицию, кажется, плачевно провалился. И наверное, вся темная история кончилась бы ничем, если бы Арне во второй раз не обратился в Женеву, чтобы испросить у своего двоюродного брата де Три новые и на этот раз более веские доказательства.
До сих пор, видимо, еще можно было с самой крайней степенью снисходительности предполагать, что де Три и вправду исключительно от усердия в вере сообщает своему двоюродному брату-католику об авторе, ему лично неизвестном, и что ни он, ни Кальвин не предполагали, что их донос мог бы быть передан дальше, папским властям. Но теперь, когда машина правосудия уже пущена в ход и женевская группа должна точно знать, что Арне обращается к ним за дальнейшими доказательствами не ради собственного любопытства, а по поручению инквизиции, они уже больше не могут пребывать в неведении, кому, собственно, они оказывают услугу. По всем земным представлениям протестантский религиозный деятель должен был бы теперь ужаснуться тому, что служит шпионом как раз для той власти, которая только что опять сожгла нескольких друзей Кальвина на медленном огне, и впоследствии Сервет по праву бросит вопрос своему убийце Кальвину: «не было ли ему известно, что в обязанности слуги Евангелия не входит становиться официальным обвинителем и преследовать человека по долгу службы»?
Но когда речь идет о его учении, Кальвин — об этом следует постоянно помнить — теряет всякую меру нравственности и чувство гуманности. С Серветом следует покончить, а каким оружием и каким способом это осуществится — жестокому ненавистнику в тот момент совершенно безразлично. На деле все происходит самым подлым и позорным образом. Потому что новое письмо, которое де Три — без сомнения, по настоянию Кальвина — отправляет своему двоюродному брату Арне, является шедевром лицемерия. Де Три прежде всего делает вид, будто весьма удивлен тем, что его кузен передал письмо инквизиции. Он якобы сделал все-таки сообщение только «privetement, a vous seul» (только ему лично). «Я намеревался лишь показать, каково религиозное рвение тех, кто называет себя столпами церкви». Но теперь, вместо того чтобы отказаться от дальнейшего представления материала католической инквизиции (ведь ему все-таки известно, что готовится костер), этот жалкий доносчик, благочестиво воздев очи к небу, раз уж случилась ошибка, заявляет, что «бог хотел как лучше, чтобы христианство очистилось от подобной грязи и смертоносной чумы». И тут происходит невероятное: после этой недостойной попытки втянуть бога в дело о человеческой или, скорее, нечеловеческой ненависти, убежденный порядочный протестант вручает католической инквизиции самые убийственные доказательства, какие только можно себе представить, а именно: письма, написанные рукой Сервета, и отрывки из рукописи его сочинения. Теперь инквизитор может быстро и споро приняться за работу. Письма, написанные рукой Сервета? Но как и откуда де Три, которому Сервет никогда не писал, мог раздобыть эти письма? Игра в прятки кончилась: Кальвин должен выйти из укрытия, где он собирался затаиться во время этого темного дела. Конечно же, это письма, направленные Кальвину, и части посланной ему рукописи, а Кальвин — вот что важно — совершенно точно знает, для кого он достал их из ящика своего стола. Он знает, кому передадут эти письма: тем самым «папистам», которых он с кафедры ежедневно называет слугами сатаны и которые мучают и сжигают его собственных учеников. И он точно знает, для какой цели письма так срочно понадобились Великому инквизитору: чтобы возвести Сервета на костер.
Напрасно поэтому он позднее пытался фальсифицировать очевидный факт, когда писал как софист: «Ходит слух, будто бы я дал повод, чтобы Сервета схватила папская инквизиция, что я действовал непорядочно, выдав его смертельным врагам веры и бросив в волчью пасть. Но, помилуйте, каким образом я сумел бы вдруг наладить связь с папскими сателлитами? Маловероятно, что мы общаемся друг с другом и что те, кто относится ко мне, как Велиал [52] к Христу, были в заговоре со мной». И все же эти логические ослиные скачки вокруг истины слишком неловки; ведь если Кальвин бормочет, «каким образом он сумел бы наладить связь с папскими сателлитами», то документы дают ошеломляюще ясный ответ: прямым путем, через своего друга де Три, который, между прочим, сам в своем письме к Арне совершенно наивно признает пособничество Кальвина: «Должен сознаться, что мне стоило больших усилий получить у господина Кальвина документы, которые я прилагаю. Не потому, что он придерживается взгляда, будто такое позорное богохульство не следует подавлять, а потому, что он считает своим долгом убеждать еретиков с помощью учения, а не преследовать их мечом правосудия». Совершенно напрасно неумелый автор пытается (безусловно, под давлением Кальвина) снять всю вину с истинного виновника, когда пишет: «Я так наседал на господина Кальвина и так убедительно доказал ему, что, если он не поможет, на меня падет упрек в легкомыслии, что в конце концов он все-таки предоставил имеющийся материал в наше распоряжение». Документальные факты говорят здесь лучше, чем все искусные слова: вольно или невольно, но все-таки Кальвин с целью убийства выдал «папским сателлитам» направленные ему частным образом письма Сервета. Только благодаря его сознательному пособничеству оказалось возможным, чтобы де Три мог приложить убийственные доказательства к своему письму Арне — а в действительности в адрес папской инквизиции — и закончить письмо откровенным намеком: «Я полагаю, что вооружил Вас хорошим материалом и теперь не составит сложности захватить Сервета и привлечь его к суду».
Есть сведения, что, когда кардинал де Турнон и Великий магистр Ори неожиданно получили эти неопровержимые доказательства против еретика Сервета именно благодаря любезному рвению своего смертельного врага, закоренелого еретика Кальвина, они тотчас же разразились громким смехом, и хорошее настроение князей церкви вполне понятно: ханжеский стиль очень неискусно скрывает несмываемое позорное пятно на чести Кальвина — руководитель протестантизма по доброте, из кротости и дружеской верности де Три, но все же, все же, все же им, именно им хочет самым любезным образом помочь сжечь еретика. Подобная учтивость и обходительность обычно не были приняты между представителями обеих религий, которые ожесточенно боролись друг с другом во всех странах земного шара огнем и мечом, с помощью виселицы и колесования. Сразу же после этого приятного момента отдохновения инквизиторы энергично принимаются за свое жестокое дело. Сервета хватают, сажают под арест и срочно допрашивают. Представленные Кальвином письма являются таким потрясающим, убийственным доказательством, что обвиняемый больше не может отрицать авторства книги и того, что Мишель де Вильнев и Мигель Сервет — одно лицо. Его дело проиграно. Скоро во Вьенне запылает костер.
Однако горячая надежда Кальвина, что заклятые враги помогут ему самому освободиться от заклятого врага, и во второй раз оказалась преждевременной. Или у Сервета, которого уже давно любили в этой местности как врача, были особенно хорошие помощники, или — что еще более вероятно — авторитеты церкви доставили себе удовольствие действовать несколько халатно именно потому, что Кальвину было столь необходимо невероятно срочно поставить этого человека к позорному столбу; они полагали, что лучше дать уйти незначительному еретику, чем услужить метру Кальвину, в тысячу раз более опасному организатору и распространителю всей ереси! Охрана Сервета остается откровенно небрежной. В то время как обычно еретиков запирали в тесных камерах и приковывали к стене железными кандалами, Сервету совсем неожиданно позволяют ежедневно совершать прогулки в саду, чтобы глотнуть свежего воздуха. А 7 апреля после такой прогулки Сервет исчез, тюремщик нашел лишь его домашний халат и лестницу, с помощью которой он перебрался через садовую ограду; на рыночной площади Вьенна вместо живого человека сожгли только его портрет и пять пачек книги «Restitiitio». Утонченно разработанный женевский план предательски разделаться с личным духовным противником с помощью фанатизма других, чтобы самому остаться с чистыми руками, провалился жалким образом.
Кальвин с руками, обагренными кровью, отмеченный ненавистью всех гуманных людей, должен будет сам отвечать за то, что он продолжал яростно преследовать Сервета и предал человека смерти только за его убеждения.
УБИЙСТВО СЕРВЕТА
После побега из тюрьмы Сервет на несколько месяцев бесследно исчез. Никто никогда не смог бы себе представить, сколько душевных мук вытерпел этот затравленный человек, прежде чем однажды августовским днем, одолжив у кого-то лошадь, въехал он в самый опасный для него город на земле, в Женеву, и остановился в гостинице «У Розы».
Почему этот «malis auspiciis appulsus» [53], этот, как позднее выразился Кальвин, ведомый несчастливой звездой человек, искал приюта именно в Женеве, навсегда останется необъяснимым. Провел ли он там действительно только одну-единственную ночь, собираясь на следующий же день бежать на лодке дальше через озеро? Надеялся ли, что в личной беседе сможет скорее переубедить своего заклятого врага, нежели в письмах? Или же его поездка в Женеву была всего лишь одним из тех безрассудных действий истерзанных нервов, тем дьявольски сладостным, жгучим желанием игры с опасностью, которое овладевает человеком именно в минуту крайнего отчаяния? Мы не знаем и никогда не сможем узнать этого. Ни один из протоколов допросов не пролил свет на настоящую загадку: почему Сервет приехал в Женеву, и именно в Женеву, где от Кальвина он мог ожидать только самой лютой жестокости.
Но вызывающая, безрассудная смелость заводит злосчастного еще дальше. Едва добравшись до Женевы, он отправляется воскресным днем в церковь, где собралась вся община кальвинистов, да к тому же — по иронии судьбы — из всех церквей именно в ту, в которой проповедовал Кальвин, единственный, кто знал его в лицо с тех давних парижских дней. И тут уж торжествует какой-то психический гипнотизм, исключающий всякое логическое объяснение: змея ли ищет взгляда своей жертвы или же, скорее, жертва — ее стальной, притягательно страшный взгляд. В любом случае некая таинственная сила увлекала Сервета навстречу его судьбе.
Однако в городе, где каждый совершенно официально обязан следить за другим, чужак неизбежно привлечет к себе любопытные взгляды. И моментально происходит то, чего и следовало ожидать: Кальвин распознает хищного волка посреди своего благочестивого стада и немедленно отдает охранникам приказ схватить Сервета при выходе из церкви. Час спустя Сервет уже в цепях.
Разумеется, арест Сервета был явным правонарушением, грубым попранием международного права и священного во всех странах мира закона гостеприимства. Сервет ведь иностранец, испанец; он впервые попал в Женеву, следовательно, был не в состоянии совершить такой проступок, который потребовал бы лишения его свободы. Написанные им книги все без исключения были изданы за границей, таким образом, он не мог никого подстрекать, не мог погубить своими еретическими взглядами ни одной набожной души в Женеве. К тому же «проповеднику слова божия», духовному лицу никак уж не подобало арестовывать кого-либо в пределах Женевы и заключать в оковы без вынесенного прежде постановления суда. С какой стороны ни взгляни, нападение Кальвина на Сервета представляет собой всемирно-исторический акт диктаторского произвола, сравнимого в своем откровенном надругательстве над всеми уставами и договорами только с нападением и убийством Наполеоном герцога Энгиенского[54]: и здесь тоже после противозаконного лишения свободы начался над Серветом не обычный судебный процесс, а преднамеренная, не завуалированная никакой ложью во спасение расправа.
Безо всякого предварительного обвинения Сервет был взят под стражу и брошен в тюрьму; теперь хотя бы задним числом необходимо было сфабриковать обвинение. По логике вещей человек, на чьей совести был этот арест — «me auctore», по моему распоряжению, как Кальвин сам признался в этом, — и должен был бы выступить в качестве обвинителя. Но, по истинно образцовым женевским законам, каждый гражданин, обвиняющий другого в преступлении, сам тот час же должен быть взят под стражу и пробыть в заключении до тех пор, пока не будет доказана обоснованность обвинения. Таким образом, чтобы публично обвинить Сервета, Кальвин должен был сам предстать перед судом. Однако Кальвин, теократический владыка Женевы, решил, что для столь неприятной процедуры он слишком хорош, ведь если Совет признает невиновность Сервета, он сам останется в тюрьме как доносчик и клеветник. Какой удар по его авторитету — какой триумф для его врагов! Поэтому Кальвин, ловкий как всегда, предоставляет неприятную роль обвинителя своему секретарю Николаусу де ла Фонтену, и действительно, послушно, без единого слова его секретарь дал засадить себя в тюрьму, успев прежде передать властям состоящее из двадцати трех пунктов обвинение против Сервета, составленное, естественно, Кальвином: комедия переходит в жестокую трагедию. Но теперь, после вопиющего нарушения закона, создается хотя бы видимость судебной процедуры. Впервые Сервет был подвергнут допросу, и в ряде параграфов сообщалась суть различных обвинений против него. Спокойно и рассудительно отвечал Сервет на все вопросы и обвинения; его энергия еще не сломлена тюремным заключением, его нервы в порядке. Пункт за пунктом отклоняет он обвинения, и среди прочего в том, что в его сочинениях якобы подвергалась нападкам личность самого г-на Кальвина. Это было явное искажение фактов, ведь Кальвин обрушился на него первым, и только в ответ Сервет попытался объяснить, что и Кальвин не свободен от ошибок в некоторых своих суждениях. Пусть Кальвин обвиняет его в том, что он, Сервет, твердо отстаивает некоторые свои тезисы, но и он в свою очередь может обвинить его в таком же упорстве. Речь может идти только о расхождениях в их теологических взглядах, которые не подвластны светскому суду, и если Кальвин все же заточил его, то это лишь из соображений личной мести. Не кто иной, как вождь протестантизма в свое время донес на него католической инквизиции, и отнюдь не этому проповеднику божьего гласа он обязан тем, что еще тогда не был предан огню.
Возражения Сервета были юридически столь неопровержимо обоснованными, что мнение совета стало склоняться в его пользу, и, возможно, все закончилось бы простой высылкой Сервета за пределы страны. Но Кальвин по каким-то признакам, должно быть, почувствовал, что с делом Сервета не все в порядке и что жертва в конце концов может ускользнуть от него. Поэтому 17 августа он неожиданно появился перед советом и разом покончил с комедией своей мнимой непричастности. Ясно и напрямик он раскрывает свои карты; Кальвин больше не отрицает, что настоящим обвинителем Сервета является он сам, и просит у совета разрешения с этого момента принимать участие в допросах под лицемерным предлогом, будто «сам он сумеет полнее раскрыть перед обвиняемым суть его заблуждений», на деле же для того, чтобы появлением своим предотвратить возможное освобождение жертвы.
С той минуты, как Кальвин собственной властью встал между обвиняемым и его судьями, положение Сервета стало скверным. Искусный логик, высокообразованный юрист, Кальвин сумел по-иному повести наступление, нежели мелкий секретарь де ла Фонтен, и по мере того как обвинитель все больше демонстрировал свою силу, обвиняемый терял уверенность в себе. Вспыльчивый испанец на глазах стал утрачивать самообладание, когда внезапно увидел рядом с судьями своего обвинителя и смертельного врага, холодного, сурового, задающего для видимости абсолютной объективности лишь отдельные вопросы, но Сервет всеми фибрами души ощутил железную решимость с помощью этих вопросов загнать его в угол и задушить. Жгучая жажда борьбы овладела несчастным; вместо того чтобы спокойно, невозмутимо отстаивать свою юридически прочную позицию, он позволил Кальвину с помощью хитрых вопросов увлечь себя на зыбкую почву теологических дискуссий и сильно повредил себе проявлением своего безграничного упрямства. Даже одного утверждения, что дьявол — тоже часть божественной субстанции, было абсолютно достаточно, чтобы у благочестивых советников мурашки забегали по коже. Но ущемленный однажды в своем философском честолюбии, Сервет начал безудержно разглагольствовать о наиболее деликатных и каверзных догматах веры, как будто советники, сидящие напротив него, были просвещенными богословами, перед которыми он совершенно беззаботно мог рассуждать об истине. Именно эти яростные речи и жажда спора возбудили подозрения у судей; все более склоняются они к точке зрения Кальвина: этот чужеземец, который со сверкающими глазами и сжатыми кулаками проповедует против учения их церкви, должно быть, опасный возмутитель духовного спокойствия и, по всей вероятности, ужасный еретик, в любом случае будет правильно провести в отношении него тщательное расследование. Было решено признать правомочным его арест, а обвинителя де ла Фонтена, напротив, освободить. Кальвин добился своего и радостно писал одному из друзей: «Я надеюсь, что его осудят на смерть».
Почему Кальвин так страстно желал смерти Сервета? Почему не удовольствовался более скромным достижением — вестью о простой высылке своего идейного противника или на худой конец о том, что он изгнан из страны с позором? Невольно создается впечатление, что здесь нашло выход чувство личной ненависти. Но Кальвин ненавидел Сервета отнюдь не более, чем Кастеллио или любого другого, кто восстал бы против его авторитета: безграничная ненависть к каждому, кто осмелится учить по-другому, нежели он сам, была проявлением абсолютно инстинктивного чувства его натуры тирана. И если он приложил столько усилий, выступая с самой лютой жестокостью, на какую был способен, именно против Сервета и именно теперь, то объяснялось это не личными мотивами, а причинами, коренящимися в политике диктата: взбунтовавшийся против его авторитета Мигель Сервет должен заплатить за другого противника его ортодоксии, бывшего монаха-доминиканца Иеронима Больсека, которого он тоже собирался схватить железными клещами пыток и который самым досадным образом ускользнул от него. Иероним Больсек, пользовавшийся как личный врач всеобщим признанием самых знатных семей Женевы, открыто выступил против слабых, спорных положений учения Кальвина, против жесткого принципа предопределения в его вере и, опираясь на те же доводы, что и Эразм в споре с Лютером, объявил абсурдной идею, что бог как олицетворение всего доброго может намеренно, сознательно склонить, толкнуть человека на самое чудовищное преступление. Известно, сколь мало любезности выразил Лютер в отношении возражений Эразма, какой поток ругательств и грязи обрушил этот мастер грубости на мудрейшего гуманиста. Однако если Лютер возражал вспыльчиво, грубо, жестоко, все же это имело форму духовного столкновения, и у него не возникло даже отдаленной мысли тут же перед земным судом обвинить в ереси Эразма, оспаривавшего неколебимость догматов его веры. Кальвин же в непогрешимом ослеплении считает каждого своего оппонента скрытым еретиком; неприятие его церковного учения приравнивается им к государственной измене. Вместо того чтобы ответить Больсеку как богослову, Кальвин немедленно бросает его в тюрьму.
Но попытка запугать Иеронима Больсека внезапно потерпела досаднейшую неудачу. Слишком уж многие знали набожность этого образованнейшего врача, и так же, как в случае с Кастеллио, возникло подозрение, что Кальвин хочет только избавиться от самостоятельно мыслящего и не абсолютно подчиненного ему человека, чтоб остаться в Женеве единственным и неповторимым. Сочиненная Больсеком в тюрьме элегия, в которой он говорит о своей невиновности, ходила в списках по рукам, и, как ожесточенно Кальвин ни наседал на магистрат, советники все же побоялись осудить Больсека за ересь. Чтобы избавиться от необходимости вынесения мучительного приговора, они объявили себя некомпетентными в области богословия и уклонились от конкретного решения на том основании, будто все эти теологические проблемы выше их понимания. Они намеревались прежде получить экспертное заключение по этому щекотливому вопросу от других швейцарских церквей. Благодаря такому опросу Больсек был спасен, поскольку реформатские церкви Цюриха, Берна и Базеля, втайне всем сердцем желая нанести удар по непогрешимости и высокомерию своего фанатичного коллеги, единодушно отказались усмотреть в высказываниях Больсека кощунственные убеждения. И совет вынес ему оправдательный приговор; Кальвин вынужден был оставить свою жертву в покое и довольствоваться тем, что Больсек, по воле магистрата, исчез из города.
Это явное унижение его богословского авторитета могло быть предано забвению лишь только благодаря новому процессу против еретика. За Больсека должен заплатить Сервет, и в этой вторичной попытке у Кальвина больше шансов на успех. Поскольку Сервет — чужестранец, испанец, у него нет в Женеве, как у Кастеллио или у Больсека, друзей, почитателей или помощников, к тому же вот уже несколько лет, как он своим вызывающим поведением, своими дерзкими нападками на догмат о троице[55] возбуждает ненависть всего реформатского духовенства. Такого чудака, не имеющего никакой поддержки, гораздо легче использовать в качестве примера для устрашения других; вот почему процесс этот, с первой же минуты преобретший политический характер, стал для Кальвина вопросом власти, испытанием, причем решающим, его воли к духовному диктату. Если бы Кальвин хотел просто убрать подальше Сервета, своего личного оппонента в вопросах теологии, как легко было бы ему это сделать! Поскольку, едва в Женеве началось следствие, сразу же появился представитель французского правосудия и потребовал выслать осужденного во Франции беглеца во Вьенн, где его ожидает костер. Какая прекрасная возможность для Кальвина продемонстрировать великодушие и одновременно избавиться от противника! Стоило только женевскому совету одобрить высылку — и неприятное дело Сервета было бы закрыто! Но Кальвин помешал этому. Для него Сервет не живой человек, не субъект, а объект, на котором он собирался продемонстрировать всему миру истинность собственного учения. Посланник французских властей вернулся ни с чем; только в своих владениях диктатор протестантизма намеревался провести и завершить процесс, который возведет в ранг государственного закона идею, что тот, кто восстает против диктатора, рискует собственной жизнью.
Что история с Серветом была для Кальвина только испытанием власти, вскоре в Женеве заметили не только его друзья, но и враги. И естественно, они предприняли все, чтобы испортить Кальвину этот показательный процесс. Само собой разумеется, политикам не было дела до Сервета-человека, для них несчастный был не более, чем игрушкой, объектом эксперимента, рычагом, с помощью которого можно было бы опрокинуть власть диктатора, и в глубине души всем им было совершенно безразлично, выдержит ли этот рычаг такую нагрузку. На деле же опасные друзья оказали Сервету плохую услугу тем, что ложными слухами поколебали его и без того неустойчивое истерическое сознание, тайно направив к нему в тюрьму послание, в котором говорилось, что он сможет одолеть Кальвина только путем решительного сопротивления. И в его интересах, чтобы процесс принял волнующий, сенсационный характер: чем энергичнее будет Сервет обороняться, чем яростнее нападать на ненавистного противника, тем лучше.
Однако, к величайшему сожалению, уже не было необходимости делать из этого утратившего рассудительность человека еще более безрассудного. Тяжелое длительное заключение уже давно сделало свое, превратив экзальтированность в безграничное бешенство, поскольку Сервет (и Кальвин не мог этого не знать) содержался в тюрьме с намеренно утонченной жестокостью. В течение нескольких недель больного, взвинченного, истеричного человека, который чувствовал себя абсолютно невиновным, держали взаперти, как какого-нибудь убийцу, в сырой, промозглой темнице, с цепями на ногах и руках. Истлевшие лохмотья спадали с его дрожащего тела, но никто не подал ему другой одежды, самые элементарные требования чистоты не соблюдались, никому не было позволено оказывать ему хоть какую-нибудь помощь. Испытывая неописуемую нужду, Сервет обратился с потрясающими письмами к совету, умоляя о человечности: «Блохи сжирают меня заживо, башмаки развалились, у меня нет никакой одежды, никакого белья».
Однако некая тайная рука — и, думается, ее можно узнать, эту жестокую длань, которая бесчеловечно душит, как в тисках, любое сопротивление, — воспрепятствовала даже малейшему послаблению, хотя совет в ответ на жалобу Сервета распорядился устранить все нарушения. И этого смелого мыслителя, ученого оставили чахнуть в его промозглой яме, как какого-то шелудивого пса на навозной куче. Во втором письме, написанном несколько недель спустя, еще ужаснее прозвучал призыв Сервета о помощи, поскольку он уже буквально захлебывался в собственных нечистотах: «Я прошу Вас ради всего святого не отказывать мне в том, в чем Вы не отказали бы даже самому последнему иноверцу или преступнику. Прежде всего не исполняется Ваше распоряжение содержать меня в чистоте. Я все в том же плачевном состоянии, как и прежде. Ведь это ужасно жестоко — лишать меня возможности нормально удовлетворять свои естественные потребности».
Но ничего не изменилось! И удивительно ли в таком случае, что Сервета, извлеченного из его сырой ямы, каждый раз охватывает настоящее бешенство, когда он, униженный, с цепями на ногах, в зловонных лохмотьях, видит сидящего напротив, за столом судьи, человека в черной, прекрасно вычищенной мантии, холодного и расчетливого, отлично подготовленного и духовно отдохнувшего, с которым он собирался начать диалог: разум — против разума, ученый — против ученого, и который обходится теперь с ним и истязает его более жестоко, нежели того заслуживает даже убийца. Но разве не было неизбежным то, что он, замученный и затравленный подлыми, коварными вопросами и клеветой, распространявшейся даже на самое интимное в его личной жизни, потеряв всякое благоразумие и осторожность, теперь в свою очередь напал с ужасной руганью на фарисеев? В лихорадке от бессонных ночей он схватил за горло человека, которому был обязан всей этой бесчеловечностью, и сказал: «И ты будешь отрицать, что ты убийца? Я докажу это твоими же деяниями. Что касается меня, я верен своему правому делу и не боюсь смерти. Ты же вопиешь, как слепой в пустыне, ибо дух мщения сжигает твое сердце. Ты лжешь, лжешь, невежественный человек и клеветник. В тебе клокочет ярость, когда ты преследуешь кого-нибудь до смерти. Хотел бы я, чтоб вся твоя магическая сила осталась еще во чреве твоей матери, и у меня была бы возможность вскрыть все твои ошибки». Несчастный Сервет в пылу гнева абсолютно забыл о своей беспомощности; лязгая цепями, с пеной у рта, этот неистовый человек требовал от совета, который должен был его судить, приговора не для себя, а для преступного Кальвина, диктатора Женевы. «И чародея этого следует не только признать виновным и осудить, но изгнать из города, его же состояние должно перейти мне в качестве возмещения за потерянное из-за него».
При виде всего этого, слыша такие слова, добродетельные советники приходят, разумеется, в дикий ужас: этот бледный, тощий, изнуренный человек с растрепанной, запущенной бородой, с горящим взором, который на странном языке в безумии бросил чудовищное обвинение вождю христианства, должен был невольно показаться им одержимым, направляемым сатаной. От допроса к допросу положение становилось все более неблагоприятным. Собственно говоря, процесс уже подходил к концу, и осуждение Сервета было неизбежно. Но тайные недруги Кальвина были заинтересованы в том, чтобы продлить, растянуть процесс, поскольку не желали доставить Кальвину удовольствие покарать противника с помощью закона. Запросив, как в случае с Больсеком, мнение по поводу его взглядов у других реформатских синодов Швейцарии, они еще раз попытались спасти Сервета, втайне надеясь и на этот раз вырвать у Кальвина в последний миг жертву его догматизма.
Однако Кальвин слишком хорошо понимал, что теперь его авторитет окончательно поставлен на карту. Во второй раз он не мог позволить себе проиграть. Своевременно и рьяно принял он на этот раз меры. В то время как его злополучная беззащитная жертва заживо гнила в темнице, Кальвин сочиняет послание за посланием церковным синодам Цюриха, Базеля, Берна и Шаффхаузена, чтобы заранее повлиять на их решение. Он шлет курьеров во все стороны света, пускает в ход всех своих друзей, чтобы напомнить собратьям, что они не должны избавлять столь ярого богохульника от справедливого возмездия. Его субъективному влиянию способствовало то обстоятельство, что в случае с Серветом речь шла об известном нарушителе мира в богословии и что еще со времен Цвингли и Буцера «дерзкого испанца» ненавидели в церковных кругах; действительно, все синоды Швейцарии единогласно объявили взгляды Сервета ложными и кощунственными, и хотя ни одна из четырех духовных общин не потребовала открыто смертной казни и даже не санкционировала ее, все же в принципе ими было одобрено применение строгостей. Цюрих писал: «Решить, какое наказание применить к тому человеку, мы предоставляем вашей мудрости». Берн взывал к богу, умоляя придать женевцам «дух мудрости и силы, чтобы они служили своей и другим церквам и освободили бы ее от этой заразы…» Упоминание о насильственном устранении смягчается предостережением: «…Однако таким способом, чтобы Вы тем не менее не сделали ничего такого, что могло бы показаться неподобающим христианскому магистрату». Никто открыто не поощрил Кальвина применить смертную казнь. Однако поскольку церкви одобрили суд над Серветом, они одобрят, почувствовал Кальвин, и дальнейшее, ведь своими двусмысленными словами они развязали ему руки. А рука Кальвина, если она свободна, бьет решительно и жестоко. Напрасно тайные друзья, узнав о суждении церквей, даже теперь, в последний миг, пытались задержать надвигавшуюся беду. Перрен вместе с другими республиканцами предложил запросить еще высшую инстанцию общины — Совет двухсот. Но было уже поздно, сопротивление для врагов Кальвина становится слишком опасным: 26 октября было единогласно решено заживо сжечь Сервета на костре, и этот чудовищный приговор должен был быть приведен в исполнение на следующий день на площади Шампля[56].
Неделя за неделей Сервет, отгороженный своей темницей от всего мира, предавался несбыточным мечтаниям. По натуре своей чрезмерно раздражительный и склонный к фантазии, да еще сбитый с толку тайными нашептываниями мнимых друзей, он все более пылко упивался иллюзией того, что уже давно убедил судей в истинности своих взглядов и что узурпатор Кальвин через несколько дней будет с позором изгнан из города. И тем ужаснее было его пробуждение в тот миг, когда секретарь совета с каменным лицом вошел к нему в камеру и церемонно развернул для оглашения пергамент. Приговор поразил Сервета как гром среди ясного неба. Неподвижно, словно не понимая всего ужаса происходящего, выслушал он зачитанный приговор о том, что уже завтра он будет заживо предан огню как еретик. Несколько минут стоял он, словно утратив дар речи и рассудок. Потом нервы измученного человека не выдержали. Он начал стонать, сетовать, рыдать, и из его горла вырывался резко-прерывистый безумный крик страха на родном испанском языке: «Misericordias!» [57] Страшное известие до самого основания раскололо его до сих пор болезненно напряженное и преувеличенное самомнение; разбитый и уничтоженный, этот несчастный человек ошарашенно уставился перед собою остановившимися глазами. И своенравные проповедники уже решили: пробил час, когда после светской победы над Серветом можно одержать и религиозную, вырвав у отчаявшегося добровольное признание в своих заблуждениях.
Но поразительно: едва только коснулись самых сокровенных моментов вероучения этого раздавленного и уже почти потухшего человека, едва потребовали от него отречения от собственных взглядов, тут же могуче и гордо вспыхнуло в нем прежнее упорство. Они могут осудить его, замучить и сжечь, они могут разрезать его на куски — от своих взглядов Сервет не отступится ни на шаг; именно эти последние дни возносят странствующего рыцаря знаний до героя и мученика убеждений. Резко противостоит он напору Фареля, примчавшегося из Лозанны, только чтоб стать участником триумфа Кальвина; Сервет заявляет, что приговор светского суда никогда не может служить доказательством правоты или неправоты человека в религиозных вопросах. Убить не значит убедить! Ему ничего не доказали, его попытались только задушить. Ни угрозы, ни обещания не помогли Фарелю выманить у закованной в цепи и уже обреченной на смерть жертвы ни единого слова отречения. Но чтоб ясно показать, что, несмотря на заключение, он не еретик, а убежденный христианин и потому обязан примириться даже с самым злейшим из своих врагов, Сервет выразил желание еще раз перед смертью увидеть Кальвина в своей темнице.
О посещении Кальвином своей жертвы у нас осталось сообщение только одной стороны: Кальвина. И даже в его собственном изложении видна чрезвычайно отталкивающая внутренняя жестокость и черствость этого человека: победитель спускается в промозглую камеру, но не затем, чтобы добрым словом утешить обреченного на смерть, не затем, чтоб дать братское или христианское напутствие ближнему, который назавтра должен умереть в ужасных муках. Трезво и расчетливо начинает Кальвин беседу с вопроса, зачем Сервет вызвал его к себе и что он собирается ему сказать. Он явно ожидал, что теперь Сервет упадет на колени и начнет умолять, чтоб всесильный диктатор отменил приговор или хотя бы смягчил его. Однако осужденный очень скромно ответил — и одно это должно было бы потрясти любого человечного человека, — что он позвал Кальвина лишь затем, чтобы просить о прощении. Жертва предлагает своему победителю христианское примирение. Но никогда холодные глаза Кальвина не согласятся увидеть в политическом и религиозном противнике ни христианина, ни человека. Необыкновенно бесстрастно говорится об этом в отчете: «Я просто возразил на это, что никогда — и это действительно соответствует истине — не питал к нему личной ненависти». Не понимая или не желая понять христианскую сущность предсмертного поступка Сервета, Кальвин отверг всякую форму человеческого примирения между ними; Сервет должен отречься от всего, что касается его личности, и особенно признать свое заблуждение в отношении бога, чью «троичную» сущность он оспаривал. Сознательно или несознательно, но идеолог в Кальвине отказался увидеть собрата в этом уже принесенном в жертву человеке, который на следующий день будет брошен в пламя, как никчемное полено. Непримиримый догматик, Кальвин видел в Сервете противника, отрицающего его собственное понимание бога, а значит, отрицающего бога вообще. Даже теперь для этого одержимого упрямца было важно лишь одно: выжать из обреченного на смерть перед его последним вздохом признание, что был прав не Сервет, а он, Кальвин. Но как только Сервет почувствовал, что этот бесчеловечный фанатик хочет отнять у него единственное, что еще осталось в его погибшем теле и что для него бессмертно — его веру, его убеждения, — то этот мученик восстал. Он решительно отвергает возможность всяких трусливых уступок. Таким образом, все дальнейшие слова Кальвина становятся излишними: тот, кто не отдает себя полностью делу религии, для него больше не брат во Христе, а слуга сатаны и грешник, на которого не стоит тратить ни одного ласкового слова. К чему зерна доброты еретику? Кальвин круто повернулся и, не бросив приветливого взгляда, без единого слова покинул свою жертву. За ним лязгнули железные засовы, и необыкновенно безжалостными словами заканчивает этот фанатик-обвинитель свое сообщение, ставшее навечно обвинением ему самому: «Поскольку ни предостережениями, ни увещеваниями я не смог ничего добиться, то не стал мудрствовать более, нежели это дозволяет мой Учитель. Я последовал наставлению св. Павла и удалился от еретика, который сам себе вынес приговор».
Смерть у столба на медленном огне — самая мучительная из всех видов смертной казни: даже в пользующееся мрачной славой жестокое средневековье чрезвычайно редко прибегали к этому длительному кошмару; в большинстве случаев осужденных заранее, у столба, душили или оглушали. Но именно этот чудовищный, ужасный вид смерти был уготован первой жертве протестантизма, и можно понять, почему Кальвин после взрыва возмущения в цивилизованном мире предпринял все, чтобы избежать запоздалого, слишком запоздалого ответа за чрезвычайную жестокость в убийстве Сервета. Он, как и остальные члены консистории, старался, по его словам (когда тело Сервета давно уже превратилось в пепел), заменить мучительную смерть сожжением заживо на более легкую от меча, но «их усилия оказались напрасными» («genus mortis conati sumus mutare, sed frustra»). Об этих мнимых усилиях в протоколах совета нет ни слова, да и какой беспристрастный человек сочтет правдоподобным, что Кальвин, который сам добивался этого процесса и буквально клещами вырвал у покорного совета смертный приговор Сервету, что именно он вдруг оказался слишком невлиятельной, слишком слабой персоной в Женеве, чтобы избрать более человечный вид казни? Хотя в определенном смысле верно, что Кальвин действительно имел в виду смягчение казни для Сервета, но, правда (и в этом заключается диалектическая гибкость его утверждения), только в одном-единственном случае, если Сервет за это облегчение заплатит в последний миг своим sacrificio d'intelletto [58], своим отречением; отнюдь не из человеколюбия, а из голого политического расчета проявил бы впервые в жизни Кальвин милосердие в отношении своего противника. И какой был бы триумф женевского учения, если б можно было вырвать у Сервета хоть крупицу признания, что прав не он, а Кальвин! Какая была бы победа, если б этого запуганного человека довести до того, чтоб он умер не как мученик за свое учение, а чтоб он в последний миг перед всем народом провозгласил: не мое, а только учение Кальвина истинно, единственно истинно на земле!
Но и Сервет представлял себе цену, которую должен был заплатить. Упорство столкнулось здесь с упорством, фанатизм — с фанатизмом. Лучше уж умереть в неописуемых муках за собственные убеждения, чем принять облегченную смерть за догмы метра Жана Кальвина. Лучше полчаса невыразимо страдать, но покрыть себя славой мученичества, а врага тем самым позором бесчеловечности! Наотрез отказывается Сервет от сделки и готовится всеми мыслимыми страданиями жестоко заплатить за свое упорство.
Конец был ужасен. 27 октября в одиннадцать часов утра в истлевших лохмотьях заключенный был выведен из своего подземелья. В первый раз за много дней, и теперь уже в последний раз в его жизни, вновь увидели небо его отвыкшие от дневного света глаза. Грязный и изможденный, со спутанной бородой, в гремящих цепях, шатаясь, доплелся осужденный до места, и страшно подействовала на всех пепельно-серая дряблость его лица на фоне солнечного осеннего дня. Перед ступенями ратуши охранники грубо, с силой бросили на колени с великим трудом дошедшего сюда шатающегося человека: за несколько недель он совсем разучился ходить. Со склоненной головой должен был он выслушать приговор, который синдик[59] огласил перед собравшимся народом и который заканчивался словами: «Мы приговариваем тебя, Михаэль Сервет, закованного, доставить в Шамиль, где предать заживо огню, и вместе с тобой рукопись твоей книги, а также уже опубликованную книгу, пока тело твое не превратится в пепел; так ты окончишь свои дни, став предостережением всем, кто задумает совершить подобное преступление».
Дрожа от ужаса и холода, выслушал осужденный приговор. В предчувствии неминуемой смерти подполз он на коленях к членам магистрата и стал умолять о ничтожной милости — принять смерть от меча, — «с тем чтобы невыносимая боль не ввергла его в отчаяние». Если он и грешил, это происходило помимо его сознания; им всегда руководило только одно стремление — служить во славу божью. В эту минуту между судьями и упавшим на колени человеком появился Фарель. Громко, чтоб все слышали, он спросил обреченного на смерть, готов ли тот отказаться от своего направленного против идеи «троичности» учения и тем самым добиться милости — облегчения казни. Но Сервет — именно последние часы подняли на новую нравственную высоту этого в общем-то заурядного человека — вновь отвергает предложенную сделку, полный решимости сдержать свое прежнее слово и вытерпеть все за свои убеждения.
Остается самое трагичное. Процессия пришла в движение. Впереди шествовали сеньор-лейтенант и его помощник, оба со знаками различия, окруженные со всех сторон стрелками, вслед за ними теснилась вечно любопытная толпа. На протяжении всего пути через город, мимо испуганных, безмолвных зевак, Фарель шел рядом с осужденным. Неотступно, шаг за шагом, уговаривал он Сервета признаться в последнюю минуту в своем заблуждении, отказаться от ошибочных взглядов. Но, услышав поистине кроткие слова Сервета, что он несправедливо осужден на смерть, и тем не менее молит бога быть милостивым к его судьям, Фарель набрасывается на него: «Как? После того как ты впал в тяжелейший из всех грехов, ты еще намерен оправдываться! Если будешь продолжать в том же духе, я предоставлю тебя божьей каре и не стану сопровождать дальше, хоть и было решено не оставлять тебя до последнего вздоха».
Но Сервет больше не отвечал. Ему опротивели все эти болтуны и палачи; ни слова больше! Словно желая забыться, беспрерывно бормочет про себя этот мнимый еретик и безбожник: «О боже, спаси мою душу, о Иисусе, сын вечного бога, сжалься надо мной», потом, наоборот, громко просит присутствующих, чтобы они помолились вместе с ним и за него. Даже на месте казни, ужо перед столбом, еще раз упадет он на колени, чтоб снова мысленно обратиться к богу. Но, опасаясь, что этот искренний порыв мнимого еретика произведет впечатление на народ, фанатик Фарель вскричал, не обращая внимания на благоговейно преклонившего колена человека: «Теперь вы видите, какой властью обладает над человеком сатана, когда держит его в своих когтях! Сей ученый муж верил, что поступает правильно. Сейчас же он во власти сатаны, и с каждым из вас это может случиться».
Между тем ужасные приготовления начались. Уже дрова были сложены вокруг столба, уже лязгнула цепь, на которой подвесят Сервета к столбу, уже палач связал осужденному руки. Тут Фарель еще раз, и уже последний, пробрался сквозь толпу к Сервету, теперь лишь тихо стонавшему: «О боже, боже мой», и яростно прокричал ему: «Тебе больше нечего сказать?» Упрямец все еще надеялся, что при виде столба пыток Сервет признает, наконец, единственно верную истину, истину Кальвина. Но Сервет ответил: «Что еще я могу делать, кроме как говорить о боге?»
Разочарованный, отошел Фарель от своей жертвы. Теперь другому палачу, по должности, осталось свершить свое страшное дело. На железной цени подвесили Сервета к столбу, несколько раз обмотав веревкой его исхудавшее тело. Между живой плотью и жестоко врезавшейся веревкой палачи втиснули книгу и ту рукопись, которую Сервет в свое время sub sigillo secreti [60] послал Кальвину, попросив высказать свое братское суждение о ней; и наконец, глумясь, надвинули на голову отвратительный венец страданий, венок из листьев, пропитанных серой. Этим наиужаснейшим приготовлением палач закончил свою работу. Ему осталось лишь поджечь костер, и убийство началось.
Когда со всех сторон взметнулось пламя, несчастный испустил такой жуткий вопль, что люди на секунду в ужасе отшатнулись. Скоро огонь и дым охватили вздыбившееся в муках тело, но непрестанно и все более резко доносился из медленно пожиравшего живую плоть огня пронзительный вопль невыразимо страдавшего человека, и, наконец, в последний раз резанула слух страстная мольба: «Иисус, сын вечного бога, помилуй меня!» Полчаса продолжалась эта неописуемо ужасная борьба со смертью. Потом пламя, насытившись, осело, дым рассеялся, и на закопченном столбе показалась висевшая на раскаленной докрасна цепи черная, обуглившаяся, чадящая масса, какой-то омерзительный студень, в котором больше не было ничего человеческого. То, что некогда было бренной оболочкой, страстно стремящейся к вечности, живой частью божественной души, теперь превратилось в ужасные отбросы, в столь отвратительную, смердящую массу, что вид ее, может быть, в один миг способен был бы показать Кальвину всю бесчеловечную сущность его самомнения, позволившего ему стать судьей и убийцей своего собрата.
Но где же Кальвин в этот страшный час? Дабы показаться непричастным или чтобы сберечь нервы, он предусмотрительно остался дома и, закрыв все окна, сидел в своем кабинете, предоставив это кровавое дело жестокому собрату по вере Фарелю и палачу. Когда нужно было выследить невиновного, предъявить ему обвинение, растравить его и обречь на костер, Кальвин был неустанно впереди всех; в час казни же можно было видеть только профессионального палача, но не истинного виновника, желавшего и санкционировавшего это «праведное убийство». Лишь только в следующее воскресенье он торжественно взошел в своей черной мантии на церковную кафедру, чтоб перед молчаливой общиной провозгласить необходимость, величие и праведность деяния, на которое сам он не отважился открыто взглянуть.
МАНИФЕСТ ВЕРОТЕРПИМОСТИ
Искать правду и высказывать ее такой, какой представляешь, не есть преступление. Нельзя насильно навязывать убеждения. Убеждения — свободны.
Себастьян Кастеллио, 1551 г.
Сожжение Сервета было сразу же воспринято современниками как моральный тупик Реформации. Сама по себе казнь одного человека не являлась чем-то необычным в том жестоком веке; от берегов Испании до Северного моря и Британских островов — повсюду сжигали еретиков во имя Христа. Тысячи и тысячи беззащитных людей волокли на эшафот, сжигали, обезглавливали, душили, топили от имени различных церквей и сект, каждая из которых была, конечно, единственно верной. «Если бы там пропадали свиньи, я уж не говорю о лошадях, — пишет в своей книге о еретиках Кастеллио, — то любой правитель сказал бы, что он понес большие убытки». Но истребляли ведь всего лишь людей, и поэтому никто не собирался считать жертвы. «Не знаю, — восклицает в отчаянии Кастеллио, который, разумеется, и представить себе не мог наш век войн, — в какое еще время было пролито столько крови, как в наше!»
Во все времена бывают отдельные чудовищные преступления, от которых просыпается вроде бы спящая совесть мира. Пламя мук Сервета осветило всех его современников, и даже два столетия спустя Гиббон признавал, что «одно только это жертвоприношение потрясло его сильнее, нежели тысячи костров инквизиции». Ведь казнь Сервета была, говоря словами Вольтера, первым «религиозным убийством» в рамках Реформации и первым явным отречением от ее основополагающей идеи. Понятие «еретик» само по себе абсурдно для учения евангелистов, которое предоставляет каждому право свободного его толкования, и в самом начале Лютер, Цвингли и Меланхтон действительно выразили отвращение к любым насильственным мерам в отношении всех непримкнувших к их движению и искажавших его суть. Лютер совершенно ясно заявлял: «Мне не очень-то нравятся смертные приговоры, даже для тех, кто этого заслуживает, и что меня приводит в ужас, так это пример, который подается. Поэтому я никоим образом не могу согласиться с тем, что осуждают лжеученых». Необычайно сжато формулирует он свою мысль: «Еретиков нельзя подавлять и угнетать с помощью внешней силы, с ними можно бороться только словом божьим. Поскольку ересь — явление духовное, ее нельзя выжечь земным огнем или смыть земной водой». Столь же ясно Цвингли выражает свою антипатию в отношении любых обращений в магистрат и применения насилия.
Вскоре новое вероучение, которое тем временем само превратилось в «церковь», должно было признать — прежнему учению это было давным-давно известно, — что нельзя долго удерживать власть, не применяя силы; тогда Лютер, чтобы отсрочить неизбежное решение, предложил пока компромисс, поскольку собирался сначала уяснить различие между «haereticis» [61] и «seditiosis» [62], то есть между теми «идейными противниками», которые только в духовно-религиозных вопросах придерживались отличного от реформатской церкви мнения, и бунтовщиками, настоящими «мятежниками», которые вместе с религиозным хотели изменить и социальное устройство. Только в отношении этих последних — здесь имеются в виду «анабаптисты-коммунисты»[63] — признает он за властями право подавления. Но на решительный шаг, на передачу инакомыслящих и свободомыслящих в руки палачей не решался ни один из лидеров реформатской церкви. В них еще жило воспоминание о том времени, когда они сами, являясь духовными революционерами, выступали против папы и императора, отстаивая внутренние убеждения как самое священное право человека. Поэтому им казалось невозможным введение новой, протестантской, инквизиции.
Этот всемирно-исторический шаг сделал теперь Кальвин, предав Сервета огню. Одним махом разбивает он завоеванное Реформацией право «свободы христианина», одним прыжком догнал он католическую церковь, которая, к ее чести, медлила более тысячи лет, прежде чем заживо сжечь человека за своевольное толкование вопросов христианской веры. Кальвин же своим подлым актом духовной тирании опозорил Реформацию уже на втором десятилетии ее господства, а в моральном отношении его деяние, может быть, еще более отвратительно, чем все злодейства Торквемады[64]. Ибо если католическая церковь изгоняла из своего лона еретика и передавала его светскому суду, то отнюдь не с целью удовлетворения чувства личной ненависти; наоборот, отделяя вечную душу от бренного тела, творила она акт очищения, спасения во Христе. Подобная идея искупления абсолютно отсутствует у жестокого правосудия Кальвина. Там речь не шла о спасении души Сервета: только для того, чтобы подтвердить незыблемость Кальвинова изложения божественной теории, и был зажжен тот костер в Шампле. Не отрекшимся от бога принял Сервет свою ужасную смерть (таким он никогда не был), а отрекшимся только от некоторых тезисов Кальвина. Поэтому надпись на памятнике, который несколько веков спустя свободный город Женева поставил свободному мыслителю Сервету, напрасно пытается снять вину с Кальвина, называя Сервета «жертвой своей эпохи». Ибо не ослепление и заблуждение того времени — ведь Монтень и Кастеллио тоже жили в эти дни — бросили Сервета в огонь, но исключительно личный деспотизм Кальвина. Никакое оправдание не в состоянии снять с протестантского Торквемады вину за его деяние. Ведь неверие и суеверие, пожалуй, может быть оправдано эпохой, но за некоторые злодеяния всегда будет в ответе тот, кто их совершил.
Разумеется, сразу же начало расти недовольство по поводу зверского убийства Сервета, и даже де Без[65], евангелист, ярый сторонник Кальвина, вынужден был признать: «Еще не остыл пепел несчастного, как уже разгорелся ожесточенный спор, следует ли наказывать еретиков. Одни придерживались мнения, что их надо преследовать, но не применяя смертной казни. Другие требовали предоставить их наказание исключительно божьему суду». Даже у этого человека, постоянно прославлявшего все дела Кальвина, появляются в голосе заметные нотки колебания; сомнения еще более характерны для других сторонников Кальвина. Правда, Меланхтон, который сам, кстати, в свое время обрушивался на Сервета с ужасными оскорблениями, пишет своему «дорогому брату» Кальвину: «Церковь благодарна тебе и будет впредь благодарна. Ваши чиновники поступили справедливо, осудив этого богохульника на смерть», и нашелся даже — извечное «trahison des clercs»! [66] — один чересчур рьяный филолог по имени Мускулюс, который сочинил по этому случаю духовную песнь. Однако более не слышно было слов настоящего одобрения. Цюрих, Шаффхаузен и другие синоды высказались по поводу мученической смерти Сервета далеко не с таким энтузиазмом, какого ожидала Женева. Если они в принципе были и не прочь попугать «одержимого мыслителя», все же, без сомнения, радовались, что первое в истории сожжение еретика протестантами состоялось не в стенах их города и что ответственность перед историей за это ужасное решение будет нести Жан Кальвин.
Вместе с тем были слышны голоса и иного рода. Крупный правовед того времени Пьер Буден публично высказал свое суждение на этот счет: «Я придерживаюсь точки зрения, что Кальвин не имел права возбуждать уголовное преследование из-за спорных религиозных вопросов». Ужасались и возмущались не только свободомыслящие гуманисты всей Европы; даже в кругах протестантского духовенства росло чувство протеста. Всего в часе езды от ворот Женевы, защищенное от ищеек Кальвина лишь покровительством Берна, духовенство Ваадта с церковной кафедры клеймило действия Кальвина против Сервета как антирелигиозные и незаконные, и даже в своем собственном городе Кальвин вынужден был сдерживать критические настроения с помощью полиции. Так, бросили в темницу женщину, открыто заявившую, что Сервет был мучеником во имя Иисуса Христа, и книгопечатника, утверждавшего, что магистрат осудил Сервета в угоду одному-единственному человеку. Некоторые выдающиеся иностранные ученые демонстративно покинули город, в котором не чувствовали себя в безопасности, с тех пор как свободомыслию там стала угрожать подобная духовная деспотия. И скоро Кальвин поймет, что мученическая смерть Сервета представляет для него гораздо большую опасность, нежели его труды и его жизнь.
Нетерпеливое, чуткое ухо Кальвина улавливало любое возражение; не помогало и то, что запуганная Женева остерегалась высказываться открыто; через окна и стены доходило до Кальвина с трудом сдерживаемое волнение. Но дело сделано, его не поправить, и поскольку Кальвин не мог уйти от всего этого, ему больше ничего не оставалось, как открыто встать на защиту своих деяний. Незаметно Кальвин, начавший с нападения, перешел к обороне. Все друзья единодушно поддерживали его во мнении, что настало время, когда, наконец, нужно оправдать это сенсационное сожжение; и, собственно, не по своей воле Кальвин решился все-таки на апологию своих деяний и на «разъяснение» миру проблемы Сервета, которого он сам предусмотрительно убил. Совесть Кальвина в отношении дела Сервета не была чиста; а с нечистой совестью пишется плохо. Поэтому его сочинение «Защита истинной веры и Святой Троицы от ужасных заблуждений Сервета», написанное, как выразился Кастеллио, «руками, еще обагренными кровью Сервета», было одним из самых слабых его произведений. Сам Кальвин признавался, что состряпал его «tumultuarie» [67], то есть нервно и в спешке; и сколь неуверен он был в этой вынужденной защите, доказывает тот факт, что он заставил подписаться под своими тезисами все женевское духовенство, чтоб не быть в ответе одному. Ему явно не хотелось прослыть непосредственным убийцей Сервета, и потому в его сочинении довольно беспорядочно переплелись две противоположные тенденции. С одной стороны, Кальвин, напуганный всеобщим негодованием, хочет свалить всю ответственность на «власти», с другой — должен доказать, что магистрат поступил правильно, уничтожив такое «monstrum» [68]. Стремясь прежде всего представить самого себя в высшей степени милосердным человеком, убежденным противником любого насилия, этот искусный диалектик наполняет добрую половину книги воплями об ужасах католической инквизиции, которая осуждает верующих без защиты и казнит их самым жесточайшим образом. («А ты? — скажет ему позднее Кастеллио, — кого ты дал в защитники Сервету?») Далее Кальвин озадачивает изумленного читателя сообщением о том, что он втайне «неустанно пытался вернуть Сервета на путь истинный» («Je n'ai pas cesse de faire mon possible, en secret, pour le ramener a des sentiments plus saints» [69]); собственно, только магистрат, невзирая на склонявшегося к снисхождению Кальвина, настоял на смертном приговоре, да и к тому же особо жестоком. Но эта мнимая забота Кальвина о Сервете, убийцы о жертве, была, очевидно, слишком «тайной», чтоб хоть одна живая душа поверила этой на ходу придуманной легенде, и полный презрения Кастеллио определяет истинное положение вещей: «Первым твоим наставлением была хула, вторым — тюрьма, которую Сервет покинул только для того, чтобы в муках заживо сгореть на костре».
В то время как Кальвин одной рукой сбрасывает с себя ответственность за муки Сервета, другой он дарует «властям» полное прощение за их приговор. И как только «дело доходит» до оправдания насилия, Кальвин становится красноречивее. Недопустимо, убеждает он, предоставлять каждому свободу говорить то, что он думает (la liberte a chacun de dire ce qu'il voudrait [70]), это слишком бы понравилось эпикурейцам, атеистам и богохульникам. Проповедовать можно только истинное учение (Кальвиново).
Такое запрещение, однако, ни в коем случае не означает (к подобным нелогичным аргументам духовная деспотия прибегает всегда) ограничения свободы. «Ce n'est pas tyranniser l'Eglise que d'empecher les ecrivains mal intentionnes de repandre publiquement ce qui leur passe par la tete» [71]. Если человек заставляет молчать всех, кто думает иначе, то, по мнению Кальвина и его сторонников, он ни в коем случае не оказывает тем самым давления; он только поступает справедливо, служа таким образом великой идее — во славу божью.
Не только вопрос о моральном подавлении еретиков был тем уязвимым пунктом, который нужно было защищать Кальвину, — протестантизм уже давно воспринял этот тезис; решающим же был вопрос, можно ли убивать или позволять убивать инакомыслящих. Если Кальвин в случае с Серветом своими деяниями уже заранее дал утвердительный ответ на этот вопрос, то теперь задним числом он должен был обосновать свои поступки, оправдание которым он ищет, естественно, в Библии, желая показать, что только «по повелению свыше» и будучи послушным «божьей воле» устранил Сервета. Кальвин перерыл все учение Моисея на предмет случаев казни еретиков (ведь в евангелиях слишком часто повторяется: «любите врагов ваших»!), но ничего убедительного не смог найти, Библия вообще еще не употребляла понятия «еретик», а только «blasphemator», то есть богохульник, Сервет же, даже из пламени костра взывающий к божьей милости, никогда не был атеистом. Но Кальвин, опирающийся только на те места в Библии, которые ему больше всего подходили, невзирая ни на что, объявляет истребление инакомыслящих «святой» обязанностью властей: «Уж коли виновен простой человек, если он не берется за меч, едва только язычник осквернил его дом или его ближний восстал против бога, то насколько же отвратительнее трусость правителя, который закрывает глаза на оскорбление религии». Для того и дан им меч, чтобы они могли употребить его «во славу господа» (Кальвин постоянно злоупотребляет этим словом в своих призывах к насилию) : любое деяние, свершенное в «saint zele», в набожном рвении, заранее оправдано. Защита ортодоксии, истинной веры, по мнению Кальвина, разрывает кровные узы, уничтожает любые законы человечности; даже своего ближнего надо уничтожить, если сатана склоняет его к отречению от «истинной веры», к страшному кощунству против бога: «On ne lui fait point l'honneur qu'on lui doit, si on ne prefere son service a tout regard humain, pour n'epargner ni parentage, ni sang, ai vie qui soit et qu'on mette en oublie toute humanite quand il est question de combattre pour sa gloire» [72].
Страшные слова, печальное свидетельство того, как далеко может завести в общем-то ясно мыслящего человека фанатизм! Ведь здесь со всей ужасающей неприглядностью проявляется мнение Кальвина, что благочестивым может считаться только тот, кто ради «учения» — его учения — убьет в себе «tout regard humain» [73], то есть чувство человечности, тот, кто жену и друга, брата и сестру, родных по крови людей послушно предаст в руки инквизиции, как только у кого-то из них в каком-либо вопросе, или вопросике, веры появится иное мнение, нежели у консистории. А для того чтобы никто не оспаривал столь кровавый тезис, Кальвин прибегает к своему последнему, излюбленному аргументу: к террору. Он заявляет, что каждый, кто защищает или прощает еретиков, сам виновен в ереси и заслуживает наказания. И поскольку Кальвин не терпит возражений, он стремится запугать каждого своего оппонента, предсказывая ему судьбу Сервета: либо молчание и повиновение, либо — на костер! Раз и навсегда хочет Кальвин покончить с мучительными для него спорами по поводу убийства Сервета и закрыть дискуссию.
Но нельзя заставить умолкнуть обвиняющий глас убитого (столь же резко, исступленно и Кальвин бросал всему миру свои угрозы), и Кальвинова «Защита» с ее призывом преследования еретиков производит ужаснейшее впечатление. Чувство отвращения охватывает даже самых преданных протестантов, которые видят, что инквизицию требуют теперь уже ex cathedra [74] их собственной реформатской церкви. Кое-кто договаривал, что подобные кровожадные принципы более подходили бы магистрату, нежели проповеднику божьего гласа, служителю Христа; решительно высказывается по этому поводу городской писарь Берна Церхинтес, который впоследствии станет преданным другом и защитником Кастеллио. «Я открыто признаю, — пишет он Кальвину, — что тоже принадлежу к тем, кто стремится уменьшить, насколько это возможно, число смертных приговоров в отношении противников нашей веры и даже в отношении тех, кто заблуждается добровольно. И что меня особенно склоняет к такой точке зрения, так это не только те места Священного писания, в которых говорится о неприменении насилия, но и примеры того, как поступают в этом городе с анабаптистами. Я сам видел, как тащили на эшафот восьмидесятилетнюю женщину вместе с дочерью — матерью шестерых детей, — которая не совершила никакого иного преступления, кроме того, что отказалась крестить их. Под впечатлением этого случая я стал опасаться, что судебные власти не будут держать себя в тесных рамках, в которые ты сам их хочешь заключить, и что мелкие заблуждения будут наказываться так же, как крупные проступки. Потому мне представляется желательным, чтобы власти были повинны скорее в проявлении излишнего милосердия и понимания, нежели в решимости пускать в ход меч… Я же, со своей стороны, лучше отдал бы свою кровь, чем позволил запятнать себя кровью человека, который не заслуживает всенепременно смертной казни».
Так в эту эпоху фанатиков говорил мелкий, неизвестный писарь магистрата, и так думали многие, но все держали свое мнение при себе. Даже славный Церхинтес, как и его учитель Эразм Роттердамский, опасался споров на злободневные темы и, стыдясь, честно признавался Кальвину, что высказывает ему свое мнение только в письме, публично же предпочитает молчать. «Я не буду вступать в открытую борьбу до тех пор, пока этого не потребует моя совесть. Предпочитаю хранить молчание, пока позволяет совесть, вместо того чтобы вызывать споры, задевающие кого-либо». Человеколюбивые натуры всегда слишком быстро опускают руки, облегчая тем самым насильникам их задачу; так же, как этот замечательный, но пассивный Церхинтес, поступали и остальные: они молчали и молчали, эти гуманисты, мыслители, ученые, одни из отвращения к шумным склокам, другие из страха быть обвиненными в ереси, если они не станут лицемерно превозносить казнь Сервета как похвальное деяние. И уже казалось, что чудовищный призыв Кальвина к всеобщему преследованию инакомыслящих не встретит сопротивления. Но вдруг раздается голос, прекрасно знакомый и ненавистный Кальвину, открыто обвиняющий от имени оскорбленного чувства человечности в преступлении, совершенном против Мигеля Сервета; это ясный голос Кастеллио, которого еще никогда не пугали угрозы женевского насильника и который не задумываясь рискует своей жизнью ради спасения жизни многих других.
В любой духовной войне лучшие воины не те, кто с легкостью и пылом бросаются в бой, а долго колеблющиеся, в душе миролюбивые, в ком сначала медленно созревает решение и решимость. И только исчерпав все возможности достижения взаимопонимания и постигнув неизбежность «вооруженной» борьбы, переходят они к вынужденной обороне; но именно те, кому труднее всего решиться на битву, становятся потом самыми решительными борцами. Таков и Кастеллио. Истинный гуманист, он не был прирожденным политиком; обходительность, миролюбие, всепроникающая любезность гораздо более присущи его мягкой и, в самом глубочайшем смысле этого слова, религиозной натуре. Так же как и его духовный предшественник Эразм, Кастеллио знает о многогранности, многозначности каждой земной, каждой божественной истины, и не случайно одно из самых его значительных произведений озаглавлено «De arte dubitando), или „О высоком искусстве сомнения“. Но способность постоянно сомневаться в самом себе, перепроверять себя ни в коем случае не превращает Кастеллио в холодного скептика; осторожность учит его только терпимости в отношении мнения других, и он лучше промолчит, нежели станет опрометчиво вмешиваться в чужой спор. С тех пор как он, оберегая внутреннюю свободу, добровольно отказался от своего высокого положения, он совсем отошел от проблем современной политики, чтобы, трудясь с высокой духовной отдачей над двойным переводом Библии, как можно лучше служить евангелическому учению. Базель стал для него спокойным приютом, одним из последних островков, где еще царил религиозный мир; здешние университеты сохраняли наследие Эразма, потому-то в эти последние прибежища некогда общеевропейского гуманизма и стекались все те, кто пострадал от преследования церковной диктатуры. Здесь жил Карлштадт, изгнанный Лютером из Германии, и Бернардо Окино[75], преследуемый римской инквизицией, здесь были и Кастеллио, вытесненный Кальвином из Женевы, и Лелио Социн[76], и Курион[77], и даже скрывающийся под чужим именем анабаптист Давид Йорис. Общая участь одинаково преследуемых объединяла этих эмигрантов, хотя точки зрения по всем теологическим вопросам у них отнюдь не были едины; но никогда человеколюбивые натуры не испытывали потребности в систематической унификации точек зрения в самых мельчайших нюансах только для того, чтобы по-человечески дружелюбно начать дискуссию. Все эти люди, отказавшиеся от службы по причинам морального давления извне, вели в Базеле молчаливое, замкнутое существование ученых, они не забрасывали мир трактатами и брошюрами, не разглагольствовали на лекциях, не собирались в различные союзы и секты; и только чувство общей скорби по поводу усиливающегося ограничения и оболванивания духа объединяло одиноких „мятежников“ (так называли позднее этих противников всякого догматического террора) в тайное братство.
Сожжение Сервета и кровожадный памфлет Кальвина означали для независимых мыслителей объявление войны. Гневом и ужасом наполнил их этот дерзкий вызов. Момент был решающий — и все они сразу почувствовали это. Если подобную тиранию оставить без ответа, то свободе в Европе будет дана отставка, а насилие станет законом. Но неужели «после того, как однажды уже настал свет», после того, как Реформация предъявила миру требование свободы совести, неужели действительно снова мрак? Неужели правда всех инакомыслящих христиан надо истреблять на виселице и эшафоте, как того требует Кальвин? Не следует ли теперь, в самый опасный момент, прежде чем тысячи костров зажгутся от костра в Шампле, твердо заявить, что нельзя людей, придерживающихся иного мнения в духовных вопросах, травить как бешеных зверей и жестоко истязать как разбойников и убийц? Теперь, в этот последний, самый последний миг необходимо во всеуслышанье объяснить миру, что любая нетерпимость — дело недостойное христианина, а прибегающая к террору — и вовсе противочеловеческое. Необходимо было — это понимали все — ясно и во весь голос высказаться в защиту преследуемых и против преследователей.
Ясно и во весь голос — но возможно ли это в такие времена! Бывают минуты, когда самые элементарные и ясные человеческие истины вынуждены окутывать себя дымкой, маскироваться, чтобы достичь сознания людей, когда самые человечные, святые мысли должны просачиваться, словно вор через лазейку, таясь и прячась, поскольку открытые двери охраняют палачи и стражники власть имущих. Потому-то в условиях Кальвинова террора ни Кастеллио, ни его сторонники никак не могли решиться изложить свои взгляды; манифест веротерпимости — воззвание к человеколюбию, каким они себе его представляли, с самого начала был обречен на запрет духовной диктатурой. Но силе можно противопоставить хитрость. На титульном листе поместили абсолютно вымышленное имя издателя — «Мартинус Беллиус» и фиктивное место издания (Магдебург вместо Базеля); однако важнее всего то, что даже сам текст воззвания в защиту незаконно преследуемых был замаскирован под чисто научный богословский трактат. Должно было создаться впечатление, что высокообразованные церковные и прочие мужи с чисто академических позиций обсуждают вопрос: «De haereticis an sint persequendi et omnino quomodo sit cum eis agendum multorum tum veterum tum recentiorum sententiae», или же: «Можно ли преследовать еретиков и как следует с ними поступать, изложено на основании отзывов многих старых и новых авторов». И правда, если просто перелистать страницы, то сначала создается впечатление, что в руках действительно всего лишь религиозно-теоретический трактат, поскольку видишь сентенции известнейших отцов церкви — св. Августина, св. Хризостома и Иеронима[78] — в добром соседстве с избранными высказываниями таких крупнейших протестантских авторитетов, как Лютер, Себастьян Франк[79], или же независимых гуманистов, таких, как Эразм. Казалось, что это всего лишь антология схоластики, подборка теолого-юридических цитат из сочинений философов самых различных направлений, представленная здесь для того, чтобы помочь читателю составить свое собственное независимое суждение по этому сложному вопросу. Если же посмотреть внимательнее, то видно, что здесь, бесспорно, собраны только те высказывания, в которых не допускается смертная казнь в отношении еретиков. Но есть в этой, по сути своей необыкновенно серьезной книге один-единственный каверзный момент, хитроумная уловка: среди всех процитированных оппонентов Кальвина присутствует один, чьи высказывания должны быть для него особенно неприятны: и это не кто иной, как сам Кальвин. Его собственное мнение, высказанное, правда, в то время, когда он еще подвергался преследованиям, резко противоречит его теперешнему пламенному призыву к огню и мечу; своими же собственными словами, словами Кальвина, должен характеризовать себя жестокий убийца Сервета: «Преследовать оружием отлученных от церкви, отказывать им в человеческих правах — недостойно христианина».
Однако ценность книги заключается прежде всего в четко сформулированной, а не в скрытой, завуалированной мысли. И Кастеллио формулирует ее в своем посвящении герцогу Вюртембергскому, именно эти предваряющие и заключительные слова прославили теологическую антологию на все времена. И хотя посвящение насчитывало немногим более десятка страниц, но это были первые страницы, с которых свобода мысли заявила в Европе о своих священных гражданских правах. Этот призыв знаменует собой начало вековой борьбы со смертельным врагом всякой свободной мысли, с ограниченным фанатизмом, стремящимся задавить любое мнение, кроме того, которого придерживается он сам, — борьбы, в которой фанатизму противопоставлена всепобеждающая идея, единственная, что в состоянии усмирить вражду на земле, — идея духовной терпимости.
Ясно и неопровержимо, с железной логикой, развивает Кастеллио свой тезис. Вопрос стоит так: можно ли преследовать еретиков и лишать их жизни только за духовные проступки? Этому вопросу у Кастеллио предшествует другой, гораздо более важный: а что, собственно, такое еретик?
Снова и снова Кастеллио задает этот вопрос себе и читателю. А поскольку Кальвин и другие инквизиторы ссылаются на Библию как на единственно важный свод законов, то и он исследует ее страницу за страницей. Но, как ни странно, он вообще не находит там этого слова и понятия — ведь сначала должны появиться догматики, ортодоксия, единое учение, чтобы выдумать его, ибо для того, чтобы восстать против церкви, необходимо сначала основать церковь как особый институт. Правда, в Священном писании говорится о богохульниках и необходимости их наказывать. А еретик совсем не обязательно должен быть богохульником — дело Сервета доказало это; напротив, именно те, кого называют еретиками, и наиболее восторженные из них, анабаптисты, утверждают, что они — настоящие, истинные христиане и что они почитают спасителя как самый благородный и возлюбленный образец. А так как еретиком никогда не называли турка, еврея, язычника, то ересь, следовательно, может считаться проступком исключительно в рамках христианства. Отсюда новая формулировка: еретик — это тот, кто, хотя и является христианином, не принадлежит к «истинному» христианству, а своевольно отклоняется от «правильных» представлений в различных вопросах.
Таким образом, казалось бы, найдено окончательное определение. Но — вот он, роковой вопрос! — что считается «истинным» христианством среди различных его интерпретаций, что такое «правильное» толкование слова божьего? Католическая, лютеранская, цвинглианская, анабаптистская, гуситская, кальвинистская экзегеза[80]? Действительно ли существует абсолютная уверенность в толковании религиозных вопросов, действительно ли слово Писания всегда поддается: объяснению? Кастеллио — в отличие от упрямца Кальвина — обладает мужеством смиренно ответить «нет». Наряду с доступным пониманию он видит в Священном писании и непостижимое. «Религиозные истины, — пишет этот глубоко набожный мыслитель, — таинственны по своей природе и даже спустя более тысячи лет представляют собой предмет нескончаемого спора, в котором будет биться жизнь, пока любовь не просветит умы и не скажет своего последнего слова». Всякий, кто берется толковать слово божье, может ошибиться, впасть в заблуждение, и поэтому первым делом следовало бы соблюдать взаимную терпимость. «Если бы все было столь же ясно и очевидно, как то, что бог един, христиане легко могли бы прийти к общему мнению по различным вопросам, так же как все народы признают, что бог един; но поскольку все темно и неясно, христиане не должны осуждать друг друга, и если мы мудрее язычников, то пусть мы будем и лучше и добрее их».
И вновь Кастеллио делает шаг вперед в своем сочинении: еретиком называют всякого, кто хотя и признает основные принципы христианской веры, однако не в той форме, которой требуют власти его страны. Наконец, самое важное различие: ересь, следовательно, не абсолютное, а относительное понятие. Само собой разумеется, что кальвинист считается еретиком для католика, так же как анабаптист для кальвиниста; один и тот же человек, который во Франции считается правоверным, — еретик для Женевы, и наоборот. Тот, кого в одной стране считают преступником, для соседней страны — мученик, «в то время как в одном городе или местности тебя считают истинно верующим, в другой принимают уже за еретика, так что, если кто-то хочет теперь жить спокойно, он должен, по сути дела, иметь столько убеждений и верований, сколько существует стран и городов». Таким образом, Кастеллио приходит к своей последней, самой смелой формулировке. «Когда я размышляю, что же такое еретик, я не нахожу ничего иного, кроме того, что мы называем еретиками всех, кто не согласен с нашим мнением».
Это рассуждение кажется простым, почти банальным в своей естественности. Но высказать его открыто и непринужденно в то время означало проявить огромное нравственное мужество. Ибо эта пощечина одинокого бесправного человека целой эпохе, ее вождям, князьям и священникам, католикам и лютеранам свидетельствовала о том, что их жестокая охота на еретиков — бессмыслица и страшное безумие. Что все эти тысячи и десятки тысяч невиновных преследуют, вешают, топят и сжигают незаконно, потому что они все-таки не совершили никакого преступления против господа и государства; их отличает от других людей не реальный мир поступков, а лишь невидимый духовный мир. Но кто обладает правом судить мысли человека, приравнивать его внутренние личные убеждения к обычному правонарушению? — Ни государство, ни власти. Согласно Библии кесарево принадлежит только кесарю, и Кастеллио прямо приводит высказывания Лютера, что земные правители имеют силу только над телом; но бог не допускал, чтобы какое-либо земное право распоряжалось душами. Государство может требовать от каждого подданного соблюдения внешнего и политического порядка. Поэтому всякое вмешательство любого авторитета во внутренний мир нравственных, религиозных и — мы бы добавили — творческих убеждений, пока они не представляют собой открытого возмущения против сущности государства — скажем, политической акции, — всегда означает превышение власти и нарушение незыблемых прав личности. Никто не отвечает да и не должен отвечать перед государством за свой внутренний мир, ибо «каждый из нас должен сам держать ответ перед богом». Истинное человеколюбие невозможно без стремления к примирению, ибо только «внутренне владея собой, мы сможем все вместе жить в мире, и даже если иногда наши взгляды будут расходиться, мы все-таки сумеем договориться и придем к соглашению друг с другом, поскольку нас будут связывать узы любви и мира, даже если мы не достигнем еще единства в вопросах веры».
Для Кастеллио виновным, навеки виновным в убийственном ослеплении и диком помешательстве нашего мира являются фанатизм, нетерпимость идеологов, которые всегда признают только свою идею, свою религию, свой взгляд на мир. Кастеллио безжалостно разоблачает это неистовое высокомерие. «Люди настолько убеждены в своем собственном мнении или, скорее, в его непогрешимости, что высокомерно презирают другие; из этого высокомерия возникают жестокость и преследования, и никто не хочет терпеть другого, если тот не придерживается одного с ним взгляда, хотя нынче существует столько же различных мнений, сколько и людей. Тем не менее нет ни одной секты, которая не осуждала бы все другие и не хотела бы господствовать одна. И в этом причина всех ссылок, изгнаний, костров, виселиц, гнусное бешенство казней и пыток, которые совершаются каждый день — только из-за существования нескольких мнений, которые не нравятся большим господам, а часто вообще даже без определенной причины». Только упрямство порождает подобную нелепость, а духовная нетерпимость — «это дикое варварское желание совершать жестокости, и некоторые теперь возбуждены подобной вызывающей клеветой настолько, что впадают в бешенство, если кого-то из приговоренных к казни сначала задушат, а не сожгут в мучениях на медленном огне».
Поэтому, считает Кастеллио, лишь одно может спасти человечество от такого варварства: веротерпимость. В нашем мире достаточно места не для одной, а для многих истин, и если бы только люди захотели, они могли бы жить рядом. «Давайте терпеть один другого и не судить веру друг друга!» Тогда станут излишними эти путаные вопли о еретиках, ненужным всякое преследование из-за духовных разногласий. И пока Кальвин в своем труде побуждает князей употребить меч для полного истребления еретиков, Кастеллио взывает к ним: «Скорее склонитесь в сторону милосердия и не прислушивайтесь к тем, кто подстрекает вас к убийству, ибо вы не сможете помочь себе, когда придется отчитываться перед богом, вы будете слишком заняты своей собственной защитой. Поверьте мне, если бы Христос сейчас был здесь, он никогда не подал бы вам совета убивать тех, кто признает его имя, даже если они заблуждались в каких-либо мелочах или шли по неверному пути…»
Непредвзято, как и подобает исследовать духовные проблемы, подошел Себастьян Кастеллио к опасному вопросу о виновности или невиновности так называемых еретиков. Он исследовал эту проблему и оценил ее. И в то время как сектанты, подобно рыночным торговцам, пронзительно, громко и шумно расхваливают свои догмы, в то время как каждый из этих узколобых доктринеров беспрерывно кричит с кафедры, что он, и только он, торгует настоящим, истинным учением, что именно его устами провозглашается истинная воля и слово божье, Кастеллио просто говорит: «Я обращаюсь к вам не как пророк, посланный богом, а как человек из народа, которому отвратительны распри и который хотел бы лишь того, чтобы религия утверждалась не перебранками, а состраданием и любовью, не внешними обрядами, а внутренней потребностью сердца». Доктринеры всегда говорят с другими как с учениками и слугами. Гуманисты — всегда как брат с братом, как человек с человеком.
Но поистине гуманный человек не может остаться равнодушным при виде творящегося варварства. Рука честного писателя не может спокойно выводить холодные принципиальные слова, если душа у него дрожит от безумия своего времени; его голос не может оставаться ровным, если нервы готовы лопнуть от справедливого возмущения. Вот и Кастеллио не смог долго сдерживаться и заниматься простыми академическими исследованиями, видя столб для пыток на площади Шампля, у которого до самой смерти корчился в муках невиновный человек, заживо принесенный в жертву братом по духу: ученый — ученым, теолог — теологом, да еще к тому же во имя религии любви. Мысленно представляя картину пыток Сервета, жестокие массовые преследования еретиков, Кастеллио поднимает взгляд от своих исписанных листков и ищет зачинщиков этих зверств, которые напрасно хотят оправдать свою личную нетерпимость благочестивым служением богу. Перед взором Кастеллио предстает Кальвин, когда Кастеллио восклицает: «И как бы ни были жестоки подобные вещи, виновные в них впадают в еще более ужасный грех, пытаясь прикрыть эти чудовищные злодеяния именем Христа и притворяясь, что исполняют таким образом его волю». Он знает, что насильники всегда пытаются приукрасить свои злодеяния с помощью какого-нибудь религиозного или философского идеала; но кровь оскверняет любую идею, насилие унижает любую мысль. Нет, не велением Христа был сожжен Мигель Сервет, а по приказу Жана Кальвина, иначе такое преступление опозорило бы всех христиан на земле. «Кто теперь захочет стать христианином, если именно тех, кто объявляет себя приверженцем Христа, истребляют огнем и водой и обращаются с ними более жестоко, чем с убийцами и разбойниками…» — восклицает Кастеллио. «Кто же захочет служить Христу после того, как увидел, что того, кто в какой-то малости не был согласен с людьми, захватившими силу и власть, заживо сожгли во имя Христа, хотя он, объятый пламенем, кричал и во всеуслышанье признавался, что верит в бога?»
Значит, считает этот в высшей степени гуманный человек, следует положить конец заблуждению, будто можно мучить и убивать людей только потому, что они оказывают духовное сопротивление нынешнему властителю. И поскольку он видит, что власть имущие постоянно злоупотребляют силой, а на земле нет никого, кроме него — единственного, маленького, слабого, — чтобы позаботиться о преследуемых и загнанных, Кастеллио в отчаянии обращает свой голос к небесам и заканчивает призыв восторженной фугой сочувствия. «О Христос, творец и царь мира, видишь ли ты все это? Истинно ли стал ты совсем другим, таким жестоким и таким враждебным себе самому? Когда ты пребывал на земле, не было никого мягче и милосерднее тебя, никого, кто бы с большим снисхождением сносил издевательства; оскорбленный, оплеванный, осмеянный, увенчанный терновым венцом, распятый вместе с разбойниками, глубоко униженный, ты молился за тех, кто нанес тебе все эти обиды и поносил тебя. Истинно ли, что ты так изменился теперь? Я взываю к тебе, во имя твоего святого отца: действительно ли ты приказываешь топить, разрывать клещами до самых внутренностей, посыпать солью, кромсать мечом, поджаривать на медленном огне и с помощью всевозможных пыток как можно дольше, до смерти, мучить тех, кто не следует всем твоим предписаниям и заповедям с такой точностью, как этого требуют твои толкователи? О Христос, действительно ли ты одобряешь все эти деяния? Истинно ли твои слуги те, кто устраивает подобные бойни, где так терзают и кромсают людей? Когда твое имя призывают в свидетели, действительно ли ты присутствуешь при этой жестокой резне, словно жаждешь человеческой крови? Если бы ты, Христос, действительно требовал этого, что же тогда оставалось бы делать сатане? О, какое ужасное кощунство, утверждать, что ты, как и он, творишь якобы то же самое! О сколь же низок человеческий дух, если приписывает Христу то, что может быть волей и выдумкой только дьявола!»
Даже если бы Себастьян Кастеллио не написал ничего, кроме этого вступления к книге «О еретиках», а в самом вступлении только эту страницу — его имя уже должно было бы навечно остаться в истории гуманизма. Ибо как одиноко возвышается его голос, как мало надежды у этой потрясающей мольбы быть услышанной в мире, где звон оружия заглушает слова, а окончательное решение достигается путем войн. Но забывчивому человечеству всегда надо напоминать как раз о самых общечеловеческих требованиях, хотя они и провозглашались бессчетное количество раз всеми религиями и проповедниками мудрости. «Несомненно, — скромно добавляет Кастеллио, — я не говорю ничего такого, что уже не было бы сказано другими. Но истинные и справедливые слова всегда полезно повторять до тех пор, пока они не возымеют действия». А поскольку в каждую эпоху насилие проявляется в новых формах, мыслящие люди должны постоянно возобновлять борьбу с ним; они не имеют права воспользоваться предлогом, что в настоящий момент сила чересчур велика и поэтому бессмысленно противиться ей с помощью слова. Ибо важное никогда не произносится слишком часто, а правда никогда не бывает бесполезной.
СОВЕСТЬ ВОССТАЕТ ПРОТИВ НАСИЛИЯ
Всегда находятся люди, которые самым беспощадным образом насилуют мнение других, необычайно болезненно относясь к малейшим отличиям его от своего собственного. Так и Кальвин считал вопиющей несправедливостью то, что кто-то вокруг позволяет себе обсуждать казнь Сервета, вместо того чтобы восторженно превозносить ее как праведное, богоугодное дело. Тот самый человек, который только что безжалостно позволил зажарить на медленном огне другого из-за принципиальных различий во взглядах, вполне серьезно требует сочувствия не к жертве, а к себе. «Если бы ты мог вообразить десятую часть оскорблений и нападок, которым я ныне подвергаюсь, — пишет он своему другу, — ты бы посочувствовал печальному моему положению. Со всех сторон лают на меня собаки, немыслимые ругательства обрушиваются на мою голову. И гораздо сильнее открытых врагов-папистов нападают на меня сейчас завистники и ненавистники из собственного лагеря». С досадой Кальвин вынужден был признать, что, несмотря на все его аргументы и цитаты из Библии, никто не желал молча одобрить убийство Сервета; и эта нервозность нечистой совести перерастает у него в своего рода панику, особенно когда он узнает, что Кастеллио и его друзья в Базеле готовят ему печатный ответ.
Первая мысль тиранического темперамента — подавить, ограничить, заткнуть глотку любому, кто выступает с противоположным мнением. Получив известие, Кальвин сразу же спешит к столу и, совершенно не зная книгу «De haereticis», прежде всего начинает осаждать синоды Швейцарии, требуя запретить ее. Никаких дискуссий больше! Женева сказала — Genava locuta est, поэтому все, что другие собираются высказать теперь по поводу истории с Серветом, с самого начала неверно, бессмысленно, ложно, еретично, богопротивно, так как противоречит ему, Кальвину. Усердно выводит перо: 28 марта 1554 года он сообщает в письме Буллингеру[81], что в Базеле под вымышленным именем вышла книга, в которой Кастеллио и Курион доказывают, что еретиков нельзя устранять силой. Распространение подобной ошибочной доктрины недопустимо, поскольку «великое зло — проповедовать снисходительность и тем самым отрицать, что ересь и богохульство должны быть наказаны». Словом, немедленно заткнуть рот посланникам веротерпимости. «Богу угодно, чтобы священники этой церкви, пусть даже с опозданием, все же позаботились о том, чтобы это зло не распространилось дальше». Но одного этого обращения недостаточно; на следующий же день еще настойчивей предостерегает Кальвинов последователь Теодор де Без: «На титульном листе обозначен Магдебург, но этот Магдебург, я полагаю, расположен на Рейне: я уже давно узнал, что там измышляют подобные гнусности. И вот я спрашиваю, в чем еще сохраняется сила христианской религии, если допустимо то, что эти подлецы выдумали в своем предисловии».
Но уже поздно, трактат тем временем опередил донос; и как только первый экземпляр дошел до Женевы, там вспыхнул настоящий пожар ужаса. Как? Нашлись люди, которые ставят гуманность выше власти? Инакомыслящих нужно считать братьями и щадить вместо того, чтобы тащить их на костер? Каждому христианину, а не одному только Кальвину, должно быть разрешено по-своему толковать Священное писание? Но ведь тем самым подвергаются опасности основы церкви (само собой разумеется, Кальвин считает: его церкви). По сигналу в Женеве был брошен вызов еретикам. Обнаружен новый вид ереси, — кричали повсюду, — и особенно опасный: «беллианизм» — так называют с этого момента учение о веротерпимости по имени его проповедника Мартина Беллия (Кастеллио). Скорее затушить этот дьявольский огонь, прежде чем он успеет распространиться по всей земле! В припадке ярости де Без писал о провозглашенном впервые требовании веротерпимости: «Такого неслыханного богохульства не было со времени основания христианства».
Немедленно был созван в Женеве военный совет: надо отвечать или не надо? Приближенный Цвингли, Буллингер, от которого женевцы столь настойчиво требовали своевременно задавить книгу, благоразумно советовал из Цюриха: книга забудется сама собой, поэтому лучше было бы не отвечать. Но Фарель и Кальвин в пылу нетерпения настояли на открытом выступлении. А поскольку, учитывая горький опыт первой попытки, Кальвину лучше было оставаться в тени, он поручает одному из самых молодых своих последователей, Теодору де Безу, сокрушительный атакой на «сатанинскую» доктрину веротерпимости послужить чистоте религиозного учения и завоевать признательность своего диктатора.
Теодор де Без, прямой и благочестивый человек, который в награду за многолетнюю преданную службу станет приближенным Кальвина, в своей бешеной ненависти к малейшему проявлению духовной свободы, превзошел (как всегда несамостоятельный дух превосходит в этом творческий) даже Кальвина. От него исходят те слова, которые навеки снискали себе сомнительную геростратову славу в истории мысли: свобода совести — это дьявольское учение («Libertas conscientiae diabolicum dogma»). Только никакой свободы! Лучше огнем и мечом истреблять людей, нежели допустить освобождение самостоятельного мышления; «лучше иметь тирана, пусть даже самого ужасного, — доказывал де Без с пеной у рта, — чем допустить, чтобы каждый мог поступать по собственному усмотрению… Утверждать, что нельзя наказывать еретика, все равно что говорить, что не надо лишать жизни отцеубийцу, в то время как ересь в тысячу раз преступней отцеубийства». После такого вступления уже можно себе представить, в какое неистовство впадает ортодоксальная тупость пылкого памфлета, направленного против «беллианизма». К тому самому богу, к состраданию которого из чувства собственного сострадания взывал некий Кастеллио, умоляя, чтобы он все-таки положил конец зверской резне, к этому же богу с такой же страстной ненавистью обращается женевский пастор, моля его (только чтобы прекратить бойню), «наделить князей христианской церкви твердостью характера и величием души, чтобы окончательно истребить этих злодеев». Но даже такое истребление инакомыслящих представляется духовному мстителю де Безу недостаточно сильной мерой. Еретик должен быть не просто умерщвлен, пусть казнь его будет полна немыслимых мучений; и уже заранее де Без извиняет любые, еще не придуманные пытки, благочестиво замечая: «Если бы их следовало наказывать в зависимости от масштабов преступления, то, я думаю, вряд ли можно сыскать такие мучения, которые соответствовали бы размерам их проступков».
Отвратительно даже повторять подобные дифирамбы террору и ужасные аргументы в пользу антигуманности! Но совершенно необходимо было их привести. Причем слово в слово, чтоб постичь ту опасность, в которую был бы вовлечен весь протестантский мир, если бы действительно позволил ненависти женевских фанатиков втянуть себя в деяния новой инквизиции, а также чтоб оценить, на что отваживались и смельчаки, и благоразумные люди, которые бросались наперекор одержимым манией ереси, разумеется, подвергая себя опасности и жертвуя своей жизнью. Ибо, стремясь своевременно «истребить» идею веротерпимости, де Без в своем памфлете тиранически потребовал считать отныне каждого сторонника идеи веротерпимости, каждого защитника «беллианизма» «врагом христианской религии», еретиком, что означает — подлежащим сожжению. «К таким лицам следует применять тот пункт приведенных мной здесь тезисов, в котором говорится, что богохульники и еретики должны наказываться властями». А чтобы Кастеллио и его товарищи не оставались в неведении относительно того, что их ожидает, если они и дальше будут защищать преследуемых инакомыслящих, де Без, потрясая кулаками, угрожает, что ни ложные сведения о месте издания, ни использование псевдонима «не спасут их от преследования, поскольку каждому известно, кто есть кто и кто к чему стремится… Я заранее предупреждаю вас, Беллиус и Монфор, вас и всю вашу клику».
Ясно, что памфлет де Беза только внешне имел форму ученого спора; истинная же суть его заключалась именно в угрозах. Ненавистные защитники свободы мысли должны, наконец, понять, что с каждым следующим призывом к гуманности они все больше рискуют жизнью; в своем нетерпеливом стремлении обезоружить их главу Себастьяна Кастеллио де Без провокационно обвиняет этого смельчака в трусости. «Тот, — издевается де Без, — кто обычно выдавал себя за весьма смелого, отважного человека, показал себя в этой книге, в которой только и говорится, что о сострадании и милосердии, таким трусливым я робким, что, только замаскировавшись и укрывшись, отважился показать свою голову». Возможно, он надеялся, что Кастеллио теперь благоразумно отступит перед опасностью открыто назвать себя и признать свое авторство. Но Кастеллио принял вызов. Именно то, что женевская ортодоксия стремилась теперь свои недостойные деяния возвести в закон и утвердить на практике, побудило этого страстного поборника мира к открытой войне. Он признал, что час решительных действий пробил. Если преступление против Сервета не вынести для окончательного приговора на суд всего человечества, это может привести к тому, что от одного костра разгорятся сотни и тысячи других, а то, что до сих пор считалось единичным случаем убийства, выкристаллизуется в преступный принцип. Решительно откладывает Кастеллио литературные и научные изыскания, чтоб написать «J'accuse» [82] своего века[83], обвинение Жана Кальвина в убийстве по религиозным соображениям Мигеля Сервета, совершенном на площади Шамиля. И это открытое обвинение, «Contra libellum Calvini» [84], хоть и было основано на конкретном случае, благодаря заключенной в нем нравственной силе превратилось в одно из величайших творений, посвященных борьбе с любыми попытками насилия: закона над словом, доктрины над разумом и бесконечно презренной силы над вечно свободной совестью.
Уже много-много лет знает Кастеллио своего противника, знаком поэтому и с его методами. Ему известно, что любые нападки на Кальвина будут превращены им в нападки против «учения», религии и даже против бога. Поэтому Кастеллио с самого начала уточняет, что в своем сочинении «Contra libellum Calvini» не будет ни защищать, ни осуждать тезисы Сервета и ни в коем случае не собирается вмешиваться в вопросы религии или их толкования, а только выдвинет обвинение против человека Жана Кальвина, убившего другого человека — Мигеля Сервета. Твердо решив с самого начала не допускать никаких софистических искажений, четко, как юрист, он еще во введении определяет предмет спора, который намеревался вести. «Жан Кальвин, — так начинает он свое обвинение, — пользуется на сей день большим авторитетом, и я желал бы ему еще большего, если б видел, что человека воодушевляют благие порывы. Но его последнее деяние — кровавая казнь и угрозы множеству праведных людей. Поэтому-то я, тот, кому отвратительно кровопролитие, и взялся с божьей помощью разоблачить перед всем миром его намерения и вывести из заблуждения хотя бы некоторых из тех, кого он увлек своими ошибочными взглядами — не так ли нужно поступать всему свету?
27 октября прошлого, 1553 года в Женеве по настоянию Кальвина, пастора тамошней церкви, был сожжен из-за своих религиозных убеждений испанец Мигель Сервет. Эта казнь вызвала многочисленные протесты, особенно в Италии и Франции, и в ответ на жалобы Кальвин издал книгу — в которой, по всей вероятности, все приукрашено самым ловким образом, — преследуя цель оправдать самого себя, раздавить Сервета и тем самым доказать, что тот заслуживал смертной казни. Эту-то книгу я и собираюсь подвергнуть критическому разбору. По своему обыкновению, Кальвин, возможно, далее назовет меня учеником Сервета, однако это никого не введет в заблуждение. Я не защищаю тезисов Сервета — я нападаю на ошибочные тезисы Кальвина. Я отказываюсь абсолютно ото всех дискуссий по вопросам крещения, «троичности» и по другим подобным проблемам, у меня нет и книг Сервета; поскольку Кальвин сжег их, я даже не знаком с идеями, которые тот отстаивал. Только на тех отдельных моментах, которые не касаются подобных принципиальных расхождений во взглядах, я продемонстрирую заблуждения Кальвина, и каждый сможет увидеть, что представляет собой человек, которого сбил с толку запах крови. Я не поступлю с ним так, как он поступил с Серветом, которого вместе с его книгами он сначала заживо сжег, а теперь, когда тот мертв, еще и поносит. Если противник Сервета, после того как сжег и автора и книги, имеет теперь смелость отсылать нас к этим книгам, цитируя оттуда отдельные страницы, то это все равно, как если бы какой-нибудь поджигатель, превратив здание в пепел, потребовал бы потом, чтоб мы осмотрели обстановку каждой отдельной комнаты. Что касается нас, мы никогда не предадим огню ни одного автора, ни одной книги. Книгу, против которой мы выступаем, может прочесть каждый, существует два ее издания: одно на латинском, другое на французском языках; чтобы не возникало возможных возражений, я буду постоянно называть каждый параграф, на который захочу сослаться, и мои ответы внизу будут помечены теми же соответствующими цифрами».
Более честно нельзя было бы вести дискуссию. Кальвин в изданной им книге четко изложил свою позицию. Этот доступный всем документ и использует Кастеллио, как использует судебный следователь запротоколированные показания обвиняемого. Слово в слово он еще раз переписывает всю книгу Кальвина, чтобы никто не смог заявить, будто он хоть как-то фальсифицирует и изменяет точку зрения своего противника; а чтобы с самого начала исключить у читателя подозрение, что умышленно сделанные им сокращения искажают текст Кальвина, он нумерует каждую фразу автора. Таким образом этот второй, духовный, процесс по делу Сервета велся гораздо справедливее, нежели тот первый, женевский, когда обвиняемый дрожал, запертый в подземелье, лишенный возможности защиты и всего самого необходимого. Открыто, перед лицом всего человечества дело Сервета должно теперь найти свое нравственное решение.
Суть дела ясна и неоспорима. Человек, который, даже когда его уже охватило пламя, внятным голосом заявил о своей невиновности, этот человек был казнен самым ужасным образом по настоянию Кальвина и по приказу женевского магистрата. И теперь Кастеллио задает решающий вопрос: а, собственно, какое преступление совершил Мигель Сервет? Кто позволил Кальвину, занимавшему не государственный, а только духовный пост, передать это чисто теологическое дело в магистрат? Был ли женевский магистрат вправе осудить Сервета за его мнимое преступление? И наконец, под влиянием кого и по какому закону был осужден на смерть этот чужеземный богослов?
Для ответа на первый вопрос Кастеллио изучает протокол показаний Кальвина, чтобы прежде всего установить, в каком, собственно, преступлении обвинял Кальвин Мигеля Сервета? И он не находит никакого иного обвинения, кроме того, что Сервет, по мнению Кальвина, слишком «дерзко извращал Евангелие и был охвачен необъяснимой жаждой нововведений». Таким образом, Кальвин не обвинял Сервета ни в каком ином преступлении, кроме того, что он самостоятельно, своевольно толковал Библию и приходил к иным выводам, нежели сам Кальвин в своём церковном учении. Но Кастеллио тут же возражает. Разве Сервет был единственным, кто прибегал к подобному своевольному истолкование Евангелия в рамках Реформации? И кто осмелится утверждать, что тем самым он грешит против истинного значения нового учения? Разве такое индивидуальное толкование не есть даже основное требование Реформации, и что иное делали вожди евангелической церкви, как не осуществляли на бумаге и в устных проповедях подобное новое толкование? А не кто иной, как сам Кальвин вместе со своим другом Фарелем, не был разве самым смелым, самым твердым в деле преобразования и построения новой церкви и «не только потому, что он весь предался излишним новшествам; он сумел навязать их всем таким образом, что стало слишком опасно ему возражать. За десять лет он ввел de facto больше новшеств, нежели католическая церковь за шесть столетий»; кто-кто, а Кальвин, один из самых дерзких реформаторов, не имел права называть преступлением и осуждать новые толкования в рамках протестантской церкви.
Рассматривая собственную непогрешимость как нечто само собой разумеющееся, Кальвин считает свою точку зрения правильной, а мнение любого другого человека ошибочным. И здесь у Кастеллио сразу же возникает второй вопрос: кто дал Кальвину право судить, что истинно, что ложно? Со дня сотворения мира зло исходит от доктринеров, которые со всей нетерпимостью объявляют свою точку зрения, свою позицию единственно правильной. Именно эти фанатики единообразия мыслей и действий смущают своим воинственным диктаторским духом мир на земле и превращают естественное сосуществование идей в их противостояние и в убийственную вражду. И Кастеллио обвиняет Кальвина в подстрекательстве к духовной нетерпимости: «Все секты воссоздают свои религии согласно слову божьему и все считают свою религию правильной. Но с точки зрения Кальвина, одна должна преследовать другую. Естественно, Кальвин уверяет, что правильно его вероучение. Но и другие утверждают то же самое. Он же заявляет, что другие заблуждаются; но те говорят то же самое о нем. Кальвин хочет быть судьей — другие тоже. Где же выход? И кто уполномочил Кальвина стать высшим третейским судьей надо всеми с исключительным правом приговаривать людей к смертной казни? На чем основана его монополия судьи? — На том, что он владеет словом божьим. Но ведь и другие утверждают то же. Или на том, что его учение неоспоримо. Неоспоримо, но для кого? Да для него самого, для Кальвина. Но зачем же тогда пишет он так много книг, если на самом деле истина, которую он проповедует, столь очевидна? Почему нет ни одной книги, в которой он доказывал бы, что убийство или прелюбодеяние — это преступление? — Потому что это ясно всем. Если Кальвин на самом деле раскрыл и постиг все духовные истины, почему же он не оставляет и другим хоть немного времени, чтоб постичь это? Почему с самого начала он подавляет всех и тем самым отнимает возможность признать эту истину?»
Таким образом, теперь становится ясным первый и решающий момент: Кальвин осмелился присвоить себе функции судьи, на что он не имел никакого права. Его задача заключалась в том, чтобы объяснить Сервету, какую точку зрения он считал неправильной, в чем тот заблуждался и наставить его на путь истинный. Но вместо мирной дискуссии Кальвин тут же прибегает к насилию. «Твоим первым деянием стал арест, ты запер Сервета и отстранил от ведения процесса не только всех друзей Сервета, но даже всех тех, кто не был его врагом». Кальвин использовал только старый испытанный метод ведения дискуссии, к которому доктринеры прибегают всегда, когда спор становится неприятным: заткнуть себе уши, а другим рот; но стремление спрятаться за спиной цензуры всегда вернее всего обнаруживает душевную неуверенность человека или сомнительность учения. И словно предчувствуя свою собственную судьбу, Кастеллио призывает Кальвина к нравственному ответу. «Спрашиваю тебя, г-н Кальвин, если бы ты судился с кем-нибудь из-за наследства и твой противник добился бы у судей права слова только для себя одного, в то время как тебе было бы запрещено говорить, разве ты не восстал бы против такой несправедливости? Зачем же ты делаешь другим то, чего не хотел бы, чтоб делали тебе? Мы дискутируем с тобой по вопросам веры, почему же ты затыкаешь нам рот? Неужели ты настолько убежден в убожестве своих доводов, так боишься быть побежденным и потерять свою власть диктатора?»
Таким образом, принципиальное обвинение против Кальвина было сформулировано. Опираясь на государственную власть, Кальвин присвоил себе право одному решать все богословские, светские и нравственные проблемы. Тем самым он преступил богом данный закон, по которому каждый человек наделен мозгом, чтобы самостоятельно мыслить, ртом, чтоб говорить, и совестью, этим высшим сокровенным нравственным началом; преступил он и всякие земные законы, когда позволил преследовать человека как последнего злодея только за его инакомыслие.
В этот момент Кастеллио прерывает процесс, чтобы обратиться к свидетелю. Некий всем известный теолог должен доказать проповеднику Жану Кальвину, что любое преследование людей властями только лишь за духовные проступки недопустимо по божественным законам. Но этим выдающимся ученым, которому Кастеллио предоставляет слово, неожиданно оказывается не кто иной, как сам Кальвин. И совсем не по собственной воле принимает участие в споре этот свидетель. «Заявив, что все слишком запуталось, Кальвин спешит обвинить других, чтоб не заподозрили его самого. Но совершенно ясно, что только одно вызвало эту путаницу: а именно, действия его как преследователя. Один только факт, что он позволил осудить Сервета, вызвал взрыв возмущения не только в Женеве, но и во всей Европе и поселил тревогу во всех странах; теперь он собирается на других свалить вину за то, что он сделал сам. Но прежде, когда Кальвин еще принадлежал к числу тех, кто страдал от преследований, он вел иные речи; тогда он исписал множество страниц против подобных преследований, и, чтобы никто в этом не сомневался, я приведу здесь одну страничку из его „Institutio“.
И здесь Кастеллио цитирует «Institutio», написанное прежним Кальвином, за которое Кальвин сегодняшний, вероятнее всего, предал бы автора огню. Ведь ни на йоту тезис Кальвина прежнего не отличается от тезиса, который выдвигает теперь против него Кастеллио. В первом издании «Institutio» буквально говорится: «Убивать еретиков — преступление; истреблять их огнем и мечом — значит отречься от всех принципов гуманизма». Правда, едва добившись власти, Кальвин тут же вычеркнул этот призыв к гуманности из своей книги. Во втором издании «Institutio» он настолько изменен, что его четкая, категоричная форма уже исчезла. Как Наполеон, став консулом, а затем императором, стремился изничтожить самым тщательным образом якобинский памфлет, написанный им в молодости, так и этот вождь церкви, едва превратившись из преследуемого в преследователя, постарался, чтобы его призыв к снисхождению исчез бесследно. Но Кастеллио не дал Кальвину ввести себя в заблуждение. Слово в слово повторяет он строки из «Institutio», обращая особое внимание на эти детали. «Теперь каждый сравнит это первое заявление Кальвина с его сегодняшними писаниями и деяниями и увидит, что его прошлое и настоящее так же отличны друг от друга, как свет и тьма. Казнив Сервета, он хочет теперь погубить всех, кто мыслит не так, как он. Он отвергает законы, установленные им самим, и требует смерти… Удивительно ли, что Кальвин хочет истребить других, боясь, что они смогут обнаружить его изменчивость и непостоянство и представить его в истинном свете? Поступив плохо, он боится ясности».
Но именно этой ясности и хочет Кастеллио. Кальвин должен, наконец, совершенно недвусмысленно объяснить миру, по какой причине он, прежний поборник свободомыслия, позволил сжечь в ужаснейших мучениях на виду у всей базарной площади Шампля Мигеля Сервета. И вновь начинается безжалостный допрос.
С двумя вопросами уже ясно. Факты показали, что, во-первых, Мигель Сервет не совершил ничего, кроме духовного проступка, и, во-вторых, что отклонение от общепринятого толкования никогда не расценивалось как преступление в обычном смысле слова. Почему же теперь, спрашивает Кастеллио, Кальвин, церковный проповедник, призвал к подавлению противоположного мнения, касающегося чисто теоретических, абстрактных вопросов, гражданские власти? Между мыслящими людьми интеллектуальные разногласия должны разрешаться только с помощью интеллекта. «Если б Сервет сражался с оружием в руках, то ты был бы вправе призвать на помощь совет. Но если он боролся с тобой только пером, почему ты противопоставил его сочинениям меч и кандалы? И скажи, наконец, почему ты спрятался за спину магистрата?» Государство не является авторитетом в вопросах совести, «не дело магистрата отстаивать учения теологов, оружие не имеет ничего общего с наукой, наука — дело исключительно ученых. Магистрат должен защищать ученого точно так же, как ремесленника, работника, медика или любого гражданина, если ему причинен физический ущерб. Вот если бы Сервет собирался убить Кальвина, тогда магистрат был бы вправе защищать его. Но поскольку Сервет боролся только с помощью своих книг и доводов разума, его можно было привлечь к ответу тоже только при помощи книг и доводов разума».
Решительно отклоняет Кастеллио все попытки Кальвина оправдать содеянное им высшей божественной заповедью: для Кастеллио не существует никаких божественных, никаких христианских заповедей, предписывающих убийство человека. И когда Кальвин в своем сочинении пытается опереться на закон Моисея, требовавший огнем и мечом истреблять неверных, Кастеллио яростно и резко отвечает: «Но как Кальвин собирается именем божьим осуществлять этот закон, к которому он взывает? Разве не должен будет он тогда уничтожить во всех городах дома, квартиры, скот, утварь и, если у него в один прекрасный день хватит военной мощи, напасть на Францию и другие нации, которые он сочтет одержимыми ересью, сровнять с землей их города, уничтожить мужчин, женщин и детей и даже младенцев „в чреве матери“?» Когда Кальвин в свое оправдание заявляет, что не иметь мужества отсечь загнивающую ветвь — значит дать погибнуть всему древу христианского учения, Кастеллио возражает ему: «Изгнание неверующего из лона церкви — дело священника, оно означает только, что еретика отлучают и изгоняют из общины, не отнимая при этом жизни». Ни в Евангелии, ни в какой-либо светской книге — нигде не найти призыва к подобной нетерпимости. «Может, ты еще скажешь, что именно Христос научил тебя сжигать людей?» — бросает Кастеллио упрек Кальвину, который «руками, обагренными кровью Сервета», в спешке и в смятении набрасывает свою апологию, И поскольку Кальвин снова и снова настаивает на том, что сжечь Сервета было необходимо для защиты веры и слова божьего, поскольку он вновь и вновь, как всякий насильник, старается оправдать свое насилие иными, стоящими над личными, высшими интересами, к нему обращены бессмертные слова Кастеллио, вспыхнувшие ослепительным светом в ночи мрачного столетия: «Убить человека не означает защитить веру, это означает только одно: убить человека. Казнив Сервета, женевцы не отстояли веры, но принесли в жертву человека; свою веру защищаешь не тем, что отправляешь другого на костер, а лишь тем, что в огонь за нее идешь сам».
Но вот все факты разобраны, на все вопросы даны ответы; теперь Себастьян Кастеллио от имени поруганного чувства человечности выносит приговор — и история подписалась под ним. Человек по имени Мигель Сервет, богоискатель, etudiant de la Sainte Escripture [85], убит; виновны в этой смерти Кальвин как идейный вдохновитель судебного процесса и женевский магистрат как исполнительный орган. Переоценка происшедшего с точки зрения морали привела к выводу: обе стороны, как духовная, так и светская, превысили свои полномочия. Магистрат виновен в превышении власти, «поскольку он не был компетентен рассматривать духовные проступки». Но еще более виновен Кальвин, который взвалил всю ответственность на плечи совета. «На основании твоих показаний и показаний твоего соучастника магистрат убил человека. Но магистрат оказался точно так же не способен разрешить и разобраться в этом деле, как слепой в красках». Кальвин виновен вдвойне: как инициатор и как исполнитель этого гнусного деяния. Неважно, по какой причине бросил он в огонь этого несчастного человека, содеянное им — чудовищно. «Ты казнил Сервета либо за то, что он думал, что говорил, либо за то, что он, согласно своим внутренним убеждениям, говорил, что думал. Если ты убил его за то, что он выразил свои убеждения, то ты убил его за правду, поскольку правда и состоит в том, чтобы говорить то, что думаешь, даже если заблуждаешься. Но если ты позволил убить его только лишь за ошибочность взглядов, то твоим долгом было бы попытаться склонить его к истинным взглядам или доказать ему с Писанием в руках, что каждый, кто заблуждается в отношении истинной веры, должен быть казнен». Но Кальвин убил, он устранил противника незаконно; поэтому виновен, виновен, виновен в умышленном убийстве…
Виновен, виновен, виновен; трижды прогремев трубным гласом, приговор был объявлен на века; последняя высшая нравственная инстанция — гуманность — вынесла решение. Но что изменит теперь спасенная честь убитого человека, которому никакое возмездие не поможет вновь увидеть свет: нужно оберегать живых и, клеймя позором одно бесчеловечное деяние, предотвращать множество других. Осужден должен быть не только один Жан Кальвин, но и его книга, содержащая ужасную доктрину террора и насилия. «Неужели ты не видишь, — нападает Кастеллио на виновного, — к чему ведут твоя книга и твои деяния? Есть много людей, утверждающих, что они защищают честь божью, теперь они, задумав убить человека, смогут сослаться на тебя. Идя по твоему гибельному пути, они запятнают себя кровью. Так же, как ты, они позволят казнить всех тех, кто придерживается иного мнения, нежели они сами». Ни один фанатик не опасен сам по себе, опасен злой дух фанатизма; мыслящей личности придется, таким образом, бороться не только против жестоких, своенравных, кровожадных людей, но и против любого замысла, несущего в себе зачатки террора, поскольку — и в этом пророческий взгляд человека на грядущую столетнюю войну религий — «даже самые свирепые тираны с их пушками не прольют столько крови, сколько вы пролили и прольете еще в последующие времена в вашей кровавой борьбе с ересью; пусть же господь сжалится над родом человеческим и откроет глаза государям и власть имущим, чтоб они, наконец, отказались от своего кровавого ремесла». И как в своем милосердном манифесте веротерпимости Себастьян Кастеллио не смог в конце концов остаться безучастным, видя страдания затравленных, гонимых людей, и обратил свой голос к богу, моля в отчаянии о большей человечности на земле, так и в этом памфлете его слово возвышается до всепотрясающего проклятия тем, кто своей неукротимой ненавистью разрушает мир на земле; направляя гром и молнии благородного гнева против всякого фанатизма, заканчивает он свою книгу возвышенной тирадой: «Подобная гнусность религиозных преследований свирепствовала еще во времена Даниила: когда в его образе жизни не было обнаружено ничего предосудительного, враги заявили: мы должны схватить его за убеждения. Точно так же поступают и сегодня. Если противника не удается схватить за нарушение законов морали, то тогда обращаются к „учению“, и это очень удобно, поскольку власти, не имеющие в этом случае своего мнения, гораздо легче поддаются переубеждению. Вот так и подавляют слабых, стоит только прозвучать магическим словам „святое учение“. Ах, уж это „святое учение“! Сколь отвратительно оно будет для Христа в день страшного суда! Он потребует отчета об образе жизни, а не об учении; и когда ему скажут: „Господи, мы были с тобой, мы наставляли подобно тебе“, он ответит: „Прочь от меня, преступники!“
О слепые, о ослепленные, о кровожадные, неисправимые лицемеры! Когда же постигнете вы, наконец, истину и когда же земной суд прекратит, наконец, по вашему произволу слепо проливать кровь людей!»
СИЛА ПОБЕЖДАЕТ СОВЕСТЬ
Вряд ли когда-нибудь еще появлялся столь решительный памфлет против духовной деспотии, и, вероятно, никогда не существовало такого страстного произведения, как «Contra libellum Calvini» Себастьяна Кастеллио; своей правдивостью и ясностью он должен был показать даже самым равнодушным современникам, что свобода мысли протестантизма, более того, европейского духа, может быть утрачена, если она вовремя не защитит себя от женевской инквизиция мысли. Поэтому, вероятнее всего, можно было ожидать, что после неопровержимой аргументации Кастеллио по поводу истории с Серветом все мыслящее человечество единодушно поставит свои подписи под приговором проклятия. Манифест Кастеллио должен был стать смертельным ударом по не признающей компромиссов ортодоксии Кальвина.
Но в действительности ничего не происходит. Блестящий памфлет Кастеллио и его замечательный призыв к веротерпимости не оказали даже малейшего воздействия на мир, и только по одной простой, грубой причине: «Contra libellum Calvini» вообще не удалось опубликовать. Ибо, по приказу Кальвина, на книгу Кастеллио, прежде чем она смогла пробудить совесть Европы, уже заранее набросили петлю цензуры.
В последний момент, когда в самых надежных кругах Базеля уже распространяются копии рукописи и все готово к печатанию, женевским властителям усердными стараниями доносчиков удалось пронюхать, какой опасный удар по их авторитету готовит Кастеллио. И они тут же начинают действовать. В подобных ситуациях с особой силой проявляется превосходство государственной организации над индивидуумом; Кальвину, который поступил по-варварски, отправив на костер инакомыслящего, подвергнув его самым страшным мукам, позволено, в силу пристрастности цензуры, беспрепятственно защищать свое злодеяние; Кастеллио же, который во имя человечности хочет поднять голос протеста, зажимают рот. Правда, у властей города Базеля не было основания запретить свободному гражданину, преподавателю университета литературную полемику, но Кальвин, всегда искусный тактик и практик, ловко приводит в действие политические рычаги. Дипломатическая афера сработала; не Кальвин как частное лицо, а город Женева подает ex officio [86] жалобу в связи с нападками на «учение». Совет города Базеля и университет поставлены тем самым перед неприятным выбором: либо отменить права свободного писателя, либо вступить в дипломатический конфликт с могущественным федеральным городом, и, как всегда, насилие побеждает мораль. Господа из совета лучше пожертвуют одним человеком и наложат запрет на публикацию каких-либо сочинений, которые не являются строго ортодоксальными. Тем самым издание книги Кастеллио «Contra libellum Calvini» становится невозможным, и Кальвин может торжествовать: «Какое счастье, что собаки, лающие за нашими спинами, теперь не смогут нас укусить» («Il va bien que les chiens qui aboient derriere nous ne nous peuvent mordre»).
Подобно тому, как костер заставил замолчать Сервета, цензура заставила замолчать Кастеллио, и вновь «авторитет» на земле был спасен террором. Кастеллио связан теперь по рукам и ногам, писатель не может больше писать, и, что самое несправедливое и ужасное — он не сможет больше защитить себя, если торжествующий противник станет нападать на него с удвоенной яростью. Так будет продолжаться почти сотню лет, прежде чем «Contra libellum Calvini» вообще появится в печати: предчувствие, высказанное Кастеллио в его трактате, стало страшной правдой: «Зачем ты делаешь другим то, что сам не стал бы терпеть? Мы говорим здесь о вещах религиозных, зачем же ты затыкаешь нам рот?» Однако против террора нет ни закона, ни судей. Там, где однажды воцарит насилие, побежденные лишены права протеста, террор всегда остается там и первой и последней инстанцией. В трагическом смирении суждено Кастеллио переносить несправедливость, но во все времена, когда сила возносится над духом, утешением побежденному служит чувство великого презрения к силе, одолевшей его: «Вы обладаете лишь такими доводами и таким оружием, которые присущи тому виду деспотии, о которой вы грезите, — это скорее бренное, нежели духовное господство, основанное не на любви божьей, а на насилии. Но я не завидую вашей власти и вашему оружию. У меня есть другое — истина, сознание невиновности и имя того, кто мне поможет и помилует меня. И даже если на некоторое время истина подавлена слепым правосудием Фемиды, которая и есть все человечество, все же никто не властен над правдой. Оставим же суждение о человечестве, убившем Христа, не будем печалиться о мирском суде, где всегда торжествует только насилие. Истинное царство господнее — не от мира сего».
Вновь победа осталась за террором, и что самое страшное: ужасное деяние Кальвина не только не поколебало его влияния в окружающем мире, но удивительным образом еще больше укрепило его. Да и напрасное это дело — искать на протяжении всей истории человечества святую мораль и трогательную справедливость хрестоматий! Приходится довольствоваться тем, что есть: история, эта земная тень духа вселенной, ни нравственна, ни безнравственна. Она не наказывает злодеяние, не восхваляет добро. И поскольку в конечном счете она основывается на насилии, а не на законе, все внешние преимущества предоставляются чаще всего власть имущим, а безграничная удаль, жестокие по своей сущности устремления приносят преступнику или злодею в результате борьбы скорее пользу, нежели вред.
Даже измученный своей жестокостью Кальвин понимал, что спасти его может только одно: еще большая жестокость и беспощадность. И снова вступает в силу один и тот же закон: кто однажды прибегнул к насилию, и впредь должен поступать так же, кто начал с террора, у того нет иной возможности, кроме как ужесточить его. Сопротивление, с которым Кальвин столкнулся в ходе и после процесса Сервета, только укрепило в нем уверенность, что для авторитарного господства узаконенное подавление и простое запугивание противника — метод недостаточно эффективный, и только одно может сохранить абсолютную власть — полное уничтожение всякой оппозиции. Первоначально Кальвин удовлетворился тем, что законным путем парализовал деятельность республиканского меньшинства в женевском совете, тайно изменив правила проведения выборов в свою пользу. На каждом заседании общинного совета новые протестантские эмигранты из Франции, находившиеся в материальной и моральной зависимости от совета, объявлялись гражданами Женевы, что обеспечивало включение их в списки избирателей: таким образом настроения и мнения в совете должны были постепенно меняться в его пользу, все посты предоставляться тем, кто слепо следовал за ним, а влияние старых республиканских патрициев ослабляться. Однако тенденция неуклонного роста засилия иностранцев вскоре становится слишком очевидной для патриотически настроенных женевцев; но поздно, поздно начинают бить тревогу демократы, пролившие кровь за свободу Женевы, Они организуют тайные собрания, обсуждают способы защиты последних остатков своей прежней независимости от властолюбия пуритан. Общественное мнение накаляется все больше и больше. На улицах дело доходит до серьезных столкновений между коренными жителями и иммигрантами, и даже до рукопашной схватки, правда, весьма безобидной, в результате которой побито камнями два человека.
Но Кальвин только этого и ждал. Теперь он может, наконец, осуществить давно задуманный государственный переворот, который обеспечит ему всю полноту власти. Тотчас же мелкая уличная потасовка раздувается до «страшного заговора», который срывается только «божьей милостью», — всегда в таких случаях самое отвратительное — это лживый облик и ханжески воздетый к небу взгляд. Молниеносно арестовывают руководителей республиканской партии, которые вообще не имели никакого отношения к этой потасовке, происходившей в пригороде, их подвергают таким жестоким пыткам, что они начинают признаваться во всем, что так необходимо диктатору для достижения своих целей: что якобы была запланирована Варфоломеевская ночь, что Кальвин и его сторонники подлежали физическому уничтожению, а в город должны были войти иностранные войска. На основании этих, вырванных путем самых чудовищных пыток «признаний» о запланированном «восстании» и состряпанного дела о «государственной измене» палач может наконец-то приступить к своему делу. Все, кто оказывал Кальвину хотя бы малейшее сопротивление и кто не смог вовремя ускользнуть из Женевы, были казнены. Всего одна ночь — и в Женеве не остается никакой другой партии, кроме кальвинистской.
После столь полной победы, после такого радикального устранения своих последних противников в Женеве Кальвин мог бы быть, в сущности, спокоен, а посему великодушен. Но нам известно еще со времен Фукидида, Ксенофонта и Плутарха, что всегда и везде, победив, олигархи становятся лишь нетерпимее. Трагедия всех деспотов состоит в том, что они испытывают страх перед свободным человеком даже тогда, когда зажали ему рот и сделали его политически бессильным. Им не достаточно того, что он молчит и будет молчать. Уже то, что он не говорит «да», не служит им, не гнет перед ними спину, не рвется в толпу льстецов и прислужников, превращает его существование, теперешнее и дальнейшее, в повод для их возмущения. И именно потому, что со времен жестокого государственного переворота у Кальвина не осталось ни единого политического противника, кроме нравственного, он с удесятеренной ожесточенностью направляет всю свою воинственность против этого одного — Себастьяна Кастеллио.
Единственная трудность, однако, заключалась в том, чтобы заставить миролюбивого ученого нарушить свое молчание. Ибо Кастеллио устал от открытой борьбы. Гуманистические натуры, натуры типа Эразма Роттердамского, не могут долго оставаться борцами. Они исповедуют свою истину, но, однажды уже огласив свою точку зрения, считают излишним всякий раз пытаться средствами пропаганды убедить мир в том, что она является единственно правильной и законной. Кастеллио сказал свое слово в деле Сервета, он, несмотря на все опасности, взял на себя защиту гонимого и решительнее, чем кто-либо другой в его время, выступил против террора, проявившегося в насилии над совестью. Но время работало против его свободного слова; Кастеллио видит, что на какое-то время победу одержало насилие. И потому принимает решение тихо дожидаться случая, когда можно будет вновь начать решительную борьбу терпимости против нетерпимости. Глубоко разочарованный, но не изменивший своему убеждению, он возвращается к своей работе. Наконец его пригласили в университет преподавателем, наконец-то приближается к завершению труд, которому он посвятил всю свою жизнь — двойной перевод Библии. В 1555—1556 годах, после того как из его рук было выбито оружие — слово, Кастеллио-полемист совершенно умолкает.
Но Кальвин и женевцы узнают через шпионов, что Кастеллио по-прежнему высказывает в тесном университетском кругу свои гуманные взгляды: лишенный возможности писать, он не позволил, однако, зажать себе рот; и крестоносцы нетерпимости с горечью замечают, что столь ненавистное требование терпимости, неопровержимые аргументы Кастеллио против учения о предопределении находят все более широкий отклик у студентов. Высоконравственный человек оказывает влияние уже просто своим существованием, ибо создает вокруг себя атмосферу убежденности, и это внутреннее воздействие, пусть ограниченное внешне узким кругом, незаметно распространяется, ширится, оно неудержимо, как волны прибоя. Но поскольку Кастеллио, нежелающий покориться, остается опасным человеком, его влияние должно быть вовремя подорвано. С большой хитростью ему расставляют сети, стремясь вновь вовлечь его в борьбу против ереси, а один из его университетских коллег охотно соглашается оказать услугу в качестве agent provocateur [87]. В довольно дружеском послании он обращается к Кастеллио с просьбой (словно проявляя особый интерес к некоему теоретическому вопросу) растолковать ему свои взгляды на учение о предопределении. Кастеллио выражает готовность выступить публично, но уже после первых его слов вскакивает кто-то из слушателей и обвиняет его в ереси. Кастеллио сразу же разгадал тайный умысел. Вместо того чтобы продолжать защищать свой тезис и таким образом попасть в ловушку, что дало бы достаточно материала для обвинения, он прерывает дискуссию, а его коллеги по университету воспрепятствуют дальнейшим выступлениям против него. Однако Женева так легко не сдается. После провала этого коварного замысла срочно была изменена методика, и, поскольку Кастеллио отказался от дискуссии, предпринимается попытка досадить ему сплетнями и памфлетами. Осмеивается сделанный им перевод Библии, на него взваливают ответственность за анонимные пасквили и брошюры, по всему свету распространяется самая злобная клевета; словно по сигналу начинается всесторонняя атака на Кастеллио.
Но именно подобное рвение и показало всем непредубежденным людям, что у этого крупного и поистине благочестивого ученого хотят отнять жизнь, лишив его прежде свободы слова. Коварное преследование помогает преследуемому повсюду находить друзей, и на сторону Кастеллио вдруг демонстративно становится родоначальник немецкой Реформации Меланхтон. Ему претят, как когда-то Эразму, любые непорядочные действия тех, кто видит смысл жизни не в примирении, а в ссорах, и он неожиданно посылает письмо Себастьяну Кастеллио. «До сих пор, — говорится в его письме, — я не писал тебе, поскольку из-за занятий, объем и неприятный характер которых угнетает, у меня остается мало времени для такой переписки, которая мне самому доставляла бы удовольствие. Еще меня удерживало то, что мной овладевает чувство глубочайшей печали при виде ужасных разногласий между людьми, считающими себя друзьями мудрости и добродетели. Однако я всегда ценил тебя за твою манеру письма… И я хочу, чтобы это послание стало для тебя свидетельством моего одобрения и доказательством искренней симпатии. Пусть соединят нас узы вечной дружбы.
Твои сетования не только на расхождение во мнениях, но и на жестокую ненависть, с которой кое-кто преследует друзей истины, только усиливает боль, которую я сам постоянно ощущаю. В одном из мифов говорится, что из крови титанов возникли гиганты. Так из семян, брошенных монахами, взошли новые посевы — софисты, — которые пытаются верховодить при дворах, в семьях и в народе и считают, что ученые мешают им в этом. Но господь бог сумеет защитить остатки своей паствы.
Так, собрав всю свою мудрость, мы должны терпеть то, что не можем изменить. Для меня утоление моей боли — старость. Я надеюсь вскоре предстать перед господом, оказаться подальше от свирепых ураганов, которые так неистово сотрясают здесь церковь. Если я буду жив, я хочу о многом поговорить с тобой. Будь здоров».
Это послание было задумано как охранная грамота для Кастеллио, копии которой сразу же начинают переходить из рук в руки, служа предостережением для Кальвина и призывая его прекратить, наконец, нелепое преследование великого ученого. И действительно, похвальное слово Меланхтона оказывает очень сильное влияние на весь гуманистический мир; даже ближайшие друзья Кальвина настаивают теперь на мире. Крупный ученый Буден так писал в Женеву: «Теперь ты можешь видеть, сколь резко осуждает Меланхтон жестокость, с которой ты преследуешь этого человека, и как далек он в то же время от одобрения всех твоих парадоксов. Есть ли действительно смысл в том, чтобы и впредь обращаться с Кастеллио как со вторым дьяволом и одновременно почитать Меланхтона как ангела?»
Но какая великая ошибка полагать, что можно вразумить или унять фанатика! Парадоксальным образом — а может, и по логике вещей — защитное письмо Меланхтона оказало на Кальвина как раз обратное воздействие. Ибо тот факт, что его противнику даже приносят дань уважения, лишь усиливает в нем; ненависть, Кальвин слишком хорошо знает, что для его воинствующей диктатуры гораздо более опасны эти духовные пацифисты, нежели Рим, Лойола и его иезуиты. У них догма противостоит догме, слово — слову, учение — учению, здесь же, в выдвинутом Кастеллио требовании свободы, под сомнение поставлены, считает Кальвин, основополагающие принципы его устремлений и деяний, идея единого авторитета, вся суть ортодоксальности, и в любой войне пацифист в своих рядах всегда опаснее самого воинственного противника. Именно потому, что охранная грамота Меланхтона подняла авторитет Кастеллио в мире, у Кальвина нет теперь никакой другой цели, кроме как посрамить его имя. С этой поры, собственно, и начинается борьба — борьба не на жизнь, а на смерть.
То, что теперь это война истребительная, доказывает уже факт личного выступления Кальвина. Как в деле Сервета, когда необходимо было нанести последний, решающий удар, он отстранил свою марионетку Николауса де ла Фонтена, чтобы самому взяться за клинок, так и теперь Кальвин отказывается от услуг своего пособника де Беза. Теперь уже речь идет не о справедливости и несправедливости, не о библейском учении и его толковании, не об истинности или ложности, а только о том, как быстро и окончательно уничтожить Кастеллио. Настоящей причины для нападок на него пока нет, поскольку Кастеллио с головой ушел в свою работу. Но коль нельзя найти повода, его создают искусственно и хватаются наугад за любую дубинку, чтобы обрушиться на ненавистную личность. В качестве повода Кальвин использует анонимный пасквиль, найденный его шпионами у странствующего купца; правда, нет ни малейшего доказательства того, что это сочинение принадлежит перу Кастеллио, он и на самом деле не был его автором. Но «Carthaginem esse delendam!» [88] — Кастеллио должен быть уничтожен, и Кальвин использует эту, вовсе не принадлежащую Кастеллио книгу, стремясь с помощью самых низких и злобных оскорблений уязвить его как автора. Памфлет Кальвина «Calumniae nebulonis cujusdam» [89] — это не выступление теолога против теолога, это всего лишь извержение неистовой злобы: вор, негодяй, богохульник — этими оскорбительными прозвищами, какими не награждают друг друга даже ломовые извозчики, осыпан Кастеллио в этой книге. Профессора Базельского университета обвиняют ни в чем другом, как в воровстве дров среди бела дня; этот злобный трактат, от страницы к странице все сильнее дышащий ненавистью, завершается в конце концов воплем, полным клокочущей ярости: «Да покарает тебя бог, сатана!»
Этот пасквиль Кальвина — один из ярчайших примеров того, насколько сильно ярость пристрастности может унизить даже человека с высокоразвитым интеллектом. Но в то же время он служит и предостережением о том, насколько аполитично поступает политик, если он не в состоянии обуздать свои страсти. Под впечатлением ужасной несправедливости, которой подвергался в городе честный человек, совет университета в Базеле отменяет запрет на занятие Кастеллио писательской деятельностью. Университет, пользующийся признанным авторитетом в Европе, не может пойти на сделку с совестью и позволить, чтобы приглашенного им профессора обвиняла перед всем гуманистическим миром, называя его вором, подлецом и бродягой. И поскольку здесь речь идет, очевидно, уже не о дискуссии по поводу «учения», а о частном подозрении и грубой клевете, ученый совет недвусмысленно предоставляет Кастеллио право публичного опровержения. Ответ Кастеллио становится ярчайшим и истинно возвышенным примером гуманной и гуманистической полемики. Даже чувство крайней неприязни не может отравить этого человека, отличающегося глубочайшей терпимостью, низость же вообще несвойственна ему. А каким спокойствием и благородством дышит начало его сочинения: «Без энтузиазма я встаю на путь открытой полемики. Насколько милее моему сердцу было бы объясниться с тобой в атмосфере полного братства и в духе Христа, а не по-крестьянски, с оскорблениями, которые могут повредить авторитету церкви. Но поскольку ты и твои друзья сделали мою мечту о мирном общении невозможной, то я надеюсь, что умеренные ответы на твои жестокие нападки не будут противоречить моему христианскому долгу». Прежде всего Кастеллио разоблачает нечестный поступок Кальвина, который в первом издании своего сочинения «Nebu1о» публично называет его автором памфлета. Во втором издании, несомненно осознав последствия своего заблуждения, Кальвин уже ни единым словом больше не упрекает его в авторстве, не проявляя при этом, однако, и лояльности, и не признавая необоснованность своих подозрений. И теперь Кастеллио железной хваткой припирает Кальвина к стене. «Так знал ты или нет, что несправедливо приписываешь мне этот памфлет? Сам я не могу решить это. Но либо ты выдвинул свое обвинение тогда, когда уже знал, что оно необоснованно: и в таком случае это мошенничество, либо ты ничего еще не знал: и тогда это твое обвинение было по меньшей мере беспечностью. И в первом и во втором случае твое поведение не делает тебе чести, ибо все, что ты выдвигаешь в качестве обвинения, беспочвенно. Я не являюсь автором той брошюры и никогда не посылал ее в Париж для публикации. Если ее распространение стало преступлением, то тебя самого надо обвинить в этом, ибо ты первый обнародовал ее».
Показав, какие нехитрые средства Кальвин использовал в качестве предлога для выпадов против него, Кастеллио принимается анализировать их грубую форму: «Ты очень плодовит в отношении оскорблений и произносишь их в избытке чувств. В своем латинском пасквиле ты называешь меня поочередно богохульником, клеветником, злодеем, рычащим псом, наглой тварью, полной невежества и скотства, нечестивым хулителем Священного писания, глупцом, глумящимся над Всевышним, презирающим веру в бога, бесстыжей личностью, и снова грязным псом, существом непочтительным, безнравственным, нечестным и с извращенным духом, бродягой и mauvais sujet [90]. Восемь раз ты называешь меня подонком (так я перевожу для себя слово «nebulo»); все эти злобные выражения ты с удовольствием помещаешь на двух листах и озаглавливаешь свою книгу «Клевета одного негодяя», а твоя последняя фраза гласит: «Да покарает тебя господь бог, сатана!» Остальное в том же стиле; разве таким должен быть человек апостольского величия и христианской кротости? Горе народу, который ты ведешь за собой, если он позволяет внушать себе такие мысли и если окажется, что твои ученики похожи на своего учителя. Меня, правда, не трогают все эти оскорбления… Однажды распятая, истина воскреснет, и ты, Кальвин, должен будешь ответить перед богом за оскорбления, которыми осыпал того, за кого Христос, как и за других, тоже пошел на смерть. Неужели ты на самом деле не испытываешь стыда и в тебе не звучат слова Христа: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду», и «кто называет своего брата скверным человеком, тот будет низвергнут в ад». Едва ли не с задором, сознавая свою собственную невиновность, Кастеллио разделывается затем с основным обвинением Кальвина, что он якобы украл в Базеле дрова. «Это было бы в самом деле очень тяжким преступлением, — насмехается он, — если предположить, что я его совершил. Но столь же тяжким преступлением является и клевета. Предположим, что это правда, и я, действительно, украл, ибо я, как ты учишь (и этим наносится блестящий удар по Кальвинову учению о предопределении), был предназначен для этого, почему же тогда ты меня оскорбляешь? Разве не должен ты посочувствовать, что господь предопределил мне эту судьбу и лишил меня всякой возможности не красть? Зачем ты кричишь всему миру о моем воровстве? Чтобы в будущем помешать мне красть? Если я ворую не по своей воле, а вследствие божьего предназначения, то в своих сочинениях ты должен оправдать меня ввиду принуждения, тяготеющего надо мной. В этом случае для меня было бы так же невозможно удержаться от воровства, как прыгнуть выше головы».
Показав всю бессмысленность подобной клеветы, Кастеллио рассказывает об истинном положении вещей. Во время разлива Рейна он, как и сотни других людей, багром вылавливал из потока плывущий лес, что было, разумеется, не только законным действием, поскольку плывущий лес, как известно, никогда не являлся ничьей собственностью, но и настоятельной просьбой магистрата, ибо громоздящиеся во время разлива бревна — угроза для мостов. И Кастеллио может даже доказать, что он, как и остальные «воры», получил от сената города Базеля в качестве вознаграждения quaternos solidos (примерно четверть золотого) за это «воровство», которое, по правде говоря, было опасной для жизни помощью городу; после подобных доводов даже женевская клика никогда больше не решалась повторять грязную клевету, которая стала позором не для Кастеллио, а для самого Кальвина.
Едва брошюра Кастеллио увидела свет, как снова началась атака. Правда, клевета на «собаку» и «bestia» [91] Кастеллио и наивная сказка о якобы имевшей место краже дров с позором провалились; дальше дудеть в одну и ту же дуду Кальвин уже не может. Поэтому нападки сразу же переносятся в другую область, в теологию; вновь приводятся в движение женевские печатные станки, на которых еще не высохла краска после последней клеветнической кампании, и во второй раз на передний план выдвигается Теодор де Без. Верный гораздо в большей степени учителю, нежели правде, он в своем предисловии к официальному женевскому изданию Библии (1558 г.) предваряет Священное писание выпадом, своего рода злонамеренным доносом на Кастеллио, желая представить его именно как богохульника. «Сатана, наш старый противник, — пишет де Без, — осознав, что не может, как прежде, препятствовать распространению слова божьего, нападает теперь еще более опасным способом. Долгое время не было французского перевода Библии, по крайней мере, такого, который имел бы право так называться, но теперь сатана нашел столько же переводчиков, сколько существует легкомысленных и дерзких умов, и он найдет, очевидно, еще больше, если господь вовремя не положит этому конец. Если бы меня попросили привести здесь пример, то я указал бы на перевод Библии на латинский и французский языки Себастьяна Кастеллио, человека, в такой же степени известного в нашей церкви своей неблагодарностью и наглостью, как и тщетными усилиями наставить его на путь праведный. Поэтому мы считаем долгом своей совести не замалчивать более его имя (как делали это до сих пор), а впредь призывать всех христиан остерегаться человека, ставшего избранником сатаны».
Уж более явно и более намеренно нельзя предать ученого суду инквизиции. Но теперь «избранному сатаной» Кастеллио незачем больше молчать; испытывая отвращение к низменности нападок и воодушевленный защитной грамотой Меланхтона, ученый совет университета вновь предоставил слово преследуемому.
Ответ Кастеллио де Безу полон глубокой и, надо сказать, прямо-таки мистической скорби. Лишь сострадание вызывает в душе истинного гуманиста тот факт, что люди его склада ума способны на столь лютую ненависть. Правда, он точно знает, что для кальвинистов важнее всего не истина, а лишь монополия их истины и что они не успокоятся до тех пор, пока не уберут его со своего пути, как поступали до этого со всеми идейными или политическими противниками. И все же его благородное чувство отказывается опуститься до низменной ненависти. «Вы натравливаете и воодушевляете магистрат погубить меня», — пишет он, полный предчувствий. «Не будь в ваших книгах явных подтверждений, я бы не осмелился, несмотря на свою убежденность, утверждать это, ибо мертвый, я не смогу больше ответить вам. То, что я еще живу, для вас настоящий кошмар, и когда вы видите, что магистрат не уступает давлению или по меньшей мере пока еще не уступает — что может, однако, вскоре измениться, — вы пытаетесь вызвать ко мне ненависть всего человечества и предать меня поруганию». Прекрасно понимая, что противники открыто посягают на его жизнь, Кастеллио взывает лишь к их совести. «Скажите же, — спрашивает он этих писак, служащих слову Христову, — как можете вы в своих деяниях против меня ссылаться на Христа? Даже в тот момент, когда предатель выдает Иисуса преследователям, Христос говорит с ним, преисполненный доброты, и даже распятый на кресте, он еще просит за своих палачей. А вы? Вы с ненавистью преследуете меня по всему свету и побуждаете других так же враждебно относиться ко мне только потому, что некоторые положения моего учения и позиции отличаются от ваших…»
Но де Без — и Кастеллио знает это — всего лишь пособник. Поэтому, обращаясь к де Безу, он обращается непосредственно к Кальвину, Спокойно, открыто вступает Кастеллио в полемику. «Ты называешь себя христианином, исповедуешь Евангелие, кичишься именем господним и хвалишься тем, что осуществил его замыслы, ты уверяешь, что постиг евангельскую истину. Но почему, наставляя других, ты не вразумишь самого себя? Почему же ты, призывающий говорить только правду, наполняешь свои книги клеветой? Почему вы осуждаете меня, желая якобы окончательно сломить мою гордыню, с таким высокомерием, с такой надменностью и самонадеянностью, словно вы советники господни и он поведал вам тайны своего сердца?.. Обдумайте, наконец, свои поступки, пока не поздно. Попытайтесь, если это возможно, хоть на мгновение усомниться в себе, и вы увидите то, что видят уже многие другие. Откажитесь от сжигающего вас самолюбия, от ненависти ко мне и к другим. Давайте померяемся друг с другом силой милосердия, и вы увидите, что моя нечестивость столь же абсурдна, как и позор, которым вы пытаетесь покрыть меня. Смиритесь же с нашими расхождениями по некоторым вопросам. Разве нельзя все же добиться, чтобы между благочестивыми людьми наряду с идейным расхождением сохранялось бы и единство души?..»
Никогда еще гуманный и миролюбивый дух не отвечал фанатикам и доктринерам с большей доброжелательностью, и так же великолепно, как прежде в своем сочинении (а может быть, и еще более образцово); теперь уже человечностью своего отношения к навязанной ему борьбе проводит Кастеллио в жизнь идею терпимости. Вместо того, чтобы отвечать на насмешку насмешкой, на ненависть ненавистью («я не знаю такой земли и такой страны, куда бы мог бежать, если б поступил с вами так же, как вы со мной»), он еще раз пытается положить конец распрям гуманной полемикой, которая всегда возможна между мыслящими людьми. Вновь он протягивает противникам руку в знак примирения, хотя те уже занесли меч над его головой. «Я прошу вас во имя христианской любви уважать мою свободу и прекратить осыпать меня ложными обвинениями. Позвольте мне свободно исповедовать мою веру, как вам вашу, ведь я со своей стороны охотно признаю за вами право на нее. Никогда не думайте, что все те, чье учение отличается от вашего, заблуждаются, никогда не спешите обвинить их в ереси… Хотя я, как и многие другие благочестивые люди, толкую Священное писание иначе, все-таки всеми своими силами я верую в Христа. Конечно, кто-то из нас двоих заблуждается, и все же давайте относиться друг к другу с любовью. Когда-нибудь учитель откроет заблудшему истину. Единственное, что мы знаем наверняка, вы и я, или по крайней мере должны знать, — это обязанность относиться к другим с христианской любовью. Так проявим же ее — и мы заставим замолчать всех наших противников. Вы считаете свое мнение верным? Другие уверены в истинности своего: пусть же мудрейшие проявят себя настоящими братьями и не возгордятся своей мудростью. Ибо господь знает все, он сгибает гордых и возвышает смиренных.
Охваченный великим желанием любви говорю я вам эти слова. Я предлагаю вам любовь и христианский мир. Я призываю вас к любви и заявляю перед господом и живым духом, что делаю это от чистого сердца…»
Непостижимо, что этот страстный, глубоко человечный призыв к примирению не смог унять идейных противников. Но весь парадокс человеческой природы состоит в том, что тот, кто признает только одну-единственную идею, часто остается совершенно бесчувственным ко всякой другой мысли, какой бы наичеловечной она ни была. Односторонность мышления неизбежно приводит к несправедливости поступков, и там, где человек или народ одержим фанатизмом, там никогда не будет места взаимопониманию и терпимости. Ни малейшего впечатления не производит на Кальвина страстный призыв этого стремящегося только к миру человека, который публично не проповедует, не агитирует, не спорит, у которого нет ни малейшего стремления хоть кому-нибудь на земле насильно навязать свои убеждения; как нечто «неслыханное» отвергает благочестивая Женева этот призыв к христианскому миру. II тотчас хлынул поток новых ядовитых насмешек и подстрекательств. Чтобы навлечь на Кастеллио подозрение или по крайней мере высмеять его, берется на вооружение новая ложь, и, наверное, самая подлая. Несмотря на то что женевцам строго запрещены как греховные все театральные увеселения, и женевской семинарии ученики Кальвина репетируют «невинную» школьную комедию, в которой Кастеллио под именем «de parvo [92] Castello» изображается как первый слуга сатаны, и в его уста вкладываются стихи:
Quant a moy, un chacun je sers
Pour argent en prose oy en vers
Aussi ne vis-je d'aultre chose… [93]
Даже эта последняя клевета, что такой живущий в апостольской бедности человек продает за деньги свой писательский талант и лишь как платный агент каких-то папистов борется за благородную идею терпимости, была пущена в ход с разрешения Кальвина и, несомненно, по наущению этого вождя христианства, проповедника слова божьего. Но правда то или клевета — такие проблемы давно уже не волнуют сгорающих от ненависти кальвинистов, все они живут одной целью: удалить Кастеллио с кафедры Базельского университета, бросить в костер его сочинения, а по возможности и его самого.
Радостным сюрпризом для этих лютых ненавистников стало то, что в результате одного из домашних обысков, столь обычных для Женевы, у двух граждан была найдена книга, где отсутствовало — уже это было преступлением — подписанное Кальвином разрешение на ее печатание. В небольшой брошюре «Conseil a la France desolee» [94] не указывались ни фамилия автора, ни место публикации; тем больше этот опус отдавал ересью. Тотчас оба гражданина предстают перед консисторией. В страхе перед пытками они сознаются, что взяли эту брошюру у племянника Кастеллио — и вновь с фанатичным неистовством идут охотники по горячему следу, чтобы наконец-то добить затравленного зверя.
Действительно, эта «вредная, полная заблуждений книга» — новое произведение Кастеллио. И опять оказывается он в плену своих прежних «заблуждений», призывая, подобно Эразму, к мирному решению церковного спора. Кастеллио не желал молча наблюдать, как религиозная травля в любимой им Франции начинает приносить кровавые плоды, как тамошние протестанты (при тайной поддержке Женевы) направляют оружие против католиков. И, словно предчувствуя Варфоломеевскую ночь и страшные ужасы гугенотских войн, он считает своим долгом еще раз в последний миг показать бессмысленность такого кровопролития. Ни то учение, ни другое, — заявляет Кастеллио, — само по себе не ошибочно, ошибочна и преступна всегда лишь попытка силой заставить человека веровать в то, во что он не верует. Все беды на земле исходят от этого «forcement des consciences» [95]; от все новых и новых и всегда кровожадных попыток узколобого фанатизма совершить насилие над совестью. Но навязывать кому-либо вероучение, которое он в глубине души не признает, не только аморально и противозаконно, это еще и бессмысленно, и абсурдно. Ибо всякое насильственное рекрутирование сторонников средневекового мировоззрения порождает лишь лжеверующих; лишь внешне и численно метод выкручивания рук всякой насильственной пропагандой пополняет лагерь сторонников какой-либо партии. Но в действительности мировоззрение, нашедшее себе новых приверженцев таким насильственным путем, вводит в заблуждение своей ошибочной математикой не столько мир, сколько в первую очередь самое себя. Потому что «тот, кто, стремясь только иметь как можно больше сторонников, старается привлечь к себе множество людей, похож на одного глупца, который, имея в большом сосуде немного вина и желая иметь больше, доливает в сосуд воду; но он не добивается своего, а только портит то хорошее вино, которое было у него. Никогда вы не сможете доказать, что те, кому вы навязали какую-либо веру, по-настоящему, искренне принимают ее. Предоставьте им свободу, и они скажут: я искренне считаю, что вы — тираны, лишенные понятия о справедливости, и что то, чего вы добились от меня силой, ничего не стоит. Плохое вино не станет лучше, если принуждать людей пить его».
И поэтому вновь и вновь, но всякий раз по-своему страстно Кастеллио заявляет; нетерпимость неизбежно ведет к войне, и только терпимость — к миру. Не пытками, не топором и пушками нужно прививать мировоззрение, но исключительно в индивидуальном порядке, с помощью своей глубочайшей убежденности; лишь путем взаимопонимания можно предотвратить войны и объединить людей. Пусть протестанты остаются протестантами, а католики — католиками, искренне признающими католицизм: не принуждайте ни тех, ни других. Так этот трагически одинокий гуманист еще в то время предложил Франции проспект эдикта веротерпимости, но пройдет жизнь целого поколения людей, прежде чем в Нанте, над могилами десятков и сотен тысяч безрассудно принесенных жертв, оба вероучения придут к миру. «Мой тебе совет, Франция, прекрати насиловать, преследовать и убивать совесть; позволь вместо этого каждому, кто верует в Христа в твоей стране, служить господу не по чужим канонам, а по своим собственным».
Такое предложение по достижению взаимопонимания между католиками и протестантами во Франция, само собой разумеется, воспринимается в Женеве как наитягчайшее преступление. Ибо как раз в это время тайная дипломатия Кальвина направляет свою деятельность на то, чтобы насильно раздуть во Франции пламя гугенотской войны; поэтому ничто не может быть более нежелательным для его агрессивной церковной политики, неужели этот гуманный пацифизм. Сразу же приводятся в движение все рычаги с целью задавить миролюбивое послание Кастеллио. Во все концы посылаются курьеры, всем авторитетным лицам протестантской церкви направляются письма с заклинаниями, и, действительно, своей организованной агитацией Кальвин добивается того, что реформатский Всеобщий синод в августе 1563 года принимает решение: «Сим церковь ставится в известность о выходе книги „Conseil a la France desolee“, автором которой является Кастеллио. Это очень опасная книга, и ее нужно остерегаться».
Вновь удается задавить «опасную» — для фанатизма! — «книгу» Кастеллио, прежде чем она получила широкое распространение. А теперь на очереди человек, этот несокрушимый, несгибаемый антидогматик и антидоктринер! Наконец-то будет покончено с ним, наконец-то можно будет не только заткнуть ему рот, но и навеки сломать хребет! Чтобы прикончить Кастеллио, вновь призывается Теодор де Без. Одно только посвящение церковным властям его «Responsio ad defensiones et reprehensiones Sebastiani Castellionis» [96], обращенного к пасторам города Базеля, указывает на то, где должны быть приведены в действие рычаги против Кастеллио. Настало время, самое подходящее время, — внушает де Без, — заняться духовному правосудию этим опасным еретиком и другом еретиков. В полном беспорядке благочестивый теолог клеймит Кастеллио как лжеца, богохульника, самого скверного анабаптиста, осквернителя Священного писания, гадкого клеветника, покровителя не только всех еретиков, но и всех прелюбодеев и преступников; в заключение самым любезным образом его объявляют убийцей, который изготовил свою защиту в мастерской сатаны. Правда, в порыве бешеной ярости все грязные обвинения были так нагромождены друг на друга, что противоречили самим себе и теряли всякую обоснованность. Но лишь одно четко и ясно вытекает из этого поднятого с такой яростью шума: безумное желание наконец-то, наконец-то, наконец-то зажать Кастеллио рот, а лучше всего — убить его.
Брошюра де Беза означает давно уже назревшее обвинение перед инквизиционным судом; без прикрас во всей своей вызывающей наготе предстает теперь предательский замысел. Ибо базельскому синоду совершенно недвусмысленно было предложено незамедлительно обратиться к гражданским властям, чтобы те выступили против Кастеллио как против подлого злодея, а чтобы привести в движение колесо правосудия, де Без появляется на несколько дней в Базеле. Кальвин поступает согласно своему старому — столь хорошо проверенному в деле Сервета — методу: лучше действовать через услужливое третье лицо, нежели самому отвечать за свое заявление перед властями. И вновь повторяется лицемерная комедия, такая же, как во Вьенне и в Женеве: в ноябре 1563 года, сразу же после выхода книги де Беза, один совершенно некомпетентный человек, некий Адам фон Боденштейн, подает в базельский магистрат в письменном виде жалобу на Кастеллио, обвиняя его в ереси. Только этот Адам фон Боденштейн менее, чем кто-либо, имел основания разыгрывать из себя защитника правоверия, поскольку сам он был не кем иным, как сыном небезызвестного Карлштадта, которого Лютер изгнал из университета в Виттенберге как опасного фанатика; и как ученик также в высшей степени неблагочестивого Парацельса, он едва ли мог считаться истинной опорой протестантской церкви. Однако, видимо, во время своего посещения Базеля де Безу каким-то образом удалось склонить Боденштейна на эту жалкую услугу, ибо в своем письме в совет Боденштейн дословно повторяет все запутанные аргументы книги, понося Кастеллио, с одной стороны, как паписта, а с другой — как анабаптиста, с третьей — как вольнодумца, а с четвертой — как богохульника и помимо всего — как покровителя всех прелюбодеев и преступников. Однако так или иначе — дело формально было все же передано в суд в сопровождении этого сохранившегося до наших дней официально направленного магистрату обвинительного письма. А поскольку был представлен запротоколированный документ, суду города Базеля ничего не остается, как начать следствие. Кальвин и его прислужники достигли своей цели: Кастеллио как еретик оказался на скамье подсудимых.
Естественно, Кастеллио мог бы с легкостью защитить себя от всех этих бессмысленно нагроможденных обвинений. Ибо в слепой рьяности Боденштейн выдвигает против него столько взаимно исключающих обвинений, что их сомнительность становится очевидной. Кроме того, в Базеле хорошо знают о безупречном образе жизни Кастеллио: его не заключают сразу, как это было с Серветом, в тюрьму, не заковывают в цепи, не мучают вопросами; его как профессора университета сначала настоятельно просят оправдаться перед сенатом в выдвинутых обвинениях. И коллегам достаточно того, что он, следуя истине, называет своего обвинителя Боденштейна марионеткой и требует, чтобы Кальвин и до Без, подлинные подстрекатели, лично предстали перед судом, если они хотят обвинять его. «Если подозрения в отношении меня столь сильны, то я от всего сердца прошу вас разрешить мне защищать себя. Если Кальвин и де Без делают это из лучших побуждений, то пусть они сами выйдут вперед и приведут вам доказательства преступлений, в которых меня обвиняют. Если они уверены в правильности своих поступков, им нечего стыдиться трибунала в Базеле, уж коль они не отказались от намерения обвинить меня перед всем миром… Я знаю, велики и всесильны мои обвинители, но всесилен и господь, который судит всех без различия. Знаю, что я — всего лишь бедный, темный человек, незнатного рода, никому не известный, но именно на простых людей взирает господь бог и никому не прощает их безвинно пролитую кровь». Поэтому он, Кастеллио, искренне уважает суд. Если хоть одно обвинение противной стороны будет доказано, то он сам подставит свою голову для заслуженной кары.
Само собой разумеется, что Кальвин и де Без остерегаются принять столь благожелательное предложение; ни тот, ни другой так и не решились предстать перед сенатом Базеля. И уже казалось, что злобный донос не дает никаких результатов, как вдруг случай оказал противникам Кастеллио непредвиденную услугу: именно теперь роковым образом выявляется одно, ранее неизвестное, обстоятельство, которое резко усиливает подозрение в богохульстве Кастеллио и дружбе с еретиками. В Базеле произошло нечто особенное: на протяжении двенадцати лет в своем замке в Биннингене жил один богатый дворянин, иностранец, по имени Жан де Брюг, который благодаря своей благотворительной деятельности пользовался большим уважением и любовью у всех граждан. И когда в 1556 году этот знатный чужестранец умер, в его пышных похоронах участвовал весь город; гроб установили на самом почетном месте в церкви св. Леонхарда. Прошли годы, и вдруг по городу распространяется невероятный слух, что этот знатный чужестранец был вовсе не иностранным дворянином или купцом, а не кем иным, как небезызвестным отверженным архиеретиком Давидом де Йорисом, автором «Wonderboek» [97], который во время кровавой расправы над анабаптистами таинственным образом исчез из Фландрии. Какая досада для всего Базеля: оказать столько высоких почестей при жизни и на смертном одре этому нечестивому врагу церкви! И вот, дабы открыто покарать мошенничество и злоупотребление гостеприимством, власти начинают процесс над давно умершим человеком. Происходит отвратительная церемония: полуистлевший труп еретика извлекают из склепа и подвешивают на виселице, пока его вместе с кипой еретических книг не сжигают на костре, устроенном на огромной базарной площади Базеля в присутствии тысяч людей. Вместе с другими профессорами университета Кастеллио должен присутствовать на этом омерзительном спектакле — и можно себе представить, с каким чувством подавленности и отвращения! Ибо все эти годы с Давидом де Йорисом его связывала крепкая дружба; в свое время они вместе пытались спасти Сервета, и весьма вероятно, что Давид де Йорис, еретик, был также анонимным соавтором книги Мартина Беллиуса «De haereticis». Во всяком случае несомненно, что Кастеллио никогда не принимал господина из замка в Биннингене за скромного купца, за которого тот себя выдавал, а с самого начала знал подлинное имя этого мнимого Жана де Брюга; но терпимый в жизни, как и в своих сочинениях, он никогда не стал бы пособничать доносчикам и лишать своей дружбы человека только потому, что тот был проклят всеми церквами и властями мира.
Эта неожиданно всплывшая связь с самым одиозным из всех анабаптистов становится опасным подтверждением выдвинутых кальвинистами обвинений в том, что Кастеллио якобы является покровителем и укрывателем всех еретиков и преступников. Новым ударом, и опять-таки случайным, стало то, что в это же самое время обнаруживается еще одна близкая связь Кастеллио с другим изобличенным еретиком — Бернардо Окино. Известный когда-то монах-доминиканец, своими беспримерными проповедями завоевавший популярность всей Италии, Окино неожиданно оставляет свою родину, преследуемый папской инквизицией. Но и в Швейцарии своеволием своих тезисов он вскоре наводит страх на реформатских священников; прежде всего его последняя книга «Тридцать диалогов» предлагает читателю толкование Библии, которое во всем протестантском мире воспринимается как неслыханное богохульство: в ней Бернардо Окино считает многоженство, — ссылаясь на закон Моисея, однако не навязывая его, — в принципе дозволенным Библией, а посему — допустимым.
Книгу, содержащую этот скандальный тезис и многие другие воззрения, столь нетерпимые ортодоксальностью (против Бернардо Окино тотчас же было начато дело), перевел с итальянского на латинский язык не кто иной, как Кастеллио. В его переводе это еретическое сочинение ушло в печать; тем самым он, действительно, был виновен в распространении еретических воззрений. Разумеется, ему как соучастнику инквизиционный суд грозит теперь не меньше, чем автору. Так крепкая дружба Кастеллио с Давидом де Йорисом и Бернардо Окино за одну ночь превратила шаткие обвинения Кальвина и де Беза в адрес Кастеллио в том, что тот является оплотом и главой самой дикой ереси, в угрожающе достоверные. Такого человека университет не может, да и не хочет защищать дальше. И Кастеллио уже проиграл, прежде чем начался процесс.
Что было уготовано защитнику терпимости нетерпимостью его современников, можно себе представить, вспомнив ту жестокость, с какой церковные власти отнеслись к его товарищу Бернардо Окино. В течение одной ночи преследуемого изгнали из Локарно, где он был священником в общине итальянских эмигрантов, и все его мольбы об отсрочке так и остались неуслышанными. Ни его семидесятилетний возраст, ни его бедность не вызвали чувства жалости. И то, что он несколько дней тому назад потерял свою жену, не помогло получить никакой отсрочки. Не смягчило гнев благочестивых теологов и то, что с несовершеннолетними детьми он должен был пойти по миру. Его фанатичных преследователей не волновало, что уже зима и горные дороги, занесенные снегом, стали непроходимыми: пусть подыхает в пути этот подстрекатель, этот еретик! В середине декабря его изгоняют, и через обледенелые горы, по крутым склонам, больной седобородый человек вместе с детьми должен был отправиться по свету в поисках нового убежища. Но и эта жестокость показалась проповедникам ненависти, благочестивым служителям слова божьего еще недостаточной. Опережая отверженного, из деревни в деревню пересылалось письмо, отнюдь не свидетельствующее, однако, о благочестии его авторов и гласившее, что ни один честный христианин не должен терпеть под своей крышей это чудовище, и тотчас двери и ворота во всех городах и деревнях закрываются перед ним, как перед прокаженным. В поисках спокойного места этот седовласый ученый вынужден был с большим трудом, как нищий пробираться через всю Швейцарию, ночуя в сараях, изнемогая от мороза, чтобы дойти до границы, а затем пересечь огромную территорию Германии, где все общины тоже были извещены о его прибытии; лишь надежда на то, что в Польше он наконец-то найдет у добрых людей приют для себя и своих детей, заставляла его двигаться дальше. Но сломленному человеку это стоило слишком больших усилий. Бернардо Окино никогда не достигнет своей цели, не найдет мира. Жертва нетерпимости, обессиленный старец валится с ног на середине пути, где-то на проселочной дороге в Моравии, и там на чужбине его, как бродягу, зарывают в могилу, давно теперь уже забытую всеми.
В этом жутком кривом зеркале Кастеллио со всей ясностью смог прочесть свою судьбу. Уже готовится процесс против него, но ни на сострадание, ни на гуманность не может надеяться в эту страшную, жестокую эпоху человек, единственным проступком которого было человеколюбие и сочувствие слишком многим преследуемым. Защитнику Сервета уже грозила судьба Сервета, рука нетерпимости уже тянулась к горлу своего опаснейшего противника, глашатая терпимости.
Однако волею судьбы его преследователям не суждено ликовать, не суждено видеть Себастьяна Кастеллио, злейшего врага всякой духовной диктатуры, за решеткой, в ссылке или на костре. Скоропостижная смерть в последнюю минуту спасает его от процесса и жестокости врагов. Уже давно чрезмерная работа обессилила его, и когда тревога и беспокойство камнем ложатся ему на сердце, ослабленный организм не выдерживает. Вплоть до последнего часа Кастеллио продолжал с величайшим трудом ходить в университет, к своему рабочему столу, но все усилия были напрасны! Смерть уже взяла верх над волей к жизни, волей к мышлению. Дрожащего от озноба Кастеллио укладывают в постель, сильные желудочные боли заставляют его отказаться от всякой пищи, кроме молока, все хуже работают внутренние органы, и, наконец, измученное сердце не выдерживает. Себастьян Кастеллио умер 29 декабря 1563 года в возрасте 48 лет, «вырванный волей господа из когтей его противников», как сказал, узнав о его смерти, один из сочувствовавших ему друзей.
Смерть Кастеллио разрешила все клеветнические наветы, слишком поздно его сограждане осознают, как плохо, с каким равнодушием защищали они этого благороднейшего человека. Его наследство неопровержимо доказывает, в какой апостольской нищете жил этот настоящий крупный ученый; в его доме не было найдено ни одной серебряной монеты, друзьям пришлось оплатить гроб и мелкие долги, нести расходы по похоронам и взять к себе малолетних детей. И расплатой за позор и обвинение становятся похороны Себастьяна Кастеллио, вылившиеся в триумфальное шествие духа; все молчавшие из трусости и осторожности, пока Кастеллио находился под подозрением в ереси, рвутся теперь к его гробу, чтобы высказать, как сильно они его любили и почитали; ибо гораздо легче защищать мертвого, нежели живого и гонимого. Торжественно шествует в похоронной процессии весь университет, на плечах студенты вносят гроб с телом Кастеллио в собор и на территории монастыря опускают в могилу. На средства троих его учеников на надгробной плите было высечено посвящение: «Славному учителю в знак благодарности за его великие знания и чистоту его жизни».
А в то время как Базель оплакивает крупного ученого и настоящего человека, в Женеве царит радостное ликование; не слышно только колокольного звона, вещающего о получении желанного сообщения, что этот самый смелый защитник духовной свободы, к счастью, уничтожен, что красноречивые уста, протестовавшие против совершавшегося насилия над совестью, наконец-то умолкли навеки! Не скрывая радости, поздравляют друг друга эти по-библейски благочестивые «слуги слова божьего», как если бы слова «Возлюбите врагов своих» никогда не встречались им в их евангелиях. «Кастеллио умер? Тем лучше!» — пишет Буллингер, пастор Цюриха; другой же насмехается: «Чтобы не оправдываться за свои дела перед базельским сенатом, Кастеллио сбежал к Радаманту[98] (к князю тьмы)». Де Без, который поверг Кастеллио своими предательскими стрелами, восхваляет бога за то, что тот избавил мир от этого еретика, и славит себя как вдохновителя-провозвестника: «Я был хорошим прорицателем, когда говорил Кастеллио: господь бог покарает тебя за твою хулу». Даже со смертью этого одинокого — а потому, хотя и побежденного, но вдвойне прославившего себя — борца бешеная ненависть к нему не утихает. Но к чему теперь все это: никакая насмешка не обидит мертвого, и идеи, ради которых он жил и за которые умер, как и все истинно гуманные цели, возвысятся над любым творящимся на земле насилием и сделают его преходящим..
КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ
Le temps est trouble, le temps se esclarsira
Apres la plue l'on atent le beau temps
Apres noises et grans divers contens
Paix adviendra et maleur cessera.
Mais entre deux que mal l'on souffrera!
Chanson de Marguerite d'Autriche [99]
И вот борьба, кажется, окончена. В лице Кастеллио Кальвин устранил единственно серьезного духовного противника, а поскольку тем временем он заставил замолчать в Женеве и политических противников, Кальвин может теперь беспрепятственно продолжать свое дело с еще большим размахом. В течение одного поколения идея может основательно изменить народ, вот так и религиозная заповедь Кальвина через два десятилетия из субстанции теологического мышления превратилась в чувственно осязаемую форму бытия. Справедливости ради следует признать, что после победы этот гениальный организатор с необычайной последовательностью вывел свою систему из тупика на простор, придав ей всемирный характер. Железный порядок делает Женеву образцовым городом по своему внешнему жизненному укладу. Изо всех стран мира в «протестантский Рим» стекаются сторонники Реформации, стремящиеся насладиться там плодами последовательного проведения в жизнь теократического режима. Все, что могут дать строгое воспитание и спартанская закалка, было полностью достигнуто; творческая многогранность принесена в жертву трезвому однообразию, а удовольствие — математически холодному расчету, зато сам процесс воспитания превратился в своего рода искусство. Учебные заведения и благотворительные учреждения находятся под безукоризненным руководством, большое место отводится науке, и, основав «академию», Кальвин создает не только первый духовный центр протестантизма, но одновременно и противовес иезуитскому ордену своего давнего товарища Лойолы: дисциплина логики против просто дисциплины, закаленная воля против просто воли. Обладающие превосходным теологическим оружием, проповедники и агитаторы кальвинистского учения направляются отсюда по строго рассчитанному военному плану во все уголки мира, поскольку Кальвин давно уже отказался от мысли ограничить свою власть и идею этим маленьким швейцарским городом; через страны и моря простирается его необузданное стремление к господству, цель которого — постепенное подчинение своей тоталитарной системе всей Европы, всего мира. Уже Шотландия покорена с помощью его легата Джона Нокса, уже Голландия и часть северных стран проникнуты пуританским духом, уже гугеноты во Франции вооружаются на решающий бой; еще один-единственный успешный шаг, и «Institution станет руководством к действию во всем мире, а кальвинизм — единой формой мышления и жизни западноевропейских стран.
К каким значительным изменениям в европейской культуре привело бы подобное победоносное проникновение кальвинистского учения, можно себе представить на примере той особой структуры, элементы которой кальвинизм за самый короткий срок внедрил в покоренных им странах. Всюду, где женевская церковь смогла насадить — хоть на короткое время — свою нравственно-религиозную диктатуру, внутри каждой нации возник новый особый тип личности: тип гражданина с незапятнанной репутацией, незаметно живущего и безупречно, «spotless», выполняющего свои нравственные и религиозные обязанности; повсюду чувственно-свободное подавлялось методически-укрощенным, жизнь сводилась к трезвому холодному образцу. В любой стране, уже начиная с улицы, в степенности поведения, в неброскости одежды, манерах и даже в скромной неторжественности облика каменных построек еще и сегодня сразу же ощущаешь присутствие или следы присутствия кальвинистской строгости — настолько прочно сильная личность смогла увековечить себя в этой рациональной деловитости. Ломая всякую индивидуальность и насущные жизненные потребности каждой отдельной личности, укрепляя всюду авторитет власти, кальвинизм создал в нациях, где он господствовал, тип корректного «служаки», всегда скромно подчиняющегося общему делу, то есть превосходного чиновника и идеального представителя среднего сословия; как справедливо показал Вебер[100] в своем известном исследовании о капитализме, никакое обстоятельство в такой степени не помогло подготовить промышленную революцию, как кальвинистское учение об абсолютном послушании, ведь начиная со школы религия готовит людей к будущей унификации и механизированию общества. Всеобщая строгая организованность подданных всегда укрепляет внешнюю военную ударную мощь государства; великолепное, крепкое, выносливое и испытавшее лишения поколение мореплавателей и колонистов, которое завоевало сначала для Голландии, а затем для Англии новые континенты, превратив их в колонии, было в основном пуританского происхождения, и именно это духовное начало в свою очередь творчески определило американский характер; все эти нации своими мировыми успехами в политике бесконечно обязаны строгому воспитательному воздействию проповедника-пикардийца из собора св. Петра.
Однако какой был бы кошмарный сон, если Кальвин, де Вез и Джон Нокс, эти «kill-joy» [101], покорили бы весь мир, придав ему грубейшую форму своих первых требований! Какая будничная скука, какое однообразие, какая бесцветность обрушилась бы на Европу! Как бы свирепствовали эти чуждые творчеству, радости, жизни религиозные фанатики в отношении великолепного изобилия и всех тех прелестных излишеств бытия, в которых в божественной многогранности проявляется вдохновенная игра творчества! Сколь охотно истребили бы они в пользу унылой монотонности все социальные и национальные контрасты, чувственное разнообразие которых как раз и обеспечило Западу главенствующую роль в истории культуры; их предельно четкий порядок сделал бы невозможным великое упоение формой. Так же как в Женеве на долгие столетия они задушили тягу к искусству, так же как на первом этапе своего господства в Англии их безжалостный каблук навсегда растоптал замечательный цветок мирового разума, шекспировский театр, так же как они уничтожали полотна старых мастеров в церквах и насаждали богобоязненность вместо человеческой радости, — точно так же во всей Европе предавалось библейской анафеме Моисея любое пылкое стремление приблизиться к божественному иначе, чем с помощью канонизированного смирения. Сердце сжимается, стоит только представить себе: Европа семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого веков без музыки, без живописи, без театра, без танца, без роскошной архитектуры, без ее празднеств, ее утонченной эротики, без изысканности общения! Только голые стены церквей, строгие проповеди в качестве назидания, только повиновение, покорность и богобоязненность! Искусство, этот свет божий в нашей темной, затхлой повседневности, проповедники запретили бы нам как «греховное сибаритство», разврат, как «paillardise» [102]; Рембрандт остался бы батраком у мельника, Мольер — обойщиком или слугой. В ярости они сожгли бы роскошные картины Рубенса, а может быть, и его самого, лишили бы Моцарта его возвышенной жизнерадостности, низвели бы Бетховена до сочинителя музыки к псалмам! Шелли, Гете, Китс — разве можно представить себе их под гнетом «placet» [103] и «imprimatur» [104] благочестивой консистории? Или Канта и Ницше, строящих свой духовный мир под сенью Кальвиновой «дисциплины»? Никогда расточительство и смелость художественного духа не смогли бы запечатлеться в неповторимом великолепии Версальского дворца, в римском барокко; никогда в моде и танце не смогла бы раскрыться нежная игра красок рококо, — в богословском пустозвонстве зачах бы европейский разум, вместо того чтобы, творчески изменяясь, развиваться. Потому что бесплодным, не способным к созиданию остается мир, если его не питают я не поддерживают свобода и радость, и жизнь всегда замирает в любой застывшей системе.
К счастью, Европа не позволила «дисциплинировать» себя, пуританизировать и превратить в подобие Женевы: воля к жизни, жаждущая вечных обновлений, вдохновила несокрушимую силу противодействия. Только в незначительной части Европы кальвинистское наступление закончилось победой, но даже там, где оно стало господствовать, оно постепенно добровольно упразднило свой строгий библейский диктат. Ни одному государству Кальвинова теократия не смогла навязать своего владычества на длительное время, и вскоре после смерти Кальвина перед лицом сопротивления действительности отступает и делается более гуманным враждебное отношение к жизни и к искусству его некогда безжалостной «дисциплины». Потому что чувственность жизни в конечном счете сильнее любого абстрактного учения. Своими теплыми соками она пропитывает любую закостенелость, ослабляет любую строгость, размягчает любую черствость. Как мускул не может надолго оставаться в крайнем напряжении, как страсть, доведенная до предела, но может постоянно сохраняться в этом состоянии, — так и духовные диктатуры не способны длительное время сохранять свой беспощадный радикализм: чаще всего только одному поколению удается мученически переносить их крайнее давление.
Так и учение Кальвина быстрее, чем этого можно было ожидать, утратило свою крайнюю нетерпимость. Почти никогда по истечении столетия учение не бывает похожим на свою первоначальную форму, и было бы роковой ошибкой отождествлять то, что требовал сам Кальвин, с тем, во что превратился кальвинизм в ходе исторического развития. Правда, в Женеве даже при Жан-Жаке Руссо спорили о том, следует ли разрешить или запретить театр, серьезно обсуждали необычный вопрос, означают ли «изящные искусства» прогресс или несчастье для человечества, но уже давно сломлено опасное сверхнапряжение Кальвиновой «дисциплины», и застывшая библейская вера органически сочетается с гуманностью. Ведь животворный дух развития всегда сумеет использовать для своих таинственных целей то, что с самого начала пугает нас как грубый регресс, вечный прогресс берет у каждой системы только полезное и как выжатый лимон отбрасывает все тормозящее. В широком аспекте истории человечества диктатуры означают только кратковременные отклонения, а все, что стремится своей реакционностью затормозить ритм жизни, на самом деле после короткого спада приводит только к еще более энергичному движению вперед: и как вечный символ — Валаам[105], который жаждет проклясть, но, вопреки своей воле, благословляет. Таким образом, именно из системы кальвинизма, которая с особенной жестокостью стремилась ограничить личную свободу, путем удивительного превращения возникла идея политической свободы; Голландия, Англия Кромвеля и Соединенные Штаты — первые поля деятельности кальвинизма — открыли широкий путь идее либерального, демократического государства. Пуританский дух создал один из важнейших документов нового времени — Декларацию независимости Соединенных Штатов, которая в свою очередь оказала решающее влияние на французскую Декларацию прав человека. И самый необычный поворот: крайности сходятся — как раз те страны, которые сильнее всего были проникнуты духом нетерпимости, поразительным образом стали первыми убежищами веротерпимости в Европе. Именно там, где религия Кальвина — закон, идея Кастеллио становится реальностью. Именно в ту самую Женеву, где некогда Кальвин из-за расхождения по богословским вопросам сжег Сервета, бежит «враг божий», живой антихрист своего времени, Вольтер. Но заметьте: его дружески навещают преемники Кальвина, проповедники именно его церквей, чтобы самым гуманным образом пофилософствовать с богоненавистником. С другой стороны, в Голландии Декарт и Спиноза, не нашедшие больше нигде на земле прибежища, создают такие произведения, которые освобождают человеческое мышление от оков церкви и традиций. Именно в лоно самого строгого божественного учения бегут из многих стран те, над кем нависла угроза из-за их веры и убеждений, — Ренан, который обычно мало верил в чудеса, назвал «чудом» этот поворот строгого протестантизма к просвещению. Ничто так сильно не притягивается друг к другу, как абсолютные противоположности. Точно так же в Голландии, Англии, Америке спустя два столетия почти по-братски уживались веротерпимость и религия, требование Кальвина и требование Кастеллио.
Ведь и идеи Кастеллио пережили его время. Только на мгновение может показаться, что вместе с человеком кончается и его миссия; еще несколько десятилетий молчание и непроницаемый мрак покрывают это имя, как земля — гроб. Никто больше не спрашивает о Кастеллио, его друзья умирают или исчезают из поля зрения, то немногое, что было напечатано, становится постепенно недоступным, с другой стороны, неопубликованные труды никто не отваживается публиковать; кажется, напрасной была вся борьба, напрасно прожита жизнь. Но пути истории неисповедимы: именно победа его противника помогла возрождению Кастеллио. Бурно, может быть, даже слишком бурно, распространяется кальвинизм в Голландии. Проповедники, закаленные фанатичной учебой в академии, считали, что должны превзойти строгость Кальвина в новообращенной стране. Но вскоре в этом народе, который только что защитил себя от императора «двух миров», вспыхивает сопротивление; народ не желает оплачивать только что завоеванную политическую свободу догматическим насилием над совестью. В кругах духовенства некоторые проповедники (их позднее стали называть ремонстрантами) возражали против тоталитарных притязаний кальвинизма, и когда они в борьбе с неумолимой ортодоксальностью начали искать духовное оружие, они вдруг вспомнили забытого и ставшего уже почти мифическим борца. Корнхерт и другие либеральные протестанты ссылаются на сочинения Кастеллио, и начиная с 1603 года появляются все новые и новые издания и голландские переводы, привлекая всеобщее внимание. Сразу выясняется, что идея Кастеллио ни в коем случае не была забыта, а только как бы перезимовала самое суровое время; ну а теперь наступает ее звездный час. Скоро уже не хватает его опубликованных трудов, в Базель отправляются посыльные, чтобы разыскать неопубликованное наследие Кастеллио; все, что удалось найти, доставляют в Голландию и вновь и вновь перепечатывают на языке оригинала и в переводах; и спустя полстолетия после его смерти ему, давным-давно забытому, посвящают полное собрание его произведений (Гуда, 1612). Таким образом, Кастеллио снова находится в центре спора, победоносно возрожденный, впервые окруженный своими преданными последователями; беспредельно его влияние, хотя почти и анонимно. В чужих делах, в чужой борьбе находят свое выражение идеи Кастеллио; во время знаменитой дискуссии арминиан о либеральных реформах в протестантизме большинство аргументов заимствовано из его сочинений; и хотя документально едва ли может быть доказано, что существовала духовная связь Декарта и Спинозы с идеями Кастеллио, все же при необычайно широком распространении его произведений в Голландии такое предположение имеет под собой реальную почву. Но в Голландии не только духовенство, не только люди с классическим образованием были охвачены идеей терпимости, постепенно эта идея глубоко проникает в нацию, уставшую от богословской грызни и убийственных церковных войн. В Утрехтском мирном договоре идея веротерпимости становится государственной политикой и из абстракции превращается в реальность: политически свободный народ внимает вдохновенному призыву к взаимному уважению мнений (призыву, который Кастеллио когда-то адресовал владыкам) и возводит этот призыв в ранг закона. Из этой «провинции» идея уважения любой веры и любого убеждения победоносно шагает в свое «мировое» будущее; одна страна за другой осуждает в духе Кастеллио всякое религиозное и мировоззренческое преследование.
Однако история — это приливы и отливы, вечные взлеты и падения; никогда право не бывает завоевано на все времена, никогда свобода не гарантирована от насилия, постоянно принимающего новые формы. Всегда любое прогрессивное явление снова и снова оспаривается человечеством, и даже само собой разумеющееся опять подвергается сомнению. Но именно тогда, когда мы воспринимаем свободу уже как нечто привычное, а не как священное достояние, вдруг из мрачного мира страстей вырастает таинственная воля, стремящаяся совершить насилие над свободой; и всегда, когда человечество слишком долго и слишком беззаботно радуется миру, им овладевает опасная тяга к упоению силой и преступное желание войны. Ведь чтобы продвигаться вперед к своей неисповедимой цели, история время от времени создает непостижимые для нас кризисы; и как в период наводнения сносятся самые прочные дамбы и плотины, точно так же рушатся оплоты законов; в такие жуткие моменты человечество, кажется, движется назад к бешеной ярости толпы, к рабской покорности стада. Но так же как после всякого наводнения вода должна схлынуть, так и всякий деспотизм устаревает и остывает; только идея духовной свободы, идея всех идей и поэтому ничему не покоряющаяся, может постоянно возрождаться, ибо она вечна как дух. Если кто-то извне на какое-то время лишает ее слова, она прячется в глубинах совести, недосягаемых для любого вторжения. С каждым новым человеком рождается новая совесть, и кто-то всегда вспомнит о своем духовном долге — возобновлении давней борьбы за неотъемлемые права человечества и человечности; вновь и вновь Кастеллио будет подниматься на борьбу против всякого Кальвина и защищать суверенную самостоятельность убеждений от любого насилия.
Примечания
Книга Цвейга вышла в 1936 г. Воскрешая эпизод из эпохи Реформации, Цвейг не скрывает своей антипатии к тому режиму, который Кальвин установил в Женеве. Однако за изложением событий в Женеве явственно проглядываются другие события, происходившие в современной Цвейгу фашистской Германии. Книга насыщена аналогиями и ассоциациями, и хотя в ней ни разу не упомянуты имена нацистских деятелей и их акции, именно о них вспоминает всякий, когда читает о штурмовиках Фареля или же о юнгфольке. Работая над произведением, Цвейг изучил огромную историческую литературу, прежде всего труды С. Кастеллио, в том числе его рукописи. Он занимался в библиотеках и архивах Цюриха, Женевы, Базеля, в Британском музее в Лондоне. Его талантом воссоздан один из самых драматических периодов европейской Реформации.
На русском языке фрагменты из книги «Совесть против насилия» были опубликованы в 1984 г. в журнале «Наука и религия»». В настоящем издании впервые печатается наиболее полный перевод книги, в котором сделаны незначительные сокращения.
1
Тот, кто пал, не изменив своему мужеству… тот, кто перед лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто, испуская последнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом, — тот сражен, но не побежден. Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми. Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей» (Монтень, Опыты, кн. 1, гл. XXXI),
Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ-гуманист. В своем произведении «Опыты» критиковал теологию, догматизм, схоластику; рассматривал человека как высшую ценность; защищал терпимость и осуждал религиозный фанатизм.
(обратно)2
самого неистового христианина (лат.).
(обратно)3
…меж сражающихся зелотов… — Зелоты — воинствующая антиримская религиозно-политическая партия в Иудее в I в. до п. э. — I в. н. э.; выражала интересы мелких собственников — земледельцев и ремесленников. Цвейг употребляет понятие «зелоты» для обозначения религиозных фанатиков.
(обратно)4
…простирают над ним, как некогда над Лютером и Эразмом, свою заботливую десницу… — Цвейг имеет в виду то обстоятельство, что Лютер после 1520 г. перешел на сторону князей и пользовался их покровительством, в частности Фридриха Саксонского; Эразм Роттердамский (1469—1536) — один из крупнейших гуманистов эпохи Возрождения, автор памфлета «Похвала глупости» (1509), в котором остро и тонко высмеивал церковные и политические порядки феодального общества, ханжество, невежество, выступал против схоластики; Эразм пользовался поддержкой и покровительством императора Священной Римской империи, английского и французского королей, ряда иерархов католической церкви.
(обратно)5
…о решающем разрыве между либеральным и ортодоксальным направлениями в протестантизме… — Протестантизм — общее название различных направлений в христианстве, отколовшихся от католической церкви во время Реформации XVI в. Протестантизм отражал протест нарождающейся буржуазии против духовного авторитета церкви. Это нашло выражение в доктрине «спасения» путем «личной веры», а не церковными таинствами, в отрицании верховного авторитета римского папы, в требовании создания национальных церквей, отмены монашества, почитания икон, культа святых, безбрачия духовенства, во введении богослужения на родном языке. Протестантизм не был однородным течением. Это и имеет в виду Цвейг, говоря о либеральном и ортодоксальном направлениях в протестантизме.
(обратно)6
здесь: суть дела (лат.).
(обратно)7
Ethos или Logos… — Ethos (греч. — обычай, нрав, характер) — термин античной философии, обозначающий характер физического, морального, общественного и художественного явления. Logos (греч. — слово, мысль, разум) — термин античной философии, начиная с Гераклита обозначавший всеобщий закон мира. Противопоставляя эти понятия, Цвейг подразумевает некоторую конкретность первого в противоположность абстрактности (и потому безликости) второго.
(обратно)8
…Великий инквизитор Достоевского… — Имеется в виду образ, созданный Достоевским в романе «Братья Карамазовы» (гл. «Великий инквизитор» из кн. 5 романа), персонаж поэмы, сочиненной Иваном Карамазовым. В образе Великого инквизитора Достоевский хотел показать человека, извратившего учение Христа; по словам писателя, Великий инквизитор, в сущности, атеист. Тем самым Достоевский выказал свое отрицательное отношение к атеизму.
(обратно)9
«впадать в рабство» (лат.).
(обратно)10
«сознательные противники» (англ.)
(обратно)11
Савонарола Джироламо (1452—1498) — итальянский религиозно-политический реформатор, проповедник, монах-доминиканец. Призывая церковь вернуться к аскетизму, к апостольскому идеалу, осуждал роскошь, развлечения, светское искусство. Попытался образовать во Флоренции религиозную республику. Сторонники римского папы добились осуждения Савонаролы как еретика, и он был казнен.
(обратно)12
Джон Нокс (1505—1572) — шотландский кальвинистский реформатор и богослов. В 1559 г. стал главой пресвитерианской церкви в Шотландии. Перевел Библию на английский язык.
(обратно)13
Рабле Франсуа (ок. 1494—1553) — французский писатель-гуманист, выступал против религиозного фанатизма. Роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» подвергался запрету за свободомыслие. Главная идея романа — отрицание аскетизма, прославление удовлетворения естественных человеческих потребностей и свободного развития личности.
(обратно)14
Локк Джон (1632—1704) — английский философ-материалист и просветитель. Выступал против фанатизма различных христианских сект и призывал к веротерпимости. В защиту религиозной свободы написал четыре письма о веротерпимости. Юм Дэвид (1711— 1776) — английский философ, психолог, экономист, историк, основоположник агностицизма в европейской философии. Уделял в своих работах внимание вопросам происхождения религии, ее истории. Отрицая церковные догмы, критикуя религиозную мораль и нетерпимость, Юм выступал за так называемую естественную религию. Вольтер (Франсуа Мари Друэ) (1694—1778) — французский философ-просветитель и писатель. Беспощадный и остроумный критик церкви и религиозного фанатизма. Широко известны были его выступления в защиту Жана Каласа (1690—1762), французского торговца, протестанта, который по ложному обвинению в убийстве сына был осужден на смертную казнь.
(обратно)15
…Золя в деле Дрейфуса… — Французский писатель Эмиль Золя (1840—1902) в 1898 г. выступил в защиту А. Дрейфуса, осужденного за государственную измену. Дело Дрейфуса, офицера французского генерального штаба, еврея, обвиненного в шпионаже в пользу Германии, было сфабриковано реакционной французской военщиной в 1894 г. Под давлением общественности в 1899 г. Дрейфус был освобожден.
(обратно)16
Фарель Гийом (1489—1565) — швейцарский реформатор, в 1533 г. содействовал победе Реформации в Женеве.\
(обратно)17
Дантон Жорж Жак (1759—1794) — один из видных деятелей Великой французской революции и руководителей восстания 1792 г. В результате раскола в якобинском блоке Дантон и его сторонники, требовавшие ослабления революционной диктатуры, были осуждены трибуналом и казнены.
(обратно)18
…формирует юнгфольк… — Так в фашистской Германии называлась детская нацистская организация.
(обратно)19
Меланхтон Филипп (1497—1560) — немецкий богослов и гуманист, идеолог Реформации, сподвижник М. Лютера и систематизатор его учения. Поддерживал Лютера и Кальвина в борьбе против радикальных и народных течений в Реформации. Вуцер Мартин (1491—1551) — деятель Реформации радикалыю-бюргерского направления, оказал влияние на Кальвина.
(обратно)20
вселенской церкви (лат.).
(обратно)21
…кровью и ужасом закончились уже зловещая трагикомедия анабаптистов в Мюнстере… — Анабаптисты (перекрещенцы) — приверженцы движения, возникшего в ходе Реформации в Германии в XVI в., выражавшего интересы народных низов. Согласно их учению святость крещения требует, чтобы человек принимал его сознательно, поэтому они настаивали на вторичном крещении взрослых людей. Стремясь осуществить царство божие на земле, основали коммуну в г. Мюнстере (1534—1535), в которой были осуществлены мероприятия в интересах бедноты. После 14-месячной осады город был взят войсками германских князей, а значительное число участников коммуны было казнено.
(обратно)22
«Наставление в христианской вере» (лат.).
(обратно)23
Кодекс Наполеона — свод законов, составленный по указанию Наполеона и при его личном участии в 1804—1810 гг. Явился классической кодификацией буржуазного права, оказавшей влияние на законодательство всех европейских государств.
(обратно)24
«толкователя Священного писания» (фр.).
(обратно)25
«Бог даровал мне милость провозглашать, что есть добро, а что — зло» (фр.).
(обратно)26
о личности. применительно к данной личности (лат.).
(обратно)27
«слово божье» (фр.).
(обратно)28
животворное слово (древнегреч.).
(обратно)29
фактически (лат.).
(обратно)30
улице Каноников (фр.).
(обратно)31
«свирепым и необузданным животным» (фр.).
(обратно)32
«сволочью» (фр.).
(обратно)33
«бывалым» (фр.).
(обратно)34
«разврат» (фр.).
(обратно)35
экипажами (фр.).
(обратно)36
«старательно» (фр.).
(обратно)37
«распространители чумы» (фр.).
(обратно)38
Пандекты (или Дигесты) — одна из трех частей «Свода римского права», созданного при императоре Юстиниане, изданы в 533 г., представляют собой свод извлечений из сочинений римских юристов.
(обратно)39
Доле Этьенн (1509—1546) — французский гуманист, лионский типограф. Критиковал религиозные догмы, отрицал бессмертие души. Обвиненный в издании запрещенных книг и безбожии, был казней.
(обратно)40
Vulgata (Вульгата, лат. — народный, общедоступный) — латинский перевод Библии, выполненный в конце IV — начале V в. блаженным Иеронимом. Был признан официальным текстом в римско-католической церкви. Здесь Цвейг использует термин Vulgata для обозначения перевода Библии на европейские языки.
(обратно)41
…груди которой резвятся подобно двум молодым сернам на пастбище… — Цвейг своими словами передает фрагмент из библейской книги «Песнь песней Соломона»: «…два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями» (4, 5).
(обратно)42
«животное» (лат.), «собака» (фр.).
(обратно)43
Аугсбургский конгресс. — На Аугсбургском конгрессе в июне 1530 г. рейхстагу и императору было зачитано Аугсбургское исповедание — важнейший документ лютеранства, составленный Меланхтоном под наблюдением Лютера (признается и ныне всеми лютеранами как основа и оправдание их веры).
(обратно)44
Никейский собор — I Вселенский собор (собрание высшего духовенства христианских церквей), собравшийся в г. Никее в 325 г., один из важнейших церковных соборов. Принял в первой редакции «символ веры» христианства, осудил арианскую ересь.
(обратно)45
Арианская ересь — течение в христианстве, возникшее в IV в., основанное священником Арием; отрицало один из главных догматов официальной церкви о «единосущности» бога-отца и бога-сына. Арий утверждал, что бог-отец и бог-сын «подобосущны», что бог-сын отличается от человека более высокими достоинствами; стремясь к благу, сын божий становится богом.
(обратно)46
Латинская форма фамилии Вильнев. — Ред.
(обратно)47
«Восстановление христианства» (лат.).
(обратно)48
«под тайной печатью», «секретно» (лат.).
(обратно)49
«если есть зуб на кого-то, то уж это навсегда» (фр.).
(обратно)50
службу (лат.).
(обратно)51
лично (лат.).
(обратно)52
черт, дьявол (библ.).
(обратно)53
«направляемый дурным предзнаменованием» (лат.).
(обратно)54
Герцог Энгиенский Луи Антуан (1772—1804) — французский принц, последний представитель одной из боковых ветвей Бурбонов. Заподозренный Наполеоном I в намерении запять французский престол, был обвинен в причастности к заговору и убит.
(обратно)55
Догмат о троице — один из основных догматов христианства, входит в символ веры, утвержден на соборе в Константинополе в 381 г. Согласно догмату бог существует в трех лицах (ипостасях): бог-отец, бог-сын, бог-дух святой.
(обратно)56
…на …площади Шампля — Шампль — холм в предместье Женевы, место отдыха горожан. На площади Шампля совершались в то время казни.
(обратно)57
«Милосердия!» (исп.)
(обратно)58
жертва разума (ит.).
(обратно)59
Синдик — человек, следящий за правильным решением дел в различных учреждениях, корпорациях и пр.
(обратно)60
под большим секретом (лат.).
(обратно)61
«еретики» (лат.).
(обратно)62
«мятежники» (лат.).
(обратно)63
Анабаптисты-коммунисты — последователи Т. Мюнцера (1489-1525).
(обратно)64
Торквемада Томас (ок. 1420—1498) — монах-доминиканец, глава инквизиции в Испании, ввел в практику аутодафе известен преследованием мусульман и евреев.
(обратно)65
Де Без Теодор (1519—1605) — видный деятель Реформации во Франции и Женеве, сподвижник Кальвина, поэт.
(обратно)66
«предательство мелкого чиновника» (фр.).
(обратно)67
«суетливо» (лат.).
(обратно)68
«чудовище» (лат.).
(обратно)69
«Я не переставал делать все возможное, чтобы вернуть его к более праведным чувствам» (фр.).
(обратно)70
свобода для каждого говорить то, что он захочет (фр.).
(обратно)71
«Запрещать неблагонадежным писателям публично распространять все, что им приходит в голову, не значит терзать церковь» (фр.).
(обратно)72
«Ему не воздают подобающей хвалы, если не предпочитают любой человеческий взгляд служению господу, если не поступаются ни родством, ни кровью, ни чьей бы то ни было жизнью, если, когда дело касается славы его, не предается забвению всякая человечность» (фр.).
(обратно)73
«любой человечный взгляд» (фр.).
(обратно)74
с кафедры (лат.).
(обратно)75
Бернардо Окино (1487—1564) — итальянский проповедник Локарнской общины в Цюрихе, деятель Реформации.
(обратно)76
Социн Лелио (1525—1562) — деятель Реформации в Италии; с племянником Фаустом (1539—1604) основал направление (социнианство), отвергавшее догмат святой троицы, божественность Христа, первородный грех, молитву.
(обратно)77
Курион Делий Секунд (1503—1569) — итальянский протестант, с 1547 г. профессор в Базеле, антитринитарий. Давид де Йорис (ок. 1500—1556) — крупный антитринитарий.
(обратно)78
…отцов церкви — св.Августина, св. Хризостома и Иеронима… — Отцы церкви — традиционное название деятелей христианской церкви II—VIII вв., создавших ее догматику и организацию. Августин Аврелий (354— 430) — христианский теолог и церковный деятель. В сочинении «О граде божием» «земному граду» — государству противопоставлял мистически понимаемый «божий град» — церковь. Развил учение о благодати и предопределении. Св.Хризостом, или Иоанн Златоуст (347—407) — епископ Византии, славился красноречием. Иероним (340—420) — христианский богослов, перевел Библию на латинский язык.
(обратно)79
Себастьян Франк (1499—1542) — немецкий историк, философ и богослов.
(обратно)80
Экзегеза (греч. — истолкование) — толкование древнего текста, преимущественно Св. писания.
(обратно)81
Буллингер Генрих (1504—1575) — деятель швейцарской Реформации; после смерти Цвингли был главой реформатской церкви в немецкой Швейцарии; заключив в 1549 г. соглашение с Кальвином, достиг объединения немецких и французских реформаторов.
(обратно)82
«Я обвиняю» (фр.).
(обратно)83
…«J'accuse» своего века… — Цвейг сравнивает памфлет Кастеллио с письмом Э. Золя, озаглавленным «Я обвиняю», с которым писатель обратился к президенту Франции. Письмо было опубликовано в газете «Орор» в начале 1898 г. В письме Золя требовал пересмотра сфабрикованного дела А. Дрейфуса.
(обратно)84
«Против памфлета Кальвина» (лат.).
(обратно)85
изучивший Священное писание (фр.).
(обратно)86
официально (лат.).
(обратно)87
провокатора (фр.).
(обратно)88
«Карфаген должен быть разрушен!» (лат.)
(обратно)89
«Клевета одного негодяя» (лат.).
(обратно)90
негодяем (фр.).
(обратно)91
«скотину, тварь» (лат.).
(обратно)92
ничтожный (лаг.).
(обратно)93
Что до меня, я за деньги любому служу:
В стихах или в прозе. А еще вам скажу,
Что другого мне в жизни не надо… (фр.)
(обратно)94
«Совет опечаленной Франции» (фр.).
(обратно)95
«насилия над совестью» (фр.).
(обратно)96
«Ответ на апологию и опровержение Себастьяна Кастеллио» (лат.).
(обратно)97
«Книга чудес» (голланд.).
(обратно)98
Радамант — согласно греческому мифу сын Зевса и Европы, за свою справедливость назначенный судьей в царстве мертвых.
(обратно)99
Погода пасмурна — погода прояснится,
И засияет день дождю и мгле вослед.
Так после ссор, вражды и распрей стольких лет
Настанет мир и буря укротится.
Но между этих двух — какое море бед!
Песнь Маргариты Австрийской (фр.).
(обратно)100
…как справедливо показал Вебер… — Речь идет о работе немецкого социолога Макса Вебера (1864— 1920) «Протестантская этика и дух капитализма». (1905).
(обратно)101
«зануда, брюзга» (анг.).
(обратно)102
«распутство, разврат» (фр.).
(обратно)103
«копии судебного акта» (фр.).
(обратно)104
«разрешения на выпуск в свет» (даваемое церковной властью) (фр.).
(обратно)105
…и как вечный символ Валаам… — В Библии (Числа, 23) содержится рассказ о пророке в Месопотамии Валааме, который должен проклясть народ Израиля и вместо этого, по указанию бога, дважды его благословляет.
(обратно)



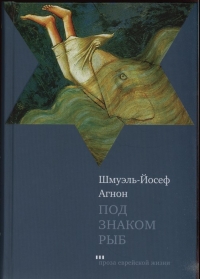
Комментарии к книге «Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина», Стефан Цвейг
Всего 0 комментариев