Генрих Манн БЕДНЫЕ
I. Ненавидящие, любящие
Перед огромной рабочей казармой в Гаузенфельде неистово орали дети. Сотни ребят, словно выплеснутые из недр битком набитого дома, где все они родились, бегали и отчаянно дрались на серой от пыли лужайке. Когда стену освещало солнце, уже отработавшие свое старики стояли, греясь возле нее, и смотрели на них. Малыши то и дело падали в канаву, отделявшую лужайку от проезжей дороги, а матери и сестры тут же спешили к ним на выручку. Подростки обычно перепрыгивали канаву в своем излюбленном месте, там, где она тянулась вдоль дороги к кладбищу. Перебравшись на ту сторону, они гурьбой наваливались на шаткий забор виллы, принадлежавшей Клинкоруму. Едва им удавалось высадить доску, как они бросались в сад за яблоками. С негодованием и ужасом прислушивался владелец сада к треску ветвей, которые они ломали, но больные ноги плохо слушались его, и он появлялся обычно слишком поздно, — мальчишки успевали уже перемахнуть обратно и издали показывали ему недозрелые плоды, якобы подобранные на дороге. Тогда он произносил речь в защиту собственности и просвещения, неизменно одну и ту же, не замечая, что каждый раз имеет дело с теми же озорниками. Некогда Клинкорум был школьным учителем, правда, учил он детей богатых. Теперь, став уже беззубым стариком, он все же не мог отказать себе в удовольствии похорохориться и блеснуть своим красноречием. Но едва он скрывался из виду, как мальчишки снова барабанили по забору и кто-нибудь из них, прокравшись в сад, оставлял памятку на садовой дорожке. Старик маляр, живший в подвале виллы Клинкорума, обычно все это видел и посмеивался, хотя для приличия и ругал шалунов. Однако девочкам матери строго-настрого запрещали даже близко подходить к дому учителя.
И это было еще далеко не все, что вынужден был терпеть учитель Клинкорум. Когда он возвращался из города, то подчас, уже у самой виллы, его нагоняла директорская машина и, как ни спешил он войти в дом, успевала обдать пылью или грязью. Главный директор и тайный коммерции советник доктор Геслинг сидел в своей машине в наглухо застегнутом плаще, устремив вперед непреклонный взор, а учитель Клинкорум, прижатый к собственному забору, задыхался и в бессильной ярости смотрел ему вслед, пока облако черного дыма, окутав учителя с ног до головы, не застилало ему глаза. И тогда Клинкорум мысленно произносил свою вторую речь, но уже против собственности, — против тех владельцев, которые знать не хотят никаких границ в своем чванстве и высокомерии. А ведь главное в человеке — просвещенность, она всегда стояла и должна стоять на первом месте.
С этими мыслями он поднимался в свой кабинет. Отсюда Клинкорум мог обозревать весь Гаузенфельд, а также пустырь позади рабочих казарм, тянувшийся до самого леса и до самой фабрики. Наступала ночь. Поблизости, над оградой кладбища, загорался фонарь, а вдалеке сияли прямые ряды фабричных огней.
Оттуда возвращались в поселок рабочие. Уже издали слышался дружный топот множества людей, он доносился до старика учителя, сидевшего в своем кабинете; и теперь Клинкорум уже не без уважения думал о повелителе всей этой людской массы, о Геслинге, хозяине Гаузенфельда, владевшем огромным богатством и удостоенном многих почетных званий. А как достиг такого успеха этот химик и бумажный фабрикант? Да ловкими коммерческими махинациями и политическими интригами — разговоры о них не утихли в городе и поныне, шестнадцать лет спустя. Нельзя не уважать человека, собственными силами пробившегося в жизни. Но пусть и он уважает людей, которые имеют на это еще большее право. Долго копил деньги Клинкорум, и вот, наконец, на далекой окраине, у проезжей дороги, ему удалось приобрести этот уединенный дом, отраду его старости. Подобно обители муз, стоял он под сенью деревьев, любовно лелеемый, укрытый от взоров непосвященных. Только крестьянские телеги, запряженные широколобыми, тяжело переступавшими волами, медленно тащились мимо; а Гаузенфельд, единственное крупное предприятие во всей округе, местный центр бумажной промышленности, лежал по ту сторону поля — за лесом; отсюда его не было видно, и сюда не доходили ни его шум, ни его зловоние. И что же? Новый владелец Гаузенфельда вздумал расширить свое предприятие. Он вырубил лес, скрывавший неприглядные постройки, и теперь рабочий поселок все разрастался к западу, домишки подступали все ближе к усадьбе Клинкорума. Дошло до того, что этот народ вздумал тут же, за его забором, хоронить своих покойников. А после того, как было разбито кладбище, с Клинкорумом сыграли еще одну шутку — началась постройка казарм для пролетариев. Чудовищные громады домов покрыли своей тенью и самого Клинкорума и его скромное жилище, душили его своими запахами, засыпали сажей его дом и сад, с каждым днем все больше расширяя вокруг него зону варварской непросвещенности, с ее грубым топотом, бранью, криками, смертоубийством.
Но вот огни на фабрике погасли; они зажглись в казармах и в закусочной, помещавшейся во флигеле. Там уже начинался шум и крик.
Рабочий Карл Бальрих молча стоял у окна в своей комнате 101, корпус С. Он видел перед собой ту же картину, что и владелец виллы Клинкорум, и, так же как тот, размышлял о мире, в котором жил. Правда, множество звуков, наполнявших дом и доносившихся справа, слева, сверху и снизу, заглушали его мысли, мешая ему сосредоточиться на чем-либо более отвлеченном. В воскресные дни, когда он отдыхал, и по вечерам, перед тем как уснуть, Бальрих слышал, как люди вокруг него ссорятся, целуются, шлепают детей, говорят о деньгах и о еде. В этом гулком вздрагивающем доме он слышал все, что происходило вокруг, что было жизнью этих людей и что уже не было жизнью: предсмертные стоны, последние хрипы умирающих. Но чаще, чем отголоски смерти, до него доносились голоса новорожденных, и тогда, смотря по настроению, он говорил себе: «Вот еще один труженик для рабочих батальонов» или: «Геслинг может смеяться, одним глупцом больше стало».
Ибо рабочий Бальрих понимал, что при данном положении вещей главный директор Геслинг является как бы центром жизни всего поселка, ее высшей целью, ради него — все эти усилия, волнения, страдания. И не только фабрика — весь город работает на богача и существует только по его милости. Все в стране вращается вокруг него и ему подобных. Ради него существует и войско, и, говоря по правде, даже король только шут при нем. Он, Геслинг, содержит этого шута, а сам все продолжает богатеть. «Да, у нас все решают деньги», — думал Бальрих…
«Если бы все решали деньги, — размышлял между тем, стоя у своего окна, учитель Клинкорум, — то этот Геслинг по праву столкнул бы меня на ту последнюю ступеньку общественной лестницы, где влачат жалкое существование его наемные рабы, в то время как сам он…»
Сам он поселился за лесом. На зеленом холме, над застроенной им долиной, над ее нищетой и грязью, но огражденный от этого зрелища и зловония густой чащей деревьев. Там, на залитой солнцем и утопающей в ярких цветах роскошной вилле «Вершина», в кругу спесивой семьи, беспечно обитает великий собственник и виновник всей этой социальной гнусности — эксплуататор! Эксплуататор!
Обличающее слово было произнесено двумя друзьями Клинкорума, вошедшими в его кабинет, — доктором Гейтейфелем и консисторским советником[1] Циллихом. Оба они повторили это слово. Да, чем человек образованнее, рассуждали они, тем сильнее развито в нем социальное сознание и чувствительность к обидам, которые наносит капитал с его вызывающей и разнузданной роскошью; ибо эта роскошь или существует рядом с удручающей нищетой, или, подобно гоночным автомобилям, безучастно проносится под рев клаксонов мимо обездоленных и их нищих лачуг.
Сестра рабочего Бальриха, жившая над ним, получила такую пощечину от своего мужа Динкля, что Бальрих услышал ее звук в своей комнате; Малли тут же отшлепала детей. Когда все вдоволь наорались, а соседи всласть нахохотались по случаю скандала, Малли, все еще продолжая всхлипывать, забормотала вечернюю молитву. Карл Бальрих снова вернулся к своим мыслям: «Все решают деньги». Но вот внизу Гербесдерфер заиграл на гармони, и Бальрих понял, что думать он не в силах. Трудно разобраться в том, что происходит в мире, постичь связь его явлений и управляющие им законы. Ораторы на собраниях говорят как-то уже слишком туманно. Чтобы понять их по-настоящему, а не поддаваясь лишь чувству ненависти, нам надо самим пробиться к тем знаниям, к которым большинство из них приобщилось чуть не с колыбели. А как и где теперь набраться такой учености?
Гости, сидевшие в кабинете Клинкорума, брюзжали: это он не позволил подвести к Гаузенфельду электрическую железную дорогу. Он боится общения внешнего мира с его долиной скорби, не желает, чтобы посторонние заглядывали в нее. Своим рабочим он запрещает частые отлучки в город, не хочет, чтобы они посещали товарищей и собрания. А по воскресеньям пусть сидят в его кабаке. Пусть размножаются, как в гетто, чтобы ни одна крупица их уменья и труда не досталась никому, кроме него. А последствия можете себе представить!
— Что касается меня, — сказал учитель, — то мне доподлинно известно, что число физических увечий в Гаузенфельде на много процентов превышает обычные нормы. И не удивляйтесь, друзья, если в одно прекрасное утро меня, Клинкорума, найдут в луже крови! Не будь я столь убежденным сторонником тишины и порядка, я бы уже давно нашел способ вызвать негодование общественности.
За новой бутылкой вина ученые мужи подняли даже вопрос о том, действительно ли счастье человека со средним достатком, но стоящего на определенном духовном уровне так уж зависит от прочности и нерушимости существующего порядка вещей… А когда бутылка опустела, собеседники начали предрекать уже самое страшное — катастрофу и даже светопреставление.
— Я вижу! — вдохновенно воскликнул Клинкорум. — Я вижу, как восстает некто, кто отомстит за меня! — и при этом уселся поудобнее в уголке дивана.
А в это время на той стороне улицы, в комнате, обращенной окном во двор, рабочий Бальрих пожелал спокойной ночи двум своим младшим братьям; он еще постоял у окна, прежде чем закрыть его, ветер бил ему в лицо, на широком лбу резко чернели сросшиеся брови. Сжав кулаки, вздернув плечи, словно поднимая непосильный груз, он продолжал мучительно думать, и казалось, ворочая какие-то глыбы, пытается нащупать в темноте очертания своей судьбы: какая же она, куда она приведет его, сплетенная с судьбами других людей? Будущее представлялось ему печальным и сумрачным, как это унылое поле, которое расстилается перед ним, завершаясь кладбищем. Между собой и кладбищем он не видел ничего, кроме несправедливости и ненависти.
Когда ученые мужи в кабинете Клинкорума начали прощаться, разговор вдруг принял неожиданный оборот. Конечно, богачам нельзя отказать в том, что они приносят обществу неизмеримую пользу. Они поддерживают престиж нашей страны за рубежом, обеспечивают нашу боевую мощь, способствуют расширению наших границ. Да ведь и не все капиталисты такие, как Геслинг! А сам Геслинг? Разве не следует отдать должное его деловым способностям? Весь Нетциг извлекает из них пользу. Те немногие гаузенфельдские акции, которые он оставил в чужих руках, при блестяще проведенной им операции, сделавшей его главным директором предприятия, — теперь эти акции редчайшая ценность, они переходят по наследству от отца к сыну. У каждого из трех собеседников было основание заподозрить остальных в том, что у них есть по нескольку этих акций, но так как ни один не заикнулся об этом, то не выдал себя и Клинкорум. И, только прощаясь, каждый как бы мимоходом спросил:
— Кстати, а как они сейчас котируются?
Ненависть! Она переполняла сердце Бальриха. С нею ложишься и с нею встаешь. В шестом часу, подняв воротник, бежишь на фабрику по серому, словно озябшему шоссе, и сотни людей молча спешат вместе с тобой. Топот спереди, топот сзади, топот в тебе самом, однообразный, точно стук машин. Все обречены терпеть несправедливость, всех душит ненависть, неотступная, привычная, как спертый воздух, как грохот в цеху. И кто же в конце концов наш злейший враг? Геслинг, для которого, надрываясь, гнешь спину, или Симон Яунер, такой же наемный раб, как ты? Ведь с сегодняшнего утра это он, Яунер, стоит у бумагорезательной машины, на том месте, где вчера еще работал Бальрих, — внизу, куда поступают готовые листы бумаги и где есть рядом дверь, открыв которую, можно хоть глотнуть свежего воздуха. Отдать самое лучшее место — и кому? Яунеру, который путался с женой механика Польстера! Да она еще приходится родной сестрой его зятю Динклю! Все утро Бальрих обливался потом, больше от ярости, чем от жары. А когда мимо прошел инспектор и спросил у Бальриха, почему он поменялся местами с Яунером, тот только молча стиснул зубы. «Это наше дело почему, а вам, господа, нечего во все совать свой нос!» Инспектор, разумеется, отлично знал всю подоплеку этой истории. Он сам сейчас крутил любовь с женой Польстера. Вот почему он велел доложить о себе господину старшему инспектору, и когда раздался гудок на обед, оба они отправились к главному директору Геслингу. Затем в кабинет директора был вызван механик Польстер, и тотчас же этот толстяк рогоносец вылетел оттуда весь красный; побагровела даже его плешь. А Бальрих вернулся на свое прежнее место у машины. Оказалось, что Геслинг справедлив.
Об этом только и шли разговоры по дороге в столовую. А когда мимо проходил служащий дирекции, многие нарочно старались заявить как можно громче, что вот, дескать, Геслинг поступил по справедливости. И даже Яунер это признал, уж такой он был человек. А Бальрих, к которому сегодня без конца приставали с расспросами, весь день раздумывал. То, что Геслинг оказался справедливым, это совсем не было на него похоже. Только вечером, стоя у окна, он понял: наверно, до Геслинга дошли слухи о любовных шашнях Польстерши, а для него, конечно, ради его собственной выгоды важно, чтобы на фабрике был прежде всего порядок. Тем хуже, значит, он справедлив, когда ему выгодно, и богачи, выходит, наживаются на собственной добродетели… Бальрих вернулся к этой мысли на другое же утро. В этом-то все дело…
Было воскресенье. Наверху опять плаксиво бормотала его сестра Малли, читавшая утреннюю молитву. Едва она умолкла, как поднялся невообразимый шум.
На этот раз Бальрих услышал и голос Лени, своей младшей сестры, поэтому он тут же бросился наверх, чтобы узнать, в чем дело. А там на него точно выплеснули ушат помоев. Малли якобы застала Динкля за дощатой перегородкой у Лени и, невзирая на свою беременность и на троих детей, вцепившихся в ее огромный живот, кричала мужу, что пусть не воображает, он не один дружок у Лени; в ответ на это Лени разревелась, а Динкль от смущения стал, как обычно, строить гримасы.
— Неужели тебе не совестно, — сказал Бальрих замужней сестре. — Все это опять твои выдумки… — И он привлек к себе Лени, обхватив ее за плечи. Хотя Бальрих не знал правды, но и не мог поверить, что она способна на такую гадость. Он любил Лени; он любил ее намного больше, чем старшую сестру Малли, так что даже упрекнул себя за это — и больше не сказал ни слова. Лени еще могла позволить себе быть красивой, стройной и опрятной, но бедняга Малли уже никогда не станет такой. «И я, когда женюсь, наверное, стану таким же, как этот Динкль». Раньше Малли никогда не врала. Теперь, встав с постели и помолившись, она какой-нибудь очередной сплетней поднимала на ноги всех соседей. Обитатели этого дома были хорошие люди, но бедность заставляла их казаться дурными, а богатые, будучи дурными, могли казаться даже справедливыми.
Вот как-то Польстерша заявила, будто Динкли украли у нее молоко. Опять скандал, опять слезы, и от волнения у Малли начались родовые схватки. Польстерша тут же, как родная сестра, бросилась помогать ей, раздела, уложила в постель, пообещала Динклю накормить его, а всех троих ребят увела к себе: у нее самой не было детей, поэтому Польстеры могли позволить себе роскошь — жить в двух хороших комнатах. В одной стояла плюшевая мебель, комнатные растения и фонограф, — вещи, видимо, приобретенные не без участия друзей хозяйки. Но стоит ли быть такими уж щепетильными?
Динкль особенно радовался, что семейное событие пришлось как раз на воскресенье, и Малли, по всей вероятности, потеряет не больше двух рабочих дней. После обеда, когда Бальрих зашел еще раз проведать сестру, Динкли удостоились почетного визита: их посетила супруга главного директора Геслинга и ее золовка Эмми Бук. В дверях они остановились и начали так гримасничать, словно их душили: верно, на них подействовал спертый воздух, к которому они не привыкли. Все же им стало неловко, и они тут же начали утешать Малли и сюсюкать с нею, точно перед больной канарейкой. Затем пошептались с акушеркой, время от времени изумленно поднимая брови. Бальрих так долго и пристально разглядывал Эмми Бук, что супруга директора, заметив это, вполголоса предостерегла ее и схватила за руку. При этом Эмми Бук уронила сумку, а Бальрих бросился вперед и мигом поднял ее. Когда он протянул Эмми сумку, та сначала отдернула руку и только под строгим взглядом невестки, наконец, взяла ее. Бальрих между тем вдыхал аромат, исходивший от Эмми, — аромат фиалок.
«Она еще красива и стройна, — наши девушки бывают такими только до двадцати лет. У Лени тоже золотисто-пепельные волосы, но у Эмми Бук они не пропылены». Взяв у него сумку, Эмми подняла на него глаза и даже улыбнулась застенчиво и как бы примирительно; но, когда она увидела его сросшиеся брови, улыбка тут же исчезла, и Бальрих ушел за дощатую перегородку к Лени.
Динкль последовал за ним, игриво ткнул его в бок и шепотом спросил, чего это он вздумал прятаться. Ведь гостья явно заглядывается на него, и теперь Бальриху, наверное, удастся получить на фабрике тепленькое местечко. Динкль острил, как обычно — ведь все это его не касалось. Бальриха же касалось близко, и у него было такое же чувство, как в тот раз, когда его уволили с работы. Эта Бук обошлась с ним так, точно он дикий зверь: его боятся и все-таки не относятся к нему серьезно; для нее Бальрих не мужчина.
Наконец дамы ушли. Динкль, лебезя, проводил их до площадки лестницы; но тут-то и стряслась беда. Не успел Динкль выпрямить спину после почтительнейшего поклона, как произошла неожиданная катастрофа: обе дамы мгновенно растянулись на ступеньках лестницы, с головы Геслингши слетела шляпа вместе с половиной ее седых волос. А наверху, перегнувшись через перила, хохотали до упаду дети Динкля. Тут только отец смекнул, кто виновники происшествия. Стиснув кулаки, он кинулся на детей, разогнал их и поспешил на помощь дамам. К счастью, снизу подоспел Гербесдерфер, и с его помощью дам удалось поднять…
— Боже мой, как это случилось? — с напускным удивлением воскликнули они в один голос. — Кажется, на ступеньках мыло?
Динкль пытался отрицать столь невероятное предположение, — это просто необъяснимая история, а Гербесдерфер только промычал своим хриплым голосом: «Осторожнее!» — и на всякий случай распростер свои сильные руки. Дамы же попросили обоих рабочих посмотреть, не испачкались ли они сзади, и, когда Динкль, при всем своем усердии, не нашел на них никаких следов мыла, они все же обнаружили его.
— Как же быть? Нам ведь надо в город пить чай к знакомым! Неужели ехать домой переодеваться?
Динкль посоветовал им так и сделать, но дамы запротестовали.
— Да на это уйдет полчаса, а что скажет генеральша!
Затем они обратились к Гербесдерферу, чтобы узнать и его мнение, однако ответа не последовало, тот лишь насупил брови. Тут вдруг появилась Польстерша и, всплеснув руками, вызвалась отмыть все следы с одежды пострадавших, по поводу чего сейчас же состоялось техническое совещание. Но оно ни к чему не привело. Динкль настойчиво советовал дамам вернуться домой, ссылаясь при этом на исключительную быстроходность директорской машины.
— Вероятно, вы правы, — согласилась супруга главного директора. — Ведь это американский «шаррон».
Динкль подчеркнул преимущества германской промышленности, пусть даже она несколько и отстает. Это утверждение не вызвало серьезных разногласий, и благодаря любезности обеих сторон беседа не прерывалась до тех пор, пока гостьи вместе с провожающими не вышли на улицу. Однако, увидев своего шофера, дамы мгновенно преобразились, а усевшись в машину, отвечали на поклоны рабочих только легким движением век, даже не поворачивая головы.
Динкль был очень доволен и, когда машина отъехала, стал хохотать так, что все его тело тряслось от смеха. Детям, которые прокрались следом за ним, он надавал шлепков, но сам продолжал смеяться при этом. Все смеялись вместе с ним, и Польстерша, и соседки.
Когда вся орава провожавших снова устремилась наверх, они чуть не сбили с ног Бальриха. Тот стоял на площадке лестницы и, казалось, был погружен в созерцание мыльного пятна на ступеньке… Он посторонился без улыбки, а наоборот, хмурил брови. Динкль хлопнул его по плечу и потащил с собой в закусочную, заявив, что Малли сегодня не до них.
В закусочной было полным-полно народу. Вошедших засыпали вопросами по поводу несчастья с высокими гостьями. Эта история занимала всех. Слово «мыло» склонялось на все лады, оно служило темой для острот, мало отличавшихся одна от другой, но неизменно вызывавших неистовый хохот.
К Бальриху, Динклю и Гербесдерферу подсел старик маляр, поселившийся с недавнего времени в подвале у Клинкорума. Неугомонный бродяга и лодырь, кое-как перебиваясь, всю жизнь шатался он по свету, покуда старые кости не запросились домой, в Гаузенфельд, где у него еще была родня. Маляр и Бальрих сидели молча, пока Гербесдерфер не обратился к ним с вопросом, почему это богатым дамочкам вдруг вздумалось заявиться незваными к работнице и глазеть на ее родовые муки? Что она, корова? Он говорил нескладно, как дикарь, и с таким усилием, будто день ото дня терял дар речи.
Динкль тихонько толкнул Гербесдерфера под столом, показал монету в двадцать марок, которую дали гости, и громко сказал:
— Должно быть, со скуки заехали. Видно, у генеральши еще чай не готов.
Бальрих разволновался. Он готов был встать и заявить здесь, перед всеми, что и у богатых бывает доброе сердце! Он все еще видел перед собой застенчивую улыбку Эмми Бук, и среди дыма и чада ему чудился запах фиалок. Но старик маляр пристально поглядел на него, ухмыляясь в свою козью бородку, и, опередив Бальриха, заявил:
— Знаю я, зачем они приходили к Малли, я тоже видел раз, как одна богатая стерва примчалась поглазеть, когда работнице прихватило руку машиной. Она заранее приказала, чтоб ей дали знать, если случится какая беда.
— Ты видел это своими глазами, дядя Геллерт? — угрожающе спросил Бальрих; в эту минуту ему вспомнились девчушки, которых заманивал к себе старик.
— Да, своими глазами. А работница та стала потом моей женой, это твоя двоюродная бабушка.
— Ну, тогда конечно… — пробормотал Бальрих, задумчиво уставившись на стол. — Надо держаться подальше от тех, у кого есть деньги, — это лучше всего. — И мысленно попросил прощенья у своей сестры Леня, что предпочел ей богачку и провел почти целый час в ее обществе.
К его столу неслышно подошел Симон Яунер. Он услышал последние слова Бальриха, хотя они и были сказаны шепотом. Яунер стукнул по столу, как бы в порыве гнева.
— Подальше от денег, говоришь? А что толку? Надо вот так! — И его кривые пальцы хищно заскребли по столу, будто собирая что-то. Бальрих, отлично знавший, кто такой Яунер, возразил:
— Лучше я буду есть собственный хлеб, который честно заработал, — и отрезал ломтик от своего хлеба.
Яунер опустился на скамью рядом с Бальрихом. Так как ему не удалось занять место Бальриха у машины, он решил, что теперь выгоднее сблизиться с ним. Он дружески взял Бальриха за руку и настойчиво заговорил:
— Твой собственный хлеб, который ты честно заработал? Геслингов хлеб, хочешь ты сказать! Ведь на его фабрике ты зарабатываешь ровно столько, чтобы жить в его казарме и есть в его кабаке. А что сверх того, то от лукавого, — заключил Яунер язвительно и оскалил зубы; его желтые глаза сверкнули.
Рабочие отлично знали, что каждое их слово станет известно инспектору. Ведь именно инспектор насолил Яунеру, так перед кем же, как не перед ним теперь заискивать? И все-таки им было трудно сдерживать себя.
Разве закусочная и казарма не возвращают с лихвой Геслингу то, что он платит рабочим? Бесконечным и неудержимым потоком течет золото в один и тот же карман, рабочие же со своими натруженными руками, их отцы, жены, их дети стоят подле и только смотрят на него… Для Геслинга производят они на свет детей, так же как создают для него товары, пьют и едят для него.
— За здоровье Гад-слинга! — воскликнул Динкль, и за всеми столами подхватили этот тост. Как сладко было излить душу в одном этом слове, хоть раз назвать по имени эту ненависть и всю ее горечь испить в стакане вина. Ведь с ней засыпаешь и с ней встаешь! Каждый из них думал: разве что только в плоть не облеклась эта ненависть, и нет у нее кулаков, но каждая минута, пережитая нами, живет в нашей памяти. Мы помним все: несправедливую власть, в руки которой отданы, обиды и издевательства — каждую минуту, на каждом шагу, жестокую корысть, ради которой из нас выжимают соки, обман и презрение. Вы воображаете, что мы забыли? Вы, может быть, думаете, что мы уже не замечаем смрада в каморках битком набитых казарм, которые вы строите для нас? Напрасно консисторский советник Циллих при освящении казарм «С» и «Т» морочил нас баснями, будто под этими буквами следует понимать: «смиряйся и трудись». Нет, не смирение и труд, эти казармы, а просто сор-тир. Их зловоние по-прежнему бьет нам в нос, и мы ничего не забываем, ничего!
— Понятно, — заметил Бальрих, — что дам чуть не стошнило от нашей вони. Одно непонятно, почему мы сами сконфузились.
— Будь они в нашей власти, как мы в ихней, не стали бы мы церемониться с ними! — тут Динкль и Яунер самым наглядным образом показали, что они сделали бы сегодня же с этими богатыми бабами, несмотря на седины одной из них. У Гербесдерфера вырвалось даже какое-то рычание, предвещавшее кое-что и похуже. Нос картошкой особенно резко выделялся на его багровом лице, из распахнутого ворота выступала белая кургузая шея. Глаза за круглыми очками смотрели в одну точку, словно перед ним вставали призраки.
Динкль вдруг оказался на середине комнаты и, заложив большие пальцы в проймы своего пиджачка в коричневую клетку, стал представлять рабочего, который вышел прогуляться, а навстречу ему — богатый фат. Богатого фата изображал Яунер; он снял с гвоздя котелок, расправил на нем все вмятины и надел на голову. Поравнявшись с Яунером, Динкль вдруг поднес кулак почти к самому его подбородку, причем Яунер изобразил страшный испуг, а Динкль сделал вид, будто хотел только сунуть в рот папиросу. Все шумно выразили свое одобрение. Вот это здорово! Стоит только погрозить пальцем — и богач готов хлопнуться в обморок, ведь они живут будто во сне. Ходят по улицам и не замечают, как они одиноки среди рабочих, и как их меховые шубы теряются среди тысяч залатанных, ветром подбитых курток. Только и есть у них один союзник — полиция… Они ничего не замечают, они спят. Никогда ничего не изменится, думают богачи. Ведь они привыкли к тому, что есть, им легче было привыкнуть к своей жизни, чем нам к своей.
Гербесдерфер, которому давно уже не терпелось высказать все, что в нем накипело, выпростал свои непомерно огромные кулаки, — один палец был перевязан, — разжал их и сжал с такой яростью, что хрустнули суставы, и, с трудом выдавливая из себя слова, словно от избытка сил, заявил:
— Скоро все будет по-другому!
Бальрих, сидевший напротив, почтительно слушал его и почти не почувствовал легкого толчка в бок — старик Геллерт хотел привлечь к себе его внимание. Видимо, он уже давно носил в себе эти мысли, и общий подъем, наконец, развязал ему язык.
— Давно уже все могло бы стать по-другому, — зашептал он, — и, стало быть, как раз наоборот. Ведь это я помог Геслингу начать дело. Ведь я бы мог нынче сидеть на его месте…
Бальрих изумленно уставился на него, но старик уже поджал губы, будто ничего и не сказал. Бальрих в первую минуту даже оторопел, но после минутного раздумья только раздраженно пожал плечами. Старческая пустая болтовня, не стоящая внимания!
Разговор перешел на партийные дела. Партия отнюдь не безупречна. И в ней есть элементы, которые больше думают о себе, чем о рабочем классе. Яунер, громче всех выражавший свое недовольство, стал бранить товарища Наполеона Фишера, рабочего депутата: он хоть и провертывает немало всяких дел, но больше ради себя, чем ради нас. Он заодно с Геслингом и с правительством в полном ладу, ни в чем им не перечит. А чего он добился тем, что голосовал за непомерное увеличение армии? То страховку дадут, то лишнюю пенсию, только и всего. А ведь был таким же рабочим, как и мы, да еще у Геслинга. Чего же ждать от других, от белоручек?
Да, все это верно. Но именно эти слова Яунера были встречены куда более сдержанно, чем разыгранная им и Динклем сценка, в которой они высмеивали имущий класс и работодателей. Тут уж не до шуток, думали рабочие, надо быть начеку, ибо нашептыванья Яунера партийному боссу Наполеону Фишеру могут обойтись подороже, чем его донос старшему инспектору, правой руке Геслинга. Все же одно можно сказать наверное: страховка и пенсии имеют две хорошие стороны — и рабочим польза и богачам спокойнее спится. Динкль, самый неосторожный из всех, пошел дальше. Он заявил напрямик: важнее всего даже второе, то есть спокойный сон господ, а что касается рабочих, то не родился еще тот старик, который смог бы прожить на эту подачку, так называемую пенсию.
— Мой родной отец, — взволнованно продолжал Динкль, — как бы я его ни срамил, в обед всех соседок обойдет со своей миской, пока мы на фабрике.
Старику Динклю только и оставалось, что просить милостыню: дети отбирали у него пенсию, а кормили впроголодь. Это было всем известно. Но кто упрекнет товарища, на чьих руках жена и четверо детей? Уж лучше пусть голодает старик.
Гербесдерфер, гнев которого давно остыл, сидел, морщась от страха, и ныл хриплым голосом. Он жаловался на врача страховой кассы, который выписал его на работу, хотя у него после несчастного случая все еще болит коленка. На улице, при ходьбе, ничего; а как придет на фабрику, коленка у него опять ноет и от страха, что он попадет в колеса машины и будет размолот вместе с древесиной, голова начинает кружиться.
— Мы-то знаем, как это бывает… — поддержали его за другим столом.
Да, слишком хорошо был всем знаком этот страх. Руки да ноги — это ведь все, что у тебя есть. Ими только и живут жена и дети. А все эти врачи делают вид, будто у нас могут вырасти новые.
— Да, уж моему пальцу не вырасти, — задыхаясь от злобы, сказал кто-то за дальним столом и поднес к лампочке беспалую руку. Вслед за ним и Гербесдерфер тоже поднял свой забинтованный палец. И вот через два стола, потом рядом, потом над всеми столами к свету потянулись пальцы в плотных белых бинтах и руки, иссеченные темными неизгладимыми шрамами. И когда все эти забинтованные руки замелькали в воздухе, по комнате вдруг разнесся резкий запах, которым всегда пахло от рабочих, но который обычно заглушали испарения человеческих тел и табачный дым, — запах карболки.
И Карл Бальрих, насупившись, стал ощупывать под столом больной палец, обмотанный холщовой тряпицей. На лицах всех этих людей лежала тень глубокого раздумья — они размышляли о своей жизни. Вдруг среди наступившего безмолвия раздался голос Бальриха:
— Пробьет час, и справедливость победит!
— Верно! — послышалось кругом, приглушенные возгласы одобрения и веры слились в тихий гул. — Да, мы на пути к справедливости. И пусть с каждым днем становится все яснее, как долог этот путь, все равно — дни богатых уже сочтены. Дорого обходятся нам богачи, но придет время, и нашим станет все, что сегодня мы отдаем им. В просторных залах мы все вместе будем есть вкусную пищу, машины тоже станут нашими, они будут работать на нас. А богачам придет конец. Кабы не эта вера, нам оставалось бы только спиться и грабить их дома.
Мы не делаем этого, потому что мы разумнее их. И нам дышится легко, да, легко, даже в этом удушающем смраде, потому что на нашей стороне разум и будущее. А вы там ослеплены стяжательством и даже не знаете, какие сокровища у вас в руках. Кто из вас ценит знание и ум, как их ценим мы? Вы забыли про них, вы заплыли жиром. А мы — мы знаем, что разум завоюет весь мир и что разум — его высшая цель. Каждая библиотека, которую нам удается сколотить или вырвать из ваших жадных рук, — это новая веха на пути к нашему возвышению и к вашей гибели.
Динкль, вдруг сорвавшись с места, воскликнул:
— А больше всего меня радует, что он выложил сто тысяч марок на нашу библиотеку!
И все возликовали, вспоминая это поражение главного директора. Правда, немало пришлось сражаться и с руководством библиотеки: по уставу, при закупке книг слово имели и служащие фабрики, а они всячески препятствовали пополнению библиотеки партийной литературой. Гербесдерфер ухмылялся, втайне торжествуя победу. Со вчерашнего дня в его комнате хранился под запором «Капитал».
Бальрих испытующе посмотрел на него: большие очки, замкнутое, как будто невыразительное, огрубевшее лицо, на котором написаны постоянная тревога и страх, как бы оно вдруг не выдало таившуюся в этом человеке смелую и стойкую душу.
«Вот мы какие, — думал Бальрих. — Мы слишком слабы, хотя и кажемся сильными. Книги, которые учат нас, как сбросить с себя цепи эксплуатации и нищеты, лежат у нас под спудом, а мы сидим здесь, изнуренные рабским трудом целой недели, и даже не знаем, как воспользоваться этим оружием. И если одному из нас все же и удается постичь то, что говорит наука, то своим детям он не в силах облегчить жизнь! Мы все равно стоим на том же месте и стараемся взять от жизни только те радости, какие позволяет наша бедность».
Тут Бальрих вспомнил, что его ждет девушка, она могла бы стать его девушкой, если бы он захотел. Но хочет ли он? И она ли именно та девушка? Не торопясь, поднялся он с места, подошел к соседнему столу, чуть было не подсел к товарищам, — но потом все же выбрался из закусочной и увидел, что возле кладбищенской ограды девушка уже ждет его. Она стояла в наброшенном на плечи коричневом платке, слегка наклонившись вперед, видимо, уже давно всматриваясь в темноту, и заметила его, только когда он подошел совсем близко.
— Тильда! — ободряюще крикнул Бальрих.
Девушка молча подняла голову. Лицо ее было полно глубокой скорби. А он шел к ней — такой статный и широкоплечий, такой сильный и решительный; и темный вихор так задорно торчал из-под кепки, что Тильда не могла не улыбнуться.
— Ты уже была там? — спросил он вполголоса, указывая на калитку кладбища.
Она кивнула:
— Теперь у моей крошки есть все, что надо. Хорошо бы и нам отправиться туда же.
— Не говори так, — решительно возразил он и уже мягче добавил: — Зайдем еще раз?
Но Тильда покачала головой, и он не настаивал. Зачем? Это только расстроит ее. И разве их будущее не светлее того, что осталось позади?
— Уйдем отсюда! — твердо сказал он и, взяв ее под руку, ускорил шаг. В тени ограды, осененной кустами, она прижалась к нему, и он ощутил прикосновение ее бедер. У нее были широкие бедра, высокая грудь и усталое осунувшееся лицо, а ее глаза смотрели на него с тревогой. Когда ограда кончилась, вокруг них засвистел ветер. Бальрих плотнее закутал Тильду в ее платок. Весна только начиналась. В наступавших сумерках перед ним смутно темнело поле; они шли, перешагивая через дождевые лужи. Направо, меж чахлых деревьев, виднелись домики, так называемые «виллы рабочих», но в них жили преимущественно фабричные служащие. Получить здесь жилье могли лишь те из рабочих, кто был на особо хорошем счету у начальства. «Вот Яунера поселят здесь, а нас нет», — подумал Бальрих.
Они то расходились, чтобы обойти лужи, то снова шагали рядом, обсуждая свои дела. Бальрих имел двух братьев. Один еще школьник, другой поступил учеником на фабрику. Дочурка уже перестала быть для Тильды обузой, подумал Бальрих; остается еще ее старуха мать, она слишком слаба, чтобы работать.
— Кабы не твоя мать, — сказал он в порыве нежности, — ты, моя бедняжка, могла бы вовсе не работать, я бы уж заработал на двоих.
Девушка бросила на него горький и недоверчивый взгляд и обиженно заявила: ей ничего не нужно, мать ей так же мало в тягость, как была и покойница дочка.
— Тебе хотелось, чтобы и она уже лежала на погосте!
Тут Бальриху стало ясно, что Тильда не понимает его. Как же они будут любить друг друга? Надо было настоять на своем и пойти вместе с ней на могилку девочки. Теперь она вообразила, будто он осуждает ее за то, что у нее был ребенок, и, наверное, всегда будет осуждать. «Нет, это не так, — сказал он себе. — В самом деле, не так. И все же была ведь у нее до меня своя жизнь». Она знала другого, даже, кажется, двоих. А теперь и о нем дурного мнения. Ей двадцать, они ровесники. Он тоже был близок с двумя. Однако для него это прошло бесследно, он мог бы полюбить так, как любят впервые. Но почему он должен любить именно ее? Тильда казалась порой такой далекой, словно она явилась из другой страны. Внезапно, заслонив ее, перед ним предстал образ Лени, его сестры, нетронутой и беззаботной, еще не потерявшей надежды на счастье. Лени была одной крови с ним, родная, близкая, воплощение лучшего будущего. А Тильда — как она надломлена…
Может быть, ей передались его мысли? Она подняла голову, с укором посмотрела на него и, желая как можно больнее задеть, сказала:
— Смотри в оба за своей сестрицей — ей также ничего не стоит заполучить ребенка, как и каждой из нас.
Но Бальрих не дал уязвить себя. Он крепче прижал к себе ее локоть и мягко прошептал:
— Твоя дочка была славная милая девочка.
Она старалась вырваться, но он не отпускал ее, и под конец она сдалась, тихо припала к нему, и из ее сомкнутых глаз полились слезы. Медленно шли они навстречу ветру и в сгущавшихся сумерках добрались до «рабочего» леса, где стояли скамейки; все так же обнявшись, сели на влажную холодную скамью под оголенными, темными мощными ветвями. Перед ними была фабрика, а за тремя рядами фабричных зданий садилось солнце, затянутое облаками, похожими на пряди дыма. Глядя на зарево заката, оба думали об одном: как хорошо бы сейчас посидеть где-нибудь в тепле. Позади, за высокой изгородью начинался «господский» лес; в начале запущенный, он по мере приближения к усадьбе становился все чище, переходил в цветущий прелестный сад, защищенный от ветра и злых завистливых взглядов; среди деревьев стояла вилла «Вершина», воистину запретный рай.
— Там-то никто не зябнет, — промолвила девушка. А Бальрих сказал:
— Им там есть чем прокормить тех, кого они любят.
Однако солнце скрылось, ветер стал холоднее, пошел дождь, и они поднялись. Тильда хотела вернуться, но Бальрих увлек ее в сторону фабрики. Он знает место, где можно спрятаться от дождя: то были вагоны, в которых со станции возили тряпье на фабрику. Один вагон был открыт. Девушка не решалась, однако, войти в него.
— Чего ты боишься? — спросил Бальрих. — Тебя пугают вонючие тряпки?
— Что мне до этого? — ответила она. — Я всю жизнь работаю в тряпичном цехе.
Он подсадил ее, и она влезла в вагон.
— Здесь хоть сухо, — сказал Бальрих.
— И даже тепло, — прошептала она, покоряясь его жадным рукам.
Но когда в полутьме вагона она, прижавшись к груди Бальриха, стала искать его взгляда, он закрыл глаза, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Это лучшее, что есть у нас, а потом становится еще хуже. Любовь существует только для того, чтобы пролетарии размножались. Мы на Геслинга работаем даже здесь, да еще на наших лидеров. И Геслинг и наши лидеры сходятся на том, что нас все еще недостаточно; им нужен человеческий материал.
— Но эти минуты — наши, — прошептала девушка, — и никому их у нас не отнять. Целуй меня, любимый!
Они вдруг отпрянули друг от друга. Кто-то забарабанил в стенку вагона, и в дверях показался огромный силуэт. Смотритель! Он раскричался, браня на чем свет стоит этот сброд, который на чудном тряпье занимается пакостями. Когда Бальрих наконец вышел, смотритель схватил его за ворот и поднес к его лицу карманный фонарик. Но Бальрих оттолкнул его, вытащил Тильду из вагона, и вот они уже бегут, осыпаемые бранью смотрителя, бегут в одиночку, под дождем, не видя друг друга в темноте. И только у кладбища они встретились. Под фонарем Бальрих увидел Тильду, она промокла до нитки: ее платок остался в руках смотрителя. Бальрих тотчас снял куртку и накинул ее на себя и на девушку. И они пошли, прижавшись друг к другу. Казалось, под одной курткой одно тело и одна душа. Тильда дрожала от холода, а он от гнева.
Закусочная была едва освещена. Изнутри не доносилось ни звука, но у входа они увидели Симона Яунера и рядом с ним, возле стены, две тени — кажется, двое господ.
Неужели это старший инспектор… а другой… о боже! Сам!.. Согнувшись, они прошмыгнули мимо — одна куртка, одна душа. А за спиной кто-то из господ сказал:
— Только эти люди бывают так счастливы.
II. Рабочий и барчук
Две недели спустя, в воскресный день, обе семьи, — Динклей и Бальрихов, — возвращались полем из Бейтендорфа, где состоялись крестины новорожденного ребенка Малли. Они направились прямо в закусочную и принялись за вино, а мать кормила младенца грудью. За длинным столом родственники сидели пока одни. Когда стали появляться другие посетители, они уже отобедали и посуда была убрана. Двоюродный дед Геллерт, похожий на скелет в черном сюртуке, усмехаясь в свою козью бородку, притопывая и хлопая в ладоши, пустился в пляс вокруг своей племянницы Лени. Он уверял, что видел точно такой же танец на чужбине.
Правда, потом он, пыхтя и отдуваясь, в изнеможении повалился на скамью. Среди шума, стоявшего в закусочной, Карл Бальрих тревожно следил за стариком; тот покачивался из стороны в сторону, и глаза его по-старчески стекленели. Внезапно, взглянув на него в упор, Бальрих шепотом спросил:
— Дядя, а что это за история была тогда у тебя с Геслингом? Помнишь?
Геллерт бессмысленно уставился на племянника.
— Тогда? — повторил он.
Бальрих уверенно кивнул:
— У тебя… и ты знаешь, с кем.
Бальрих решил непременно выяснить, что крылось за недавней болтовней старика: «Ведь я бы мог нынче сидеть на его месте!» Наверно, просто врал, старый бездельник, — твердил себе Бальрих всякий раз, когда ему приходили эти слова на память. И все же они приходили. Теперь он ждал, чтобы старик сам все выложил. Эта минута настала. Геллерт будто очнулся и с дрожью в голосе спросил:
— А разве я чего-нибудь проболтался?
— Ты уже сказал слишком много, — отрезал Бальрих, — валяй до конца.
— Неужели кто-нибудь узнал?
— От меня-то ни один человек не мог узнать. Но если ты со мной не будешь откровенен…
Старик торопливо закивал.
— Уж лучше ты, чем другие. Ты самый толковый. А от твоего дядюшки мало было проку.
— Мне это отлично известно, — резко ответил Бальрих. Он отнюдь не чувствовал расположения к родственникам, которым, подобно его дядюшке, хоть он и прожил на свете семьдесят лет, не только нечего было оставить своим племянникам, но они еще сами сели им на шею. Да и эта пляска вокруг Лени покоробила его.
Старик испуганно заморгал. Из страха перед племянником он решил плюнуть на всякую осторожность.
— Да разве я мог… тогда предвидеть, — начал он. — Представь, что есть у тебя старинный друг, боевой товарищ, с которым ты делишь все: твой матрац — его матрац, твоя вошь — его вошь, и даже наши жалкие пфенниги лежат в одной копилке. Порой в ней бывали впрочем, и талеры. И вот когда один из друзей надумал обосноваться в одном городке, заняться своим ремеслом и стать мастером, другой, уезжая, до своего возвращения оставляет ему свои талеры.
— И это был ты?
— Видит бог, я.
— Кому ты оставил талеры — старому Геслингу?
— А тому, кто их хапнул. Понял? — шепотом сказал Геллерт.
Бальрих пожал плечами.
— Интересно, целы они были бы у тебя сейчас?
Тут старик, вспылив, ухватился за край стола и завопил фистулой:
— Не талеры были бы у меня нынче, а моя доля доходов, вот что!
Едва эти слова вырвались у Геллерта, как он испуганным взором обвел всех присутствующих. Но среди шума и разговоров никто его не слышал. Бальрих сердито отвернулся. Нужда была допытываться, старик несет явный вздор!
— Выходит, Геслинг на твои три-четыре талера построил фабрику?
— Не четыре, а четыреста минус четыре, — зашипел Геллерт. — Да, да! И все это я получил от жены одного мастера, у которой малярничал… можешь сам догадаться, за что получил… Малярной кистью я бы, конечно, столько не заработал!
— Бесчестные деньги, — сказал Бальрих. А старик заблеял:
— Попробовала бы она их не дать, узнала бы, почем фунт лиха!
— И Геслинг знал об этом?
— А то нет!
— Тоже негодяй!
Геллерт насупился и заметил с укором:
— Он-то тут ни при чем. Старик Геслинг был даже строгого поведения. Он сам обозвал меня тогда негодяем.
— Дал он тебе хоть расписку?
— Я и не требовал.
Бальрих вытянул шею и, посмотрев прямо в глаза старика, сказал:
— Ну, хватит с меня твоих небылиц.
Геллерт заплакал.
— Да ведь все это так и было, — всхлипывал он, — а ты думаешь, я лгу!
Он стал толкать в бок Динкля и Гербесдерфера, пока те не повернулись к нему.
— Расписки между старыми друзьями, между боевыми товарищами? Вы слышали что-нибудь подобное?
Но так как те не понимали, о чем речь, он снова выложил всю историю, клянясь, что этот долг не уплачен ему и поныне. Почему же он до сих пор не потребовал обратно свои деньги? Да очень просто: когда он много лет спустя вернулся домой, от его денег уже не осталось и пфеннига. Вернее, они были вложены в дело.
— Вложены в дело? И ты это можешь доказать?
— Еще бы! Пришел я как-то к старику Геслингу в контору, — это было в Гаузенфельде, — он взял меня за руку и все тогда тщательно подсчитал.
Бальрих недоверчиво уставился на дядю.
— Гаузенфельд никогда не принадлежал старику Геслингу. Его бумажная фабрика была на Мейзештрассе.
Геллерт рассвирепел.
— Не знаю — на Мейзештрассе или в Гаузенфельде, но я как сейчас вижу его за конторкой у окна, он почесывает затылок и считает, а потом говорит, чтобы я повременил немного, скоро-де и я начну получать свою долю прибыли.
— Ты видишь его перед собой — допустим! Ну а других доказательств у тебя нет?
— На конторке у него лежало пресс-папье в виде головы лошади.
— И давно это было?
— Ровно сорок лет назад! — воскликнул Геллерт.
— Срок порядочный, — заметил Динкль, — за это время, пожалуй, голова лошади уже научилась говорить и может быть твоим свидетелем.
И Динкль так расхохотался, что все обернулись к нему. Он уже был готов повторить свою шутку, но Бальрих шепотом приказал ему замолчать.
Старик Геллерт снова замкнулся в себе, и когда он уходил из закусочной, беспокоился лишь об одном — как бы кто еще не проведал об этой забытой истории, особенно бабье. Правда, Динкль решил, что она чересчур забавна, ну просто нельзя не разболтать. «Дядя Геллерт — нет! подумать только! — совладелец Гаузенфельда, компаньон Геслинга! Главный директор — дядя Геллерт!» — визгливо выкрикивал он, приплясывая на одной ноге, между тем как старик с налитыми кровью глазами стоял рядом и смотрел на него молящим собачьим взглядом. Но Бальрих решительно потребовал: больше ни слова об этом. Что же — Динкль хочет пустить по миру старика, который работал на фабрике маляром и имеет хоть жалкий, но кусок хлеба?
Однако Динкль тут же заявил, что если дядюшку Геллерта уволят, то он, Динкль, тоже бросит работу, и тогда пусть все бастуют!
Отныне где бы старик ни попался ему на глаза, Динкль не упускал случая украдкой ткнуть его в бок.
— Ну, скоро мы, наконец, получим свои дивиденды? — спрашивал он, а Геллерт при этом, как вор, озирался по сторонам.
И вот однажды, когда в одном из закоулков огромного фабричного двора маляр перед началом смены подготовлял свои кисти, сам Бальрих ткнул его в бок и шепотом спросил: «Ты, верно, не торопишься с расчетом?» Старик вздрогнул от испуга, нырнул в толпу рабочих, выходивших в это время из ворот фабрики, и затерялся в ней. В эту минуту Бальрих впервые поверил в то, что Геллерт говорит правду, что история с деньгами не вранье.
Трудно было в это поверить — и все же он каждую ночь думал теперь о старике и его истории. И не в первую ночь у него возникли подозрения, что старик говорил правду, нет, они овладевали им исподволь, все чаще лишая сна и терзая в часы бессонницы. Теперь, когда Бальрих убедился в правоте старика, он, вместо того, чтобы ходить следом за своей девушкой, всюду высматривал Геллерта, а тот от него прятался. Только один раз Бальрих встретился с ним у Динклей, и то случайно. Подвыпивший старик на этот раз казался менее испуганным. Неожиданно на пороге появился гость, довольно полный мужчина средних лет, — белое безбородое лицо, мягкая шляпа; на ходу он слегка загребал ногами. Едва он вошел, как Геллерт исчез. Это случилось мгновенно, лишь тень старика скользнула по стене, гость даже не оглянулся.
— Я — адвокат Бук, — сказал он. — Добрый вечер. Я принес вам то, что обычно вам приносит моя супруга. Ей нездоровится сегодня. — И мягким движением руки положил возле Малли, кормившей ребенка, запечатанный конверт.
Динкль ловко загнал всех детей в угол и так усердно освобождал место для адвоката, словно всей комнаты было мало для такой важной персоны. Бук благосклонно опустился на предложенный ему стул, бросил растроганный взгляд на кормящую мать и младенца, восторженный — на Лени, кокетливо выгнувшую стан, и удивленный — на многочисленную детвору; потом вздохнул и мягким, сытым голосом спросил:
— Ну как вам здесь живется? Хорошо?
Никто не ответил. Даже Динкль растерялся. Как же, зять главного директора спрашивает, хорошо ли им здесь живется, вместо того чтобы пренебрежительно обронить: вы, вероятно, отлично здесь живете! В наступившей тишине взгляд адвоката Бука наткнулся на сдвинутые брови Бальриха. Бук отвел было глаза, а потом настойчиво стал ловить взгляд рабочего, чье лицо мало-помалу становилось спокойнее под мягким взором блестящих карих глаз адвоката. Бук кротко сказал:
— Вы, конечно, предпочли бы жить на вилле «Вершина»… — И, будто этого неслыханного заявления все еще было мало, он пожал грузными плечами и смиренно заметил: — Вполне понятно, но что тут поделаешь!
Эти слова были сказаны таким тоном, точно сам он с женой и сыном занимал не целый флигель виллы «Вершина», а конуру в таком же подвале.
Затем он встал, подал всем руку и, ни на кого не глядя, бесшумно удалился, слегка загребая ногами. «Какой-то он жалкий!» — таково было мнение Динкля и Малли. Лени только презрительно фыркнула. Бальрих промолчал и вскоре ушел.
Между дядюшкой Геллертом и этим адвокатом бесспорно есть какая-то связь, и уж наверно это та старая история с деньгами. Теперь Бальрих больше не сомневался. Он прихватил в закусочной бутылочку водки, проник через калитку в сад Клинкорума и заявился к маляру. Водка, впрочем, оказалась излишней, ибо Геллерт был уже сильно на взводе и, сидя за бутылкой, что-то мурлыкал себе под нос. При виде Бальриха старик пропел: «Старик Геллерт не дурак! Это все подстроил ты!»
— Что я подстроил? — удивился Бальрих.
— Да встречу с Буком. Это же не случайность, — настаивал Геллерт, — но мне дела нет до Бука. Откуда мне его знать? Когда я как-то был у его отца, молодой Бук еще в платьице бегал.
— Ага! У его отца!
Геллерт, перепугавшись, стал предлагать ему выпить.
— Так ведь отец умер, — сказал он, глядя на стакан. — Чего тебе сдался покойник? В те времена, правда, у каждого было дело к нему. Главный воротила в городе… В те годы я и старик Геслинг были еще молокососами. А потом сын Геслинга, — Геллерт провел рукой по горлу, — без ножа зарезал его. Отобрал деньги, акции, чины, и теперь он куда влиятельнее, чем был старый Бук.
— Но молодой Бук — какой-то жалкий, — в мрачном раздумье повторил Бальрих мнение сестры.
Геллерт захихикал.
— Сперва дал себя зарезать, а потом женить. Самый здоровенный боров, и тот не выдержит.
Бальрих пододвинулся к нему.
— Ну, дядя Геллерт, а теперь выкладывай все.
И так как старик вновь съежился, Бальрих схватил его за руку.
— Нет, тебе не отвертеться. Я знаю слишком много. И притом я твой внучатый племянник. Кому больше всего хочется, чтобы ты разбогател, дядя Геллерт? Как ты думаешь? Ну, конечно, тому, кто будет твоим наследником, верно?
Старик, мигая, исподлобья глядел на него.
— Зря надеешься. Тут тебе ничем не разжиться! Ты понимаешь, какая ты вошь по сравнению с Геслингом?
— Скажи мне, что у тебя было со старым Буком. Может, эта вошь и вырастет!
И Бальрих тряс и тормошил старика до тех пор, покуда тот не заговорил. Да, он пришел тогда к старику Буку на Флейшхауэргрубе, в его старый дом, где ступеньки лестницы были обшмыганы всем населением города. Этот почитаемый всеми человек должен был помочь ему вернуть присвоенные Геслингом деньги. И Бук сделал все, что было в его силах. Он вызвал к себе старого Геслинга, и Геслинг написал…
— Написал? — глухо повторил Бальрих.
— Да. Письменно подтвердил, что в его дело вложены мои деньги и часть доходов должен получать я.
— Где это письмо?
— Копия, которую тогда же сделал Бук, вот тут, у меня. — И Геллерт вытащил копию из комода. — Он выслал ее мне, когда я скитался, и заверил, что все в порядке; но беда в том, что мой компаньон и боевой товарищ Геслинг в настоящее время-де очень стеснен в деньгах и так далее и тому подобное.
Однако Бальрих не слушал: он был погружен в чтение письма. Затем тяжело вздохнул.
— Это копия. Ей никто не поверит. А где само письмо?
Старик осклабился.
— Письмо моего старого боевого товарища? Да, наверно, в бумагах адвоката Бука. Ведь его дом был набит бумагами.
— А куда делись бумаги?
Старик, снова осклабясь, пододвинулся к Бальриху совсем близко.
— До меня дошли слушки…
Вдруг он рванул на себе пуговицы, распахнул куртку, обнажив грудь. Лицо его пошло лиловыми пятнами, и он завыл:
— Все пропало! Молодой Бук сжег все бумаги!
Бальрих оцепенел. Геллерт начал машинально застегиваться.
— Еще стаканчик, — предложил он.
Бальрих выпил.
— Что ж! Я пошел домой.
Дойдя до двери, он наткнулся на косяк и упал, но тут же поднялся.
Но он не пошел домой, а свернул на улицу, которая вела к вилле «Вершина». Липы благоухали, теплый ветерок обвевал лицо. Пышным летом стала недавняя скупая весна, когда он начал жить, надеяться, желать, да, жить. А если всему этому конец, если все остается по-прежнему, то лучше умереть.
— Нет, так не будет! — крикнул он, словно бросая вызов ночному мраку.
Бальрих сжал кулаки и стал топтать липовый цвет. Теперь все стало известно! Разбойничье логово открыто. Украденные деньги, к тому же добытые нечистоплотным способом, — вот основа Геслингова богатства! Разврат и грабеж — вот на чем строятся миллионные состояния богачей! Таково истинное лицо тех, кого вы, пролетарии, будете экспроприировать!
Экспроприировать! Посадите меня и моих товарищей, честных рабочих, на место этих преступников! Будь в мире хоть искра справедливости, все сбежались бы, чтобы постоять за правду и помочь нам. А вместо этого все только посмеются над бедным рабочим, и если он заявит слишком громко о своих попранных правах, его убьют, как взбесившегося пса! Нет уж, лучше умереть сейчас же!
Он снял шарф и стал искать подходящий сук.
Но когда Бальрих уже взобрался на дерево, он вдруг услышал голоса. Со стороны виллы по дороге спускались двое мужчин, должно быть, господа. Кто бы это мог быть? Ну, хорошо же, пусть Геслинг и его зять Бук первыми увидят его болтающимся на суку… Но это доставило бы слишком большое удовольствие благоденствующим преступникам. Может быть, их появление здесь — это знак судьбы, и подсказывает она ему совсем другое?
Поэтому он дал им пройти, слез с дерева и двинулся за ними.
Ночь была непроглядно темна, и он бесшумно крался во мраке. Все же они почуяли его присутствие, и первый — Геслинг, ибо даже светлячок, мерцавший среди зелени, заставлял его тревожно озираться.
«Он боится меня», — говорил себе Бальрих, и это доставляло ему радость. Бальрих чувствовал, что тот, кто готов к смерти, знает и может гораздо больше, чем эти разбогатевшие разбойники. Он жил теперь как бы двойной жизнью, и ему ничего не стоило сыграть с ними злую шутку. Забравшись в кусты, он стремительно рванулся вперед, так что затрещали ветки, и глухо ухнул, словно какое-то фантастическое чудовище.
Геслинг спрятался за стволом дерева, а Бук только остановился и в замешательстве прищелкнул пальцами.
Потом они двинулись дальше, продолжая разговаривать. Но Бальрих тщетно напрягал слух, теплый ветерок большую часть слов относил в сторону. Одно было ясно Бальриху: Геслинг бранил зятя, как последнего поденщика. Он упрекал его за эту ночную прогулку в такую темень; народ избаловался, ходить становится все опаснее; а свои тайны они могли бы обсудить и в другом месте… Какие тайны? Бук говорил о них очень тихо. Но Геслинг тем громче напомнил ему про деньги, которые Бук получает от него за ведение тяжб и судебных процессов.
— Такие дела я вести отказываюсь! — вдруг воскликнул Бук, после чего разговор на некоторое время замолк. Бальрих крался еще тише, чувствуя, что постепенно его мысли проясняются. Как он попал сюда? Что ему здесь надо? Какой знак был ему подан судьбой? У этих господ своя жизнь, ничего мы про них не знаем. Может быть, то, что я забрал себе в голову, всего лишь бредни старика Геллерта? Или все это мне приснилось?..
А тем временем Бук и Геслинг продолжали пререкаться, между ними разгоралась ссора. Геслинг назвал зятя фантазером, он-де защищал на суде тех, кто был виновен в оскорблении его императорского величества. Он-де истинный сын и последыш мятежников сорок восьмого года. А за перемену убеждений Геслинг заплатил ему тем, что выдал за него свою сестру. Поэтому Бук уже не имеет права ни на сопротивление, ни на свою легковесную иронию, которая может когда-нибудь поставит под угрозу их дружбу и их совместную жизнь на вилле «Вершина». Бук в ответ заговорил о бессовестных махинациях, интригах и о каком-то ужасном конце, а кто будет расплачиваться за все это?
— Только не мы! — воскликнул Геслинг и рассмеялся.
— Нет, все мы! — гневно возразил Бук. Но Геслинг напомнил о его огромных долгах, и Бук притих.
Бальрих, кравшийся за ними, чувствовал себя опутанным сетями этого ночного заговора, — и кто знает, скольких жизней может стоить коварная сделка этих двух буржуа, действовавших заодно и вместе с тем ненавидевших друг друга! Ведь объединяются они только против нас; а в своей среде готовы съесть один другого. И нам надо поступать с ними так же, как поступают с нами они. Мужайся! Ты видишь, как жалки эти люди, как они боятся и себя и нас, когда наступает ночь и их солдаты спят. Нападай! Есть у тебя оружие против них, хоть самое плохое, — не стыдись! И Бальрих опять подумал про Бука: «Он какой-то жалкий…» Но он слабее, вот и берись сначала за него! Запугивания, вымогательство — все средства хороши, когда имеешь дело с бандой преступников.
Уже видны были фонари предместья, Геслинг осмелел.
— Можешь не утруждать себя, я дойду и один, — заявил он зятю, и Бук, приподняв шляпу, повернул обратно.
Бальрих бросился туда, где было потемнее, пригнул ветви деревьев и, заслонившись ими, стал ждать. Томительно долго тянулось время, пока, наконец, не показался адвокат; он шел вперевалку, обмахиваясь шляпой, и разговаривал сам с собой. Иногда Бук останавливался и, хотя ветер дул ему в лицо, то и дело вытирал пот.
— Я не могу больше, — говорил он, словно умоляя кого-то, — меня гнетет эта тайна, всю тяжесть несу я один, я предатель, и пусть меня первым покарает бог!
Бук поднял голову. А кара уже надвигалась на него. Ветви взметнулись, из мрака выступил какой-то человек. Бук ждал, что тот ему скажет, но не услыхав ни слова, проговорил:
— Добрый вечер.
«Вот черт, — подумал Бальрих, — промахнулся!» И в нем вспыхнула злоба при мысли о Динкле, этом хвастуне, который уверял, что богачи дремлют на ходу и что их можно свалить одним щелчком. Бук спросил:
— Вы как будто испугались?
По вкрадчивому тону адвоката было ясно, что он насмешливо улыбнулся.
— Уж вы соблаговолите… — Бальрих запнулся. Он решил было тут же, сию минуту, под угрозой скандала, потребовать денег.
Наконец Бук сказал:
— Соблаговолю? Да я всю жизнь только это и делаю. Итак, что вам угодно?
— Вы грабитель! — крикнул Бальрих. — Вам не место там, где вы живете!
Адвокат подошел к нему совсем близко.
— Так это все-таки вы? — сказал он. — Сегодня я не раз о вас думал. Вы ведь убеждены, что и ваше место не там, где вы живете…
После паузы он добавил:
— Вы считаете, что должны жить на вилле «Вершина»?
— Я требую того, что мне принадлежит по праву.
— По праву? Ну, разумеется! Пойдемте же. — И на ходу продолжал: — Допускаю, что ни у одного из нас нет никаких прав и что все в нашей жизни игра случая. И то, что я не освобождаю своего места, — это трусость, гадкая трусость. Что ж, и вы хотите стать таким трусом? — Он взял Бальриха под руку и оперся на нее. Голос его звучал взволнованно: — Вы молодой рабочий, перед вами вся жизнь. Такие, как вы, могут далеко пойти. Я человек конченный. А ведь я мог бы предотвратить немало зла и, как знать, быть может, помешать гибели многих. Но настает минута, когда даже такая тряпка, как я, черствеет. Вы поняли меня? — спросил он, остановившись.
Бальрих понимал лишь одно. Перед ним стоит человек, потерявший всякую власть над собой, и под покровом темноты высказывает чувства и мысли, касающиеся только его одного. «Да, жалкий тип!» — подумал Бальрих и высвободил свою руку.
— То, чего я хочу, вам ровно ничего не будет стоить, — сказал Бальрих жестко. — Выдайте мне это давнишнее письмо, где сказано, что деньги старого Геслинга принадлежали моему дяде, и засвидетельствуйте его.
Бук колебался только мгновение, затем с обычной флегматичностью ответил:
— Что ж, хорошо. Тогда пойдемте.
Бук зашагал вперед, Бальрих следовал за ним, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди; он боялся, что у него не хватит сил дойти. Значит, это правда? И письмо действительно у Бука? И он так просто отдаст его? Что это — безумие? Или ловушка?
Он уже не слышал, что говорит Бук. И только, когда адвокат окликнул его: «Куда вы бежите?» — обернулся. Они были у самой виллы. Перед ними — темная садовая аллея, и он слышит шепот Бука:
— Держитесь за меня. Я промолчу, чтобы не зажигали свет. Так будет лучше для нас обоих.
Бук обогнул дом, провел его мимо множества неосвещенных окон. И когда свет, наконец, вспыхнул, Бальрих увидел себя в просторном зале, обтянутом золотистым шелком, на стенах висели светлые картины. Бук исчез в соседней комнате; она была красно-золотая и полным-полна книг. Он тотчас же вернулся.
— Вот! Убедитесь! — сказал он и протянул Бальриху письмо.
И пока Бальрих доставал его из конверта, разворачивал и читал, Бук принес коробку сигар и так же спокойно продолжал:
— Если письмо не сгорело вместе с другими документами, не думайте, что это случайность. Я пересмотрел весь архив моего отца и оставил себе именно это письмо. Ваш дядя пропал или погиб. Но ведь вы, его наследник, должны же когда-нибудь явиться, думал я, и потребовать… Что с вами? — спросил он, взглянув на Бальриха, ибо лоб юноши внезапно побагровел, он словно одержимый обвел взором всю эту невиданную роскошь и вдруг расхохотался безумным смехом.
— Все это мое, — сказал он.
Бук медленно опустился в кресло.
— Вы преувеличиваете. Процесс обойдется вам слишком дорого.
Бальрих так сдвинул брови, что глаза под ними стали казаться черной черточкой. Мертвенная бледность разлилась по лицу, он боролся с искушением наброситься на этого человека.
— Главное уже решено, — сказал Бук. — Выпейте, — и налил рюмку ликеру. — И вот вам сигара.
— Не хочу, — сказал рабочий. — Вы мой враг.
Бук покачал головой:
— Очень жаль, если вы так думаете. Это затруднит наше дело. Вы могли заметить хотя бы то, что я и сам не прочь проучить Геслинга. Напрасно я стал бы убеждать вас, что только во имя святой справедливости сохранил это письмо. Лично для себя я жду от него наилучших результатов. Пусть Геслинг поймет хотя бы в теории, что все его благополучие основано на хищении, а его право — на грабеже.
Глаза адвоката заблестели, он приподнялся в кресле.
— Еще рюмку! — предложил Бук и выпил сам.
Бальрих подумал: «Совсем как дядя Геллерт. Такое же ничтожество. Нет, надо действовать самому».
— Однако, — опять заговорил Бук, я не создан для роли мученика, иначе я не сидел бы в этом кресле. — И с презрительной улыбкой добавил: — К сожалению, я не могу прикончить его, не прикончив заодно и себя. Поэтому — все в меру.
— Это только вы так думаете, — отрезал Бальрих.
— Нет. И вы должны это признать. Ваше дело требует крайней осторожности. Мирным путем, иначе говоря — с помощью любой угрозы, не таящей в себе смертельной опасности, можно будет добиться хотя бы уплаты процентов с вложенного капитала, если не тантьем[2]. Это, конечно, не так много, но не будем умалять сил противника. Даже если он и заплатит, то никогда не признает подлинность письма.
— Но ведь есть суд, — возразил Бальрих.
Бук пожал плечами:
— И вы рискнете передать это дело на решение суда? Вы как рабочий должны знать, что в голове буржуазного судьи не может быть даже и мысли о том, чтобы бедняк мог предъявить неоспоримый документ, с помощью которого богач будет выброшен из своего поместья.
— А если этот подлинный документ все-таки существует? — возразил Бальрих, не скрывая своего раздражения.
— Подлинностью этого документа, — заявил Бук, — заинтересовались бы многие и даже среди моих коллег. Однако никто не возьмется за это дело, не обеспечив себя крупным авансом. Я лично, в моем положении, не взялся бы вести такое дело. Я не создан для роли мученика.
Бальрих слушал, вникал, и чем яснее были слова Бука, тем он становился неувереннее. Трудно было допустить, что этот господин — тот самый человек, который еще так недавно в темноте потерял власть над собой. И вот он сидит в залитом светом зале, он здесь в привычном мире и чувствует себя спокойно и уверенно. А для Бальриха этот мир — дремучий лес, полный засад и ловушек. «Ату его!» — казалось, кричат оттуда.
— А что бы вы сделали на моем месте? — спросил он, упав духом.
Бук окинул его отеческим взглядом.
— Я? Такой, какой я теперь? Человек, уже поживший и не помнящий ни одного случая, когда победило бы правое дело, если защищающая его сторона слаба? Я сделал бы вот что…
Взяв из рук Бальриха письмо своего отца, он поднес к нему горящую сигару. Бальрих отчаянно вскрикнул, вырвал письмо. Один прыжок, и он уже не в мягком кресле, он твердо стоит перед Буком и рычит:
— Я, слава богу, не вы! И не нуждаюсь ни в вас, ни в ваших коллегах! Своего права добьюсь я сам!
Изменилась и непринужденная поза Бука и его фамильярный тон.
— Для этого вам нужно стать адвокатом, — строго сказал он. — Как вы это сделаете?
— Я знаю как! — выкрикнул Бальрих и, тяжело ступая, направился к двери.
— Стойте! — торопливо остановил его Бук. — Подождите немного. Слышите — машина выезжает за моим шурином. Весь двор сейчас освещен.
Бук подошел к молодому человеку и, положив ему руку на плечо, продолжал:
— Вам ведь не больше двадцати, да? Смелая голова, волевой характер! Сын мой тоже мог бы стать таким Но по моей вине он иной.
При этом Бук отступил на шаг и сказал, устремив на Бальриха испытующий взгляд:
— Надо попробовать… Я принесу вам сейчас одну вещь из спальни моего сына. Он спит через комнату от нас. Даже удивительно, как он не проснулся от вашего крика. Вы тут не раз повышали голос. Но у него крепкий сон, — заметил отец с нежностью и на цыпочках ушел в глубь дома.
Назад он вернулся с книгой.
— Вот, возьмите. Он не проснулся. И час заговорщиков уже миновал, — заметил он, указывая на часы, которые как раз пробили час. — Спокойной ночи.
Бук вышел вместе с Бальрихом. Снаружи уже не было так темно. Из дома, который они только что покинули, на дорогу падал свет.
Очутившись за садовой калиткой, на шоссе, Бальрих обернулся; в ту же минуту свет погас. Стоя в темноте, он искал виллу своей мечты. Горящим взглядом он силился разглядеть ее очертания меж выступавших из мрака флигелей, убегавшую в глубь сада главную аллею и террасу главного дома. «Все это будет моим, — подумал он. — Эти слабые, избалованные люди там в доме ни о чем не подозревают. — Он нащупал письмо на своей груди. — А тот, кто был так глуп, что дал его мне, — меньше всех. Они думают: все останется таким, как есть». Но насколько сильнее нападающий! Какая угроза висит над тем, у кого есть собственность! Громко и решительно бросил он в темноту:
— Клянусь, я получу тебя, это так же верно, как то, что я тебя вижу.
В этот миг из облаков выплыла луна, залив своим сияньем дом и сад: она, казалось, дарила их Бальриху, придав им легкость мечты, краски радужных снов и обольстительных сказок, темно-синие тени, серебристые стены. Вилла «Вершина» звала его, она, как женщина, отдавалась ему. Он зашатался…
На шоссе показалась возвращавшаяся машина. Бальрих нырнул в заросли ельника, выбрался из них, вновь вышел на дорогу уже в другом месте и зашагал по ней долго-долго мерным шагом, словно под марш, — все вперед, долго-долго все вперед…
Когда Бальрих вновь оказался возле виллы, ее уже окутывала дымка голубого рассвета. Пели птицы, из сада тянуло сырым благоуханьем, но лунные блики еще лежали на дорожках и в глубине лунный свет, казалось, стекал с террасы. Или нет: чья-то тень медленно скользила со ступеньки на ступеньку, волоча за собой складки серебряной одежды. Он силился разглядеть лицо, но увидел только глаза — и это были глаза его сестры Лени.
— Видишь, — сказал он ей, — это для нас.
«Но почему, однако, здесь я, а не Геслинг? — спрашивал себя Бальрих. — Потому же, почему и Лени здесь».
И он заплакал, забившись в еловую чащу, а когда сердце его, казалось, изошло слезами, он направился к фабрике, полем, напрямик, огибая рабочие лачуги. Не все ли равно, что сторож у ворот увидит на его лице следы этой ночи.
Когда вечером он переодевался после работы, то нащупал в кармане пиджака какой-то посторонний предмет — книжку, которую вынес ему из спальни сына адвокат Бук.
«Тут уж я, наверно, найду хороший совет», — решил он и с надеждой открыл книгу.
Что это? Столбцы иностранных слов, а рядом — немецкие слова и предложения, совсем как в учебнике для детей. Учебник латыни — даже нет, вернее — латинский букварь… Бальрих быстро сунул его в карман и понуро опустив голову, побрел домой.
Но дома он снова воспрянул духом. Он теперь понял и принял решение. Поужинав хлебом и сыром, Бальрих тотчас сел за свой сосновый стол, на котором до сих пор едва ли лежала книга. Теперь на нем лежал учебник. Его надо было одолеть, а потом еще один, и еще, и еще, и все же ты в свои двадцать лет будешь знать только то, что уже известно мальчикам. Ты не знаешь, долго ли, и не знаешь как, но ты должен учиться! Вся ночь принадлежит тебе. Все ночи принадлежат тебе. Учись!
Он лег, когда уже светало. Три часа спустя Бальрих облил себе голову водой из кувшина и в ногу с товарищами пошел на работу.
Так потекла новая жизнь Бальриха, и первой заметила это Тильда. Он успокоил ее, пожертвовав еще час, который урывал у сна; но так не могло долго продолжаться, и он просто-напросто заявил ей, что они будут видеться только по воскресеньям. Он-де работает над усовершенствованием одной машины, что даст ему деньги и положение, все его будущее зависит от этого. Видя, как он оживлен и захвачен работой, она совсем оробела.
— Ты думаешь, я не хочу вырваться отсюда? Но я добьюсь своего и стану богатым.
Тут она заплакала и сказала:
— Тогда ты меня бросишь.
Он стал возражать, но она не верила ему. Однако пообещала хранить его тайну. Затем встала, почти не помня себя, и вышла, согнувшись, закутанная в свой коричневый платок. А Бальриху предстояла ночь без сна.
Две недели спустя в воскресенье — он только что выучил последнюю страницу учебника — раздался стук в его дверь, и, низко кланяясь, вошел мальчик в мягком синем костюмчике, в лакированных башмаках; его лицо было безмятежно, как бывают безмятежны лица только у детей богачей. Малыш положил свою фуражку на кровать и скромно попросил позволения присесть на свободный стул.
— Мне придется задержаться у вас, — сказал он. — Папа велел мне спросить вас по всему учебнику.
И мальчуган открыл книгу.
— По правде говоря, я все это уже давно перезабыл, — признался он. — Чего это вам вздумалось учиться? — спросил он доверчиво. — Удовольствия мало.
— А я и не ищу его, — ответил Бальрих.
— Я знаю, вам хочется иметь много денег. Вы хотите забрать наши деньги. Не удивляйтесь, — наивно добавил подросток, — мы с папой друзья, и он многое мне рассказывает.
Не зная, что и подумать, ошеломленный рабочий пристально разглядывал улыбавшегося барчонка и должен был признать, что глаза у него ясные и смышленые. Только рот был по-детски открыт и чрезвычайно смешными казались круто изогнутые брови и два крупных белокурых локона, свисавших на лоб.
«Узкий череп и плечи такие слабые, что достаточно щелчка, — подумал Бальрих, — и этот дерзкий маленький негодник свалится со стула…» Но вопреки всему Бальрих, запинаясь, начал отвечать по учебнику. Вдруг мальчик прервал его:
— Минутку! Меня зовут Ганс Бук. Четырнадцать лет одиннадцать месяцев. Не покурить ли нам?
Ошибки Бальриха он исправлял повелительно, но небрежно. После нескольких страниц ему стало скучно.
— Хватит, лучше и я никогда не знал.
— Но я должен знать лучше. Мне это нужнее, — сказал Бальрих.
— Дело ваше, — бросил Ганс Бук. — Для Клинкорума, во всяком случае, и это достаточно хорошо.
Оказалось, что Бальриха ждет учитель Клинкорум. «Мы и так опоздали», — заторопился Ганс Бук и вытолкнул Бальриха за дверь. Бок о бок пошли они через луг. Дойдя до середины, где как раз собралась, горланя, целая ватага ребят, Бальрих растянулся: Ганс дал ему подножку. Он корчился от смеха, окруженный оравой мальчишек, хохотавших вместе с ним. И когда Бальрих поднялся, весь побагровев от ярости, Ганс уже улепетывал от него. Он летел как на крыльях, и Бальрих ни за что не догнал бы его, если бы несколько молодых рабочих не преградили мальчику дорогу. Ганс требовал, чтобы его отпустили, но безуспешно.
И вот они сцепились. Бальриху достаточно было бы тряхнуть Ганса, и мальчик, отчаянно упершийся в землю, тут же свалился бы. Но Бальрих, чувствуя, как слаб его противник, сделал вид, что теряет равновесие, и внезапно отступил.
Они пошли дальше, Ганс Бук — надув губы и потупив взгляд. Однако через минуту Бальрих ощутил робкое прикосновение его руки.
Клинкорум, услышав звонок, принял их, стоя у письменного стола; зеленый халат прикрывал пышными складками его толстое пузо. Галстук сверкал белизной. Он откинул голову, жесткие жидкие пряди его серой бороды торчали во все стороны. Учитель величественно осклабился, обнажив длинные редкие зубы. Продолжая смеяться, завел речь о смысле жизни, о собственности и просвещении. Последнее, конечно, превыше всего, заявил он, бросив злобный взгляд на подростка с виллы «Вершина». Обратившись к рабочему, он добавил: кто жил доныне в блаженном неведении, тому откроется серьезность познания, ибо оно детище истинной мудрости. Разумеется, при условии, если Бальрих чувствует себя призванным к занятию науками.
Бальрих, сначала оробевший от высокопарной речи учителя, вскоре убедился, что это всего лишь красивые слова, и пожалел о потерянном времени. Но тут вдруг дерзко зазвенел голосок Ганса Бука.
— К делу! — воскликнул он.
Клинкорум, сбитый с толку, едва не поперхнулся.
Он дал ученикам один и тот же перевод, дабы установить расстояние между умственным уровнем одного и другого, и в результате нашел, что один берет живостью ума, а другой — непосредственностью восприятия.
При этом его неприятно поразили руки Бальриха. Клинкорум не сказал ни слова, но его многозначительные взгляды и красноречивые паузы заставили Бальриха убрать руки со стола. Пятнадцатилетний Ганс, заметив это, сказал:
— Но ведь он по-настоящему работает, — на что Клинкорум менторским тоном ответствовал, что и ему, Гансу, придется потрудиться.
Между тем раздался звонок, и в комнату вошли два господина, видимо уже подготовленные к встрече с рабочим, который стал учащимся; они принялись молча разглядывать его.
Ганс Бук бойко сказал:
— Позвольте вас познакомить, господа, — и представил Бальриху доктора Гейтейфеля и консисторского советника Циллиха.
Гости выказали живейшее участие к занятиям Бальриха, — чисто научный интерес, как заявил Гейтейфель. Причем Клинкорум даже подстрекнул их любопытство, показав ошибки в переводе Бальриха, вызванные, по его мнению, незнанием элементарнейших основ человеческой культуры, что является признаком безнадежно отсталого класса.
Оба гостя покачали головой и спросили, нет ли какой-нибудь надежды на успех хотя бы в данном отдельном случае.
Тем временем молодой Бук бесцеремонно болтал и в тетради Бальриха довольно удачно нарисовал акулу.
— Похоже? — спросил он, и Бальрих узнал в акуле учителя Клинкорума. Но тем внимательнее стал он вслушиваться в беседу ученых мужей, что, впрочем, стоило ему больших усилий. Фразы казались слишком запутанными, а некоторые слова лишенными смысла. «Интересный опыт, — уже несколько раз повторил Клинкорум. — Перед вами примитивный мозг, непосредственно соприкоснувшийся с гуманитарными знаниями…»
— А все-таки дело у него идет, — заметил доктор Гейтейфель, сравнивая обе тетради. — Можно подумать, что это доступно всем.
Его слова не понравились учителю. Он поспешно задал Бальриху несколько вопросов, которых тот даже не понял, — и все рассмеялись, Ганс тоже. Бальриху стало нестерпимо обидно, и он пребольно ущипнул мальчика.
Ободренный успехом, Клинкорум заявил друзьям, что как ни сильна бывает иногда у таких людей любовь к знаниям, увы, это чаще всего безнадежная потеря времени. Этот простой рабочий нашел учебник молодого Бука, который тот где-то потерял, и возвратил его только тогда, когда вызубрил от корки до корки.
— Такому почти трогательному усердию я не мог не отдать должное — и решился на этот эксперимент, — сказал Клинкорум, рассмеявшись и показав все свои длинные зубы.
Оба гостя вторили ему.
Бальриху уже было все равно, смеется Ганс вместе с ними или нет. Он угрюмо смотрел перед собой и говорил себе: этому надо положить конец… Он один будет искать свою дорогу…
Тут Ганс, переглянувшись с господами, неожиданно выпалил:
— Ну и рассердится же дядя Геслинг!
От Бальриха не ускользнули усмешки гостей, которые они с трудом старались подавить. Тогда взял слово консисторский советник Циллих. Никакой работодатель не может, по его мнению, оставаться равнодушным, если его рабочие, стремясь к образованию, перейдут известную границу. Ведь это резко меняет взаимоотношения работодателя и рабочего, точки зрения, права и, в сущности, уже есть переворот.
Он сказал все это очень серьезным и предостерегающим тоном. Но если его голос ни единой нотой не выдал затаенного злорадства, то собеседники не смогли его скрыть. Бальрих с удивлением понял, что у главного директора здесь нет друзей. Он насторожился. А доктор Гейтейфель назидательно заявил:
— Властолюбию одного должен быть найден противовес, и этот противовес…
— Просвещение умов, — подсказал Клинкорум, Но Гейтейфель перебил его:
— Просвещение и даже разум — только средства для достижения цели. Надо воспользоваться случаем и еще раз дать понять Геслингу и ему подобным, что такое личная свобода. Тот путь, на который они встали при благосклонном попустительстве властей предержащих, приведет лишь к государственному рабству, и даже раньше, чем это можно предположить.
Последовало торжественное молчание. Рабочий Бальрих вдруг почувствовал горячее доверие к тем, кто мог так мыслить и рассуждать.
— Совершенно верно, — подтвердил он, стукнув кулаком по столу. — А знаете ли вы, почему до сих пор в Гаузенфельд не проведена электрическая железная дорога? Потому что он желает, чтобы мы всю жизнь варились в собственном соку, чтобы мы остались невеждами и только пьянствовали в его кабаке. Ведь это же настоящее гетто! — воскликнул он, гордясь новым для него словом.
Господа поджали губы и, перемигнувшись, почли за благо немедленно отступить. Клинкорум сказал:
— На сегодня довольно. В следующий раз, господин Бальрих, вы могли бы вести урок вместо меня, ну, скажем, о государстве будущего.
— Хотя, — заметил Циллих, — железный закон о заработной плате уже давно пора сдать в утиль.
Бальрих был разочарован и возмущен. Но чего же ждать от этих буржуа? Тупы, как моя задница, да еще лицемеры… У них есть знания только потому, что есть деньги. Овладеть ими и потом схватить этих господ за глотку! Ни благодарности, ни пощады! Каждому по заслугам!
Он взял свои книги, поднялся, поставил стул на прежнее место и, несколько раз шаркнув ногой, откланялся. Господа же продолжали вполголоса начатый разговор:
— Да, таковы дела, иной раз человек не сдержится и все выскажет. Но не менее важно, кто именно имеет на это право.
Когда рабочий вышел, Клинкорум заговорил о главном.
— Что можно еще сказать?! Даже слово подобрать трудно… Геслингу мало того, что он низверг мой дом, обитель моей музы, в долину нищеты и грязи, что он обесценил и осквернил его; нет, он хочет погубить меня самого.
Друзья отказывались верить этому. Но Клинкорум привел цифры и даты, которые сообщил ему подрядчик. Геслинг уже запроектировал постройку еще одного корпуса рабочих казарм. Проект закончен. И где бы, вы думали, намерены они возвести этот корпус? Где! Позади дома Клинкорума, вернее, так, что его участок будет теперь окружен корпусами с трех сторон, а фасад и так выходил на шоссе, где пыль и вонь от бензина. Друзьям остается только сочувственно пожать ему руку. Правда, учитель поклялся, что он такого издевательства, конечно, не допустит, что и на Геслинга найдет управу… есть же суд, наконец…
Бальрих уже собирался захлопнуть за собой садовую калитку, как к нему подбежал Ганс Бук.
— Я подслушал весь их разговор. Дураки и лицемеры!
Бальрих подумал: «Ну, твое счастье» — ведь он и Ганса поставил на одну доску с ними.
— Все они просто злые завистники, — сказал подросток. — И потом — что за вранье про учебник, который ты будто бы стащил у меня, или что-то в этом роде!
У него это «ты» вырвалось неожиданно. И он даже запрыгал от радости.
— Это папа хотел, чтобы я соврал акуле, будто ты нашел мой латинский учебник, и Клинкорум притворился, что верит в эти бредни, ведь папа платит ему за это! Вот они какие!
— Значит… все было решено заранее… тайный сговор… — с трудом проговорил Бальрих и строго уставился на лукавое личико мальчика. Пятнадцать лет — а такое знание людей и притом такая беспечность! Низость взрослых только забавляет этого барчука.
— Пойдем со мной, — заявил Ганс Бук. — Проводи меня до той высокой сосны, откуда видна вилла «Вершина». Дальше тебе нельзя.
— Нет. Не хочу, — ответил Бальрих.
И он зашагал через луг к корпусу «С». А Ганс Бук крикнул ему вслед:
— Встретимся завтра!
«Но не ради тебя, — подумал Бальрих, — и я клянусь тебе, что увижу виллу „Вершина“ не раньше, чем она станет моею. Тогда я выброшу всех вас оттуда».
И все же, сидя в эту ночь за своим рабочим столом, он много думал о Гансе. Книги, которые дал ему Клинкорум, были уже давно изучены, а своих он еще не завел. Поэтому сегодня с легким сердцем мог бы он провести время с Тильдой, которая провожала его вечером до самой лестницы. Но Бальрих отослал ее: ему приятнее было сидеть в своей комнате и при луне — на электричестве он экономил — думать об изящном и лукавом мальчике с виллы, о том, что завтра увидит его снова.
Они встретились в понедельник после работы у Клинкорума. Когда урок был окончен, Ганс Бук предложил ему не более не менее как отправиться в город, — расходы он, мол, берет на себя. Но Бальрих с мрачным видом указал на кипу книг, которые ему дал прочесть Клинкорум.
— До утра осталось шесть часов, и их едва ли хватит.
И он ушел, покинув юного повесу.
Только в воскресенье Бальрих согласился, наконец, с ним встретиться. Стояла духота, закат был мглистым; а так как Бальрих отказался от всяких иных развлечений, они решили просто пройтись и двинулись напрямик через поле, мимо рабочих домишек, по той же дороге, по которой он некогда ходил с Тильдой. Так же как тогда, оба были серьезны; Ганс Бук степенно и задумчиво шагал рядом.
— Ты не спишь только семь ночей, — сказал он, — а у тебя уже красные глаза.
— Другого времени нет, — решительно ответил Бальрих.
И его богатый дружок согласился. По всему чувствовалось, что он питает к Бальриху глубокое уважение.
— Еще бы, ведь ты хочешь в один год выучить все, на что мне в гимназии дали пять или шесть лет, — да и то я всего не знаю.
Тут Ганс Бук увидел, что дети, игравшие на склонах сырого оврага, стараются ткнуть друг дружку лицом в грязную воду.
— Какие они злые и грязные, — сказал Ганс, указывая на детей. — Если бы они не были такими, тебе не надо было бы так много зубрить.
Почему? Ганс и сам не сумел бы объяснить почему. Но ему казалось, что прежде всего надо быть опрятным и порядочным человеком. Тогда ученье уже дело второстепенное.
— Лучше думать, чем учиться; а думать приятнее всего, когда об этом не думаешь, — заявил Ганс.
— Вздор! Может быть, это и верно для тех, у кого есть деньги, — холодно ответил Бальрих. — Но если я хочу выкарабкаться отсюда, — он указал на овраг, — то должен учиться, — и почти с ненавистью повторил: — зверски учиться.
Ганс Бук не вполне понял его, он старался вникнуть в смысл сказанного.
— У меня ведь тоже никогда не бывает денег. И даже папа получает их чаще всего от дяди Геслинга. А у дяди денег слишком много, тут все вы правы. Моему папе он должен бы давать и побольше. А папа — побольше мне. По-настоящему порядочным ни того, ни другого не назовешь.
Бальрих уже знал, что богатые сторонятся друг друга, блюдут кастовые различия; и он с презрением подумал: «Вы сами готовите себе гибель».
Неожиданно Ганс Бук спрятался за спиной товарища. И Бальрих, мгновенно поняв, в чем дело, остановился, выставив вперед ногу, намереваясь защитить друга.
— Кто? Тот рыжий? — спросил Бальрих, устремив взгляд на близкую опушку «рабочего» леса.
Да, это он, исконный враг юного Бука. Столкновение было неизбежно, никакая сила не могла его предотвратить. Уже давно подстерегали они друг друга, и вот решительная минута застала мальчика врасплох. Бальрих слышал прерывистое дыхание Ганса.
— Пусть только подойдет, — прорычал Бальрих, — и уж я его проучу.
Но Ганс Бук с усилием проговорил:
— Не смей. Это мое дело!
Рыжий приближался. Бальрих понял, что он сильнее Ганса.
— Если это твое дело, то поскорее удирай. Беги! — посоветовал он.
— Мне не позволяет моя честь! — ответил мальчик с виллы «Вершина». А рабочий только пожал плечами и рассмеялся, сначала неодобрительно, а потом весело во всю глотку:
— Го-го-го!
Между тем из-за его спины выступил Ганс Бук, сделал шаг вперед, уперся ногами в землю и приготовился к бою. Он весь напрягся, словно стал выше ростом, и стиснул кулаки. Враг подкрадывался, согнувшись, касаясь руками травы. Но, дойдя до поворота дороги, вдруг остановился и свернул в сторону. Ганс Бук продолжал стоять в той же позе, покуда дюжий парень, искоса поглядывавший на него, не пустился наутек, да, именно наутек. Лишь тогда Ганс Бук подошел к Бальриху.
— Этот балбес сдрейфил, — сказал он другу и махнул рукой в знак того, что инцидент исчерпан. Бальрих уже не смеялся.
Стоявшая на опушке леса девушка обернулась и поглядела на Ганса. И только тут в нем проснулась гордость победителя; он даже дерзнул послать ей воздушный поцелуй, хотя ее сопровождал какой-то юноша. Девушка была без шляпы. Золотисто-пепельные волосы покрывал простой платок, хотя на ней была модная юбка и лаковые туфельки на высоком каблуке. Ее спутник был одет в синий нанковый костюм механика, поверх которого он набросил элегантное летнее пальто.
— Это техник, — заметил Бальрих, точно перед кем-то извиняясь, — не простой рабочий.
О том, что девушка — его сестра Лени, он умолчал. Этому юнцу не понять, чем была для Бальриха Лени.
Лени встречалась с техником, и брат спокойно относился к этому. Ведь техник, не просто рабочий. Можно ли не желать этого брака? Так вот! Впрочем, Тильде он тоже обещал жениться. Правда, Бальрих теперь уже пресытился ею. Как бы и здесь не кончилось тем же.
Бальрих убавил шаг, чтобы не встречаться с этой парой, но молодой Бук упорно стремился им навстречу.
— Вот это девушка! — воскликнул он, приосанившись. Но когда Ганс приблизился к Лени, он так неловко схватился за фуражку, что она упала. Лени блеснула на него своими золотисто-карими глазами и расхохоталась в лицо мальчику. Превозмогая стыд, Ганс кинулся за нею, но техник уже увлек ее в кусты. Сколько Ганс ни искал девушку в «рабочем» лесу, поднимая пыль и сажу, найти их так и не удалось. И только у пруда с побуревшей от грязи водой, где несколько человек купалось, а три парочки катались на лодках, он увидел ее. Она сидела в шатком челноке, подобрав юбку, вычерпывала воду и брызгала на техника. Побледнев, примолкший мальчик отошел, а когда они добрались до казарм, он стал настойчиво уговаривать Бальриха свернуть вправо, на шоссе. Бог с ними, с занятиями и с ужином! Ему надо еще кое-что сказать Бальриху.
Бальрих ждал. Но Гансу, видно, не легко было начать… Наконец небрежным тоном он заговорил о каком-то доме, который давно уже заприметил, он знает этот дом, проходил мимо. Это на узкой улочке Маленький Берлин, за храмом девы Марии, где пастором старый Циллих. Ганс как-то слышал веселый женский смех из окон этого дома и теперь во что бы то ни стало должен побывать там. Ведь он уже взрослый! Двоюродные братья Геслинги могли бы взять его с собой. Но перед ним они прикидываются тихонями, — поэтому ему хочется пойти туда с Бальрихом; деньги у него есть, решительно заявил он и стал позвякивать в кармане монетами.
Бальрих ответил ему категорическим отказом. Неужели же ему не интересно? — приставал Ганс. Неужели он не может доставить Гансу это удовольствие?
— Нет, нет.
— Но почему же? Почему же? — сокрушенно настаивал подросток.
Бальрих молчал. Он ускорил шаг, словно желая уйти от мальчика, и все же Ганс Бук преследовал его своим «почему» до самого дома. Тогда Бальрих обернулся и сказал:
— Потому что я — рабочий, и эти девушки могли бы быть моими сестрами.
И ушел, покинув богатого барчука.
— Ах, так, — проговорил Ганс, но опустил длинные ресницы и погрузился в размышления. Работницы? Те девушки, которые так смеялись? Они, наверно, очень счастливы в этом таинственном доме? Нет, тут мы просто не понимаем друг друга. Бальрих благоразумен, потому что он рабочий, и не представляет себе даже, что за диво этот дом в таком чопорном городке, как наш, и какие там нас ждут заманчивые приключения.
Возвращаясь в сумерки домой, пятнадцатилетний подросток грезил о газовых покрывалах и золотых поясах, как в книгах с картинками или как в театре. И вот они уже спадали, обнажая перед ним еще неведомое ему женское тело. Одна мысль об этом обжигала огнем. И вдруг явственно, до осязаемости он увидел стройные ноги и упругие икры девушки, когда она, подобрав юбку, сидела в лодке. И дома, глядя поверх книги, он еще долго вспоминал о золотокудрой красавице, которая была бы прекрасней всех в том сказочном доме…
А тем временем его друг Бальрих продолжал учиться, и если бывало особенно трудно, он погружался душой в воспоминание о том голубоватом рассвете, когда ему почудилось, будто его сестра Лени в длинной одежде из лунных лучей, тянувшихся за нею следом, спускалась с террасы виллы «Вершина». — Ты будешь там жить, — обещал он ей.
III. «Прогулка с вами, доктор…»
Когда все трое — Бальрих, Лени и Ганс Бук — увиделись вновь, уже наступила осень. В этот день шел дождь. Молодые люди возвращались от Клинкорума и за рабочими казармами увидели Лени. Она стояла на той стороне улицы перед огромной лужей и высматривала, как бы ее обойти.
«Где же она пряталась во время дождя?» — спрашивал себя Ганс Бук. А Бальрих думал: «Наверно, была с техником, — там, где я прежде встречался с Тильдой».
Ганс Бук решительно вошел в лужу. Перейдя на ту сторону, он проговорил что-то вроде: «Р-р-разрешите…» Но это было скорее похоже на зубовный скрежет. Взяв Лени на руки, он понес ее через лужу. Заметно пошатываясь, добрался до середины; и здесь ему пришлось поддержать ее коленями, так как руки у него ослабели и она, испугавшись, завизжала. Все же он наклонился к ее лицу и поцеловал в губы. После этого он еще нашел в себе силы донести ее до сухого места.
Там в нерешительности, насупив брови, стоял Бальрих. Ганс Бук поправил платок, покрывавший плечи и золотисто-пепельные волосы девушки, и, обратясь к Бальриху, сказал:
— Почему ты сердишься? Я не обязан знать, что фрейлейн Лени твоя сестра. Ты не говорил мне об этом.
Лени смущенно рассмеялась, а Ганс Бук шутливо, но так же смущенно добавил:
— Эх ты, неверный друг!
Бальрих, растерянный и мрачный, говорил себе: «Значит, они уже встречались?» Тут он заметил, что они не одни. Тильда, его вечный соглядатай, метнулась за угол. Бодрым шагом подошли два молодых человека в спортивных костюмах — сыновья Геслинга и двоюродные братья Ганса. Эти два долговязых юнца семнадцати и восемнадцати лет, в крагах, обтягивавших их тощие икры, любезно раскланялись, согнувшись чуть не пополам, и, подойдя к Лени, которая с учтивой грацией принимала все знаки внимания, поцеловали ей руку, как истые кавалеры. Они осведомились, когда она опять пойдет на танцы в Бейтендорф, и, подхватив под руки, увлекли с собой. Ее брат и Ганс молча шли сзади. Хотя Лени была очень сдержанна, Бальрих чувствовал, что это — одна видимость. Она не знала, что он борется за нее против «тех». Как горько скрывать это! Но вот мальчик, он-то знает, и неужели ему не стыдно? Да, Ганс шел рядом, понуря голову.
Молодые люди крикнули двоюродному брату, — пусть поспешит, с минуты на минуту должна подойти машина. Она уже показалась в конце улицы. Все они только успели пересечь луг, как автомобиль остановился в двадцати шагах от них. Молодые люди мгновенно откланялись, сели в машину, где их поджидали дамы Геслинг и Бук, с легкими перьями страуса в пышных прическах, и укатили, даже не оглянувшись.
Брат и сестра все еще стояли на дороге. Наконец Карл Бальрих с болью в душе обратился к Лени:
— Ну, что скажешь?
Сестра рассеянно ответила:
— Какие у них перья! Никогда таких не видала! — И, повернувшись, хотела уйти. Но брат стоял неподвижно, погруженный в свои мысли, и она робко спросила: — Что с тобой, Карл?
Он вздрогнул, однако не обрушился на нее с ругательствами, как она ожидала, а с благодушной улыбкой сказал:
— Подожди, у тебя самой будут такие перья, и платья, и автомобиль, и вилла — вилла «Вершина».
Тогда улыбнулась и она самозабвенной улыбкой, стоя посреди дороги, под дождем.
Ей стало холодно. Собираясь уходить, она бросила ему:
— Ты с ума сошел!
— Нет, я буду работать, пока у тебя не будет все это, — твердо сказал он.
Лени с горечью возразила:
— На твои гроши? Да мне до восьмидесяти лет ждать придется!
Он наклонился к ней.
— Я хочу сказать тебе кое-что, чего никто не должен знать. Пойдем!
Он взял ее за руку и привел в свою комнату. Затем выдвинул ящик стола, набитого книгами. Лени начала перебирать их.
— И это ты учишь по ночам? Так вот почему у тебя такие воспаленные глаза! И когда ты все выучишь, ты получишь деньги?
Он объяснил, что учится для того, чтобы бороться за свои права, за ее право. Она старалась вникнуть в то, что он говорит, и понять брата.
— Тебе нужно два года, чтобы все это изучить? И шесть лет, чтобы стать адвокатом? Значит, ждать целых восемь, а то и десять лет, пока ты сможешь заработать достаточно и начать процесс против Геслинга?.. Нет, спасибо, к тому времени моя молодость уже пройдет.
— Но тогда начнется наша жизнь на вилле «Вершина», — возразил он.
— Ты воображаешь, они попросту съедут, и мы там поселимся? Не такие они люди!
— Им придется выехать! — взволнованно заявил он. — Они не имеют права там жить.
— Поэтому их и поддержат все те, кто нажил деньги такой же неправдой.
Бальрих умолк. А ведь у этой восемнадцатилетней девушки те же сомнения, что и у Бука! И откуда у нее такое знание жизни?
Видя, что она огорчила брата, Лени спохватилась:
— Конечно, это было бы замечательно, и я знаю, у тебя добрые намерения, но я, кажется, нашла более короткий путь.
Бальрих взглянул на нее. Он знал этот путь, который вел через мечту: Ганс Бук подрастет и женится на Лени. Он любит ее, и он славный мальчик. Но Лени, которая не верила ни в торжество права, ни в победу труда, как могла она поверить в столь сомнительное счастье? Или она намекала на что-то совсем другое? Он поспешно спросил:
— Ты разве уже решила не выходить за твоего техника?
Лени только пренебрежительно повела плечами и сделала гримасу.
— Что же тогда? — спросил он и подступил к ней ближе.
Тут она испугалась и стала успокаивать его:
— Ты не знаешь меня, Карл, я не такая дура! Разве мы откажемся от виллы «Вершина»?
— Лени, — сказал он. В его тоне еще звучала угроза, но вместе с тем и глубокая печаль: — Перед техником мне не стыдно. Но перед теми молодчиками с виллы «Вершина» мне было бы нестерпимо стыдно за тебя.
Лени вдруг затрепетала. Слезы неудержимо полились по ее щекам, она стиснула руки и сказала с мольбой:
— Не думай, дорогой мой Карл. Я не такая! Пусть я ослепну, если допущу надругательство над собой. Я верю, ты выиграешь процесс и вырвешь нас из нужды. Клянусь богом, я верю тебе.
Она порывисто обняла его и прижалась губами к его лицу, которое все еще казалось окаменевшим. Но оно вдруг ожило, расцвело улыбкой, засияло.
— Положись на меня! — сказал он, сжимая ей руку. — Положись на меня, Лени!
Она ушла, и он сел за стол.
Все зимние ночи просиживал он над книгами. После работы на фабрике этот труд освежал его. Обостренным слухом воспринимал Бальрих тишину широких оледеневших полей. Ни один звук огромного дома больше не тревожил его, только из небольшой книжки, лежавшей перед ним, доходил голос — голос его собственной мысли. Обхватив голову руками, он уже не воспринимал эти знания как чужие. Ему казалось, что это сам он продолжает то, что извечно переходит от одного человека к другому. Сам мыслит и открывает новое. Его мысль словно освобождалась, и в этом одиночестве ночного бодрствования он иногда вдруг ощущал с торжествующей радостью, как его собственные силы крепнут.
Учитель проверял его обычно раз в неделю. А в остальные дни Бальрих виделся с Гансом Буком, и только с ним. Обычно Ганс влетал к нему как вихрь и, запыхавшись, заявлял, что завтра ему надо сдать учителю тетрадь с упражнениями. А однажды в пять часов утра он, перепуганный, прибежал к Бальриху, разбудил его, прервав и без того короткий сон рабочего, и попросил приготовить за него домашнее задание, которое надо было представить в то утро.
— Помнишь, как я первый раз спрашивал у тебя вокабулы? Не прошло и года, а ты меня уже догнал. Ты выучишься, а я все еще буду жалким зубрилкой… Нет! — топнул он ногой, — хватит! Я хочу уехать отсюда и зарабатывать деньги.
— Как? И ты тоже?
— Недаром ты мой друг… Почему ты никогда не ходишь танцевать в Бейтендорф? Пришел бы хоть разок! Ты бы увидел, как защищаю я вместо тебя Лени! Никто не смеет к ней подойти слишком близко! — воскликнул он вызывающе и потом небрежно добавил: — А что касается моих кузенов Геслингов, то я их презираю. Презирай и ты!.. Или ты боишься, что они тебе напакостят? — с тревогой заметил он.
Бальрих пристально посмотрел на Ганса. Как всегда, когда подросток хотел слукавить, на его тонком личике появилось выражение притворной невинности.
— Наверно, и тебя твои товарищи восстановили против меня. Плюнь! У нас дома про тебя говорят, что ты подкуплен — только не знаю кем и для чего.
Рабочий в ярости сжал кулаки, а мальчик подпрыгнул от радости, забежал за стол и крикнул оттуда:
— Вот видишь! — Но тут же постарался задобрить Бальриха: — Да что бы мне ни говорили, я-то знаю тебя. Мне ты можешь открыть все.
Схватив свою тетрадь и показав другу длинный нос, он убежал.
Однако за дверью Ганс налетел на какую-то женщину. Это была Тильда. Она затащила его под лампочку и решительно спросила:
— Что он там делает? Я хочу знать.
— Бальрих? — спросил Ганс Бук, растерявшись. — Сейчас он учит греческий…
— Да он с ума сошел! — воскликнула Тильда так громко, что по коридору раскатилось эхо. — Он совсем перестал спать, я же вижу, потому что и сама не могу спать. Ни с кем не разговаривает, завел какие-то секреты. И мне все наврал. Пусть только выйдет! — крикнула она, повернувшись к его двери. — Я все выложу ему.
Появился Бальрих. Несколько женщин, спускавшихся и поднимавшихся по лестнице, остановились на ступеньках. Среди них была и Польстерша.
— Что ж, Тильда правду говорит, — обратилась она к ним. — Он наплел ей про какую-то машину, будто занят ее усовершенствованием. Но мы обшарили всю его комнату…
Бальрих накинулся на нее, — да как она смела? Но она — заявила, что имеет на то полное право — и Тильда тоже.
— Коли человек спятил, надо же узнать, в чем дело.
Свидетельницы этой сцены согласились с ней. Конечно, она имеет право. Только это все же дело семьи.
— Динкль должен навести порядок…
— Ладно, — сказал Бальрих, — мы пойдем к Динклю. Я и Тильда. А вас это не касается.
Женщины притихли, только Польстерша никак не унималась. Бальриху было стыдно перед Гансом. Да, видно, объяснения с семьей не миновать. Но для этого необходим и Геллерт.
— Ганс, — решительно сказал он. — Я сделал за тебя твой урок, а ты сейчас же раздобудь мне старика Геллерта.
Ганс стрелой вылетел из комнаты. Бальрих, Тильда и Польстерша в глубоком молчании пустились в путь по бесконечным темным лестницам, без ковровых дорожек, по коридорам с сотнями дверей, унылым, как в больнице, с окнами без занавесей, за которыми стоял хмурый зимний рассвет, такой же безрадостный, как жизнь бедняков. «Вот она, наша участь», — думал Бальрих, которого оторвали от учебника греческого языка.
Дойдя до площадки, где жили Динкли, он увидел открытую дверь и выбежавшую из комнаты Малли.
— Нет, я все брошу! Не могу я так жить! — визжала она и чуть не сшибла с ног Польстершу, которая тоже взвизгнула. Бальрих пытался задержать Малли, но она вырывалась изо всех сил и продолжала кричать, что все бросит. Когда она, наконец, замолчала, из комнаты донеслась ругань Динкля и детский рев.
— Почему ты держишь меня? — всхлипывала Малли. Бальрих показал на окно, за которым серело тусклое утро.
— Броситься в окно и то лучше! — стонала она. Тогда Бальрих спросил:
— Динкль обижает тебя? — И в голосе его прозвучала угроза.
Но она схватила брата за руку и умоляюще заговорила:
— Динкль не виноват! И дети тоже, хотя они и замучили меня.
— Тогда пойдем, так продолжаться не может. — И он повел ее домой.
Динкль шлепал ребенка. На полу посреди комнаты стоял грязный таз для умывания.
— Вот так начинается день, — сказал Динкль. И когда на минуту наступила тишина, послышалось блаженное чмоканье ребенка, который, лежа на комоде, шевелил ручонками.
Малли вынесла умывальный таз, затем с помощью Польстерши принялась одевать и причесывать детей. Динкль, будучи не в духе после этой сцены, сердито напустился на шурина.
— А-а, господин Бальрих? Наконец-то удостоили нас своим присутствием. Скажите, какой скрытный? Разбогатели, да? Зарабатываете денежки, как Яунер?
Бальрих чуть не вспылил, но сдержался.
— Скоро ты сам поймешь, Динкль, какой ты дуралей.
— А ты, — вскипел Динкль, — зубришь латынь, как буржуй. Поэтому и Тильду не знаю до чего довел, негодяй. — И он указал на Тильду, которая стояла тут же, закрыв лицо передником. — Дядя Геллерт рассказал нам кое-что про тебя.
— Вот пусть он и скажет это вам, — громко заявил Бальрих, обращаясь к старику маляру, стоявшему в дверях.
Тот хотел было тут же повернуть назад, но Ганс втолкнул его в комнату. Затем барчук повел носом, но в комнате пахло только что вставшими с постели людьми, а не той, кого искал его взгляд. Все же Лени, наконец, вышла из своей конуры. И Ганс Бук, расталкивая всех, устремился к ней.
Старик Геллерт сделал вид, что знать ничего не знает; он прикинулся глухим. Но вдруг рассвирепел и со всей яростью неопохмелившегося пропойцы заорал:
— Довольно молчать! Этот жулик обманывает меня! — Но так как Бальрих хранил спокойствие, старик стал всех призывать в свидетели. — Пусть сознается сейчас же, он стоит перед своим судьей! Намекал я тебе когда-нибудь на одно старое письмо, где сказано, что Гаузенфельд принадлежит мне?
Бальрих загадочно усмехнулся.
— Слушай, — сказал он, — я даже раздобыл это письмо, но в нем нет ничего того, о чем ты говоришь.
Тут старик затрясся. Руки и ноги заходили у него ходуном, он стал кричать, что Бальрих продал письмо, а денежки прикарманил.
— Я подстерегаю его, а он увиливает или отделывается пустыми словами.
— Потому, что об этом деле говорить не так просто, — отозвался Бальрих. — А письмо — вот оно. — И он протянул старику листок.
Все тотчас принялись читать: и Динкль, державший письмо перед собой, и Геллерт, который тянул его к себе, и Малли с грудным младенцем на руках, и Тильда, утиравшая слезы, и Польстерша, шевелившая губами, и самый старший из детей — он примостился на стуле возле них. Тут же стояли, вытягивая шею, и остальные ребята, удивленные вдруг наступившей тишиной. Вошли на цыпочках оба младших брата Бальриха, следом за ними прибрел старик Динкль с жестяной кружкой, в которую ему наливали кофе. Они тоже примкнули к группе, читающей письмо.
Один Бальрих слышал шепот и тихую возню за перегородкой. Это Лени выталкивала Ганса.
Динкль, дочитав, спросил:
— А нам-то что до этого письма?
— Оно всем нам принесет богатство, — ответил Бальрих.
Тогда они еще раз прочитали письмо, неподвижные, в торжественном молчании.
Геллерт первый нарушил его.
— Коли он продал мои права, что же делать мне, старику?
— Да, ты стар, — согласился Бальрих твердо и снисходительно, — и ты беззащитен, и все вы беззащитны. Поэтому я взялся за это дело. Взялся за ученье и буду учиться, покуда не изучу право. Тогда я добьюсь своего.
Так стоял он среди них, и бледный свет раннего утра падал на это широкое лицо; все смотрели на него молча, стараясь понять происходящее. Вдруг Геллерт опять завопил:
— А какой прок мне от твоего ученья! Я стар, и мне нужны деньги. Сейчас же выкладывай мои денежки — и все тут!
Но Динкль приказал ему замолчать. Потом перевел дыхание и обратился к Бальриху:
— Много может пройти времени, пока мы добьемся своих прав. Кто знает, доживем ли? Но наши дети, они-то хоть увидят лучшую жизнь?
Бальрих посмотрел ему в глаза, затем медленно перевел взгляд с одного на другого. Никто не проронил ни слова. Тогда заключил он с ними безмолвный договор. Бальрих взял младенца из рук Малли и показал им.
— Клянусь его жизнью, — заявил он.
Снова наступило молчание. Потом кто-то закашлялся, и все стали собираться на фабрику. Бальрих, стоя, пропустил их мимо. Подошла Тильда и строго, как монахиня, сказала:
— Я буду ждать тебя. Теперь я знаю, что ты вернешься.
Польстерша, которая оставалась дома, приказала детям идти вперед. А брата Динкля робко спросила, достанется ли и ей что-нибудь.
— Неизвестно, все будет сделано по закону, — деловито ответил Динкль. — Если ты будешь настаивать, нам придется судиться.
Тут из глубины комнаты послышались еще два голоса. Сперва настойчивый голос Ганса:
— Я знаю, что ты задумала. Не делай этого, не делай! Только один человек на свете любит тебя, это я.
Но Лени презрительно ответила, что это каждый может сказать.
— Сказать — да, но сделать? И я раньше хотел только получить от тебя удовольствие. Я был преступником! А теперь хочу трудиться ради тебя, уехать отсюда и сам зарабатывать себе на хлеб. Уехать сейчас же. Я хочу стать таким, как вы, и всю жизнь работать. Я люблю не только тебя, но всех вас. — И с горячей мольбой добавил: — Лени, услышь меня, не всякий скажет тебе такие слова.
— Зачем? — ответила Лени, и Бальрих впервые почувствовал, как она раздражена. — Это протянется слишком долго. Так же долго, как…
Бальрих обомлел. Он понял, что она имела в виду, и украдкой выскользнул за дверь. Но вдруг кто-то из-за спины схватил его руку, и не успел он опомниться, как чьи-то губы прижались к ней. Обернувшись, Бальрих увидел седой узел волос на голове Малли и ее смиренно склоненную спину. Он поднял сестру.
— Сегодня мне уже незачем молиться, — проговорила она бескровными губами и заспешила прочь, топая своими мужскими ботинками и оправляя юбку, обтягивавшую ее костлявые бедра. Ушел и Бальрих, опустив голову, впервые ощущая бремя взятой на себя ответственности, и все же чувствуя прилив новых сил. Он думал: «Теперь все помогут мне, я добьюсь своего. И Лени еще поверит в меня».
Незаметно прошла зима. Однажды, в весеннюю ночь, сидя полураздетый в душной комнате, он распахнул окно и высунулся наружу, чтобы подышать свежим воздухом, а потом снова взяться за книги. Сквозь тонкие стены и раскрытые окна на него со всех сторон веяло дыхание спящего дома. Вот донеслось ругательство, вот кто-то вскрикнул во сне, и тут же ему почудился предсмертный стон, а следом за ним крик новорожденного. Он слышал все эти звуки и раньше, но воспринимал тогда по-другому. Теперь они, казалось, уже не говорили о том, что эта суровая жизнь беспросветна. Пусть люди спят или страдают — он бодрствует и думает о них.
Он блаженно потянулся. Все это — товарищи, близкие, все — свои. Сегодня они, как и он, бедны, но наступит день, и с его помощью они станут богаты. Он видит, как на вилле «Вершина» чуть шевелятся гирлянды роз… Вдруг лицо его омрачилось, он задумался. Было время, когда он заботился только о себе, о своих правах; тогда ему хотелось немедленно овладеть богатством и насладиться им. Но сейчас сердце напомнило ему о ней, о Лени, о самом дорогом для него существе. А разве другие менее заслуживали любви, богатства и свободы? Правда, не все они добры, не все чутки я благородны. Но только богатство даст им утонченность, благородство и доброту. Порой они озлоблены друг против друга, как озлоблены против них богачи, которых деньги ожесточают, — однако угнетенные не ладят между собой оттого, что страдают. Они борются за существование и сами не знают, куда их приведет борьба. Ни у одного из них еще не пробудилось сознание.
Но ведь разум подсказывает каждому, что у всех одинаковые права. У нас отняли средства производства, нас ограбили, поработили тело и душу. Мы обездолены и нищи. Но мы должны лишить их богатства, и пусть будет нашим земное счастье, как была нашей земная юдоль… Да, и мы вынуждены творить несправедливость, так как наша жизнь построена на несправедливости. Ведь источником Геслингова богатства послужили жалкие гроши, когда-то принадлежавшие одному из нас. А тот, от чьего имени мы предстанем перед Геслингом, приобрел их постыдным способом. Мы, его наследники, ничуть не справедливее того эксплуататора; однако мы должны стать справедливее.
«Как это сделать? Уравнять ли заработки и доходы? Упразднить ли предпринимателя? Но ведь я уже сегодня знаю больше других, поэтому могу и должен получать больше. Чем же я отплачу им?» — настойчиво вопрошал он некий представший ему смутный образ, имя которому было — Равенство.
Когда раздался скрип ворот, как обычно по утрам, Бальрих с изумлением вернулся к действительности: стоял белый день, доносился воскресный звон колоколов. Сколько же времени пропало даром! Но, сам того не ведая, он в эту ночь совершил еще один шаг на трудном пути познания: он «думал, не зная о том, что думает».
Был праздник, и Бальрих, выйдя побродить, увидел адвоката Бука, который прохаживался по луговине.
— Гуляете? — спросил толстяк. — Хорошо бы вам пройтись на виллу «Вершина», а мне в такое утро покинуть ее.
— Я не пойду туда, — проронил Бальрих.
— Не хотите? Она кажется вам слишком ослепительной, от нее веет слишком большой беспечностью и счастьем? Или это чересчур обманчивое счастье? А что мы были бы за люди, если бы не чувствовали стыда в такое воскресное утро?
— Настанет время, когда нам всем в такое утро уже нечего будет стыдиться, — сказал Бальрих.
— Весенний день и вилла «Вершина», — продолжал адвокат и пристальным, долгим взором посмотрел Бальриху в лицо, — может быть, они и в самом деле созданы для вас…
Пройдя между домов рабочих, они вышли на пустырь.
— Итак, весь ваш годами накопленный запас умственных сил вы решили использовать сразу. Вы — богатырь!
— Все это слова, — ответил Бальрих. — Я переутомлен.
— Вижу, — тут же согласился Бук.
— Но это только ваша вина, — снова продолжал рабочий, — вы лишили нас образования, чтобы мы оставались рабами. Придет время, когда работники физического труда — все люди будут уже с детства приобщаться к культуре. Тогда и у фабричного станка и за письменным столом человек будет в несколько часов создавать то, на что сейчас нужны долгие годы.
— Наука будет доступна всем, — подхватил Бук с удовлетворением. — А нынче она только для избранных.
— Как и деньги, — заметил Бальрих.
— Что же, в будущем все будут получать одинаковую оплату? — осторожно осведомился Бук.
Бальрих вспыхнул.
— Едва ли, но каждый получит свою долю прибыли.
— Однако она может оказаться и его долей убытка, — подчеркнул Бук.
Но Бальриха трудно было сбить.
— Нет. Убытки понесет предприятие. Ведь оно будет принадлежать не нам, рабочим, а самому себе.
— Это вы сами придумали? — спросил Бук с необычной для него живостью. И затем добавил: — Принадлежать самому себе… Но кто же будет его олицетворять? Кто окажется его пайщиками?
— Все, кем оно живет.
— Но оно живет и мертвыми.
— Чепуха! — сказал рабочий.
— Оно живет и теми стариками, которые греются там, на солнышке, у стены, — хотя они никогда уже не возьмут в руки инструмент. Ведь они некоторое время поддерживали это предприятие, отдавали ему свою силу. Оно живет и теми, кто еще не родился; не появись они на свет, оно вынуждено было бы прекратить свое существование. Наконец, ваше предприятие живет городом, который поставляет ему людей и пищу для них; высшей школой, чьи изобретения оно осуществляет, даже теми, кто раньше поверили в него и были им обмануты. Вот вам пример: у моего отца были акции, а Геслинг присвоил их.
Бальрих и Бук шли в глубоком раздумье до самого озера в «рабочем» лесу. Когда они остановились и стали глядеть на воду, Бальрих сказал:
— Неужели это так? Тогда этого недостаточно. Только на предприятиях, раскинутых по всей стране, по всей земле, могла бы осуществляться справедливость, только это дало бы нам всеобщий мир! Тогда претворилась бы в жизнь та клятва, которую представители рабочих всех стран недавно дали на Базельском конгрессе[3]. Они заявили, что рабочие уже не бараны, которых гонят на убой, и не покорное орудие в руках поджигателей войны. Неужели это верно? — вопрошал он настойчиво.
— Только тогда, — продолжал Бук, — все будут стоять друг за друга и никто не окажется одинок в борьбе. Ведь мы же в конечном счете все равны.
Они обошли озеро; даже оно казалось чистым и прозрачным в сиянии весеннего утра. Вернувшись на прежнее место, Бальрих сказал:
— Прогулка с вами, доктор, не только поучительна, но это честь для меня…
Бук молча взял его под руку, оперся на него, и они пустились в обратный путь. После глубокого раздумья Бальрих сказал:
— Если буржуазия все это понимает, то какой же преступник Геслинг.
Бук покачал головой:
— Человеку очень трудно признать что-либо противоречащее его интересам.
— Я все же не совсем понимаю вас, — скромно возразил рабочий. — Вы имеет в виду меня? Впрочем, вы можете разуметь и тех господ. Он указал на виллу Клинкорума.
Перед виллой учителя, повернувшись к ним спиной, прохаживался сам хозяин в обществе доктора Гейтейфеля и Циллиха: он оживленно жестикулировал. Бук тотчас выпустил руку Бальриха и пошел вперед. Бальрих остался позади с чувством глубокой горечи, словно его предали. Он остановился и решил было повернуть обратно, как вдруг услышал голос Клинкорума.
— Вот он! — воскликнул учитель. — Подойдите-ка сюда, молодой человек! Мы тут как раз обсуждаем ваше дело. Намерены ли вы продолжать свое восхождение по лестнице, ведущей в храм посвященных, или одним махом низвергнуться в прежнее ничто?
Бук решил, судя по этой напыщенной и загадочной сентенции, что, должно быть, до их прихода произошло тут нечто чрезвычайно важное. Тут Клинкорум умолк, точно не находил слов, чтобы продолжать свою речь, а Гейтейфель только подтвердил подозрения Бука, дав по этому поводу исчерпывающий ответ. Да, произошло, во-первых, то, что постройка еще одного корпуса, который должен был замкнуть полукруг позади виллы учителя, началась, и, во-вторых, Клинкоруму — этой жертве капитала дирекция Гаузенфельда предъявила требование…
— Неслыханное требование! — подхватил Клинкорум.
— Прекратить занятия по гимназическому курсу с одним из фабричных рабочих! — вот что произошло.
— Чего же еще ждать от них? — возмущенно осведомился Гейтейфель, в то время как консисторский советник только свистнул.
Бук не преминул выразить учителю свое сочувствие:
— Как раз на этого ученика вы возлагали свои лучшие надежды.
Клинкорум помедлил с ответом. Однако ему было сейчас не до сантиментов, и он вспылил:
— Ничего подобного! Он очень туго соображает! Своим нелепым зазнайством он только затрудняет учителю его задачу.
— Но именно потому вы сочли это делом чести и хотите быть учителем рабочего, который покажет когда-нибудь, на что способна человеческая воля…
— Но притом я вовсе не хочу лишиться заработка, — добавил Клинкорум.
— Это ваше святое право, — подтвердили Циллих и Гейтейфель.
— Геслинг обесценил мой дом! Мало того, совершая грубейшее насилие над моей личностью, этот деспот еще дерзко посягает на мою профессию, запрещая мне преподавать. Но я буду отомщен. Вы, господа, будьте свидетелями. Я давно уже это предсказывал: мститель не за горами…
— Но его еще не видно… — вздохнули свидетели.
— Нет, еще не видно, — подтвердил Клинкорум, глядя куда-то мимо Бальриха. Потом снова пустился в пророчества: — Настанет день, да, настанет, господа, когда вилла «Вершина» содрогнется от топота народных масс. Они будут угрожать ей своим зачумленным дыханьем, своей местью. Мало того, они сровняют ее с землей.
От такой перспективы оба друга, казалось, преисполнились живейшей радостью. Однако рабочий продолжал с изумлением следить за разговором… Клинкорум же, спустившись с вершин своего пафоса, спокойно пояснил:
— Если бы Геслинг отказался от постройки этого разбойничьего вертепа, я, быть может, и перестал бы учить его рабочего.
— Что ж, выгода важнее всего, — сказал Бук, глядя вслед Бальриху, который молча повернулся и пошел прочь. Остальные в пылу спора даже не заметили его отсутствия.
— Пусть он купит у вас участок! — посоветовал доктор Гейтейфель.
— И притом за двойную цену, — добавил Циллих.
— А не то вы взбунтуете против него весь Гаузенфельд.
«Как могут эти люди так обманывать себя», — размышлял, удаляясь, рабочий Бальрих.
Обдумывая положение этих господ, он решил, что хоть оно и лучше положения людей его класса, зато унизительнее. Эти интеллигенты, как дети, задирают нос перед теми, кто еще беднее их, и, несмотря на то, что у самих гроши, пользуются своей ученостью и черным сюртуком, чтобы похорохориться перед богачами. Взбунтуются и тут же пресмыкаются при виде золотого тельца; как союзники они безнадежны, потому что располагают некоторыми благами, недоступными нам.
Да, говорил себе рабочий, всякий, кто имеет хоть какие-нибудь преимущества перед нами, тем самым участвует в заговоре против нас. Между теми, кто владеет хоть чем-нибудь, и нами, у кого ничего нет, лежит такая же пропасть, как между рабочими и богачами. Вся буржуазия, до беднейших ее слоев — это мир, отрезанный от нас, оттуда доносятся к нам лишь слабые отзвуки, а от нас туда — ничего, решительно ничего.
Он думал: «Каждый рабочий слышал уже мою историю. Ведь Динкли наверняка не смогли удержать язык за зубами, но Клинкоруму ее никто не расскажет. Каждый тряпичник знает, что Гаузенфельд на самом деле наш и должен достаться нам. Только эти трое торгашей там, позади меня…» Бальрих даже плюнул при мысли о такой тупости и глупости; они хватаются за свои акции и не видят, как почва ускользает у них из-под ног.
Перед закусочной стоял оглушительный шум: рабочие играли в кегли. Когда Бальрих проходил мимо, они притихли.
Он вошел в закусочную и сел на скамью между двумя рабочими. Один чуть отодвинулся, а на лице сидевшего напротив Бальрих прочел явную враждебность. Они не доверяли ему, он стал как те, другие; а тем нельзя было доверять. Товарищи были правы. Чтобы расположить их к себе, он старался держаться как можно скромнее. Но вот вошел Гербесдерфер, почтительно посмотрел на него сквозь круглые очки и вдруг так поспешно сорвал шапку с головы, что она упала на пол. Бальрих мгновенно вскочил и, опередив Гербесдерфера, поднял ее. Когда он снова сел за стол, его сосед опустил ему руку на плечо и сказал:
— Я все знаю.
«Я знаю, ты наш, ради нас ты разучился смеяться и веселиться с нами, и жизнь твоя труднее и горше нашей», — казалось, говорил он.
Выходя из трактира, Бальрих столкнулся в дверях с Симоном Яунером.
Тот протянул ему правую руку, а левой сделал жест, словно заверяя его в чем-то, быть может, в том, что умеет молчать. Еще бы ему не молчать, когда каждый уже успел его предупредить: если господа узнают про замыслы Бальриха, Яунеру не миновать ножа — и он это знал. Поэтому никто не стеснялся в его присутствии. Динкль принялся за свои обычные шутки, именуя старого Геллерта «господин главный директор». Это и было и уже не было шуткой. Все заржали, Геллерт тоже; он перестал чувствовать в этом издевку, шутка скорее льстила ему.
Бальрих собирался было уйти к себе, к своим книгам, но какая-то женщина остановила его. Ее муж пьет, и она просила Бальриха помочь ей. Женщина так же смиренно склонила перед ним голову, как и его сестра Малли.
Старики, гревшиеся на солнце, оборачивались, когда он проходил, они изумленно смотрели на него и молчали особенно многозначительно. Дети, все племя детей, неизменно толпились там, где он проходил, и потом разбегались, вздымая густое облако пыли на его пути.
«Мы все заодно, — думал радостно окрыленный Бальрих. — Хоть враги и в заговоре против нас, это уже не спасет их, да и заговор этот не так уж страшен».
Кроме того, они ничего не знали. Ни один шпион ничего не донес им, они блуждают в потемках, терзаемые любопытством.
И на фабрике ощущалась их тревога. Все, вплоть до инспекторов, были свои и только усмехались в ответ на попытку кого-либо «оттуда» пронюхать, в чем дело. Но любопытных спроваживали, не дав им рта раскрыть, ибо никогда еще люди не работали с таким усердием. Ведь каждый знал: это для нас. Товар этот уже для нас, машины наши, и доказательство тому у Бальриха. И всех охватывает ни с чем не сравнимая радость в тот день, когда главный директор вместе со старшим инспектором важно шествует через цеха. Все понимают: страшно. А дойдя до котла с жерновами, где стоит Гербесдерфер, Геслинг, глядя на него в упор, отступает и идет в обход. Внезапно позеленев, он думает о том, как легко ему, Геслингу, очутиться между жерновами — достаточно одному из этих людей толкнуть его… Страх, всю жизнь терзавший рабочего Гербесдерфера, охватывает и хозяина.
Тут он увидел Бальриха, — все взоры были обращены на директора, и Геслинг почувствовал свою гибель. Он не спускал глаз с Бальриха, и все стали смотреть на рабочего. Вон тот человек, с черными бровями, тот, с широким лбом, богатырскими плечами и вихром на лбу — я у него в руках, он сильнее меня, он уничтожит меня и восстановит справедливость. Рабочие переглядываются. До него дошло! Как он дрожит!
А Бальрих стоит, крепко упершись ногами в землю, и поджидает капиталиста, с его брюхом, с его белесыми волосами, с его массивным, жестким лицом, стоит, как всегда, исполненный сознания, что все зло на свете творится по воле этого эксплуататора… Геслинг, поравнявшись с ним, останавливается, его нога на миг повисает в воздухе, на один миг, но смертельные враги уже успели помериться силой. Главный директор тут же надменно откидывает голову, а рабочий прикладывает руку к козырьку.
На дворе Геслинг, склонившись к уху старшего инспектора, спрашивает, не знает ли он, кто из этих людей обучался латыни у Клинкорума.
— Этот самый, — отвечает старший инспектор.
IV. Моральные факторы
В последующие дни люди то и дело видели Геслинга в его машине. Она мчалась в город, и не было, кажется, такого учреждения, перед которым бы она не останавливалась; а когда трогалась, рядом с Геслингом уже восседал какой-нибудь военный либо видный член правительства. Зачастую главный директор не возвращался даже вечером. Однажды утром, когда доктор Гейтейфель и его шурин Циллих проходили мимо отеля «Рейхсгоф», они увидели, как из него вышел Геслинг — подтянутый, свежий и, видимо, отлично выспавшийся. Он даже заговорил с ними. Очень важное по своим последствиям совещание задержало его здесь, пояснил Геслинг. Кроме того, с машиной случилась авария…
— И так далее, — закончил Гейтейфель, но директор сверкнул глазами:
— Что это значит? Вы не верите мне? Никакие слухи и грязные намеки меня не трогают. Я спокойно провожу время на вилле «Вершина».
А Гейтейфель добавил:
— Вдали от мира, как властелин, и, надо полагать, с личной охраной?
— Я иду своей дорогой, и пассивным сопротивлением меня не возьмешь! — отвечал Геслинг, возмущенный, уже не владея собой.
«Имеет ли он в виду настроение своих рабочих? — подумал Циллих. — В таком случае с фактами не поспоришь».
— В последний раз, когда я был у Клинкорума, они так на меня воззрились, что я усомнился, выйду ли оттуда живым.
И тут оба интеллигента злорадно отметили про себя, как побелело властное лицо главного директора.
— Я ничего не знаю, — пробормотал он. — Неизвестно, чего они хотят. Вот что самое неприятное.
Циллих и Гейтейфель с лицемерным участием принялись давать ему советы. Взять хотя бы историю с электричкой, говорили они. Теперь ясно, какую непоправимую ошибку он допустил, помешав провести ее в Гаузенфельд. Ведь Гаузенфельд — это человеческий муравейник, отрезанный от мира, люди варятся в своем соку, поэтому он и превратился в разбойничий притон.
Разбойничий притон? Геслинг решительно отверг такое сравнение.
— Нет уж, извините. Моих рабочих я крепко держу в руках, им известны не только методы моего руководства, моя неумолимая строгость, но и то, что я для них второй отец. Сейчас, кстати сказать, я еду на фабрику. Если вы, господа, хотите меня сопровождать, я буду только рад, вы убедитесь воочию, что я прав, и сами при случае сможете опровергнуть злонамеренную клевету.
Господа охотно согласились поехать с ним, но у виллы Клинкорума попросили остановить машину: им не терпелось поделиться с учителем своими наблюдениями.
Клинкорум торжествовал.
— Значит, не только меня, но и его, прямого виновника, уже захлестывают мутные волны, поднявшиеся из этой долины. Даже к его вилле подступают они и скоро поглотят Геслинга вместе со всем его выводком. Мы погибнем все вместе! — И Клинкорум высокомерно рассмеялся, так что под складками зеленого халата заколыхалось его выпуклое брюхо, а рот, окруженный прядями жидкой бороденки, открылся, обнажив длинные клыки.
Однако Геслинг отнюдь не стремился на фабрику, где подстерегавшая его тайна могла в любую минуту прорваться наружу, подобно назревшему нарыву. Он опять помчался на машине в Нетциг и, возвратясь к полудню, привез с собой генерала фон Поппа. Еще до завтрака эти господа успели осмотреть окружавшие виллу «Вершина» лес и парк. Его превосходительство фон Попп изволил заметить:
— Благодарю вас, господин тайный советник. Мои диспозиции намечены.
Вслед за этим хозяин дома повел генерала завтракать — через террасу, увитую розами, которые чуть покачивал ветерок, через сверкавшую позолотой галерею, в обтянутый белым атласом зал в стиле барокко.
Во время завтрака генерал фон Попп избегал деловых разговоров, беседа велась чисто светская. Позднее, сидя за чашкой кофе, в раззолоченной галерее, он спросил:
— Скажите, бога ради, что у вас стряслось?
Все молчали. Геслинг шумно вздохнул и, собравшись с силами, начал:
— Ничего. В сущности ничего. Ни саботажа, ни покушения, ни попытки к ограблению, ничего. Моя власть здесь по-прежнему неприкосновенна, да я и не допустил бы никакого покушения на нее, но, — закончил он нерешительно, — здесь чувствуется какой-то нездоровый дух…
Фон Попп раздраженно ввернул:
— Ну, против духов я не могу выслать солдат.
Однако племянница генерала, разведенная госпожа фон Анклам, заинтересованно посмотрела на Геслинга.
Директор убедительно попросил генерала не придавать его словам ложный смысл:
— Мятежники действуют новыми способами, они не выступают открыто, а лишь шушукаются и многозначительно переглядываются, будто им известно что-то, чего мы не знаем.
— Что это, новый вид религиозного психоза? — осведомился адвокат Бук.
Ганс подмигнул ему из-за спины дяди. Но Геслинг после некоторого раздумья проговорил:
— Как знать, у них есть своего рода вождь, которого я считаю настоящим гипнотизером.
— Как интересно! — протянула госпожа фон Анклам, поднеся к глазам лорнет.
Но Горст Геслинг, сидевший рядом с ней, убеждал ее не обольщаться иллюзиями. Ведь этот вождь прежде всего не джентльмен. Зато сестра его совсем другая — в ней чувствуется порода, — добавил он вызывающе. При этих словах госпожа фон Анклам возмущенно отвернулась.
А генерал фон Попп, весь побагровев, рявкнул:
— Вышвырните его — и баста!
Но промышленник поглядел на генерала, словно перед ним был невинный младенец.
— Да, будь это все так просто!
Вдруг на лице его появилось такое выражение, словно за спиной генерала он увидел кого-то.
— Что он затеял? — пробормотал Геслинг, заметно бледнея. — Я готов встретиться лицом к лицу с опасностью, но я должен знать, где она.
Все были подавлены, но тут же с облегчением вздохнули, когда генерал снова рявкнул:
— Пусть только выступят! Мы им покажем, в чьих руках власть!
Асессор Клоцше, ухаживавший в уголке за Гретхен, дочерью хозяина дома, высунул руку из-за ее спины и поднял кверху, словно для присяги.
— Пусть только посмеют!.. — прохрипел он, грозно выкатив глаза, и, доказав этим свою решимость, возвратился к прежнему занятию.
Сыновья Горст и Крафт, утонувшие в креслах, так что торчали только их ноги в крагах, высказались категорически «за вскрытие нарыва».
Фрау Густа, гордясь храбростью своих сыновей, а еще больше тем, что разведенная госпожа фон Анклам столь поощрительно им улыбалась, села так, чтобы отгородить их от генерала и своего мужа Дидериха и таким образом не мешать начавшемуся флирту. Анкламша чем-то походила на еврейку, но ведь она была племянницей его превосходительства, и поэтому такое сходство можно было объяснить, несомненно, лишь игрой природы.
Свой выбор госпожа фон Анклам остановила на Горсте, а не на Крафте, любимце матери. Крафт примирился с этим, — женщины его не интересовали. «Он принадлежит мне одной», — думала мать.
Между тем мысли Эмми, матери юного Ганса Бука, были заняты одним: как бы удалить сына из комнаты. Она слишком хорошо знала его и знала, что он заходит дальше, чем его отец, в отрицании своего класса, своих привилегий. Но что это с ее мужем? Он опять возражает генералу, побагровел не только он, но и Геслинг. «Мой брат Дидель, — размышляла Эмми, — очерствел. Я помню время, когда он был совсем другим. Теперь его видят только суровым, поэтому он думает, что и должен быть таким. И я знаю, — продолжала сестра свои размышления, — Дидель и муж мой уже никогда не сговорятся. Если бы только Дидерих позволил, Бук выложил бы им здесь всю правду. Ведь это же страсть Вольфганга — выкладывать правду, — рассуждала его супруга. — А потом он все-таки смиряется, даже если не согласен с чем-то, и плывет по течению. Когда-то ему, должно быть, солоно пришлось. Где же теперь найти силы и бороться, чтобы не страдали другие?»
Но Ганс!..
«Мой Ганс, — с горечью думала мать, — я трепещу за него. Пока он только в душе стоит за правду, но я предчувствую, что он захочет и на деле бороться за нее. А разве это возможно? Или мне надо желать, чтобы он стал другим, мой Ганс?»
Тут она почувствовала на себе неодобрительный взгляд своей невестки Густы. Та никогда не сомневалась в своих сыновьях, а ведь они были похуже отца. «Мой сын лучше, и все же мне приходится сомневаться. Да, жизнь сложна и запутанна», — говорила себе Эмми Бук.
А на террасе, увитой розами, у Гретхен возник спор с братьями и с Клоцше, которому надо было уходить. Худосочная, скрытная Гретхен стояла за рабочих, и возможную забастовку она даже одобряла. Но почему именно. — этого никто не мог понять. Что бы ни говорил ее нареченный Клоцше, она неизменно отвечала:
— Да ну тебя, пузан!
Наконец брат Гретхен Крафт не выдержал и открыл ее тайну.
— Эх ты, дурочка! Во всем виноват театр! Она видела на сцене забастовку, а главаря ее играл Штольценек. Понимаешь, Клоцше? Леон Штольценек — первый любовник.
Горст незаметно толкнул Крафта в бок, однако асессор спокойно отнесся к его заявлению.
— Пустяки, — добродушно пробурчал он, — театр — это совсем другое. Я там тоже аплодировал вместе со всеми.
Когда машина умчала генерала и асессора, Геслинг, оставшись в раззолоченной галерее, накинулся на зятя.
— Я очень обязан тебе за то, что ты расхолаживаешь моего генерала. Он совсем раскис. Если он не при шлет мне солдат, нам на крайний случай останется еще твоя болтовня.
Бук возразил, что слово всегда недооценивают, точно так же как недооценивают моральные факторы.
— Разве я аморален? — гневно спросил Геслинг.
— Средства, какими ты удерживаешь власть, — продолжал Бук, — те же, какими хвалятся и бунтовщики. А другие, которых они не знают, тебе так же чужды, как и им. Вы стоите друг друга! — мягко закончил Бук.
Геслинг пришел в ярость.
— Я знаю только свои права. Если рабочие выступят, в них будут стрелять. Окольные пути претят моей прямой натуре.
— Твоей прямой натуре! — повторил Бук.
— И твоей, надеюсь! — Глаза Дидериха метали молнии. — Учить одного из моих собственных рабочих латыни — это предательство, это поощрение крамольных идей! Я этого учителю Клинкоруму никогда не прощу. Но еще беспощаднее я отнесся бы к тому, кто ему платит за это.
Бук покачал головой.
— Поверь, он делает это безвозмездно, из чисто научного интереса.
— Пустая отговорка. Так может сказать каждый. И твой сын, одалживая Бальриху свои учебники, будет ссылаться на науку. Ганса теперь с ним водой не разольешь.
Бук отступил и уже робко, без иронии, сказал:
— Ганс? Но он ведь ребенок, не правда ли? В его возрасте дружат, не считаясь с рангами…
Ганс, притаившийся за камышовой кушеткой с горой подушек, все это слышал. Он закрыл лицо руками. Отец отрекается от него. Отец лжет. Папа и он, Ганс, — оба вынуждены лгать дяде Геслингу… Он тихонько выполз из-за кушетки, прячась под гирляндами роз, и ускользнул с террасы. «Разве кто-нибудь может принудить нас лгать? Я ненавижу этого человека и буду ненавидеть вечно, клянусь!» При этом он отлично понимал, что и сам уже лгал не раз и что такова жизнь.
А с террасы все еще доносился крик Геслинга.
— Я должен верить всему, что мне говорят, и все говорят одно и то же, точно лжесвидетели. Что же я — к разбойникам попал?
— Ты болен, — мягко сказал Бук.
Но шурин уже вопил срывающимся голосом:
— Горе вам, если я вас поймаю!
И, повернувшись на каблуках, покинул террасу.
В саду у «лубяной беседки» Геслинг увидел сыновей. Над окнами, обложенными корой, Горст и Крафт развешивали белые черепа животных.
— Что это значит? — спросил отец.
— Это принесенные в жертву богу Одину[4] черепа священных лошадей, — пояснил Горст, и пустил слезу из-под монокля.
Малыши Ральф и Фрицгейнц, смотревшие, как работают старшие братья, тоже дали свои объяснения.
— Это телячьи головы, папа, они остались от обеда.
Крафт, долговязый, сутулый, с синевой под глазами, сказал, растягивая слова и заикаясь:
— Вот здесь самое подходящее место для пулеметов.
Геслинг опешил!
— Ну, до этого дело еще не дошло. — Затем добавил: — На вилле «Вершина» мы полные хозяева. До солдатских казарм все же два часа ходу. — Он взял за руку старшего сына. — Твоя мать уверена, что все должно идти как по маслу, потому что это мы, Геслинги. Внуши хоть ты ей, что весенний месяц можно провести очень хорошо и отправившись в путешествие.
— И поехать в Монте[5]? — насторожился Горст.
Вечером сыновья пришли за отцом, чтобы вместе совершить обычный обход. При этом они отрапортовали ему: «Явился в ваше распоряжение» — и во время обхода держались по-военному. Вдруг из темноты раздался выстрел. Директор отпрянул и пошатнулся, как будто пуля попала в него.
— Это он, — простонал Геслинг. — Я вижу его.
Горст и Крафт схватились за револьверы; но оказалось, что никто не стрелял. Это Ганс Бук просто щелкнул языком.
Главный директор от страха решил уже прибегнуть к «моральным факторам», о которых недавно упоминал его зять Бук. Не начать ли с них, прежде чем прибегнуть к крайним мерам?
Поэтому он спросил Циллиха о священнике из Бейтендорфа. Однако консисторский советник заявил, что давно порвал с этим вольнодумцем, который держится только благодаря светским властям и их полнейшему равнодушию к делам религии. При этом Циллих ткнул фабриканта пальцем в грудь.
«Но и от тебя мало толку», — подумал Геслинг.
Священник Лейдиц из Бейтендорфа не только враждовал с синодом, — не было двора в его приходе, где бы он не был должен; на сей раз этот всеми гонимый муж уже что-то пронюхал: в своей воскресной проповеди он, обращаясь к рабочим, затронул некий весьма жгучий вопрос, после чего тот стал еще более жгучим. Ибо Лейдиц подобрал из священного писания все, что только можно было там найти по части поощрения, увы, мятежных настроений.
В результате в следующее воскресенье Геслинг решил лично все проверить, отправился в церковь и убедился в том, что рабочим остается только звонить в набат, призывая к восстанию.
Директор исчез, не дождавшись конца проповеди. А потом оказалось, что его машина дожидается на улице, и директора в ней нет. Куда же мог он исчезнуть?
Еще через неделю в воскресный день не только жены и старики, все мужчины Гаузенфельда повалили в храм. Что бы это значило? Но священник пошел на попятную, он уже не приводил тех страниц из писания, которые прежде закладывал пальцем, он нашел другие. И они как бы сами раскрывались перед ним, избитые, постылые; их слушали с раздражением.
— Знаем! Все это давно известно, — роптали мужчины и, не дождавшись конца церковной службы, разошлись по домам.
А священник с осунувшимся вдруг лицом спрятался за книгой… Однако не прошло и месяца, как все долги его были уплачены.
Теперь наступил черед Наполеона Фишера. «Их избраннику, — размышлял Геслинг, — надо полагать, удастся их образумить. Этот старый честный бунтарь знает, что за мной не пропадет».
Наконец прибыл член рейхстага. Главный директор встретил его на вокзале и, прежде чем кто-либо успел заговорить с ним, увел в пустой зал ожидания. Здесь депутат спросил:
— Что это вы опять затеваете против нас, господин доктор?
— Вы нужны мне, Фишер. Мы с вами уже не раз хоронили концы.
— Да, в былые времена я как-то напомнил вам об этом, но вы рассердились, оттого что тогда я был всего-навсего вашим механиком. Вечно вы стояли перед банкротством и спекулировали на мне, пролетарие! Эх, молодость, молодость!
И оба стареющих дельца внимательно посмотрели друг на друга. Наполеон Фишер, со своей седой гривой мятежника и лицом, изнуренным постоянными воплями и проклятиями, — Фишер, которого даже враждебная пресса называла вечно юным энтузиастом, ядовито поглядывал на Геслинга. А Дидерих Геслинг — широкий в кости, лицо жесткое, волосы жидкие, под глазами мешки — только сопел в ответ.
Затем депутат созвал собрание в комнате позади закусочной. Один из представителей фабричной администрации пытался помешать этому, но ему пришлось отступить перед напористостью испытанного вождя. Рабочие недоверчиво рассматривали почти новый коричневый костюм Наполеона Фишера. Но брюки не были отутюжены, а пиджак застегнут неправильно, поэтому костюм они ему простили.
Фишер подкреплял свою речь и жестами длинных рук, и открывавшей зубы обезьяньей улыбкой, и взмахами, седой бунтарской гривы. Накричавшись до хрипоты, он, чтобы поберечь свою «бедную глотку», перешел вдруг на более спокойный тон. Но потом загремел снова: военный налог — это ничем не оправданный вызов пролетариату; его последствия капитал еще почувствует — удар кулаком. Русских методов мы не потерпим: погромы, надругательства над культурой… нет! Если уж на то пошло — он, Фишер, сам еще возьмет в свои старые руки винтовку!
Ну, а потом, как водится, личный контакт и разговоры по душам с сидящими в закусочной; член рейхстага попросту переходит от столика к столику, и под конец, в кругу рабочих, Фишер кажется таким простым, даже потел он, как все.
— Ну, ребята, выкладывайте, какую каверзу опять вам подстроил мой старый эксплуататор, сидя там наверху в своем княжеском замке?
— Да еще в своем ли? — пробурчал старик Геллерт, но его тут же толкнули в бок, и он притих.
— Я-то не знаю даже, какой такой у него замок, да и знать не хочу. Бордели господ эксплуататоров меня не интересуют. Я видел эти замки разве что в «Неделе»!.. — заверил Наполеон Фишер рабочих, хотя сам давным-давно писал в газетах, в том числе и в этой, и также ясно и понятно, как всякий другой. — Он, конечно, желает, чтоб я явился к нему! — Удар кулаком. — Но мы в Каноссу не пойдем. Пусть сам найдет ко мне дорогу. Сейчас я ему нужен. Да, нужен, смею вас уверить, товарищи!
Но так как эффект, вызванный его словами, показался ему недостаточно сильным, он еще поклялся: да разрази его гром, если он хоть шаг сделает по дороге на виллу.
Рабочие молча слушали. Ну да, конечно, на виллу он верней всего не пойдет. Но из этого вовсе не следует, что он не встретится с Геслингом еще где-нибудь, ну хотя бы у президента.
— Итак, ребята, — повторил Фишер. — Геслинг, конечно, начнет переговоры, и тогда он будет у меня в руках, это вы знаете из опыта. Ну, скажите сами, товарищи, чего бы вы без меня добились?
Они молчали: пусть сам себе отвечает. Гербесдерфер угрюмо спросил:
— Чего же это мы добились?
Но тут депутат неожиданно вскочил со скамьи и устремился навстречу старику; тот робко вошел, держа в руке жестяную миску, в надежде, что и ему перепадет кусочек. — Папаша Динкль! Старый товарищ по классовой борьбе! — воскликнул Фишер и ткнул нищего в пустой живот.
— Что было бы с ним, если бы у нас не было сегодня страховки для стариков и инвалидов, а это мы вместе с ним ее добились! — Депутат взял Динкля под руку и стал рядом с ним.
— Взгляните на нас, старых друзей! Что он, что я — никакой разницы! Ведь я тоже работал простым механиком у Геслинга… Так же как вы избрали меня, вы можете завтра избрать папашу Динкля. Что знает о ваших нуждах и горестях какой-нибудь пришлый ученый, который кутит с капиталистами! Но я, товарищи, считаю, что если наступило то время, когда Геслинг, позеленев от злости, вынужден идти ко мне для переговоров, — это уже победа пролетариата!
Теперь слова Фишера возымели свое действие, рабочие закричали «браво!» и «правильно!».
После этого депутат предоставил старого Динкля самому себе и заговорил снова:
— Так в чем же дело? Может быть, он чинит препятствия с открытием библиотеки? Или не построил для вас обещанных умывальников? Есть и умывальники и библиотека? Ну, тогда все в порядке. А в городскую биржу по найму рабочих я введу еще одного товарища.
Опять молчание. Только Динкль-сын сказал:
— А вы не знаете такой биржи, чтобы мне можно было больше не работать?
Тут Наполеон Фишер почувствовал себя задетым.
— Что за шутки! — сказал он строго и встал. — Предлагаю вынести порицание товарищу Динклю за его неуместную выходку.
Его не поддержали. Кто-то даже крикнул:
— Слышали мы всю эту премудрость, треплется в точности как пастор Лейдиц.
Депутат окинул взглядом присутствующих: у всех лица были хмурые и насмешливые. Тогда он стал еще торопливее допытываться. «Что вы задумали? Бастовать?» — обращался он то к одному, то к другому, но только к тем, кто сидел поближе к двери. Карл Бальрих громко заявил:
— Бастовать? Нет, поостережемся!
Его слова были встречены гулом одобрения, рабочие поняли Бальриха: на предприятии, которое принадлежит нам по праву, бастовать незачем. Депутат, однако, по-своему истолковал заявление Бальриха.
— Вот разумное слово, товарищи. Забастовки стоят партии только лишних денег. А деньги партии, чьи они? Это же ваши собственные деньги, товарищи!
Он отошел к двери и снова торжественно изрек:
— Здесь, я вижу, царит здоровый дух, здесь люди знают, ради чего трудятся. Поэтому я хочу на прощанье открыть вам, товарищи, каких выгод мы с вами добьемся во время закулисных переговоров о военном бюджете. Мы выторгуем повышение заработной платы на два процента, товарищи! За это я ручаюсь вам головой! Голосуем за военный бюджет, но вы получаете два процента. Да здравствует интернациональная революционная социал-демократия!
Уверенный в поддержке, он выбежал из закусочной. К своему изумлению, Фишер не услышал ни звука за спиной, и никто не позвал его обратно. Постоял в темноте, прислушиваясь, потом задворками выбрался в поле. У изгороди, отделявшей «господский» лес от «рабочего», он подошел к Дидериху Геслингу, уже поджидавшему его, и сказал:
— Пустяки. Бастовать они не собираются. Они хотят получить два процента надбавки, только и всего. И вы меня не разубедите, господин доктор, ибо я вам говорю правду. Да, я остался верен своему классовому сознанию, если даже у меня и завелись небольшие средства. Меня капитализм не уловит в свои сети. И я не предам своих товарищей за презренный металл, да будет это вам известно!
— Не кричите так! — остановил его Геслинг. — Вы же знаете своих людей; разве вы уверены, что тут в темноте никто не притаился?
Геслинг с трудом перелез через забор. «Товарищ» Фишер подсадил его. И вот уже главный директор и член рейхстага ощупью пробираются через «рабочий» лес.
— Эти ваши два процента, — сказал капиталист, — просто курам на смех. Я хочу знать, что замышляет Бальрих.
— Он — самый благоразумный из них. Он против забастовки.
— Значит, дело обстоит хуже, чем я думал, и тут что-то кроется, — пробормотал Геслинг.
Наполеон Фишер был озадачен.
— А что тут может произойти? Разве у Бальриха есть власть? Я признаю только одно: либо у него есть власть, либо ее нет, а все остальное — вздор.
Наполеон снова начал витийствовать.
— Кроме всего прочего, идет дождь, — прервал его Геслинг. — Пойдемте-ка быстрее и помалкивайте, покуда я не позволю вам говорить.
Когда они очутились в вагоне, стоявшем среди полей, Наполеон Фишер, с позволения Геслинга, снова дал волю своему языку. На грязном тряпье они сидели бок о бок — два политических противника — и шептались подобно тем бездомным влюбленным, которые находили здесь приют. И так же как некогда Бальриха с Тильдой, их вспугнули громовые удары в стенку вагона, и так же выползли они наружу, освещенные фонарем смотрителя, который сейчас же удрал. Да и они поспешно скрылись в сырой тьме ночи.
Едва Бальрих успел выйти из цеха после окончания смены, как к нему подошел товарищ Фишер и начал расхваливать его за благоразумие и усердие в труде. Если он, Фишер, когда-нибудь отойдет от всех этих грязных дел, то есть от политической жизни, кто знает, не обратит ли партия свои взоры на одного товарища, который собственными силами старается, подобно ему, Фишеру, из простого рабочего стать образованным человеком.
— Ведь это, вероятно, и есть ваша цель, к которой вы втайне стремитесь? — с тревогой закончил депутат.
— А вам это обязательно надо знать? — спросил Бальрих.
— Мне ничего не надо знать, — наставительно ответил старший. — Одиночка ничего не знает и ничего не может, хотя бы у него была на плечах, как у меня, голова вечно юного энтузиаста. Но и великое и малое совершается по непреложным научным законам, на которые опирается наша партия.
— Опирается, — повторил Бальрих.
— Все идет своим историческим путем, — снова подтвердил многоопытный политик. — Делать ничего не надо. Капитализм сам себя изживает.
— На наших спинах, — заметил Бальрих.
— А когда он изживет себя, мы будем его наследниками.
— Мы должны на деле доказать свое право быть ими, — сказал Бальрих с нажимом.
— И как же вы это намерены сделать?
Бальрих посмотрел на него, подметил его злобный взгляд и растерянное, настороженное лицо.
— Вас это интересует? — спросил рабочий.
— В моей искренности, товарищ, вы надеюсь, не сомневаетесь, — отозвался Фишер.
— Нет, товарищ. — В голосе Бальриха звучала холодная ярость.
Член рейхстага струсил.
— Только без насилия, — торопливо пробормотал он. — Забастовки и прочие насильственные меры прежде всего бьют по нам самим. При этом Фишер подумал о своих гаузенфельдских акциях.
Рабочий, раскусив своего спутника, уже не слушал его жалкий лепет; казалось, он говорил самому себе:
«Мы должны дерзать и должны верить в себя и в других. Ведь и у нас есть душа! Мы знаем, что такое добро, мы все же — люди. Одним этим мы уже сильнее денег».
Старый политикан искоса поглядел на него, насмешливо прищурив желтоватые глаза. Потом вздохнул — в нем возникли смутные воспоминания о былой юношеской роскоши чувств. Да, ему тогда казалось, что не у него одного, а у всех те же чувства… Вздор, конечно, но все же верилось… Так шел он довольно долго, пристыженный, занятый неясными мыслями о своей отживающей партии и о бесплодно прожитой жизни.
Затем он похлопал молодого человека по плечу и предрек, что, вопреки всему, тот сделает блестящую карьеру. Но, к изумлению депутата, Бальрих оттолкнул его руку и даже прикрикнул на него. Рабочему стало вдруг мучительно стыдно. «Я, кажется, уже слишком начитался книг. Слушаю этого болтуна и сам разглагольствую, точно какой-нибудь буржуй».
— Какое вам дело, — воскликнул он, — до моих планов! Вы только шпионите здесь! Так знайте же, что у нас на уме! — И в приливе ярости добавил: — Все отдаст нам эта банда, а потом каждый пусть хоть собственной бритвой…
Бальрих оглянулся, но депутат исчез… Опомнившись, рабочий направился к фабрике.
Там уже было известно о предстоящем обследовании предприятия санитарной полицией. Многие надеялись, что у Геслинга будут по этому случаю неприятности, и радовались заранее. Действительно, несколько дней спустя, поутру, прибыл медицинский советник и начался осмотр. Оборудованием фабрики он не мог нахвалиться, а умывальниками был более чем восхищен.
— Старшему инспектору господину… простите, как…
— Моя фамилия Ваксмут, господин медицинский советник.
Старшему инспектору Ваксмуту было поручено передать живейшую признательность господину главному директору, который, к сожалению, сейчас занят. Тогда те рабочие, которые были уже готовы торжествовать, уныло переглянулись. Они сразу догадались, в чем дело. Этот чиновник от медицины был заранее готов хвалить умывальники. И Наполеон Фишер, который кичится тем, что комиссия — его заслуга, тоже приложил сюда руку. Умывальниками, которым так обрадовались рабочие, хозяева воспользовались, чтобы отделаться от их требований.
После обследования фабрики дошел черед и до людей. Ведомственное лицо, мужчина исполинского сложения, проследовал вдоль рядов рабочих подобно гигантской статуе некоего доблестного полководца. Порой он останавливался и, подбоченясь, расспрашивал кого-нибудь из них. Тем надлежало перечислить все перенесенные ими болезни, причем советник, казалось, был убежден, что каждый от него что-то утаивает. Впрочем, в некоторых случаях он мог казаться даже приветливым и общительным, например, когда дело дошло до Яунера. Зато Гербесдерфер, стоявший рядом с Бальрихом, внушал ему явное недоверие.
— Снять бинт! — приказал он и, взглянув на его палец, снова властно бросил: — Фамилия?
Старший инспектор назвал фамилию, после чего медицинскому советнику как будто все стало ясно.
— Ну, конечно, мы облепили палец глиной. Народный метод лечения. А в случае заражения — кто оплатит операцию? Знахарь, что ли? И расходы на похороны он тоже возьмет на себя? — Обратившись к старшему инспектору, он пробурчал: — Господин, господин…
— Ваксмут.
— Ваксмут. Покруче с ними, господин Ваксмут, прошу вас, придерживайтесь этого золотого правила. Ведь наш человеческий материал застрахован вдоль и поперек, он не может гибнуть когда ему заблагорассудится.
Медицинский советник хотел было уже проследовать дальше, но вдруг повернулся, как на шарнире.
— Какой у того вон рабочего пристальный взгляд… Вы не заметили?
— Он хороший рабочий, — ответил старший инспектор с удивительным простодушием.
— И вам о нем не известно ничего особенного?
— Он учится.
Тогда медицинский советник кивнул с мрачным удовлетворением:
— Ага! Теперь вы сами убедились, что от моего пытливого взора ничто не ускользнет. — И обратился к рабочему: — Эй, вы, как вас зовут?
Бальрих неторопливо смерил его взглядом. Затем, нажимая на каждое слово, ответил:
— Меня зовут… господин… Бальрих.
— Так, так. Еще чище.
Тут советник подбоченился и уперся ногами в пол, казалось, не собираясь уходить.
— И долго вы уже учитесь?
— Год.
— Наука, очевидно, не пошла вам на пользу. Скажите — вы страдаете раздражительностью?
— Когда меня раздражают, — ответил Бальрих.
— Скажите — не появляется ли у вас, особенно во время занятий, этакое… особенное возбуждение? Так что вы даже сбрасываете одежду?
— Нет, — удивленно ответил Бальрих.
Лицо медицинского советника расплылось, оно прямо-таки засияло от радости.
— Однако вас видели нагишом у окна, под утро, когда двери уже были открыты и люди шли на работу.
Бальрих, застигнутый врасплох, сохранял спокойствие; но в душе у него все кипело. «Когда же это было? Ах, да… верно. Уже рассвело, я лежал на подоконнике и думал. Чистая случайность, я сам уже забыл об этом. Откуда же он знает… Ах, вот откуда! От Геслинга! А тот?..» Бальрих оглянулся. Все взоры товарищей были устремлены в одну сторону, на человека, пытавшегося скрыться в толпе. «Ну, конечно, Яунер, кто же еще?..» И Бальрих сказал резко:
— Может, это было, а может, не было, но в моей комнате я сам себе хозяин, и до шпионов мне дела нет.
Тогда советник, насторожившись, опять спросил:
— Вы, видимо, вообще считаете себя здесь со всеми равным?
— Я заключил добровольный договор, — ответил Бальрих. — И что до меня, я его выполняю.
— А другая сторона?
— Незачем выспрашивать меня, — отрезал Бальрих, осененный внезапной догадкой, и взглянул на советника в упор. — И незачем тут из-за меня разыгрывать комедию.
Медицинский советник заморгал; затем поспешно и даже с некоторым дружелюбием осведомился:
— У вас, верно, много врагов? — И так как Бальрих промолчал, добавил: — Тогда понятно и ваше заявление: «Все должна отдать эта банда, а потом каждый пусть хоть собственной бритвой перережет себе горло».
Бальрих остолбенел. «Все ясно», — подумал он.
Медицинский советник тем временем обратился к старшему инспектору:
— Этот человек сумасшедший. Можете доложить об этом от моего имени господину тайному советнику.
Старший инспектор поклонился, между тем как медицинский советник среди воцарившейся тишины и охватившего всех ужаса, как ни в чем не бывало, даже не понизив голос, продолжал:
— Этот человек страдает манией преследования и все принимает на свой счет. К тому же он зазнался и не желает считаться со здешними условиями. Причины вполне достаточные, чтобы признать его параноиком и посадить под замок.
Услышав ропот, он изумленно оглянулся: у людей были такие лица, что он тут же выпрямился, опустил руки по швам и сбавил тон.
— Согласно закону, — заявил он поспешно, — и существующим медицинским правилам этот рабочий должен быть немедленно направлен в лечебное учреждение.
Ропот нарастал.
— Приступим к осмотру, — продолжал он, силясь не терять выдержки. Подойдя к Бальриху, он ткнул его большим пальцем в глазную впадину и снизу нажал на кость. Палец вонял. Бальрих, у которого от ярости в глазах потемнело, уже поднял было руку, но, сделав над собой отчаянное усилие, тут же опустил ее, холодея от ужаса при мысли о том, что могло произойти.
Между тем советник давал старшему инспектору наставления.
— Пусть он немедленно отправляется в больницу. На врачей мы можем положиться.
Откуда-то донесся голос: «Его отправляют в сумасшедший дом!» Ропот усилился. Медицинский советник вздрогнул, сделал несколько неуверенных шагов, словно дрессированный медведь.
— Я сейчас же позвоню туда, — крикнул он и поспешно вышел. Лишь за дверью он постепенно принял свой обычный вид и стал снова похож на огромную статую доблестного полководца.
А Бальрих ходил среди шумевших, взволнованных рабочих и старался успокоить их.
— Я пойду туда, они ничего не могут сделать со мной. Я вернусь. — Потом распрощался со всеми.
Он шел широким шагом по шоссе и продолжал подбадривать себя. «Как они меня боятся, если хотят таким чудовищным способом сломить мою волю. Они погибли и знают это, иначе они не посмели бы меня тронуть. Слишком многим известно наше дело, оно может попасть в газеты. Сами они сумасшедшие!»
Едва он вошел в город, как внезапная мысль ошеломила его: «Еще недавно я ходил сюда за учебниками. А теперь со всеми полученными знаниями иду в сумасшедший дом». Он почувствовал ледяной озноб, и у него засосало под ложечкой, шаг невольно замедлился, но затем Бальрих пошел еще быстрее и весь потный добежал до больницы.
Минуя дворника, он хотел было войти в одну дверь, но она оказалась запертой, даже ручки у нее не было.
— Туда, надеюсь, вы не хотите попасть, — крикнул дворник и послал его в приемную. Теперь Бальрих шел беспрепятственно по белым длинным коридорам, более широким и чистым, чем в казармах Геслинга.
Санитарки в накрахмаленных чепцах развозили по этажам тележки с пищей. На самом верхнем этаже сидел у стола молодой человек в белом халате, он говорил и записывал одновременно. Рабочий не решился подойти к нему, но молодой человек сам окликнул его.
— Господин Бальрих!
И вот он стоял перед врачом, вертел в руках фуражку и хмурил брови. А молодой блондин внимательно смотрел ему в глаза, внимательно, но не враждебно. И говорил так, словно сам не слышал себя:
— Я вас сразу узнал, получив очень точное описание. Бог знает, почему мне поручили заняться вами. Ну да ладно, — ободряюще закончил он.
У сиделки врач осведомился, есть ли свободная комната.
— Особый случай, — шепнул он проходившему мимо коллеге. Затем, взяв Бальриха под руку, отворил одну из многочисленных дверей, за ней еще одну и, наконец, предложил ему войти. В комнате была койка, батарея парового отопления; распахнутое окно выходило на железные крыши.
— Садитесь, — сказал врач. — Вы знаете, где находитесь?
Бальрих из осторожности проронил:
— В комнате.
— Ну, да, пожалуй, — рассмеялся врач. — Но почему, собственно, вы сюда пришли?
— Потому что какой-то медицинский советник, — сказал Бальрих уже твердо, так как был подготовлен к такому вопросу, — усомнился в том, что я нормален.
— Что еще ничего не доказывает, — добавил молодой врач. — Но почему же вы не садитесь? Пожалуйста, располагайтесь, как вам удобнее. Мы только беседуем с вами. Видите, я даже не записываю того, что вы говорите.
Однако Бальрих чувствовал, что здесь учитывают не только то, что он говорит, но и какой сделает жест, как шагнет, быстрее или медленнее, повысит или понизит голос. Он стоял, не двигаясь.
— Ну так сядемте, что ли? — снова предложил врач.
Бальрих твердой походкой подошел к креслу и присел на ручку.
«Теперь уже все равно», — решил он. Врач, казалось, не следил за ним. Откинув голову, он проговорил, глядя в пространство:
— Вы чувствуете недомогание?.. Нет? Приливы крови или головокружение? Нет?.. Однако вы ведь стояли голый у своего окна, — сказал он внезапно, подчеркивая каждое слово, и, нагнув голову, пристально посмотрел на Бальриха.
Бальрих сидел, словно оцепенев. Значит, все это ловушка? И этот человек только для виду принял мою сторону! Подлая ловушка! В бешенстве, сжав кулаки, он бросился вперед. Но в то же мгновение заметил, что врач потянулся к звонку за спиной, Бальрих почувствовал, что бледнеет — так велика была грозившая ему опасность. И вместо сжатого кулака он только протянул, как бы с мольбой, раскрытую ладонь.
— Все это оттого, — виновато промолвил он, — что медицинский советник уже старался таким же способом раздражать меня. Разве выдержишь, когда каждый бросает тебе в лицо все, что ему нашептали шпионы? У нас есть шпионы, вам это известно?
На лице врача снова появилось добродушное выражение. Он заговорил мягко и успокаивающе, видя, как Бальрих побагровел и с каким волнением он словно выталкивает из себя слова.
— Этого я, разумеется, не могу знать, — сказал врач. — А вам незачем волноваться.
Он уселся поудобнее. Бальрих покорно последовал его примеру.
— Расскажите мне, пожалуйста, — начал врач, — как вы живете в Гаузенфельде.
Рабочий ответил с горечью:
— Отвратительно, нас эксплуатируют. Мы порабощены и как скот согнаны в кучу.
«Вот что они хотят услышать от меня», — вдруг испуганно подумал он и быстро добавил:
— Но ведь это знают все. Я помешан не более, чем другие.
— Готов поверить вам, — просто заметил врач, — а скажите мне, правда ли, что вы имеете влияние на ваших товарищей? — И, заметив недоверчивый взгляд Бальриха, добавил: — Что, впрочем, вполне естественно… У вас больше силы воли, вы доказали это тем, что учитесь… Ведь учение — дело не легкое?
В его словах прозвучало даже участие. Однако рабочий ответил резко, с укором:
— Вам, вероятно, надо признать у меня переутомление! Вы хотите меня поймать?
Молодой блондин еще ближе наклонился к нему.
— Напрасно вы так думаете. Я знаю сам, что значит надорваться на работе. Я понимаю, вы хотите выкарабкаться из нужды.
— Не только я, — заметил Бальрих с внезапным воодушевлением. — Других тоже надо вытащить. Но кто-нибудь должен начать. И это сделаю я.
— Вы чувствуете, что это ваше призвание?
Бальрих ударил себя кулаком в грудь.
— Да, на меня это возложено. Это моя… моя…
— Ваша миссия?
— Да. — Бальрих вдруг почувствовал глубокое облегчение, хотя на лице врача было явно написано недоверие.
— Миссия, — продолжал врач. — Почему бы и нет? Это возможно. — Он оперся подбородком на руку и заговорил вполголоса. — А начальству вашему это известно?
— Да. Отсюда и все преследования, — сказал Бальрих.
И уже совсем тихо врач спросил:
— Кто же вас преследует?
— Да все он, из-за него все зло. И соглядатаев у него множество — шпики, священник из Бейтендорфа, наш депутат, — он предатель, — а теперь еще медицинский советник.
Когда Бальрих это высказал, аромат цветов, доносившийся из сада, показался ему вдруг более удушливым, голос какой-то птицы почти испуганным. Врач сидел, потупясь.
— Конечно, — повторил он, — бывают и враги. Я не призван защищать капитал, который вы так ненавидите. Пусть этим занимаются бонзы, — бросил он как бы вскользь и вслед за тем внушительно добавил: — Но, посудите сами, не кажется ли вам несколько странным, почти невероятным, что именно социал-демократический депутат оказывается вашим врагом и другом вашего противника?
— Это, может быть, и странно, — коротко ответил Бальрих, считая, что уже сказал все по этому поводу.
А врач, между тем, бережно продолжал:
— Вы только что рассердились, и я бы не хотел вам напоминать ваших слов. Ну, а насчет бритвы… Это, конечно, запомнилось депутату, он рассказал другим. А вы называете это предательством. Что до медицинского советника, то могу вам сказать одно: мы, врачи, всегда и всюду видим симптомы — это уж наш чисто человеческий недостаток. Я верю, что вы говорите о реально происходящих делах, но я бы на вашем месте относился к этому спокойнее.
— Когда низости не затрагивают нас лично, мы всегда относимся к ним спокойнее, — заметил Бальрих.
— Вы правы и на этот раз, — ответил врач.
Он встал. Бальрих последовал его примеру.
— Что же мне — оставаться здесь? — спросил он глухо.
— Пусть это короткое пребывание у нас не огорчает вас. — Я не питаю к вам плохих чувств при расставании. Как видите, я не очень суровый следователь. Вы могли бы попасть и к худшему. Скажу вам по секрету, — он прикрыл рот рукой, — медицинский советник, когда вызывал меня к телефону, перепутал мою фамилию.
Он звонко рассмеялся. И Бальрих, пожимая протянутую руку, тоже расхохотался.
— Эта комната, надеюсь, понравилась вам. Ведь и комнаты — вы, наверно, слышали об этом — не все у нас такие приятные… Кстати, я еще кой о чем хотел спросить вас, — поспешно проговорил врач, — не представляется ли вам иногда что-нибудь такое, чего, как потом оказывается, на самом деле и не было?
— Вы хотите сказать, видения? Нет! — возмущенно ответил Бальрих. Но тут же вспомнил один случай, и ему стало страшно. Неужто там, на вилле «Вершина», видение все-таки было?
— А это плохо? — спросил Бальрих.
— Расскажите мне все спокойно! Может быть, вы долгое время голодали или переутомились?
— Нет, — отвечал Бальрих, глядя перед собой, — видение появилось потому, что я желал его…
— Желанные видения могут быть у каждого не вполне счастливого человека или много ожидающего от жизни. Как это случилось? Расскажите!
Но Бальрих молчал. «Я видел Лени богатой и прекрасной на вилле „Вершина“. Это была мечта, но более реальная, чем все вы. И вот вы хотите, чтобы я в сумасшедшем доме выдал вам мою драгоценнейшую мечту. Фу, черт!» Прежде чем Бальрих осознал, что делает, он топнул ногой, изо всех сил ударил по платяному шкафу и выругался. Врач слегка покачал головой.
— Видите, все-таки прорвалось, — сказал он неодобрительно и, заметив, что Бальрих совсем уничтожен, добавил: — Ну, больше, надеюсь, вы не поддадитесь.
Он направился к двери, но вдруг остановился.
— Кто крикнул «вор»? — спросил он.
Бальрих взглянул на врача.
— Меня никто не может назвать вором. Но я, — сказал он презрительно, — знаю их немало.
Врач кивнул и удалился.
Некоторое время Бальрих сидел, настороженно прислушиваясь, потом принялся ходить по комнате все быстрее и быстрее. Наконец-то ему опять все разрешено — поднять руки, передвинуть стол. Он высунулся в окно. Можно было коснуться верхушек деревьев, но сквозь густую листву никак не разглядишь, там внизу. Вдруг ему пришло на ум, что в таких домах бывают отверстия в двери и в стенах, однако он не нашел ни одного. Затем он стал упрекать себя, что слишком многое открыл этому шпиону. Если бы молчать, только молчать, — какое тогда оружие можно дать им в руки? А вместо этого ты выдал им самое сокровенное — из страха, потому что у них в руках власть. Самое страшное злоупотребление властью произошло именно здесь, у него на глазах, когда его чистейшую грезу обследовали в доме для умалишенных.
Теперь Бальрих понял, что аромат, доносившийся из сада, был тот самый, уже знакомый ему запах цветущих лип — он слышал его год назад, когда едва не покончил с собой, решив повеситься на первом суку. «Аромат судьбы, — подумал он. — Сколько пережито с тех пор, сколько пережито!» Растянувшись на диване, он лежал в раздумье, пока не наступили сумерки, радостно размышляя о своей миссии, о своей борьбе; тебе, тебе, избраннику, предназначено это свершить. Рази же их, избавитель, в Гаузенфельде и далеко за пределами его, по всей стране, во всем мире. Именно в больнице, только потому, что ты очутился здесь, понял ты, как они надеются на тебя и как другие тебя боятся! Вот оно — высшее мгновение жизни! Они думали тебя уничтожить, а между тем ты стал еще сильнее.
Отвыкнув от сна, Бальрих ощутил в темноте особый прилив бодрости. Он включил свет и вдруг увидел перед собой широкие плечи, голову с большим выпуклым лбом, узкое, осунувшееся лицо.
И он испугался, перед ним был чужой человек. «Неужели это и вправду твое лицо?» Он помнил его еще квадратным, как колода. «Неужто у тебя уже было столько дум и забот, бедняга? Забот о делах столь отдаленных, что ты еще не скоро увидишь их целительный исход. И сколько же придется ждать?»
«Я не переживу этого, — подумал он, цепенея от ужаса. — Я знаю лучше их, что со мной. Они называют это манией величия и манией преследования. Но они еще не знают, что у меня уже было искушение наброситься на Фишера, а потом на медицинского советника. И вот сегодня я не выдержал. Этот дом действует на меня. Я погиб».
И, закрыв лицо руками, он опустил голову, словно молился. Страшно находиться здесь, но и не менее страшно выйти отсюда одиноким на всю жизнь, и неизвестно, хватит ли у тебя силы выдержать — выдержать борьбу с целым миром?
Тут голос бога в его душе сказал: «Ты не один, и твоя миссия — это миссия всех. Все вы должны подняться до вершин разума, опираясь друг на друга, — все как один. И нищий Динкль так же достоин этого».
Уже рассветало. Бальрих уснул.
Проснувшись, он почувствовал ту же усталость и смятение, что и накануне. Блуждание мыслей сменялось забытьем, продолжавшимся часть дня и всю ночь, и как только первые лучи солнца заглянули в окно, он потребовал врача. Оказалось, что тот уже ждет его в саду.
Сад был полон зелени — зеленые дорожки, зеленый высокий дощатый забор вокруг. Кругозор был очень тесен — всюду густой кустарник или деревья, склонявшие зеленокудрые вершины до самой земли. Кто быстро пробегал здесь по траве, кто шествовал важно. Но только один обитатель этого дома дольше других оставался на виду. Он стоял в самом конце сада, худой и длинный, пронзив взглядом зеленоватый воздух, и воздев неподвижную руку, приветствовал небо.
К Бальриху подошел молодой белокурый врач.
— Я позвал вас сюда, господин Бальрих, потому что решил отпустить. Вы будете удивлены, так как сами понимаете, что еще совсем недавно вели себя довольно странно. И после вы были очень возбуждены, но потом я видел вас спящим и убедился, что у вас все в порядке. Если вы опять когда-нибудь почувствуете переутомление, я разрешаю вам прийти сюда и выспаться!
— И это все? — спросил Бальрих.
— Существуют еще различные термины и наименования болезней для тех, кто хочет ими воспользоваться. Но я не хочу. Вы страдаете заблуждениями душевно здорового человека; я это признаю и никогда в угоду кому-то не буду констатировать обратное, если оно не подтвердилось. Вы часто ошибаетесь и в оценках своих восприятий и своего мышления. Но этим еще не доказано, — продолжал он, отвернувшись и устремив свой взор в бирюзовую высь, — что такой человек неполноценен; возможно обратное, а именно то, что он особенно ценен. Среди нас оказалось бы куда больше гениев, если бы жизнь всегда находила для них место.
— Значит, я все-таки человек пропащий? — спросил Бальрих, ибо так понял слова врача.
Они дошли до конца сада. Тощий человек все еще стоял на том же месте, словно был здесь один, и продолжал приветствовать неведомое. Врач остановился.
— Я понимаю вас, потому что я молод. Будь я стариком и чинушей, я бы вас посадил в сумасшедший дом. Но так как я молод, то я чувствую себя еще связанным с неведомым, со вселенной.
Он поднял лицо и воздел руку, приветствуя небо — совсем как тот помешанный.
Затем снова обернувшись к Бальриху, он произнес с грустной улыбкой:
— Будем говорить прямо. Вы пострадали от неправды, вы видите, что ваши ближние продолжают страдать от нее, и пришли к выводу, что весь мир — сплошная несправедливость.
— А к какому же еще выводу я мог прийти? — спросил рабочий.
— Я… не знаю. — И с той же печальной улыбкой врач продолжал: — Но, может быть, вам следовало бы снисходительнее относиться к людским заблуждениям, мне так приходится это делать.
— А я не могу, — сказал Бальрих.
Они промолчали и повернули обратно.
— Вы любите кого-нибудь? — спросил врач.
— О да!
— Так любите же, любите! Вот вам средство преодолеть ненависть.
Они пожали друг другу руки. Бальрих еще раз прошел по белым длинным коридорам; и опять сиделки толкали перед собой тележки с пищей; наконец он вышел. «Бывают на свете и друзья», — подумал он, очутившись среди непривычной городской сутолоки. Но по пути в Гаузенфельд мрачные мысли снова овладели им, самый воздух словно был насыщен борьбой, и впереди его ждала борьба. Он подумал: «Как бы этот доктор не обжегся. Ведь он должен был признать меня сумасшедшим, на то он и поставлен. И вдруг он отпускает меня, тут что-нибудь да не так».
На фабрике ему все стало ясно. Здание охраняли жандармы; уже со вчерашнего дня опасались столкновения. Рабочие поставили администрацию перед выбором: Бальрих или стачка! Ага! Он злобно усмехнулся и занял свое рабочее место. Вот оно откуда — благородство врача! Все они одинаковы, одна шайка!.. Но его все же тревожило сомнение. «А вдруг это случайность? Ведь врач говорил со мной, как друг… Как будто среди них у меня могут быть друзья? Они зависят друг от друга и все вместе — от самого богатого. Нет, он не друг мне… Нет, никому нельзя верить, только работать, работать!»
V. Праздник строителей
Он так был поглощен работой, что даже не заметил приподнятого настроения, царившего на фабрике. Новый казарменный корпус, кошмар Клинкорума, стоял уже под крышей, и его завершение готовились ознаменовать большим торжеством. На один из ближайших сентябрьских воскресных дней намечалось гулянье с даровым пивом, музыкой, танцами, аттракционами и повальным пьянством. Бальрих молча наблюдал рабочих, оживленных приближением предстоящего праздника, женщин и девушек, которые обсуждали свои наряды, влюбленных, — они уже предвкушали свое счастье, и его сердце охватывала жалость, еще более острая, чем гнев.
Он мог бы сказать им: «Не обольщайтесь! Вы же знаете, что это милостыня, которую он вам подает, что этот беззаботный день — грошовая подачка, он ее бросает вам за муки всей вашей жизни, чтобы вы и впредь страдали до могилы». Но он молчал. Бедняжке Тильде, ходившей за ним по пятам и, конечно, ожидавшей большего, он купил новый платок, а сестре своей Лени — бальные туфли цвета бронзы на каблучках, словно для феи.
День выдался безоблачным, каким и надлежало быть праздничному дню. На новом корпусе уже покачивались гирлянды из еловых веток. В воздухе заколыхались флаги: подошли члены рабочего кегельного клуба и гимнастического кружка, председатель или распорядитель уже упивался радостью покомандовать, а все остальные — счастьем постоять навытяжку по собственной доброй воле.
А на поляне, перед корпусами «С» и «Т» завертелась карусель. Но детей ждала не только она: ларьки с вафлями, тиры и киоски с лимонадом — все это выстроилось на поляне, по пути к кладбищу. Программа увеселений для взрослых была иная.
В зале позади закусочной, пахнувшей свежей побелкой и еловыми ветвями, рабочих ждала обильная закуска — копчености и пиво, ешь и пей сколько влезет под гром духового оркестра и запах известки и хвои; а в довершение всего — речь молодого хозяина Горста Геслинга.
Он замещал своего отца-директора и хотя не ел со всеми, но стоял, держа в руке кружку пива, на самом почетном месте, в конце самого длинного стола. Рабочий Динкль, по своему обыкновению, угодливо подвинул молодому Геслингу стул и притом под самые колени, так что ноги у него поневоле должны были согнуться. Однако, против ожидания Динкля, Горст Геслинг продолжал стоять, выпрямившись. Он лишь бросил ему через плечо: «Напрасно стараетесь, любезный!», что должно было внушить Динклю соответствующее почтение. Другие рабочие, которых уговорил Яунер, протиснулись к столу и попросили разрешения у молодого хозяина выпить за его здоровье. В ответ Горст Геслинг поднял бокал до уровня монокля, чем все были крайне польщены. Многие сегодня даже сошлись на том, что сына и сравнивать нельзя с отцом и что молодой Геслинг — порука лучшего будущего. Пророчества рабочего Бальриха, для исполнения которых нужны были упорный труд, воля, вечное доверие, — все было заглушено ревом оркестра и шумом дешевых увеселений. А сам Бальрих, застрявший где-то в задних рядах, потерял цену в их глазах. Только бы Геслинг-отец отправился на тот свет, и тогда да здравствует Геслинг-сын!
Молодой наследник ударил по столу тростью, да так, что женщины, сидевшие поблизости, взвизгнули; затем, среди внезапно наступившей тишины, опершись ладонями о стол, резко бросил:
— Люди! — вызывающе поглядел вокруг и снова повторил: «Люди! Этот дом, завершение которого мы сегодня празднуем, говорит, верно, и вам о том, что раньше здесь таких домов не было.
Бальрих, стоявший сзади и зажатый толпой, презрительно выслушал тираду молодого наследника, гордо озиравшего зал. Ему было еще неясно, к чему тот клонит. Казалось, наследник рассказывает историю Гаузенфельда… «Это было жалкое местечко, покуда мой высокочтимый отец не взял бразды правления в свои сильные руки и не наложил на предприятие печать своего могучего духа». Затем он продолжал еще более напыщенно:
— И вот взгляните, какой размах! Наше предприятие не узнать! А в чем секрет успеха? Только в руководстве!
В доказательство наследник стал приводить сравнение со всей страной в целом. Ибо, когда молодой Геслинг проходил в гимназии историю Германской империи и ее блестящего расцвета при нынешнем всеми признанном правительстве, он неизменно вспоминал Гаузенфельд и своего «высокочтимого отца». И тем же торжественным и напыщенным тоном он продолжил:
— То, что мы видим в Гаузенфельде, можно наблюдать по всей империи; стройка идет повсюду, и доказательство тому наш новый корпус. Сейчас у нас тысяча девятьсот тринадцатый год…
Наследник сделал паузу, словно что-то высчитывал.
— Да, тысяча девятьсот тринадцатый, и все это сделано в течение последних двадцати — двадцати пяти лет. Мы произвели в Гаузенфельде столько бумаги, что могли бы покрыть ею весь мир. И, как знать, может быть, нам придется производить и кое-что другое, еще более нужное нашей стране.
Снова пауза, затем взмах бокалом. Потом он крикнул во всю силу:
— А посему его императорскому величеству и главному директору Геслингу ура, ура, ура!
В ответ на это рабочие тоже, точно выстрелив, грянули троекратное ура. Музыка загремела туш.
А теперь можно было освободить зал для танцев! Мужчины помоложе, сняв пиджаки, принялись раздвигать мебель, между тем как по углам, хихикая, уже готовились танцевать девушки. Бальрих едва успел помочь разобрать длинный стол, как в зал вошла Лени. Она явилась только теперь, словно шум и запах насыщения не были достойны ее присутствия; да и как расцвела она за этот год! Сестра стала дамой, настоящей дамой! Брат только сейчас заметил это. На плечи все еще накинут платок работницы, но под ним узкое шелковое платье, обтягивающее фигуру, и такое длинное, что даже не разглядишь, надела ли она золотистые туфельки — его подарок; волосы причесаны так гладко и уложены так искусно, будто их лишь касались ее тонкие, белоснежные руки. Длинные перчатки были натянуты до самых рукавов.
Откинув голову, словно знатная дама, созерцающая веселье простонародья, она шла по залу; ее мелкие шажки казались связанными, и на ходу обрисовывались ее стройные колени. Увидев сестру, Бальрих раскрыл рот и покраснел; и все-таки он гордился ею и любил ее; потом он кинулся ей навстречу, желая проводить, но, пока на ходу надевал пиджак, к ней уже подошел Горст Геслинг, по его знаку заиграла музыка, и они пронеслись мимо, не видя его. Бальрих стоял в нерешительности. За первой парой, шаркая и топая, включилось в танец множество других. Но эти двое пронеслись мимо неслышно, точно пылинки.
Долгим казался ему этот вечер; только кончался один танец, как тут же начинался другой. Лени все танцевала, и только с одним Геслингом. Бальрих чувствовал, что на него смотрят, ведь он стоял недвижно, словно прикованный, его хмурый взгляд все мрачнел, казалось, он не в силах оторвать его от одной-единственной пары.
Глядя ей вслед, Бальрих мысленно называл сестру бесстыжей, а ее кавалера — подлецом. Вот сейчас он встанет между ними, он мысленно твердил себе, что близка та минута, когда по праву брата он вступится за честь сестры и они вынуждены будут расстаться; а Геслинг и Лени продолжали танцевать. Не глядя на него, танцевали и улыбались друг другу. И это обезоруживало его. И так хороша была Лени со своими широко расставленными глазами, пунцовым ртом и матовой белизной почти прямого носа, — так прекрасна была сестра, что ради нее он готов был признать прекрасным и ее танцора с его моноклем, прилизанными соломенными волосами и красным потным лицом. Он вел ее так, как никто не умел в этом зале. Ей оказано предпочтение, и она чувствует себя счастливой от пустяка, от какого-то танца. «Увы! Когда же она узнает настоящее счастье, за которое я борюсь?.. Не следовало бы мне смотреть на нее… Но что это?» Он очнулся от забытья. Кругом развевались пестрые юбки, мелькали пестрые цветы, блестели от хмеля глаза. И все это только прах. Мы — бедные!
Но вот возле Лени и Горста образовалось свободное пространство, Бальрих увидел, как сестра, приподняв платье над обтянутой шелковым чулком ногой, промелькнула мимо, и на ней сверкнула его туфелька, золотистая туфелька феи. «А все-таки в эти краткие мгновения радости она танцует в туфлях, подаренных мной», — подумал он и с этой мыслью покинул зал; вслед за ним, истомленная ожиданием, выскользнула и Тильда.
Он угостил ее лимонадом и сказал, что хочет поиграть в кегли. Позади киосков с громом и звоном вертелась, кружилась, сверкая блестками, карусель, а вокруг толпились разряженные дети. Они визжали от нетерпения, возились на лужайке или приносили матерям из киосков напитки и тут же успевали втроем или вчетвером прокатиться в коляске, запряженной осликом. Вздымая пыль, ослик неутомимо возил коляску от шоссе до кладбища и обратно. Пыль тучей висела над лугом, палатками, строительной площадкой, кегельбаном. Среди этой пыли стоял неумолчный крик, и жирный чад от хвороста, который пекли здесь же, под открытым небом, катился волнами вдоль всей кладбищенской ограды, над расположившимися в ее тени любителями выпить и даже над могилами, между которыми кое-кто уже улегся спать.
Смелые гимнасты и любители рискованных шуток избрали себе для развлечения строительную площадку. В новом корпусе еще не было лестниц, но они взобрались на верхние этажи и, усевшись в оконных проемах, так галдели, что Клинкорум, живший в доме напротив, наконец не выдержал и появился на балконе. Укрывшись от необузданного народного веселья в тиши своего дома и чувствуя себя глубоко задетым в своем достоинстве образованного человека, сидел он в кабинете, отныне навеки затемненном новым зданием и открытом для всех запахов этой мрачной плебейской клоаки, которую под самым его носом возвел бесстыдный капитал. И вот учитель показался в дверях балкона, надеясь одним своим видом укротить голытьбу и оградить себя от ее бесчинств. Едва они увидели его, как раздался радостный вой. Скрыв правую руку в складках своего халата и выпятив живот, он, казалось, грозил им длинными зубами, бесчисленными прядками бородки, сверканием очков и, конечно, укротил их, как в былое время укрощал самый мятежный школьный класс. Все смолкло. Но когда Клинкорум почувствовал себя в безопасности, что-то упало ему на колпак. Он с достоинством отступил, ибо успел разглядеть, что оружие, которым его встретили, отнюдь не было оружием духа. На него попросту плевали. Вот плевок попал ему уже на живот, и Клинкорум обратился в бегство.
Он показался снова у окна своей спальни, но был принят по-прежнему; его и здесь настигли враги, ибо новая стройка образовала угол, обступая со всех сторон обитель муз и ее владельца. Тогда Клинкорум сдался. Забившись в самый темный угол библиотеки, он наблюдал, как на пол, на его рабочий стол и даже на висевшую подле него трубку, гася ее, падают, поблескивая, плевки. Кто именно плевал, он не видел но это были не люди, а чудовища, как и сам Геслинг, по воле которого они там сидели. Клинкорум ненавидел все и всех, он чувствовал, что сам демон гнусного капитала стоит за спинами этих злодеев, направляя эти плевки… И в эту минуту он поклялся во что бы то ни стало уничтожить Дидериха Геслинга. Тщетными бы ли все протесты учителя против постройки этого разбойничьего гнезда, и тщетными остались настойчивые просьбы купить его дом. Он видел лишь постыдное пренебрежение и безумие власти у тех, кому суждено пасть. Отныне и речи не может быть о каком-либо примирении — Клинкорум стал бунтовщиком, он заодно с бунтовщиками! Враг пролетариата — его враг и песенка врага спета. Горе насильникам, когда против них восстанет сила мышц, объединившись с непобедимой силой духа.
Однако на кегельбане продолжалось беззаботное веселье. Дикий виноград, обвивавший его ограду, рдел багрянцем, пиво подавалось прямо из окошка закусочной, и в розыгрыш был пущен поросенок. За все это платил Крафт Геслинг, почетный шеф рабочего клуба: платил за пиво, за поросенка и вдобавок расплачивался за шалости своих гостей.
Как только наступала очередь Крафта, Динкль, самый ловкий из игроков, пускал ему шар между ног, так что Крафт спотыкался и даже падал, вызывая дружный смех. Во избежание дальнейших неприятностей он делал вид, что ничего не замечает, и даже оделял всех папиросами, ибо, во-первых, нельзя было расстраивать игру, — Геслинг-отец категорически приказал ему добиться расположения рабочих, — а во-вторых, куда же ему было деваться? Танцзал, где его брат Горст делил с народом радость и горе, не привлекал Крафта. Он слишком робел перед девушками. Уж лучше нюхать пот играющих в кегли мужчин. Ежеминутно кто-нибудь налетал на него плечом или грудью, и тогда оба катились кубарем; бледный, с запавшими, обведенными синевой глазами, Крафт уже ничего не видел вокруг себя. Он тоже снял пиджак. Яунер, по своему обыкновению, услужливо подбежал и повесил его на спинку стула. Восемнадцатилетний Крафт, долговязый и хилый, через силу пустил шар и промазал. Желая загладить неудачу, он вытащил из кармана брюк вторую пачку папирос.
К Бальриху, который стоял у входа, наблюдая за игрой, подошел механик Польстер. То, что он намерен сказать, начал Польстер, он говорит только на правах родственника. Но так как дальше дело не пошло, из багряной листвы винограда вынырнула его жена и стала подбадривать его:
— Выложи ему всю правду, Польстер.
И тогда механик сознался:
— Она требует, чтобы я намекнул тебе насчет Лени. А мне-то не все ли равно, что твоя сестра задумала?
— Как это все равно? — возмутилась Польстерша и подбоченилась. — Шелковое платье, настоящий черепаховый гребень, туфли за тридцать марок…
— Это я подарил ей, — сказал Бальрих, чтобы отвести удар.
— Туфли?
— Все, — заявил Бальрих.
— Ну, скопил денег, — вставил Польстер. — Мало он работает?
Но его жена ехидно продолжала:
— Знаем, знаем. Все танцы Лени танцевала с молодым хозяином, а теперь они вместе играют в кегли. Люди уже говорят об этом. Ведь позор-то падет на всю семью.
Бальрих посмотрел на нее в упор; он вспомнил ее любовные шашни, — благодаря им Польстеры занимали две хороших комнаты, последний друг дома к тому же был не кто иной, как шпик Симон Яунер.
— Обернись, — сказал Польстер, презрительно улыбаясь и указывая на Яунера, — и ты увидишь, что такое позор!
Позеленев, женщина быстро взяла мужа под руку, желая поскорее увести его. Но тот не двинулся с места. Да и было на что посмотреть: Симон Яунер, незаметно запустивший лапу в карман Крафтова сюртука, не мог вытащить ее оттуда; кто-то крепко держал ее. Это был Гербесдерфер.
— Поймал вора, — глухо проговорил он; но вот его хриплый голос очистился, и он закричал, заглушая стук деревянных шаров так, что все бросились к нему. Долгое время слышны были только возгласы и мелькали руки сбившихся в кучу людей; затем появился жандарм. Растолкав дерущихся, он извлек Яунера на свет божий. Но в каком виде! Вор был растерзан, волосы свисали на нос, и вместо пресмыкающейся угодливости — злоба проступила на его изжелта-бледном, искаженном от ярости лице. Теперь он всем покажет, заорал Яунер, он никого больше знать не хочет, он всех выведет на чистую воду.
— Пусть мне крышка, — рычал он, — но раньше я всех вас выдам! — и при этом погрозил рукой туда, где в одиночестве стоял Бальрих. Гербесдерфер хотел было вновь наброситься на Яунера, и только появление второго жандарма удержало его.
Между тем подоспел и старший инспектор. Он выразил надежду, что все выяснится и уладится, хотя бы ради столь прекрасного праздника. Он сам займется расследованием. Законность, конечно, должна быть соблюдена. И, пропустив вперед Яунера, который шел между двумя жандармами, он, сопутствуемый Крафтом Геслингом, последовал за арестованным. Шествие замыкал Гербесдерфер.
Оставшиеся ликовали. Динкль уплатил круговую. Наконец-то шпик попался! Теперь ему крышка, как той свинье, которую разыгрывали в кегельбане!
Бальрих молча, угрюмо прислушивался к этим разговорам. Как еще слепы люди, они не знают истинного положения вещей. Да и что в сущности испытали они? Они не попадали в положение одиночек, никто грубыми руками не касался их души, и в трудную ночь испытаний они не стояли лицом к лицу со своим богом. Они ведь не вернулись, как я, оттуда.
Он спрашивал себя, как поступили бы все они, если бы там, в зале, их сестра… Они примирились бы с этим, как и механик Польстер, быть может, это даже польстило бы их гордости. Но нет! Не таковы его товарищи по классу. Гербесдерфер на его месте пошел бы и прибил этого пса. Стыд и злоба душили Бальриха, когда он вернулся в зал.
Здесь, в полусне, забыв обо всем на свете, все еще танцевали пары. Музыка играла, словно для вертевшихся на карусели деревянных зверей. Бальрих увидел сестру: закрыв глаза, она все еще кружилась в объятиях своего повелителя. Они прильнули друг к другу, не отрываясь, словно в забытьи, и только ноги их двигались и жили. Ему хотелось броситься между ними и разнять их, но ее глаза были закрыты — и разве осмелился бы он ее будить?
Танец кончился. Бальрих сказал ее кавалеру, что следующий сам танцует с сестрой. И вот музыка снова заиграла, и он повел ее.
— Ты сегодня красивей, чем обычно. Почему это? — спросил он.
Она улыбалась, точно только что проснулась. В дальнем углу зала сидела бедная Тильда, и он перехватил ее молящий взор. Бальрих рассмеялся, и такая неудержимая горечь была в этом смехе, что Лени, наконец, подняла на него глаза.
— Мне все кажется, — сказал он ей на ухо, — что это твой праздник, только твой, на вилле «Вершина», и ты там госпожа.
— Как знать, — прошептала она и открыла еще шире свои золотисто-карие глаза. Потом рассмеялась, откинула голову, а он принялся насвистывать мотив, который играл оркестр, и они опять закружились в танце, тихо покачиваясь в такт музыке.
— И цветами тебя забрасывают, — шепнул он ей, продолжая насвистывать.
Она испуганно рассмеялась, ибо действительно на ее запрокинутое лицо упала роза. И тут Бальрих увидел, что Горст Геслинг брал розы из корзины цветочницы, бросал их в Лени и неизменно попадал. При этом лицо у него было надменное и самоуверенное. Бальрих, танцуя, шепнул сестре:
— Не смотри на него! Ты и так слишком много на него смотрела. Ты унижаешь себя! Откуда у тебя это платье? Ты девка! Ты наш позор, тебя надо отдать в исправительный дом!
— А ты? Из какого дома ты вернулся? — дерзко глядя ему в глаза, ответила Лени, и на ее переносице проступила та же морщинка, что и у него.
— И это говоришь мне ты, сестра?
Лени старалась вырваться, но он крепко обхватил ее и заставил продолжать танец.
— Ты первая упрекаешь меня за это. А я и попал-то туда потому, что не хочу, чтобы вы были нищими и проститутками.
— А если я хочу стать такой!
Он вдруг отпустил ее.
— Иди! — бросил он, задыхаясь от гнева.
Но она осталась. Белее стены, стояли они друг против друга, тяжело дыша, не в силах разойтись.
Наконец брат сказал:
— Благодари бога, что я пришел… оттуда. После этого дома все кажется таким ничтожным и недолговечным и всех начинаешь жалеть. Иначе я бы тебя избил.
Подошел Горст Геслинг. Он слышал его последние слова.
— Однако, господин Бальрих! Вы же будущий академик… Пора бы вам освободиться и от моральных предрассудков вашего класса!
— Потерпите еще немного! — ответил Бальрих и отвернулся.
На дворе, у кегельбана, наступило затишье. Никто не играл, все стояли, обступив старшего инспектора. Но и Яунер был уже тут. Яунер без наручников, без жандармов — торжествующий, олицетворенная невинность. Старший инспектор объяснил им, что человеку свойственно совершать ошибки, и удалился вместе с Крафтом, которого сотрясала дрожь. Яунер незаметно ускользнул вслед за ними.
— Отсрочка — не точка, — сказал Гербесдерфер. — Он еще получит свое! — И за круглыми стеклами очков гневно блеснули его глаза.
— Как это они поладили? — спрашивали рабочие. Но Гербесдерфер сам не знал. На следствии Крафт Геслинг показал или, вернее, невнятно пролепетал что-то, а старший инспектор истолковал его слова так, будто Крафт Геслинг сам попросил Яунера достать из кармана своего пиджака третью пачку папирос.
— Но когда я его схватил, в руке у него был зажат бумажник, — уверял Гербесдерфер. — Мерзавцы сделали вид, что им ничего об этом не известно, и позвонили на виллу «Вершина».
— Зачем?
— Не знаю. Мне пришлось выйти. Но они долго шептались, а потом до тех пор наседали на Яунера, пока не уговорили его. А когда выходили из зала, Яунер весь дрожал.
Рабочие стояли понурившись, потом переглянулись, и в их глазах можно было прочесть только одно: «Нас предали».
— Он еще получит свое, — повторил Гербесдерфер.
Невдалеке сидел Бальрих, уронив голову на руки. Все с затаенным страхом, предчувствуя недоброе, опасливо поглядывали на него, думая: «Они с ним расправятся. Хотели же они объявить его сумасшедшим, когда еще ничего не знали. И вот им известно все, — что же сделают с ним теперь?»
Рабочие разошлись, каждого беспокоило то, что их всех ждет. Те, что шли парами, шептали друг другу: «А все-таки он добьется своего».
Музыка в зале, казалось, играла все громче, и вдруг, — что это? — музыканты вышли из закусочной. Одни были красны как кумач, другие бледны и обливались потом. Словно по команде, они маршировали, выбрасывая ноги, как на параде. Невдалеке появилась пара, и все, не веря своим глазам, увидели Лени Бальрих и Горста Геслинга. Высоко подняв голову, пренебрегая изумленными взглядами, шли они, пританцовывая. У всех на виду Лени подняла платье до самых колен и — пусть хоть весь свет сбежится глазеть на нее! — танцевала среди уличной пыли… Следом за ними, подскакивая, точно заводные куклы, следовали другие пары, видимо уже четко не сознавая, что происходит.
Рабочие из кегельклуба посторонились, очистив место, и мимо них, сопровождаемый хохотом и гиканьем, промчался призовой поросенок. А танцующие продолжали невозмутимо кружиться, подымая пыль; и дети, убежавшие от карусели, кружились вместе с ними. «Ура!» — кричали люди и исчезали в пыли, где лаяли невидимые собаки и, заглушая друг друга, в дикой какофонии смешивалась музыка: бальная и та, что доносилась от карусели. Вдобавок, с новой стройки, в кишащий людской муравейник летели шляпы озорников, в то время как с высоты своего величия, презрительнее, чем когда-либо, взирал на все это из слухового окна мудрый муж Клинкорум.
А с кладбищенской стены, размахивая бутылками, звали музыкантов пропойцы, и те спешили взобраться к ним. Танцующие делали шаг вперед, шаг назад, прыжок, глиссе, прыжок, и бутылки, казалось, кивали им из-за ограды. Кто это толкается? Не видно кто! Пробрался на другую сторону и вдруг исчез. Лени, зажмурив глаза, увлекаемая своим кавалером, танцевала уже у самой панели, едва не ступая в грязь. И вдруг он поднял ее, понес в машину. Ей некуда было деваться в своем узком платье. Он усадил ее! Поехали!
Но сзади, кто-то ловкий, как кошка, вспрыгнул на ходу. Вот он втиснулся в кабину, захлопнул дверцу. Горст Геслинг увидел подле себя на сиденье Крафта, а рядом с Лени сидел ее брат. Горст крикнул: «Стоп!» Но едва машина остановилась, как он, при виде этого галстука, этой сдвинутой набок кепки, этого взволнованного, осунувшегося лица, невольно заколебался. И, повинуясь испуганному шепоту Крафта: «Не связывайся с этим апашем!», приказал:
— Вперед!
Бальрих, взявшись за фуражку, твердо сказал:
— Если вы уезжаете с моей сестрой, я должен быть при ней.
— Семейная прогулка, — с легким поклоном съязвил Горст.
Но Лени, вспыхнув, зарыдала, обвила руками шею брата, влажным от слез лицом прижалась к его лицу и поцеловала. Какой это был поцелуй! «Счастье, что я с ней, — думал Бальрих. — Я силен, могу постоять за сестру, и оттого, что меня боятся, она любит меня».
«Как знать, быть может, он подарит мне виллу „Вершина“ — он все может», — говорила себе Лени, а Горст между тем обдумывал ситуацию: «Глупо, но изменить ничего нельзя». Крафт же только дрожал от страха.
Запах елей, росших вокруг виллы «Вершина», вместе с ветром пахнул им в лицо, и вот дом уже перед ними. Крафт потребовал, чтобы машину остановили у ограды. Он вышел, а Бальрих вынес сестру, поэтому Горсту, несмотря на хмель, не удалось въехать победителем со своей добычей на священную землю отцов. В саду было тихо, ни один голос не доносился из дому, и только перед террасой, греясь на солнце, сидела Анклам. К ней-то и направился Горст. А напрямик, через газон, к Лени мчался Ганс Бук. Бальрих решил предоставить их самим себе и, оттесненный за живую изгородь, проклинал себя. Зачем он поклялся когда-то, что его сестра войдет сюда только владелицей виллы.
Ганс уже бежал навстречу Лени, и звук его голоса опережал его самого:
— Лени, я пообещал маме остаться здесь, иначе этого не случилось бы! Лени! Как могла ты пойти на это?
— Со мною брат, — услышал Бальрих чуть ли не в полуобмороке.
— Лени, разве ты не видишь? Горст хочет погубить тебя! Неужели ты на самом деле думаешь, что он тебя любит?
Легкий смешок Лени, и снова жалобный, негодующий шепот Ганса:
— Он привез вас сюда, чтобы потом прогнать с фабрики. Только это им и нужно. Им нужен скандал. Вы оба должны быть уничтожены, а ты, Лени, — раньше стать его жертвой. — Мальчик закрыл лицо руками: — И я должен смотреть на все это и ничего не могу поделать!
Послышались чьи-то шаги.
— Взгляни на даму, которая с ним. Он хочет разжечь в ней ревность. Вот еще для чего ты здесь!
И снова он слышит ее легкий смех. Ганс выпрямился. К ним подошел Горст. Госпожа фон Анклам уже заметила притаившегося в кустах Бальриха. Прыжок — и Ганс, набросившись на Горста, вцепился ему в глотку. Прежде чем Горст понял, что происходит, он лежал на земле, лицом его ткнули в гравий, а Ганс с победоносным видом стоял перед Лени.
— Неужели ты все еще любишь его?
— Ни его, ни тебя… — сказала она, — оттого что… — побледнев, она дерзко повела рукой вокруг, — никто из вас не подарит мне всего этого!
Шестнадцатилетний подросток поник головой. Из глаз его закапали слезы, и он ушел, плача.
Горст же принялся уничтожать следы, как он выразился, «Гансова ратного подвига». От гравия на его лице остались рябинки, словно от оспы. Все же он предложил Лени руку и пошел с ней вперед. Тут же под руку с Бальрихом подошла Анклам. Рабочий и его сестра робко посмотрели друг на друга, между тем как джентльмен и дама обменялись многозначительным взглядом.
— Вы, Горст, — сказала Анклам, — видимо, не внушаете страха. В опасности ведь всегда остается что-то неразгаданное, какая-то доля тайны. — И при этом она с иронической улыбкой склонила голову к плечу Бальриха. И с той же улыбкой, склонившись к Лени, Горст Геслинг произнес:
— Да, так оно и есть.
Брат и сестра чувствовали, что их присутствие лишь разжигает взаимное влечение этой пары. Но они не решались возражать.
Слуге, который шел по аллее, Горст приказал подать чай на террасу. До этого он счел уместным прогуляться по парку. Того же хотел и Крафт, который, набравшись смелости, наконец подошел к ним. Глухо, но язвительно он заметил:
— Если кто-нибудь претендует на владение, он прежде всего осматривает его. — Затем, приблизившись к Бальриху так, что его слышал только рабочий, сказал: — Здесь вы ничего не можете сделать со мной, вы, человек мышц, хотя, ах, как я обожаю чувство постоянной тревоги…
Он сказал это жеманно, подражая манере госпожи Анклам, и даже словно прижался к кому-то плечом.
Они дошли до фонтана со статуей Венеры.
— Всем известная богиня любви и красоты, — пояснил Горст своим гостям.
Потом они направились к лубяной беседке.
— А это место мы считаем наилучшим для установки пулеметов, — заявил Крафт с восторгом садиста.
Когда они вернулись на террасу, стол был накрыт, но уже занят. Под вьющимися розами, которые чуть раскачивал ветер, в мягко поскрипывающих тростниковых креслах расположилась женская половина семьи Геслингов: мать Густа, дочь Гретхен; тут же появилась и фрау Эмми Бук с Гансом, усиленно занимавшим мать, чтобы она ничего не слышала и не видела из того, что происходит вокруг. Здесь же была и госпожа Анклам, она уже, наверно, наплела всем невесть что. Горст и Крафт были явно озабочены. У колонны, увитой розами, стоял, выпятив живот и негодующе поглядывая по сторонам, жених Гретхен, Клоцше. Крафт хотел было улепетнуть, но Горст решительно подтолкнул его и заставил подняться на террасу. Лени он даже предложил руку, но та не взяла ее.
— Voila![6] — заявил Горст, точно актер из варьете, закончивший свой номер. — Наши гости!
Его слова были встречены ледяным молчанием. Только Гретхен слегка захихикала, впрочем, от нее всего можно было ожидать. Жених, желая предупредить еще более неприличную выходку, укоризненно посмотрел на нее. Эмми Бук, явно оскорбленная появлением такой компании, отодвинулась в своем кресле до дверной ниши, где уже показался ее супруг; он улыбался ободряющей улыбкой, словно говорившей: теперь уже ничего не поделаешь.
Анклам поднесла к глазам лорнет, глядя на подходивших гостей с насмешливой благосклонностью. А Густа, ее величество хозяйка, наводя лорнет, вложила в этот жест весь свой гнев и презрительное недоумение, словно спрашивая, осмелятся ли гости не признать ее. Прямая и надменная, восседала она в своих кружевах, бантах и жемчугах; бюст и живот были стянуты корсетом, и от этого ее осанка казалась важной и внушительной, — правда, нос у нее был картошкой, как у Гербесдерфера.
— Сын мой, — повелительно вопросила она, — что это значит? — И, не дав Горсту возможности еще больше забыться, изрекла: — Твоя мать заслуживает большего уважения.
— Да еще при ее сединах, — добавила Гретхен вяло, не то от безразличия, не то из лукавства.
— Сын мой, Крафт, — сказала Густа и поманила его своими толстыми пальцами в перстнях, — далек от всего непристойного, я это знаю, — причем ее лорнет уничтожающе сверкнул в сторону Лени. Затем она подставила щеку своему любимцу. — Выпей молока, мой мальчик, ты утомлен. — И, повернув свое кресло, она дала понять, что неприятный инцидент лично для нее исчерпан и она возвращается в свое благопристойное окружение. Она попросту не заметила, что «эта особа» села, так как слуга по чьему-то знаку пододвинул ей стул. Лени бесцеремонно плюхнулась на этот стул, так что он даже затрещал под ней.
— Уж давно пора пить чай! — вырвалось у нее. Она повела вздернутым носиком, не без труда заложив ногу на ногу, ибо узкое платье стесняло ее движения.
Горст, которому уже нечего было терять, самолично поднес ей чашку чая. Он даже вздумал предложить ей папиросу. Но адвокат Бук остановил его:
— Всему есть предел. Во всяком случае, — обратился он к Бальриху, неподвижно стоявшему за спиной сестры, — доступа сюда вы уже добились.
— И вы думаете, никто возражать не будет? — спросила Лени, повернувшись к нему через плечо, на котором лежала белокурая прядь ее волос.
— Теперь мы займем оборонительную позицию, — заметил Бук.
— Бесполезно, — ответила Лени.
Но по другой лестнице уже поднимался кто-то и мелькнуло острие военной каски. Блистая пестротой мундира, появился генерал фон Попп и, под прикрытием его широких, подбитых ватой плеч, — сам глава семьи.
— Ого! — воскликнул Геслинг. — Да тут, кажется, маскарад?
— В этом ты, мой друг, — Густа величественно кивнула мужу, а затем генералу, — в этом вы, ваше превосходительство, разберетесь лучше, чем хозяйка дома, которая все еще придерживается старомодных привычек и старается содержать свой дом в чистоте.
— И марать чужие дома, — резко ответил Бальрих, уставившись на Горста.
Главный директор сделал вид, будто только сейчас узнал своего рабочего.
— Вот как! — воскликнул он надменно. — Так это он! — И, презрительно усмехаясь, обратился к генералу: — Он хочет, видите ли, изгнать меня отсюда. Понимаете, ваше превосходительство?.. Вон из Гаузенфельда, из виллы «Вершина»! А мне предоставляется право собирать тряпье.
— Забавный чудак, — ответил генерал сухо и отрывисто, словно щелкал орехи.
— Пока что он учится на мои деньги, — продолжал тем же презрительным тоном главный директор, — а потом отдаст меня под суд.
— Ну и понятия у этих людей, — заметила Густа. — А все от безбожия, — добавила она и отвернулась.
Клоцше, жених Гретхен, в знак своего полного согласия с ней тоже повернулся к Бальриху спиной.
— Ну, ты, при таком животе, — вяло протянула Гретхен, рассматривая живот жениха, — ты-то уж, конечно, не вольнодумец ни в каком смысле. — Клоцше мог только догадываться, на что она намекает.
Генерал, выпучив налитые кровью глаза, сначала окинул взглядом богатое семейство, затем посмотрел на пролетария и, наконец, безучастно спросил:
— Что он, собственно, воображает, этот чудак?
И, пожалуй, лишь только его племянница Анклам заявила, что она-то отлично понимает, в чем дело.
— Я не требую ничего незаконного, — решительно ответил Бальрих.
Но тут Геслинга прорвало.
— Нет! — заревел он. — Это восхитительно! Угрожать священной собственности! — От его величия не осталось и следа, глаза забегали, как бы ища свидетелей, и остановились на генерале. — Священной собственности, на которой зиждется все государство!
— В данном случае она присвоена незаконно, — возразил Бальрих.
— Презабавный чудак! А в армии он служил? — спросил генерал.
Геслинг был так взбешен, что даже позволил себе прервать высокого гостя.
— Меня не интересует причина, — заревел он в бешенстве, — по которой этот человек спятил!
— Еще бы, — заметила Лени своим чистым, звонким голоском, покачиваясь при этом на стуле.
— В сумасшедшем доме он уже побывал! — снова завопил Геслинг.
— А вы еще нет. Но ведь и ожидание этого события прекрасно, — четко проговорила Лени.
Горст и адвокат Бук настойчиво уговаривали ее быть сдержаннее. А с порога ей самозабвенно улыбался юный Ганс. Густа негодующе передергивала лопатками, между тем как Гретхен, забыв о своем Клоцше и его масленых глазах, словно зачарованная, смотрела на Лени.
Геслинг было снова завопил, но вдруг осекся и упавшим голосом проговорил:
— Меня не интересуют его тайны. Я выгоню его вон, и все!
— Нет, вы не выгоните меня, — заявил Бальрих, показав ослепительно белые зубы, — потому что вам хочется узнать больше, чем вам доносят ваши шпики.
Геслинг, задыхаясь, уставился на него.
— Вы уже заболели оттого, что не знаете главного. Но я не хочу, чтобы вы болели из-за меня, хотя и решили объявить меня сумасшедшим, — продолжал Бальрих.
Он колебался всего один миг, затем сунул руку в карман и протянул Геслингу листок бумаги.
И пока Геслинг читал, Бальрих не сводил с него угрюмого взгляда. Между тем фон Попп обратился к собравшимся:
— Вы, штатские, прямо чудаки! Это же бунт! Тут надо стукнуть железным кулаком!
Крафт сейчас же перешел в атаку. Он весь побагровел и злобно ударил по столу среди чайных чашек. Чайные чашки слегка звякнули, а Крафт снова обмяк от столь великого усилия.
Главный директор снял золотое пенсне.
— Возьмите, спрячьте ваше сокровище, — сказал он, сделав быстрый отстраняющий жест. — Письмо, конечно, подложное.
— Ничего другого вы и сказать не могли!
— Фальшивка! Гнусность! — Геслинг пытался овладеть собой. — Если бы даже его признали подлинным, ведь я же всегда могу доказать, что автор этого письма был моим личным врагом. Об этом вы не подумали? — И он повернулся к зятю: — И ты это подтвердишь. Я свалил твоего отца и испортил ему карьеру, поэтому он стал моим врагом.
— Против такой аргументации нечего возразить, — спокойно сказал адвокат.
— Пойдем отсюда! — обратился Ганс к матери, но она, уронив голову на руки, сидела неподвижно.
— Вы слышите? — снова заговорил Геслинг. — Свыше тридцати лет назад старик Бук якобы написал некоему Геллерту, что мой отец — вы понимаете, — повернулся он к генералу, — подтверждает получение капитала, будто бы вложенного этим Геллертом в наше предприятие. Ха-ха! Не правда ли, смешно?
Однако генерал фон Попп не находил в этом ничего смешного. Он попросил письмо, пробежал его и спросил строгим голосом:
— А если это правда?
— Вы что… — Геслинг поправился: — Вы шутите, ваше превосходительство… — Он насмешливо улыбнулся, стараясь скрыть беспокойство. — Это письмо честный старик Бук, конечно, написал не тридцать лет назад, а гораздо позже, когда имел основание мстить мне, и пометил задним числом.
— Но это вам придется доказать, — строго заявил фон Попп.
Геслинг уже не владел собой, лицо его выдавало мучительную тревогу. Он стоял, словно прикованный к месту. Все остальные, кто сидя, кто стоя у колонн, замерли в прострации с открытыми глазами. Даже озаренные солнцем вьющиеся розы на террасе уже не качались. Казалось, вилла превратилась в замок спящей принцессы.
Геслинг снова пошел в атаку.
— Старик лжет, это несомненно.
И вдруг Ганс заявил таким же звонким и ясным голоском, как и Лени:
— Сам ты лжешь.
Директор внезапно расхохотался, а жена перепугалась: уж не приключилось ли что с мужем. Но он только пожал плечами.
— Вы считаете, ваше превосходительство, что я должен это доказать? Прошу прощения, — пусть почтенный старик, лежащий в гробу, докажет, что его слова — правда. Если он не лжет, то в оставшихся после него бумагах должно было сохраниться письмо, в котором мой уважаемый отец действительно подтверждает получение денег от Геллерта.
Окинув всех победоносным взглядом, он встретился глазами с Бальрихом и обомлел: жестко и решительно, как судья, Бальрих проговорил:
— Письмо существует, и оно у меня.
Все встрепенулись. Генерал повторил:
— Оно у него.
Фон Попп как бы призывал богача к ответу. А тот так и замер с открытым ртом и даже покачнулся… Дидерих Геслинг многое понял в эту минуту. Только он, только его зять Бук мог выдать рабочему давний документ, написанный его покойным отцом. И вот этот субъект стоит теперь перед ними и предъявляет свои права. А генерал — это совершенно ясно — считает, что я слишком богат, слишком могуществен, и с радостью наблюдает за тем, как собирается гроза над головой того, при ком он был постоянным блюдолизом. Да, все новые разочарования готовят богатому те самые люди, которых он, казалось бы, должен был знать; ну, что ж, пора отбросить всякий идеализм…
Геслинг метнул грозный взгляд на своего зятя, который робко и покорно ждал дальнейших событий. «С тобой мы сочтемся!» — пригрозил он ему взглядом, затем отвернулся, чтобы отдышаться, — иначе, ей-богу, с ним может случиться беда. Самообладание — прежде всего! Необходимо собрать все силы для борьбы, которую мне навязывают. Они хотят вырвать у меня почву из-под ног. Речь идет о самом моем существовании. Ну, они узнают меня!
Укрепившись духом, он снова поднял голову и прежде всего остановил взгляд на рабочем.
— Эй, вы там! Пойдемте отсюда. Честь и место тому, кто достоин этой чести.
Дойдя до конца террасы, он сказал Бальриху вполголоса, но с надменной уверенностью:
— Вы бы сначала подумали, что делаете.
— Все обдумано, — ответил Бальрих.
Противники снова смерили друг друга взглядом. Тем временем фон Попп обратился к хозяйке дома:
— Хорошие дела у вас тут творятся, нечего сказать… — Это было произнесено таким тоном, как будто бы ему нанесена личная обида. То же самое дала понять своим лорнетом Анклам, посмотрев на сына Густы.
Но Густа строго блюла свое королевское достоинство и заявила:
— Все это — сказки. Чего они могут добиться? Народ всегда окружает легендами большие состояния.
А директор уверенно растолковывал рабочему:
— Истину устанавливать не вам, друг мой. Вопрос решат в зависимости от того, кому это решение выгодно. А властью пока еще я располагаю.
Асессор Клоцше, которого безмолвно поощряла Густа, тоже вставил свое слово.
— Ваше превосходительство, едва ли можно допустить, — проговорил он, пыхтя, причем живот его заколыхался, — что найдется такой суд, который примет подобный иск. Ведь это же клевета, а подложные документы направлены против незыблемых устоев общества. Я думаю, — продолжал Клоцше, вращая бесцветными глазами, — что мы, блюстители закона, можем почитать себя столь же несокрушимой стеной, как и вы, ваше превосходительство.
Тем временем директор уверенно продолжал, обращаясь к рабочему:
— Вы погубите не только себя. Подумайте о семье и товарищах.
— Все обдумано.
— Но взвесьте и мое положение. Я богат. Я муниципальный советник и тайный коммерции советник. Вот орден, который мне вручил господин президент. Все это перевесит чашу весов не в вашу пользу, и потом останутся еще судьи, — кивок в сторону Клоцше, — и господа военные, — опять кивок. — В ваших же интересах я предлагаю вам выдать мне письмо моего покойного отца.
— Оно нужно мне, — ответил рабочий.
Фон Попп сказал:
— Несокрушимая стена? Вот чудаки! Это всегда зависит от тех причин, ради которых приходится быть несокрушимым.
— Свет, — с иронией сказала Анклам, — так подозрителен и всегда готов верить всякой гадости.
Гретхен между тем, совсем придвинувшись к Лени, вытянула длинную шею и, чувствуя на себе масленый взгляд жениха, чуть слышно пролепетала:
— Вы хотите стать кокоткой?
— Глупая стерва! — бросила Лени.
А Гретхен, закатив глаза, продолжала:
— Это, должно быть, замечательно!
— Значит, нет? — резюмировал директор. — Воля ваша. Вы похитили этот документ, и я уничтожу вас.
— Вам тоже не во всем поверят, — заявил рабочий. И Геслинг почувствовал, что именно по этой причине так расстроено его семейство и так странно держится фон Попп. Этот случай, несмотря на всю его вздорность, пришелся очень кстати светскому обществу, всем этим завистникам и вымогателям… Взгляд, которым он обменялся со своей старой Густой, сказал ему, что они поняли друг друга: «Осторожно! Придется идти на компромисс».
Взяв рабочего под руку, он отошел с ним подальше. Никто не заметил его движения.
— Вот вам сто марок и покончим с этим.
— Вздор! — Рабочий повернулся и пошел на старое место.
— Тысяча, — деловито продолжал Геслинг.
Бальрих мрачно улыбнулся.
— Видите, вы сами верите этому письму.
— Две тысячи! — И тут же, словно игрок, охваченный азартом, добавил: — Пять тысяч… Последнее мое слово: десять!
Все та же угрюмая усмешка и покачивание головой. Директор в изнеможении спросил:
— Так чего же вы хотите наконец?
— Все, — сказал Бальрих. — Но не как подарок.
— Вы сошли с ума, — вскипел директор, но, вдруг присмирев, прошептал: — Вы ничего не добьетесь, если затеете скандал. Я предлагаю вам сто тысяч, и точка.
А Густа за столом лебезила перед Анклам.
— Милая госпожа Анклам, ваш жемчуг — просто чудо, — восхищалась она, хотя тот был явно поддельным.
— А ваш — настоящий? — с иронией осведомилась Анклам.
Густа было взвилась, но тут же величественно опустилась в кресло.
— Пожалуйста, проверьте сами. — И, сняв ожерелье, предупредительно надела его на гостью. На маленькой Анклам оно висело до колен.
— Ну, как? — спросила Густа.
— В самом деле, очень мило, — сказала Анклам. — А как по-твоему, дядя Попп?
— Побрякушки, — сухо ответил генерал, но, несмотря на его холодность, чувствовалось, что лед разбит.
Геслинг со своего места увидел, что Густа довела дело до конца. Тогда и он изменил тон.
— Теперь мы будем действовать по-другому, — заявил он. — До сих пор я, так сказать, вел с вами переговоры…
— И предлагали мне сто тысяч марок.
— Потому что хотел убедиться, до чего может дойти ваша наглость. Но переговоры кончены. Я твой хозяин и приказываю тебе отдать письмо!
Адвокат Бук взял на себя обязанность укротить Лени, которая то и дело вскакивала с места и пыталась что-то сказать. Но вот он засеменил к дверной нише, где, уронив голову на руки, сидела его жена. Он приподнял ее лицо, умоляюще заглянул в глаза. Увидев это, юный Ганс отошел в сторону.
— Мы сейчас в большой опасности, — шепнул Бук на ухо жене. — И виноват я.
Он прочел в ее взгляде восхищение.
— Ты действительно помог этому рабочему?
— Да. Вопреки интересам твоего брата.
— Ну, он уж как-нибудь перенесет это.
— А мы? — спросил Бук.
С застенчивой улыбкой она спросила:
— Если Дидерих отвернется от нас — мы погибли?
— Нам придется отказаться от привычной жизни.
— Я сделаю это охотно.
— А я — нет. Я буду держать его в руках. Как и до сих пор, он пойдет на все, ведь у него совесть нечиста и слишком многие помнят, что он смешал с грязью моего бедного отца. Я для него — живой укор, а в будущем стану и угрозой. — Полное актерское лицо Бука и в самом деле стало выглядеть угрожающе.
— И ты решился бы действовать против него?
— На это меня еще хватит. Если вопрос будет поставлен ребром, я возьмусь вести дело этого рабочего, и Дидерих увидит, как я сумею отомстить за все.
Эмми снова опустила голову.
— Все равно он будет давать нам деньги. Это невыносимо.
— Все стало невыносимым, — пробормотал Бук.
— Зеркало сюда! — приказала Густа слуге и, когда тот принес, сама подставила его маленькой Анклам.
— Только на вас, дорогая, этот жемчуг имеет настоящий вид, — сказала она, и в ее тоне чувствовалось самопожертвование. — При моих седых волосах… Но как я счастлива преподнести вам этот скромный дар в память о чудесных летних днях, за которые мы так признательны вам и вашему уважаемому дядюшке.
— Пожалуйста, пожалуйста, — вставил фон Попп.
Тем временем в конце террасы, хотя этому было трудно поверить, дело дошло уже до настоящей схватки между главным директором и его не в меру требовательным рабом. Геслинг на правах хозяина сделал попытку залезть Бальриху в карман, но в ответ последовал легкий толчок в грудь. Директор, покачнувшись, попятился до середины лестницы; затем вернулся на террасу и вдруг завопил:
— Он толкнул меня! Этот негодяй поднял на меня руку!
— Этот негодяй поднял руку… — повторило эхо. То был голос сына Крафта, а про себя этот молодчик, весь дрожа, добавил: «Каков негодяй!»
Горст набросился на рабочего, но тут же отлетел к чайному столу. Все, кроме Лени, вскочили и замерли на месте; слышались лишь приглушенные всхлипывания Густы, увидевшей, что супругу и сыновьям угрожает опасность.
А Ганс Бук схватил мать за руку и не отпускал до тех пор, пока она не встала и не ушла вместе с ним.
— Теперь начнется самое позорное, — побледнев, сказал Ганс. Бук-отец мелкими шажками последовал за ними.
Первым пришел в себя асессор Клоцше.
— Здесь налицо факт нарушения неприкосновенности жилища! И, кроме того, угрозы и покушение на жизнь! — заверещал он по-бабьи.
— И вымогательство! — заревел директор.
— Презабавный чудак! — стукнув кулаком по садовому железному столу, рявкнул фон Попп. Густа, Анклам и Гретхен пронзительно взвизгнули и заткнули уши, оглушенные собственным криком.
Бальрих решительно вырвался из окружения богачей. Расталкивая их и наступая всем на ноги, он выбрался из кольца. Когда Лени увидела его подле себя, она бросила свою чашку под ноги хозяйке дома и, опередив брата, прикрывавшего отступление, связанная своим узким платьем, с трудом спустилась по лестнице.
— Вы уволены! — ревел директор вслед рабочему. — Вы и вся ваша семейка!
— Вся ваша семейка! — глухим эхом отозвался Крафт.
И все, словно сорвавшись с цепи, тоже закричали:
— Вот каковы эти люди!
— А все от безбожия! — кричала Густа.
Раздался громовый удар — это генеральский кулак опустился на железный стол; Крафт тоже грохнул чем-то; Анклам забилась в истерике.
— Я разнесу этих бунтовщиков! — вопил Горст; отец его уже потерял от крика голос. Клоцше тоже верещал, стараясь произвести впечатление на Гретхен, которая визжала, не помня себя:
— Она кокоткой хочет стать! Кокоткой!..
Четверо малышей — Вольфдитер, Ральф, Бернгард и Фрицгейнц, отвлеченные шумом взрослых от игры, тоже сбежались на террасу; они дудели в трубу, кричали «му!» и кукарекали, а двухлетний Вольфдитер свистящим голоском без устали выкрикивал:
— Свинья паршивая!
— Вот каковы эти люди! — Густа, перегнувшись через перила лестницы, в пылу негодования грозила беглецам толстым пальцем в сверкающих кольцах: — Они нас по миру пустить хотят! — И, потеряв равновесие, вцепилась в ожерелье, висевшее на Анклам. Ожерелье рассыпалось. Два лакея бросились подбирать жемчужины. Анклам, позабыв про свою истерику, следила за тем, чтобы они ни одной не прикарманили. Но когда весь жемчуг опять оказался у нее, истерика возобновилась.
Все эти люди с искаженными лицами и глазам а убийц стояли, перегнувшись через перила, по примеру почтенной хозяйки, и ревели, как звери, — дамы, мужчины, дети, лакеи, готовые наброситься на отступающего врага — насильника и экспроприатора. Гром и рев! В этой битве за свою собственность и свои привилегии они, чуть не теряя сознание от ярости, не находили иного способа выразить свои чувства… И только Гретхен удалось разрядить грозовую атмосферу. Она вдруг перестала браниться и запела «Птичку». Вытянув тощую шею и чувствуя, что она сейчас упадет, девушка пела на весь дом: «Прилетела птичка…»[7]
Только очутившись за оградой виллы, бедные оглянулись: богачи все еще стояли в воинственных позах или метались по террасе. Лени показала им язык. В густеющих вечерних сумерках еще раз мелькнула перед ними озаренная закатом солнца вилла и вьющиеся розы, которые покачивались на ветру.
Они пошли прочь.
— Ну и задал же ты им, — сказала Лени. — Да и я тоже. Ты видел меня? — Она лихорадочно рассмеялась. — Это было самым прекрасным из того, что случилось в этот день. — Лени даже захлопала в ладоши. — Стоило пережить такое хоть раз, даже если тебя выбросят вон.
Они долго шли в пыли, окутанные багровой дымкой, и все нерешительнее замедляли шаг. Наконец Лени сказала:
— Ты молчишь. Как ты устал! А я-то…
Приподняв до колен узкую шелковую юбку и повиснув на его руке, она едва плелась.
— Дай я понесу тебя, — предложил брат.
— Кажется, вокруг всего света плясала я сегодня… — пролепетала она, когда он поднял ее на руки. Издали донесся шум, провыл клаксон, и мимо них промчалась машина, которая перед тем доставила их на виллу. Она быстро исчезла в облаке пыли. Было ли это на самом деле, или только почудилось им?
А среди пыли брел рабочий Бальрих и нес сестру, отяжелевшие руки которой обвили его шею. Засыпая, она шептала брату:
— Карл, родной мой, ничто не спасет нас! Нам все равно погибать.
Праздник в Гаузенфельде продолжался уже при огнях. По пустынным лестницам их корпуса Бальрих незаметно пронес Лени и за перегородкой опустил ее на кровать. Она вздохнула во сне. Он не решался снять туфли с ее ног, плясавших сегодня «вокруг всего света». Но на их запыленной коже остался след его губ.
В дверях стояла Тильда, как всегда, она кралась за ним, как всегда, молилась за него. В ушах же Бальриха еще звучали слова сестры: «Нам все равно погибать», и он обнял Тильду.
— Разве ты еще любишь меня? — спросила Тильда.
— Да, конечно.
И они вышли в ночь. Из-за туч пробился мягкий свет луны.
VI. Не уходи!
Что делать? Считать себя уволенным? Едва ли! Пусть даже Геслинг решил вычеркнуть из памяти письмо отца и плюнуть на все угрозы, — остаются же еще рабочие. «А они не за хозяина, они за меня. И то, что я им обещаю, этого он дать не может».
Только наутро Бальрих, наконец, успокоился и хотел было приняться за работу, но тут в дверях показался адвокат Бук. Бальрих даже не встал.
— Я вижу, вы удивлены, — сказал Бук и сел на кровать. — Напрасно вы удивляетесь. Я всегда говорил вам, что не рожден быть мучеником.
Он сидел развалившись, с развязностью старого бонвивана. Бальрих держался натянуто.
— Ваш образ действий мне претит, — сказал он.
Бук мягко возразил:
— Но вы знаете о нем только с моих слов.
— Что толку — знать! Вы должны стать лучше! — сказал рабочий, а у гостя вдруг пропала охота улыбаться. Потупив глаза, он вполголоса проговорил:
— Я хотел посоветовать вам немедленно уехать отсюда, и со всей вашей родней.
— Благодарю за совет. Я сам все обдумал. Что он может сделать со мной? Стачка ему обеспечена, если не кое-что похуже.
Бук покачал головой, но как-то с опаской, будто за ним подглядывали.
— Геслинг что-то задумал, — сказал он вполголоса, посматривая на дверь, — он сумеет одурачить рабочих, хотя бы на ближайшее время. Но ваш час еще пробьет. И даже очень скоро. Стоит рабочим пронюхать о той пакости, которую он готовит, А пока вам остается только стратегическое отступление.
Бальрих, насупившись, долго рассматривал гостя.
— А кто мне поручится, — сказал он, наконец, и многозначительно промолчал, — что не директор подослал вас ко мне?
Бук опустил глаза, некоторое время созерцая свои колени, потом вздохнул и поднялся.
— Ну, раз так, ничего не поделаешь. — И направился к выходу.
Однако Бальрих вернул его.
— Нет, я не считаю вас способным на это. — И резко добавил: — Значит, я должен убраться сам, покуда меня не выгнали?
— И со всей вашей родней, — добавил Бук. — Геслинг уже вчера потребовал, чтобы ему назвали всех ваших родственников, ваших двух братьев, обеих сестер, зятя с семьей и стариков — Динкля и Геллерта. Исключение сделано только для родных вашего свояка.
— Для Польстеров? Верно, ради инспектора Зальцмана, с которым она сейчас путается?
— Вот видите, как награждается добродетель, — заметил Бук, впадая в шутливый тон, но тут же сказал серьезно: — Всем вам надо жить, а это будет трудновато, особенно если вы будете учиться. На меня вы, к сожалению, уже не сможете рассчитывать.
— Я далек от этого, — пробормотал Бальрих.
Бук не преминул тут же заявить, что отныне будет лишен возможности тайком от Геслинга помогать ему.
— Ведь моя трусость вам известна, — насмешливо сказал адвокат и удалился.
Бальрих подумал: «Ему, верно, и в голову не пришло, что его могли здесь увидеть». Затем разбудил младших братьев: пусть собираются; потом отправился к Динклям:
— Мы уволены, надо уходить отсюда.
Малли заплакала навзрыд.
Динкль грозно выставил вперед ногу и заявил:
— Это мы еще посмотрим!
— Где Лени? — спросил брат. С первых же слов, сказанных Буком, Бальриха мучила только одна мысль: «Что будет с Лени?» Она еще спала. Он вздохнул с облегчением, как будто Лени могла уже узнать о случившемся и сделать то, чего он так боялся, — боялся больше всего на свете.
Что касается Динкля, то он был глубоко убежден в правоте своего дела. Пусть Геслинг еще какое-то время издевается над нами, так или иначе его время прошло и Гаузенфельд станет нашим. А то, что он выгоняет нас на улицу, только показывает, как он напуган.
Старик Геллерт, который тоже оказался здесь, неожиданно для всех вел себя с необычайной уверенностью. Он взялся выхлопотать у Клинкорума пристанище для всех. Ведь Клинкорум ненавидит Геслинга!
Геллерт оказался прав. Учитель разрешил всем поселиться в подвальном этаже, а своему ученику Бальриху отвел даже каморку в первом.
Переселение происходило как раз в то время, когда рабочие шли на фабрику. Уволенных окружили, и им пришлось остановиться со своими тележками среди дороги, огибавшей луг. Карусель была уже разобрана. Динкль, подняв руку, воскликнул:
— Мы кочуем, как цыгане, товарищи, но что наше, то наше, и скоро кто-то другой станет цыганом!
Все угрюмо ему поддакивали.
В подворотне между старыми корпусами рабочие обнаружили на стене большой железный лист с каким-то объявлением от главной дирекции.
— Ну, разумеется, насчет Бальриха! — раздался позади чей-то голос. — Кто будет бастовать из-за Бальриха, того тоже уволят. Но это мы еще посмотрим. Прежде всего — бастовать!
— Стачку! — кричали вокруг.
Впереди же, в подворотне, уже слышались другие речи. И чем больше людей протискивалось к листу и читало объявление, тем реже раздавалось слово «стачка».
Гербесдерфер, дочитав желтый лист, вернулся к Бальриху:
— Геслинг уже придумал выход: кто отступится от тебя, будет участвовать в прибылях.
Бальрих вздрогнул.
— Ах, вот что? Участие в прибылях? Значит, скоро он пойдет и на большее! Но неужели после этого кто-нибудь отступится от меня?
Рабочие недоверчиво поглядывали на Бальриха. Он сам едва ли верил своим словам.
— Геслинг напуган вчерашним. Уволил меня для виду и все-таки сделает то, что я хочу. Но это будет слишком большой победой, и так легко ее не добьешься.
Он ринулся в подворотню, пробился сквозь толпу, стал читать… Когда он вернулся, усмехаясь, его обступили и стали расспрашивать, почему он смеется, они не привыкли видеть его смеющимся.
— Да вам же снизят заработную плату. Этого-то вы и не прочли. Это, конечно, напечатано таким мелким шрифтом, что и не разберешь.
— Но зато мы будем получать прибыль.
— О, об этом объявлено саженными буквами! Но достигнет ли она вашего скудного заработка? Навряд ли вы здесь выгадаете.
Рабочие обозлились.
— Шутка ли — фабрика в Гаузенфельде! Сотни тысяч дохода дает! — сказал кто-то.
— А вы что, войдете в долю? — спросил Бальрих.
Тут послышались робкие голоса насчет того, что он говорит это от зависти. Тогда Бальрих замолчал: им хотелось верить, лишь бы верить — ему или Геслингу — все равно, кто обещает им счастье в ближайшем будущем, тому и верить.
Тогда выступил живший обычно в достатке механик Польстер и стал поучать рабочих:
— Участие в прибылях — вернейшее средство для поднятия благосостояния тружеников и лучший способ примирить рабочих с предпринимателем. — Объявление дирекции он знал уже наизусть.
Гербесдерфер возразил:
— Предпринимателя-то мы видим насквозь…
Это замечание многих озадачило. И тут-то, собравшись с духом, выступил Яунер. Правда, господа из руководства незаслуженно обвинили его и чуть было не отправили в тюрьму, но сегодня он чувствует, что его долг сказать: «Шапки долой, товарищи!» В ответ раздались возгласы: «Доносчик!» И люди разочарованно поплелись на фабрику.
Несколько рабочих подошли к Бальриху.
— Даже если это правда, и мы будем участвовать в прибылях, то это еще не все. Ты нам понадобишься и дальше, Бальрих.
Ему жмут руку.
— Да здравствует Бальрих! Стачка! — выкрикивали отдельные голоса.
Но Бальрих сказал:
— Бросьте, товарищи! Я знаю другой путь. Надо выждать!
И он потащил дальше свою тележку; за ним Динкль и Малли везли свои, на одной лежал новорожденный ребенок Малли. Тележки подталкивали младшие братья Бальриха. Дети Динклей семенили рядом. Лени с ними не было. Старик Геллерт вел их к новому пристанищу.
То были две комнаты, окна — вровень с землей. Каморка в первом этаже с окном на север была ничуть не светлее, но посуше. Бальрих здесь занимался, а спала в ней Лени. Ей удалось устроиться модисткой, и возвращалась она домой только вечером. Динкль вскоре нанялся в городе золотарем, и Малли каждый день приносила ему обед на шоссе. Сама же она выполняла всю тяжелую домашнюю работу у Клинкорума. Кое-как зарабатывали на кусок хлеба. У Геллерта малярной работы стало даже больше прежнего.
Все обошлось… Но в подвальных комнатах стояли полумрак, нестерпимая сырость и запах нечистот, который приносил домой Динкль, словно это был основной запах всего Гаузенфельда, его вековой грязи и нищеты. Читая у себя наверху, Бальрих слышал, как под ним в подвальном этаже колотят друг друга дети Динкля и непристойно выражаются. Иногда неожиданно появлялся Геллерт, кончавший работу когда ему вздумается. Он напивался, поил водкой детей и позволял себе всякие гадости. Тогда они, визжа, убегали из дому, а годовалый малыш, которого бросали, ревел, пока не прибегала Малли… Бальриху было стыдно, и от встреч со старым распутником он уклонялся. Только сестре своей Малли он посоветовал получше присматривать за дочерью. Ведь одиннадцатилетняя Лизель уже строит глазки мужчинам. Сестра же только горько плакала, опустив седую голову. Она знала больше, чем он. Но что будет с ними, если Геллерт выгонит их на улицу?
— Скоро я начну зарабатывать, и мы найдем квартиру получше, — утешал ее брат.
Он тут же отправился к Клинкоруму и заявил, что согласен заниматься со всеми учениками, которых ему предложат. До сих пор он брал ровно столько, чтобы оплатить свое скудное содержание. Отныне он решил, что будет давать уроки весь день. Клинкорум доставал их ему без всякого труда, и Бальрих снова просиживал ночи напролет при свете лампы…
Он делал это ради Лени… Динклевы дети — это еще не самое худшее. Нестерпимо было видеть, как Лени в легком пальто на поддельном меху, в модной шляпке, шурша юбкой, обрисовывающей ее стройные бедра, в туфлях на каблучках легким, быстрым шагом возвращалась с работы. Но едва она входила в сад, как выражение недовольства уже омрачало ее лицо. По ступенькам в подвальный этаж она спускалась осторожно, чтобы не попасть в грязь; подойдя к двери, похожей на расшатанный гардероб, и пересиливая отвращение, она рукой, затянутой в белую перчатку, бралась за скобу… Брат уводил ее из дома обедать: пусть как можно меньше времени проводит она в этом нищенском логове. Но вот однажды вечером, переступив порог своей комнаты, Лени увидела новую белую мебель, розовый полог над кроватью и туалетным столиком. Она оторопела, потом обернулась, — в дверях стоял брат; на лице ее он прочел только жалость. Тогда он понял, что все напрасно. И теперь, когда и эта последняя попытка оказалась тщетной, страх, безмерный страх за сестру овладел им.
Лени обняла его, словно желая поблагодарить. Но он знал, что это была просьба не винить ее и что она прощалась с ним. С Лени он не мог лицемерить.
— Не уходи! — сказал он хмуро, и все же в его тоне звучала мольба.
Ее золотисто-карие глаза наполнились слезами.
— Если бы я могла, — промолвила она тихо. — Но мне трудно ходить в такую даль. Да и по вечерам работа иногда кончается очень поздно.
Всхлипывая, она целовала брата, только бы он ей поверил, только бы не спрашивал ни о чем.
Потом он сидел внизу у раскрытого подвального окна, прислушивался и ждал, когда все стихнет в ее комнате. За стеной лежавший в постели старик Геллерт бранился, ему было холодно… А когда наверху все смолкло, брат стал ждать ее пробуждения. Задолго до рассвета ему послышался какой-то шорох. Ветер ли пробежал по верхушкам деревьев, или треснул сучок в саду, или со стен что-то посыпалось? Скрипнула дверь, гравий зашуршал на садовой дорожке.
Скорее! Остановить ее! Спешить, лететь и чувствовать, что ноги твои приросли к земле, что тебе никогда не догнать ту, которая ушла из дому.
Калитка хлопает, она слышит за собой погоню, она бежит… Прыжок — и он схватил ее. На шоссе, в холодном предрассветном сумраке, дрожа, стоят брат и сестра и стараются заглянуть в лицо друг другу, но мысленно видят это другое, истерзанное мукой и злобой лицо.
Брат старается вырвать картонку у нее из рук, она тянет ее к себе…
— Лени. И это ты? Ты, для кого я делаю все на свете! Они предали меня, они заодно с Геслингом, а ты — с его сыном?
— Нет! — воскликнула она в исступлении.
— Я знаю, к кому ты идешь! Ты больше не работаешь в мастерской, ты уже не работница, ты…
Но Лени не дает ему договорить.
— Все это ложь!
— Ты шлюха!
Она всхлипывает в последний раз и внезапно жестко бросает ему в лицо:
— Да. Это правда, а теперь пусти меня!..
Она устремляется вперед, но он не отходит от нее и продолжает осыпать бранью.
— Это ты обманщик! — кричит она. — Обольщаешь людей своей сладкой ложью! Что ж, и мне стать такой, как Малли?
Тогда он замахивается на нее, но рука замирает в воздухе.
Она убегает, как тень в ночи. Он зовет, он кричит ей вслед:
— Ты всегда только обманывала меня, всегда! И, повернувшись, идет назад и говорит, говорит, как будто сестра еще рядом с ним.
Но Лени исчезла. Стих легкий шорох за его спиной, который он слышал, сидя в своей комнате, углубленный в книгу. Уже не будет этих встреч, когда он бежал к ученику, а она — к клиентке и они шли вместе часть пути. Он едва видит ее силуэт, вот она уже скрылась, свернула за угол. Ушла, жестокая предательница! Ушла, обожаемая сестра! И вот он устроился в этой комнате, которую она отвергла, в комнате, обставленной для нее в рассрочку. С ним только книги, и он знать ничего не желает, кроме того, что написано в этих презренных книгах.
Да, он презирал их! Что они могли ему дать взамен его утраты, какой мести за судьбу сестры научить? И чтобы не напрасны были все его старания, он весь отдался заботам о своих младших братьях, о их пропитании и учебе, только бы поставить их на ноги, чтобы один мог работать потом в книжной лавке, другой — монтером. Пусть они не упрекают его впоследствии, как упрекнула Лени, что он обманул их и разбил им жизнь. И если его дело кажется всем несбыточной мечтой, то пусть эти двое станут бездушными мещанами и копят грош за грошом. Он видел, что все его товарищи ни о чем другом и не помышляют, что у них нет иной цели в жизни. Справедливость? Всеобщее счастье? Сытое брюхо им дороже. Даже для настоящей ненависти нет у них силы. Разве они ненавидели Геслинга? Да ему достаточно было пообещать им участие в прибылях, и они поверили ему так же охотно, как до того верили мне. Знай же, жалкий человек, что ты боролся напрасно! Ты им не нужен! Они предпочитают обман. Чтобы ты ни делал, верь лишь в себя и в свою ненависть: у тебя ничего не осталось, кроме нее.
Но совесть подсказывала ему, что он клевещет на них. Жестоким и чрезмерным было его требование, чтобы ради него они бросили все, бастовали и голодали. Ведь он сам отговорил их от стачки и все-таки ждал ее. Не ученье ли всему виной? Эти книги, в которых говорилось лишь об идеях, а не о хлебе, не они ли мало-помалу оторвали Бальриха от рабочего класса, и вот он, облеченный в черный пиджак, сидит в уютной комнате полный своих размышлений, которых физический труд уже не мог ему заменить. Да, он уже не рабочий! И он стал избегать своих товарищей. Вернувшись из города после уроков, он забирался в сад или уходил в свою комнату и даже не слышал, когда его окликали. Он видел, что Геслинг уже не раз подозрительно кружит возле дома Клинкорума, однако у Бальриха не возникло желания подстеречь его. Он торопливо проходил и мимо адвоката, которого перестал уважать, мимо своих товарищей, которые покинули его в беде, и упорно уклонялся от встречи с юным Гансом, сколько бы мальчуган ни бегал за ним и ни стучался к нему. Однажды Ганс вынужден был заговорить с ним через дверь, но, услышав имя Лени, Бальрих осыпал его самой грубой бранью и прогнал. Правда, потом он пожалел об этом: все же Ганс — славный малый. Но ненависть к людям была сильнее его. Ему вдруг вспомнился тот молодой блондин в сумасшедшем доме, который спросил его:
— Любите ли вы?
Нет, Бальрих не хотел любви. Без нее он чувствовал себя сильнее.
Однажды, в декабрьскую метель, к нему прибежала Малли. Она ворвалась в комнату, размахивая руками и отчаянно рыдая. Случилось то, чего она так боялась…
— Старик и Лизель, — всхлипывая, проговорила Малли, — ведь она же еще дитя, и вот… Что делать? Мы уже обжились здесь, а теперь надо снова уезжать!
Брат был сражен этим больше, чем всем остальным.
Он спустился с ней вниз. Девочка куда-то убежала, а Геллерт улегся в постель и, прикинувшись больным, заскулил:
— Налей-ка мне можжевеловой настойки, иначе я окочурюсь!
И матери маленькой Лизель пришлось дать ему водки. Но когда Бальрих напустился на Геллерта, тот снова залез под свою клетчатую перину; только слезящиеся глазки поблескивали оттуда.
— Я же знаю, вы добрые люди, вы не бросите старого Геллерта, не уйдете отсюда. — И он посмотрел на них, жалостно мигая. — Ведь последний кусок делили, тут каждый посмотрел бы сквозь пальцы…
Бальрих плюнул в его сторону, и старик снова забился под перину.
— Мы съедем отсюда, и вместо твоего сарая я найду достойное человека жилье, — крикнул Бальрих.
Геллерт, подавленный, заскулил:
— Ну, еще бы! И работу найдешь для Малли и для Динкля и для себя уроки. Какое вам дело до старика? А кто помогал тебе все это время? Этот жалкий Бук, что ли?
Старик даже подмигнул ему. Бальрих бледный, дрожа от гнева, едва сдерживался.
— Сядь и успокойся, — сказал старик и выполз из постели, причем оказалось, что он даже не раздевался. Геллерт свесил длинные ноги, старческое личико в лиловых морщинах вдруг оживилось, и он заявил с хитринкой:
— На мой век еще найдутся добрые люди и кроме вас! Старине Геллерту стоит только подмахнуть свое имя, и у него будут деньжата до конца его дней.
Сжав кулаки, Бальрих уже ринулся вперед. Старик хотел было снова скользнуть под перину, но Бальрих схватил его за плечи и стал трясти.
— Ну, что ж, иди! Предай нас! Продай Геслингу наши права! Выдай их, твоих товарищей — рабочих, и проваливай с деньгами, которые добыты их потом и кровью!
— За собой лучше смотри! — задыхаясь, вопил Геллерт. — Если я богу душу отдам, вам-то какой прок?
Бальрих оттолкнул его, оба стали приводить себя в порядок. Старик, охая, продолжал:
— И Бук, и Клинкорум, и все эти господа только и жаждут насолить Геслингу. Не прикидывайся дурачком, — это они хотят, чтобы ты сделался адвокатом. Но если умрет старый Геллерт, а вместе с ним и его права, — на что вам тогда адвокат?
Бальрих сдался. Да, старик прав. Он впервые это признал. Раздавленный жестокой истиной, Бальрих попятился к двери, как вдруг она, словно под напором бури, широко распахнулась, на пороге показались Гербесдерфер и Польстер. Они явились сюда в надежде застать Бальриха врасплох; они уже слышали про семейный скандал у Динклей: дети разболтали о нем во дворе.
— А Динкль!.. — заскулила Малли в новом приступе отчаяния, — он убьет меня, если узнает!
Ей хотелось излить свое горе перед гостями и найти у них утешение, но Геллерт, почувствовав себя снова хозяином положения, выгнал ее из комнаты.
Не успев войти, Гербесдерфер спросил:
— Что же теперь будет?
Бальрих, засунув руки в карманы, прислонился к двери. Он устало спросил:
— С кем?
Гербесдерфер подскочил к нему:
— С нами! С нашими правами!
Бальрих исподлобья уставился на него. Польстер, стоявший перед ним, с обычным для него выражением собственного достоинства, степенно и твердо возразил:
— Какие там права! Люди это люди. Как постелешь, так и поспишь.
— Совершенно верно, — язвительно заметил Бальрих и при этом вспомнил о жене Польстера.
Но Гербесдерфер не отступал. Глаза его за круглыми очками все так же горели фанатизмом:
— Ты должен действовать! Все твои приверженцы отпали! Они уже не видят впереди ничего, кроме горя и нужды. Зачем же ты их растравил?
Бальрих язвительно заметил:
— А участие в прибылях?
— Вернейшее средство, — подхватил Польстер и повторил на память директорское объявление; затем принялся разъяснять его выгоды.
— Это все равно как если бы у каждого из нас было собственное маленькое предприятие, и притом мы бы не несли никакой ответственности за него.
— Все это иллюзии! — сказал Бальрих.
— Пусть… Если бы даже… ни один из нас не нес ответственности, — начал Гербесдерфер, запинаясь от негодования, — но ты, Бальрих, ответишь! Что ж, так и будет дальше — этот обман и грязь вокруг нас? Нет, тогда… — Он уставился на Бальриха и, снова запнувшись, с трудом докончил: — Тогда тебе остается только одно — поджечь фабрику.
Бальрих, словно оттолкнувшись от стены, сделал шаг вперед.
— Я не за это боролся, — угрожающе сказал он.
Гербесдерфер был изумлен:
— Не ради нас?
— Так слушайте же, — я свой путь знаю, а до ваших историй мне дела нет!
С этими словами он вышел.
— Предатель! — крикнул ему вслед Гербесдерфер.
— Разумный парень, — заметил Польстер.
Без шапки, в одной куртке шел Бальрих по улице, борясь с бурей.
— Меня им не провести! — воскликнул он вслух. — Стать поджигателем и попасть за них на каторгу? Им хотелось бы совсем убрать меня с дороги, вот что! Я мешаю их мещанскому покою; и они подсылают ко мне этого болвана Гербесдерфера. — Бальрих расхохотался. — Охотно верю, что и ваш товарищ Геслинг с радостью избавился бы от меня, но я еще выведу его на чистую воду.
Вдруг он на кого-то наткнулся. Оказалось — это старик Динкль. Полы его ветхого плаща развевал ветер. Держа жестяной котелок в окоченевших руках, он плелся в закусочную за милостыней. Ветром снесло его шляпу. Бальрих бросился за ней и поднял — старенькая, жалкая шляпенка, не лучше тех, что выкидывают на помойку, но почему-то тяжелая, странно тяжелая. Ах, вот почему! Пыль бесконечных дорог, смешанная с потом, — вот отчего она такая тяжелая.
Старик смиренно проговорил!
— Честь имею, сударь.
Тут Бальриху почему-то вспомнилось, что в детстве старик однажды отколотил его, и он сказал:
— Ваш сын велел передать вам эти деньги.
Он отдал старику все, что у него было при себе, и пошел дальше. Продолжая блуждать без цели, он думал: «Они слишком бедны, что можно с них спрашивать? Все мы так бедны, что не может быть и речи о каких-либо требованиях или правах».
Бальрих почувствовал, что и он такой же, как все. Ни его миссия, ни испытания, ни душевная борьба — ничто не изменило его. Всю жизнь ты в тисках нужды — вот твой удел, бедняк. Высокие порывы самопожертвования заказаны тебе, бедняку. Ты еще не успел восстать, а ружья уже ощетинились тебе навстречу, и выбора у тебя нет: так и так — смерть. Или же и впредь жить крохами с чужого стола. Их бросают тебе, а ты даже спросить не смеешь, кто и откуда. «Почему же Бук бросает их мне? Платит и Клинкоруму и Геллерту? Что это — эксперимент, фокус? А про себя, конечно, думает: какое еще там право? Какая победа? Какая борьба? Но это бесит кое-кого, — вот почему рабочий должен стать юристом. Тогда-де мы увидим, думает Бук, что останется у юриста от его идеалов!»
И Бальрих, истерзанный мукой, крикнул навстречу буре:
— Идеал в трущобе Геллерта! Его утопили в грязной луже! И каким же бесстрашным должен быть тот, кто выловит его оттуда…
От заснеженных полей тянуло ледяной сыростью. Там, в «рабочем» лесу, мелькнула и скрылась чья-то тень. Бальрих едва разглядел ее. Он шел, сраженный крушением всех своих надежд.
«Почти два года прошло с тех пор, как я встретил здесь бедную Тильду. Много горя было у нее тогда: я дал ей счастье. Это все-таки уже кое-что. А с тех пор — что сделано мною?»
Он размышлял о своем единоборстве с Геслингом и о том, к чему оно привело.
— Хорошо! — угрюмо сказал наконец Бальрих. — С иллюзиями покончено! Но действительность? Где та твердая почва, которая необходима для борьбы? Пожелтевший клочок бумаги в кармане — вот все, чем я располагаю; и это должно стать мечом, которым я одолею мир, новым евангелием, которым я все в нем переверну?.. — Мощные силы, отделявшие рабочего от его врага, только теперь предстали перед ним во всей своей осязаемости. — Попытайся пробиться! И ты будешь обращен в ничто, меркнущая искра от горевшей мысли — вот все, что от тебя останется.
Он остановился и, сжав голову руками, застонал. «Что это было со мной? Значит, они оказались правы, послав меня туда, где молодой блондин был так добр, что разрешил мне на время предаться моему безумию? Безумию, которое не имеет названия».
Он боролся за свою веру, но она покинула его. Он обрел ее в образе Лени, но Лени отвернулась от него.
«Не уходи!» — молил он, простирая руки, но и на этот раз она ушла.
На опушке голые ветви стонали под натиском бури; в лесу стало тише. Ледяной воздух, пропахший плесенью, дышал в лицо; ноги вязли в прелой листве. Внизу лежало озеро, уже затянутое тонкой коркой льда; ветер гнал по нему блеклые листья и черные сучья, они кружились и исчезали в полыньях. Вдруг среди полного безлюдья его взгляд различил очертания женской фигуры. Тильда… Он сначала не узнал ее, но чутье подсказало ему, что это она. Скамья возле тропинки, ведшей к озеру, почернела от сырости. Здесь сидела молодая женщина, съежившись, надвинув до самых глаз черный платок. Он увидел на сером фоне льда ее серый профиль. Выделяясь на бледном небе, деревья словно обступили ее траурной толпой.
Он хотел окликнуть ее, но удержался. Он видел, как плечи и колени ее опускаются все ниже, и не верил своим глазам. Вот она соскользнула на землю, подняла руки, вздрагивая и словно сбрасывая с себя какую-то ношу, платок упал с ее плеч, и ветер унес его в воду. Она легла на грудь и поползла к воде, точно собираясь напиться или ожидая найти там спокойную постель.
Он побежал за ней. Ему казалось, что он кричит во весь голос и только ветер мешает ей услышать его зов. Он спрыгнул с обрыва, упал в яму с побуревшим снегом, выкарабкался, кинулся вперед. Лицо ее было в воде, и уже погрузилась грудь. Осколки льда исцарапали ей щеки.
Бальрих привел Тильду в чувство, снял шерстяной свитер, который носил под курткой, вытер ее тело, укутал девушку, затем отвел назад на скамью. Ее широкоскулое, осунувшееся лицо было безучастно. Как будто она еще не вернулась оттуда. Он взял ее жесткую, холодную руку и стал смотреть туда же, куда был устремлен ее взгляд. Так они сидели долго, не проронив ни слова. Он робко придвинулся к Тильде и, обняв за плечи, хрипло прошептал:
— Не причиняй мне горя!
— Тебе? — проговорила она, вставая.
Но ему пришлось поддержать ее. И едва они вышли на ровную дорогу, как она стряхнула с себя его руку. Он скользнул по ней взглядом и увидел, как она изменилась. Грудь ее опала, живот торчал.
— Из-за этого? — спросил он.
— Из-за этого, — ответила она, не поворачивая головы. — Я не хотела, чтобы мой ребенок голодал, чтобы ему было хуже, чем тому, который лежит там, на кладбище.
— Разве ты голодаешь, Тильда?
— А ты не знал? Не хотел знать… — ответила она сурово.
Он опустил голову и отодвинулся от нее… «Я избегал ее, я не хотел знать, что и ее уволили из-за меня, что и она терпит лишения вместе с ребенком, который у нее от меня. Я веду себя так, как вел бы себя мой злейший враг. Любой буржуа не мог бы поступить хуже. До чего я дошел!»
Он чувствовал себя недостойным сказать ей хоть слово в свое оправдание. Они добрались до хибарки на дальнем поле, где она жила. Здесь Тильда свалилась без сил. Он отнес ее в каморку под лестницей, положил на кровать и остался подле нее, пока она не заснула. Затем принес ей поесть, хозяевам дал денег, пообещал еще. Все это для нее. Ему незачем было работать ни для той, которая ушла, ни для тех, кто предал его, ни для себя, с тех пор как он утратил веру. Только ради нее стоило еще трудиться.
Она проснулась и поела. Тогда он сказал:
— Я хочу жениться на тебе, Тильда.
Но она жестко ответила:
— Ты не сделаешь этого.
Он еще раз мягко повторил свою просьбу. Наконец она сдалась, смягчилась, заплакала: пусть поклянется, что любит ее. Он поклялся, и она поверила ему. А он ушел, уверенный в глубине души, что солгал, что, утративши любовь, осужден всю жизнь только ненавидеть.
Как-то вечером, возвращаясь домой в ранних сумерках, он натолкнулся на Геслинга. Главный директор собственной персоной оказался в саду Клинкорума, он, видимо, кого-то поджидал. Его машина стояла возле дома, скрытая, как бы случайно, в тени стены.
Бальрих заметил и второго человека, но тот быстро исчез. «Должно быть, Геллерт, — подумал Бальрих. — Богач опять приехал искушать его». Тут он вспомнил еще одно подозрительное обстоятельство: когда он на днях вернулся домой, то обнаружил, что в его письменном столе кто-то рылся. С грозным видом вышел он в сад. Геслинг, против ожидания, не сделал попытки уклониться от встречи, он решительно выступил из-под заснеженного куста и, тяжело дыша, сказал:
— Эй? Долго ли вы тут еще будете шляться?
— А вы? — отозвался рабочий и пошел прямо на него, точно никто и не стоял на его пути.
От толчка Геслинг покачнулся и отступил в кусты.
В это время наверху звякнуло окно, и раздался голос Клинкорума.
— Так не поступают, господин тайный советник, — прозвучал с высоты голос, и среди мрака, как бы окруженная ореолом, над ними появилась ученая голова, продолжавшая вещать с однообразной торжественностью: — Богач надругался над высшей святыней — над человеческим достоинством и даже не помышляет о расплате!
— Напротив! — воскликнул Геслинг.
— Все это одни слова! — вновь прозвучал неумолимый, как у судьи, голос. — И горе тебе, ибо мститель стоит уже за твоей спиной!
Клинкорум обращался к Геслингу на ты, так же как и к Бальриху:
— А ты, мой мститель, хватай его! Действуй!
Однако богач не стал дожидаться и дал тягу.
Бальрих вдруг понял: «И у этого дела плохи!» Рабочий считал, что видит перед собой победителя, ибо сам был побежденным. Но разве мы побеждены, если победитель боится нас? Сила теперь на стороне Геслинга, я всеми покинут, ему верят. А вот Геслинг себе не верит. Победители знают, что торжествовать уже недолго. Их удел — становиться с каждым днем все более жестокими, чтобы хоть на время удержать власть. Зависеть от Геллерта и входить в сомнительные сделки с Клинкорумом — так ли выглядит победа? Ради чего же тогда ведется борьба?
Вдруг между оголенными деревьями сада небо зарделось, словно вспыхнул пожар. Клинкорум выбежал на балкон, а Бальрих, оглянувшись, увидел огни, плывшие над луговиной: то были факелы. Навстречу приближающейся легковой машине загремела музыка. Пыхтя и буксуя, машина выбиралась с проселка. Теперь она шла тихим ходом, окруженная факелами, впереди духовой оркестр. Какой победоносный вид! Геслинг, сидя в автомобиле и приподняв цилиндр, благодарно раскланивался во все стороны. На лице его, казалось, вспыхивали багровые отблески сражения. Лица рабочих, словно выхваченные из мрака, были обращены к Геслингу. Под скулами лежали мертвенные тени, рты, точно автоматически, открывались и закрывались; люди приветствовали своего владыку диким ревом. Впереди всех шел и орал приветствия Яунер, позади Польстер, а посредине надрывался Крафт. Кто-то размахивал факелом, и красные блики скользили по его судорожно открывавшейся челюсти, по раздутым ноздрям, вдыхающим запах всех этих мужских тел. Но куда устремлен его растерянный вожделеющий взгляд? На Бальриха… Его ищет, ему машет изнеженной рукой, его призывает, самозабвенно ликуя, сын Геслинга Крафт…
«Я виновник всего этого, — сказал себе Бальрих, — вся эта комедия направлена только против меня». Людской рев вокруг Геслинга смешался с музыкой, ноги отбивали такт, — Геслинг удалялся. Какое победоносное зрелище!
Кто-то отстал, задержался в тени. То был Гербесдерфер; он подошел к Бальриху.
— Вот видишь, — забормотал он срывающимся от ярости голосом. — Ты не хотел поджечь фабрику, так они теперь зажигают факелы. Факельное шествие в честь щедрого благодетеля, даровавшего им участие в прибылях! Что тут поделаешь! При низкой заработной плате они получают сейчас больше, чем получали раньше при более высокой. Теперь он всех нас держит в руках и, видишь, победителем укатил в свой княжеский замок.
— Не очень-то крепко он вас держит, — заметил Бальрих и пошел прочь. Ночь сомкнулась за ним.
А тем временем главный директор, упоенный победой, держал речь с террасы замка. Он приказал угостить пивом всех участников торжества во флигеле для прислуги, а сам кичливо похвалялся в кругу своей семьи великой ответственностью, которую возложил на себя. Затем вместе с сыновьями совершил обычный вечерний обход, осмотрел самострельные ружья и ушел к себе; вокруг него тоже сомкнулась ночь.
Лежа в постели, он самодовольно предавался размышлениям о том, что любовь народа стоит любых затрат. Как трогательны эти люди в своей доверчивости! Они воображают, что всегда будут участвовать в прибылях и что жизнь их отныне будет мирной и радостной. О нет, бог судил иначе. «Мне была бы грош цена, если бы я настолько не понимал своих интересов. То, чего желают эти люди, распылило бы целое, воплощенное во мне, я же обязан перед своей совестью расширять это целое, расширять неустанно, независимо от того, выдержит ли отдельная личность или погибнет. Важно только целое, целое как самоцель, и целое — это я».
Но отдельные личности, разумеется, можно только принудить к пониманию, и если эти взрослые дети даже трогательные своей наивной верой, их все же нужно остерегаться, ибо вера в мир и счастье — вещь крайне опасная. Пока люди не смирятся перед неизбежностью, их придется вести тернистыми, быть может, кровавыми, путями. А тем временем тот, кто ответствен за них, должен участием в прибылях усыпить их бредовые мечты. Рабочие уже забыли своего подстрекателя, того, кто обещал им целое, — целое как путь к миру и счастью!
Напрасно директор то включал, то выключал свет, — сам он никак не мог забыть того человека. Где-то там сидит он, светлая точка во мраке, сидит, бодрствуя в ночи и трудясь ради пожелтевшего письма, лежащего в его кармане. Клочок бумаги, ничтожный до смешного перед накопленной десятилетиями законной властью. Но что, если в один прекрасный день о своем праве завопят тысячи — какими средствами борьбы он будет располагать? Увольнениями, фон Поппом, тюрьмой? Но этого мало. Раньше Геслинг считал, что этого достаточно, пока не явился тот. Да, его надо убрать — любой ценой! А этот Клинкорум, приютивший Бальриха, сразу использовал ситуацию и загнул бешеную цену за свой сарай! Но заплатить ему — значит открыто признаться в своей трусости… Нет, необходимо убрать того человека ради спасения целого, чтобы раз навсегда избавиться от фантома, который они называют правом, от неуловимого призрака, растлевающего умы, бесплотного перед существующей властью и все же подтачивающего ее.
Директор застонал в темноте. Жутко вспомнить то время, когда вымогатели еще оберегали свою тайну, эту мистическую легенду о праве обездоленных на какое-то наследство, измышление старого забулдыги, поддержанное рабочим, изучающим латынь. Тогда казалось, что ступаешь по минному полю, тогда он трепетал на каждом шагу. Теперь все ясно. Мины разряжены, тайный враг оказался репетитором в потертом пиджаке. Как будто остается только плечами пожать. А вместо этого…
А вместо этого… директор застонал; он вдруг увидел лица, услышал голоса и, заметавшись в своей развороченной постели, тщетно старался отогнать, как отгоняют кошмар, все эти слухи, язвительные вопросы, злословие и клевету, которые, казалось, готовы были задушить его. Много врагов, много чести. Но если все, кто пожимал ему руку, даже этот подагрик генерал фон Попп, если все они будут смотреть на него, как на обреченного, сомневаться в его праве на собственность, а Гаузенфельд, эту твердокаменную скалу, не будут больше считать несокрушимой, тогда может настать минута… и разве она не настала? В переговорах с властями на крупные поставки его противники не раз пускали в ход то же оружие, которое носит в кармане этот рабочий. Он уже слышал те же намеки на собраниях своих акционеров. Это уже не мистика, не утопия. Сама жизнь хватает тебя за горло. Враги подкапываются под тебя. Воскресшие Каталины вырывают у тебя из рук то, что дано тебе свыше — священную собственность и власть![8]
Директор сбросил с себя одеяло и выпил воды. Он хорошо знал этих людей, знал, на что они способны в своей алчности, даже такой непритязательной и убогой, в своей жажде жить иначе. За одно слово завистники посадят тебя в тюрьму, все у тебя отнимут. Что сумел делать ты, сумеет и тот…
У Геслинга стучали зубы. Его тряс озноб…
Когда-то ты был молод, теперь молод он. Враг уже занес над тобой нож, — что может спасти тебя? Опереди его! Все средства хороши ради такой цели! Пусть прольется его кровь! Бей его!
Директор дал тревожный звонок. В доме забегали, засуетились; он же, вооружившись скомканным атласным одеялом и размахивая бритвой, вопил: «Бей его!» Жена и сыновья нашли его вконец изнемогшего и тут же послали за врачом. Машина помчалась по шоссе.
Бальрих, сидевший за столом, слышал, как она пронеслась мимо; огни фар упали на дорогу и исчезли во тьме. Догадка осенила Бальриха: «Теперь враг трепещет! Это из-за тебя, как было устроено из-за тебя же недавнее факельное шествие. Богач завладел всем, он лежит на гробнице справедливости и подобен зверю, высеченному из камея, слишком грузному, чтобы можно было своротить его с места. Но этот зверь, хоть он и каменный, а боится тебя и охотно выкупил бы у тебя твое право… А ведь тогда он всерьез предлагал тебе сто тысяч… Ты в любую минуту можешь их получить!»
Бальрих поднялся из-за стола и забился в угол. «Ты готов продать право своих братьев — вот куда привели тебя сомнения! Ради собственной преступной выгоды! Ты отказался от открытой борьбы за это право, тайком хотел воспользоваться им лишь как отмычкой и стать тем, за кого они выдают тебя — вымогателем! — Он схватился за голову. — Нет, это не мои мысли! Надо быть таким же хитрым, как он. Я могу продать ему фальшивку или тайком подготовить свидетелей перед тем, как мы будем торговаться, — тогда он у меня в руках! Все средства хороши! Нож к горлу!»
Так прошла ночь, прошла она и на вилле «Вершина», у Геслинга.
Днем, в городе, Бальриха догнал Ганс Бук. От него не так легко было отделаться.
— Я открою тебе одну тайну, — сказал Ганс. — Он боится.
— Оставьте меня в покое! — резко ответил Бальрих.
Но мальчик упорно продолжал говорить:
— Это касается тебя. Он даст все, что ты потребуешь.
— Пусть отдаст то, что принадлежит мне по праву.
— Сто тысяч марок, он опять предложил эту сумму.
Бальрих вздрогнул.
— Ты врешь!
Но подросток только лукаво усмехнулся.
— Так ты еще не забыл об этих марках! Возьми же их!
Бальрих угрожающе ответил:
— Только богатому барчонку может взбрести на ум такая мысль! — И, полный ненависти к своим ночным раздумьям, он гневно бросил ему в лицо: — Воры вы, каждый на свой лад. Мое право — это право всех!
Шестнадцатилетний юноша вспыхнул и решительно сказал:
— Уж очень ты загордился! Увидишь еще, что я не хуже тебя. У меня тоже все отняли, и я Геслинга ненавижу. А ты… — Ганс гордо выпрямился, — ты способен только ненавидеть. Ты никого не любишь.
Бальрих не пытался уже отделаться от юноши. Он замедлил шаг.
— Даже ее, — проговорил Ганс вполголоса.
— Ты видел Лени? — также понизив голос, спросил брат. — Ей плохо живется?
Бальрих был уже возле дома, где давал урок, но прошел мимо Лихорадочным шепотом Ганс торопливо посвящал его в свою тайну.
— Ради нее я готов просить подаяние, готов стать грабителем. Я люблю ее, как не любил еще ни один человек на свете. Увижу издали, и колени подгибаются. Однажды я упал к ее ногам, но она прошла мимо. Мимо!.. Тогда я побежал за ней, хотел схватить ее… унести… Я бы жизнь отдал за то, чтобы быть на четыре года старше. Ты еще не знаешь, что я делаю: ночью я крадусь к ней в дом и лежу у ее порога.
— Она не впускает тебя? — спросил брат с тревогой, ибо этот вопрос касался и его.
— Один раз я был у нее. Там как раз происходила распродажа ее мебели и платьев. Он уже ничего не дает ей. У него больше ничего нет. Он не любит ее, негодяй. Я незаметно пробрался в ее комнату. Я видел, как она плакала из-за одного платья, и я заплатил за него моими часами, чтобы она могла оставить его себе. И тогда она обняла меня. — Подросток остановился; он побледнел, его глаза были закрыты. — А потом она меня прогнала.
— Почему?
Ганс ускорил шаги.
— Не знаю, — поспешно ответил подросток.
Он увидел перед собой Лени в ту памятную минуту, когда она оттолкнула его и крикнула ему вслед: «На что ты мне нужен, у тебя же нет ничего!», но ее брату он сказал: — За то, что я выкупил платье. — И, солгав, чтобы защитить честь Лени, Ганс словно ощутил ее поцелуй на своих губах. Внезапно он вспылил:
— А у тебя, ее брата, наверно, есть деньги, но ты даже не предложишь ей. Откуда же тебе знать, как ей живется!
Ганс шел все быстрее и, наконец, побежал. Бальрих, оставшись один, задумался: «Как же я ничего не знаю? Этому юнцу известно больше, чем мне! Послушать его, так он прямо герой Троянской войны, отдающий жизнь за Елену. А какая польза от этого Лени?.. Но все ради нее сошли в подземный мир — Аякс, который был так силен, и Гектор[9], который был так прекрасен, и, наконец, сама она низвергнута туда. И если я все это делаю не ради нее, — тогда к чему мои усилия?»
Бальрих понимал, как горько служить одной идее долгие, долгие годы, быть может всю жизнь, между тем как в стороне от твоего единственного пути старятся и гибнут те, кого ты должен был бы поддерживать своей любовью. Искуситель являлся по ночам, он неизменно нашептывал все то же; его и ее жизнь важнее всяких вопросов о праве и совести. Но днем, окрепнув духом, он боялся лишь одного — встретиться с Лени.
Когда наступил новый, 1914 год, Клинкорум в последний раз проэкзаменовал Бальриха. После этого учитель, против обыкновения, задержал его и даже угостил кофе; и тут он поведал своему ученику, что покровители Бальриха крайне озабочены его изнуренным видом, а ведь впереди — экзамены. За три месяца, что остались до испытаний, Бальриху надо пройти столько, сколько другие прошли за весь последний год. Клинкоруму не хотелось бы слишком обнадеживать его. Из своей педагогической практики он знает… Тут учитель пустился в разглагольствования. И когда Бальрих, наконец, прервал его, тот, помолчав, вдруг заявил:
— Ах, да. У меня есть билет для вас. В театр.
— Зачем он мне? — удивился Бальрих.
— Вам надо рассеяться и освежиться, — пояснил учитель.
Что касается его, Клинкорума, то он отнюдь не сторонник развлечений в столь неподходящее время, накануне экзаменов, но раз покровители… Какие покровители? Ну, кое-кто из родителей его учеников. Однако Бальрих сразу сообразил, что это адвокат Бук. Вероятно, и сам Клинкорум об этом догадывается.
С площадки лестницы учитель крикнул ему вдогонку:
— И новый костюм вас ждет!
Одетый с иголочки, Бальрих отправился в театр «Аполло». Он вошел в вестибюль, сверкавший зеркалами и позолотой; в рисунке орнамента главное место занимали короны и рога изобилия. Билет, выданный ему в кассе, после того как он назвал свою фамилию, оказался на место в бельэтаже, и притом одно из самых дорогих, так что он сначала даже смутился, словно это какая-то издевка или искушение. Лестница была устлана мягким ковром и такая пологая, что как бы сама несла тебя наверх. В теплом воздухе коридора, куда выходили ложи, духами веяло от дам, сбрасывавших меховые шубки с обнаженных плеч.
Мягкие руки бережно снимают с тебя пальто. Неслышно открыв дверцу, вылощенный капельдинер усаживает тебя в бархатное кресло. И сидится в нем спокойно и уютно, словно в теплой ванне. Все держатся непринужденно и вместе с тем уверенно. Господа во фраках привычным шагом входят по ступенькам к обтянутым алым бархатом ложам. Они целуют дамам руки в длинных перчатках или без перчаток, — сказочно белые руки. Иная дама так смело перегибается через край ложи, точно не может быть никаких сомнений в безупречности ее обнаженного тела. И они играют своими жемчужными ожерельями с таким ленивым пресыщением, будто уверены в том, что во веки веков никто их не сорвет. «Напрасно вы считаете себя в безопасности», — подумал Бальрих, уклоняясь в сторону, когда чувствовал, что на него наводят лорнет. Вероятно, Бук послал его сюда, чтобы Бальрих полюбовался на свои будущие жертвы? Или его хотели еще больше сбить с толку?
Какому-то зрителю надо было пробраться мимо него к своему месту. Бальрих поднялся, чтобы пропустить его, но с непривычки, смешавшись, повернулся к нему спиной. Тот, видимо, обиделся. Глядя через монокль, он дерзко смерил Бальриха своим мертвенным взглядом. Но Бальрих сурово сдвинул брови и показал ему кулак. Тогда человек с моноклем, растянув застывшие складки рта в подобие улыбки, проследовал к своему креслу.
«Все вы созрели, как плоды, и вам пора упасть, — размышлял Бальрих. — Но это хорошо, что здесь, среди вас, сижу я, один из тех, за чей счет вы ведете вашу постыдную жизнь». Оркестр заиграл что-то бравурное как бы в тон его настроению, еще больше разжигая в нем ненависть. Свободное кресло рядом с ним кто-то упорно старался передвинуть, но Бальрих, облокотившись на балюстраду, даже не пошевельнулся.
— Послушайте, не угодно ли вам пропустить меня? — раздался над ним чей-то гневный голос, и он обмер от ужаса, — это был голос Лени. Она отстранила его так энергично, что затрещало кресло.
— Вот нахал! — сказала она и прошла к своему креслу. Но вдруг ахнула и метнулась в сторону, точно хотела убежать. В это мгновение поднялся занавес.
И тут он увидел, что сцена была только продолжением зала. Среди красивой мебели двигались такие же господа и дамы; у них были такие же манеры, и они так же разговаривали, как и люди в зале. Их речи были столь же изысканными, как и мебель, может быть еще более изысканными, чем те, которые он слышал в доме Геслинга, а судя по тому, как они обменивались быстрыми репликами, им было легко и приятно беседовать, и они отлично понимали друг друга. Бальрих с трудом следил за тем, что происходит на сцене, боясь потерять нить действия, и едва подумал об этом, как на самом деле потерял ее. «Я держу экзамен на аттестат зрелости, — размышлял он. — Я не только учился, но и многое пережил. Пережил ли столько тот господин с застывшими складками у рта? Однако ему ничего не стоит следить за ходом пьесы. Да, у них есть что-то такое, чего я при всем желании не могу приобрести». Он притих, ощущая свою неполноценность. Между тем сидевшая рядом с ним сестра выказывала все больше нетерпения. Наконец она обернулась к нему, затем опять посмотрела в сторону и сказала громко, как бы обращаясь к самой себе:
— Что здесь идет сегодня? А где же американцы?
— Какие американцы? — спросил, ничего толком не поняв, Бальрих.
— Эстрадники. Какая скука! Они что, хоронят там кого-нибудь?
— Может быть, — проронил Бальрих и умолк.
Но Лени, видимо, считала, что разговор только начался. Она в упор взглянула на брата.
— Удивительно! Я являюсь сюда в надежде, что здесь… варьете, иначе я бы, конечно, не приехала, — и вдруг вижу тебя…
И он находил это удивительным, даже более удивительным, чем она, — ибо что может она понять при своем легкомыслии! Но Бальрих не шевельнулся, и Лени попыталась снова завязать беседу.
— Как жизнь играет нами, — промолвила она с робкой улыбкой и тотчас же, чтобы разговор не оборвался, спросила: — Ты все еще сердишься на меня?
Теперь он заглянул ей в лицо, которому она постаралась придать обаятельность. Но тут же на лице ее отразился испуг: она увидела, что он плачет.
— Карл! — с тоской окликнула она его. Никогда еще она не видела его слез и с мольбой и отчаянием продолжала: — Если бы я знала, что так огорчу тебя, никогда бы этого не сделала!
— Неправда, — сказал он, не отрываясь от ее лица. — Но не это мучит меня. Меня убивает то, что я не в состоянии помочь тебе!
Теперь она поняла, что он знает все, и он видел, какое это для нее унижение.
Оба растерянно стали смотреть на сцену, где бурно объяснялись господин и дама; потом господин ушел, хлопнув дверью, а дама упала без чувств.
— Чего им надо? — вполголоса сказала Лени. — Ведь они же богаты.
Вместо ответа упал занавес, и, когда в зале зажегся свет, слева от него кто-то вскочил с кресла, и он увидел даму, уже немолодую, но красивую, очень похожую на Эмми Бук. Такой же расстроенный и страдальческий вид бывал, наверно, и у матери Ганса… Лени легонько дернула брата за рукав и шепнула:
— Посмотри на того с глазами мертвеца…
Господин с моноклем уставился на Бальриха.
— Он приехал сюда ради меня, — чуть слышно продолжала Лени. — Стоит мне только свистнуть… — произнесла она уже громче и действительно вытянула губы, повернувшись к господину с моноклем. Лицо, похожее на маску, улыбнулось, а Лени задорно сказала брату: — Как видишь, поклонников у меня хоть отбавляй.
Но Бальрих прервал ее:
— Ты не любишь Геслинга?
Лени испуганно отшатнулась. Что-то дрогнуло в ее чудесных золотистых глазах, и не успела она ответить, как Бальрих почувствовал мучительную жалость к ней. Смиренно, точно служанка, она сказала:
— Любить кого-нибудь — нет, этого я еще не могу себе позволить. Позднее — да, если буду богата. — Тут она впервые за весь вечер потупила глаза. — Жизнь многому учит, — пробормотала она.
Бальрих молчал. Прошло немало времени, прежде чем Лени заметила, что музыки уже не слышно и спектакль продолжается. Мужчины и женщины толпились на сцене, повертывались и встречались, как слаженные части одной машины, устройство которой, однако, надо было знать. Между ними существовала какая-то связь; и хотя все происходило только на словах, этих людей всюду подстерегали какие-то опасности и непреодолимые трудности. Если послушать этого господина с дорогой сигарой во рту или ту даму, увешанную драгоценностями, так покажется, что для них жизнь не в жизнь.
— Чего им не хватает? — допытывался Бальрих.
Однако Лени уже нашла объяснение:
— Это у них душевный зуд, они щекочут друг другу нервы.
При этих словах она язвительно рассмеялась, и Бальрих тоже. Дама слева, похожая на Эмми Бук, наклонилась и зашикала. Лени в отместку ответила ей тем же. Брат и сестра потихоньку смеялись над соседкой, пока не кончился второй акт и дама поспешно не удалилась.
Ее бегство развеселило Карла и Лени.
— Хороша я? — спросила Лени и прошлась перед ним в платье, которое было точной копией с туалета богатых дам; слегка отставив руки и откинув голову, неторопливо и плавно покачиваясь, она прошлась перед ним, будто по Гаузенфельду в воскресный день, когда все ее поклонники были на улице. Брат рассмеялся. Хороша ли она? Разве в этом можно было сомневаться? Стройные бедра и колени, обтянутые платьем, затканным серебристыми цветами, пышная грудь, горделиво вздымавшаяся под пеной кружев и фальшивыми жемчугами, а лицо — никогда еще не играл на нем столь вызывающий румянец! Брат шел с ней рядом, гордо подняв голову, и невольно раскачивался в такт ее шагам. Несколько гусынь, плывших им навстречу, пытались состроить презрительную гримасу, а сопровождающие их гусаки — загоготать. Но брат грозно сдвинул брови, выставил локти, и те молча прошли мимо.
Сестра сказала:
— Пойдем выпьем пива. Я угощаю. Та вон старуха с искусственным бюстом явно имеет виды на тебя. Они думают, что ты у меня на содержании. Ты мог бы сделать карьеру.
В ответ брат залился беспечным смехом.
— Мы должны стать такими же подлыми, как они, — сказала сестра, когда они ходили по фойе, среди зеркал и богатой публики. — Ты хочешь изучить их право, чтобы отнять у них богатство. Но ведь и я веду себя так же, как их собственные жены. Племянница генерала…
— Анклам?
— У той коготки поострее. — И она беглым взглядом окинула свои накрашенные ногти. — Таких счетов, как за нее, клянусь богом, он за меня не оплачивал. В наказание себе я стащила у него квитанции и иногда любуюсь ими.
Второй звонок. Публика схлынула, остались только брат с сестрой. И вдруг он увидел, как задрожали ее накрашенные губы и светлая капля блеснула на темных ресницах. Она схватила его руку, словно моля о помощи. Этот трепет, прерывистое дыхание, торопливость движений — все говорило об одном: она любит Горста Геслинга. Что бы она ни делала, куда бы ее ни несло — всему виною этот человек. Только его она любила, из-за него ее сердце полно теперь ненависти.
Как схожи их судьбы! Это страшное предзнаменование! Молча, прижавшись друг к другу, прошли они поспешно по коридору и последние сели на свои места. Сестра снова спросила его:
— Ты все еще сердишься на меня?
Но на этот раз он услышал в ее вопросе и другое: «Теперь, когда ты понимаешь и даже предвидишь на что я обречена?..»
Брат сжал ее руку. А на сцене герои уже изображали глубокую скорбь после всех пережитых страданий, которые так трудно было понять. Да и стоило ли задумываться над этим? Моя сестра любит богатого. Она принадлежала ему. Но он бросил ее, потому что она бедна… И вдруг у него вырвалось:
— Пусть он женится на тебе. Иначе…
— Иначе — что? — Она улыбнулась своей всепонимающей улыбкой. — И я уже хотела застрелить его… сегодня утром. А вечером я здесь. Вся жизнь — игра, — бросила она небрежно.
Он строго посмотрел на нее.
— Но мы не позволим им играть нами. Пойдем! Ты должна вернуться домой!
— А ты, разве ты вернулся бы на фабрику? Я уже не могу стать такой, как Малли.
Он попытался возражать, но она прервала его:
— Женись на Тильде!
Он стал уверять ее, что непременно женится, но она, казалось, уже не слушала.
— Вообще мы можем пожать друг другу руку. — И она надменно протянула свою. Он сердито отвернулся, и не успели они опомниться, как спектакль кончился.
— Что ж, — воскликнула Лени, — актриса на самом деле утопилась?
— Да, в меховой шубе, — ответил Бальрих, — чтоб не озябнуть.
Он-то знал, как люди топятся; но богатым этого знать не дано…
Когда брат и сестра поднялись со своих мест, Бальрих заметил на местах под ложами ту самую даму, которая напомнила ему фрау Бук. Она убежала от них, и теперь, оставшись одна в безлюдном зале, все еще смотрела на опущенный занавес. И хотя они прошли совсем близко от нее, она их не заметила. Ее глаза были закрыты, а по щекам катились слезы.
Он усадил Лени в такси. На прощанье она сказала ему:
— Что ж, было очень приятно. Все-таки разнообразие. А ты не поедешь со мной?
Брат отказался, Лени опять смиренно проговорила:
— Ну, в другой раз. Значит, не судьба.
Она почему-то медлила. Заглянув ему в глаза, она наконец сказала:
— Знаешь, если тебе когда-нибудь понадобятся деньги… — Но, прочтя ответ в его глазах, быстро добавила: — Хотя только вчера у меня был судебный исполнитель.
Она рассмеялась. И чтобы облегчить ее душевную боль, рассмеялся и он. Лени уехала.
Бальрих один побрел домой, в Гаузенфельд. Морозный ветер обжигал ему лицо. «Почему та женщина плакала, — размышлял он, — ведь в пьесе утопилась молодая? Или она плакала оттого, что в молодости сама едва не поступила так же, а может быть, напротив, пожалела, что у нее не хватило мужества на этот шаг? Чего ей недостает? Судьба не дала ей счастья, хоть она и богата? Их мир совсем другой. Он недоступен моему пониманию. Одно мне ясно: и они там страдают; значит, неправда, что они живут в счастливом неведении, что их жизнь сплошной праздник. Что бы они ни делали и как бы ни поступали, если они страдают, то даже для них — это оправдание, и тебе теперь будет труднее желать их гибели».
Мысль эта глубоко потрясла его: «Теперь ты знаешь, что ближние покинули тебя и что тебе невозможно слиться с ними воедино. Ты понял уже, что победа, — та победа, ради которой ты живешь, сомнительна и ничего не даст. Ты знаешь, что борьба не сделала тебя лучше. Тебе пришлось узнать, что враги твои имеют тоже право на жизнь, как и ты…»
Он вернулся к себе в комнату, но не зажег света и, хотя было темно, закрыл лицо руками. Вот как обстоит дело, вот с какими помыслами предстанет он в ближайшие дни на экзамен, на то школьное испытание, которое для большинства является обычно подготовкой к дальнейшим жизненным испытаниям.
Отныне ученье давалось ему труднее, но с тем большим пылом он работал. Он старался не думать ни о боли, тисками сжимавшей голову, ни о часах бессонницы, полных смертельного страха. «Я не хочу оказаться беззащитным. Я не дам им обезоружить себя. Пусть они страдают. Они слишком долго жили припеваючи! И одного страдания недостаточно. Они обязаны загладить свою вину! Изгнанные из своих роскошных лож, пусть станут как все! И тогда жизнь станет лучше для всех. Может быть, даже для той дамы, которая плакала там, в театре».
Но, несмотря на свои угрозы и тот вызов, который он бросал всему миру, Бальрих однажды все же не выдержал одиночества и, склонив голову, заплакал. Как и та незнакомка, он плакал о том, что нам не хватает мужества умереть и даже нет желания умереть, хотя мы и прозрели. Оплакивай же и нас, бедных, и тех, богатых. Тебе не изменить их участи, наше несчастье бессмертно. Изгони сегодняшних хозяев жизни из их гордых лож, завтра на их место сядут другие. Бедность — это нечто большее, гораздо большее, чем закон экономики, — она пожирает душу.
Никогда еще Бальрих не чувствовал себя таким ослабевшим. И вот однажды во дворе с ним заговорили товарищи. Они были очень озабочены.
После первых щедрых получек рабочие зарабатывали теперь, даже при участии в прибылях, меньше, чем ранее. Предприятие быстро приходило в упадок. Они были обмануты и бедствовали, как никогда. Гербесдерфер настаивал на стачке, Польстер еще питал какие-то надежды. Но подстрекателем на этот раз оказался Геллерт:
— Благодарите Бальриха! Это вам из-за него навязали участие в прибылях! Еще и не того дождетесь! Бальрих вздрогнул, ему хотелось крикнуть: «Старик только и думает о том, как бы вас продать!» Ну, а он сам? О чем только не думал он сам?.. И робко проговорил:
— Я, кажется, ошибся и не так взялся за дело. Хотите, я пойду и попрошу Геслинга, чтобы он оставил все по-старому?
— Очень это нам поможет, — услышал он ропот товарищей.
— Да ты еще издеваешься над нами! — зарычал, как дикий зверь, Гербесдерфер.
Толпа рабочих двинулась на Бальриха и стала оттеснять его к проселку, где во время факельного шествия стояла машина главного директора. Яунер был тоже тут, он напирал изо всех сил. Они швырнули отверженного об стену и, отбежав, вооружились камнями. Фанатик Гербесдерфер и шпик Яунер потянулись за одним и тем же камнем. Бальрих молча ждал. Но, когда они уже замахнулись, Польстер и Динкль схватили их за руки.
Бальрих снова подошел к ним с той решительностью, какую они привыкли видеть в нем.
— Даже сейчас я с вами, хоть вы и отреклись от своих прав и покинули меня.
— Какие там права, когда наши дети голодают!
Польстер стоял перед ним, широко расставив ноги. С присущим ему благоразумием он облек все эти беспорядочные крики в нужные слова:
— Ты, Бальрих, смотришь на все уже не так, как мы. Ты получил кое-какие знания, вот тебе и горя мало. Прешь напролом к своей идее, а мы ради нее должны голодать.
— Неправда! — воскликнул Бальрих.
— Если б ты хоть одному из нас помог сейчас, мы бы уважали тебя больше, чем если бы ты всем нам дал богатство через двадцать лет.
— Верно! — подхватили остальные. — Бери что дают!
Тут и Бальрих сказал:
— Да, это верно! — И в подкрепление своих слов пошел с ними выпить.
Выйдя первым из закусочной, он столкнулся с Наполеоном Фишером. Тот напустил на себя, как обычно, многозначительный вид человека, умудренного житейским опытом.
— Что, доигрались? — заметил он. — Теперь мне приходится все исправлять, а во всем виноваты вы, молодое дарование…
Он осклабился, а Бальрих опять увидел Фишера на трибуне: вот он деловито пыхтит, а в душе у него лед, и он ни во что не верит.
— Вам тоже как будто пришлось кое-что пережить за эту зиму? — спросил депутат, с притворным участием поглядывая на Бальриха.
Бальрих кивнул. Как будто! Значит, все, что он пережил, в порядке вещей, — сознание своей миссии, измена, отчаяние, увольнение; и ему остается только покориться, сказав себе: «Живи для себя, только ради собственного благополучия, серенький ты человек!..» Все существо его вдруг восстало.
— А вы лгун! Обманываете нас, бедных, пустыми обещаниями! Все ваше дело — предательство! Иначе вы бы сказали: «Не верьте ничему, а действуйте!»
— Но тогда я не был бы сознательным социал-демократом, — спокойно возразил Наполеон Фишер, — а каким-то анархистом.
— Анархист — это я! — сказал Бальрих.
VII. Ultima Ratio[10]
Перед огромной рабочей казармой неистово орали дети; они отчаянно бегали, возились, дрались; но теперь уже не барабанили в забор виллы Клинкорума, ибо доски были опутаны колючей проволокой. Отработавшие свое старики, стоя у стены, грелись в лучах предвесеннего солнца. Но тени постепенно удлинялись, уходили старики и дети, возвращались с фабрики те, кто еще мог работать; только Бальрих бродил по сырым дорожкам сада, останавливался, задумывался, к чему-то прислушивался. Малли и Тильда жаловались на свою судьбу в подвальной квартире и сердились на детей, когда те своим смехом заглушали их разговор. Старик Геллерт веселился заодно с малышами и заливался старческим смехом.
Но вот Бальрих высунул голову из-за куста; на дорожке показался Горст Геслинг. Без монокля, тупо глядя перед собой, шел он неуверенной походкой, словно запинаясь на каждом шагу от смущения. Минута была подходящая! Бальрих бесшумно шагнул вперед и неожиданно вырос перед ним.
— Вы меня ждали, — сказал он хрипло, — рано или поздно! И вот я здесь, и требую: женитесь на моей сестре!
Горст Геслинг вяло усмехнулся, как бы говоря: «Вот еще не было заботы!», затем собрался с силами, даже вставил монокль и заявил:
— Смешно! Она сама, кажется, прежде всего должна была об этом подумать!
— Или вы! — отрезал Бальрих. — Ведь виноваты вы, — продолжал он, не давая себя прервать. — Только вы! Хотя она и не была невинной: богатый не может требовать невинности. Но что бы с ней ни случилось и что бы из нее ни вышло, за все ответите вы, потому что вас… — Он поднес судорожно сжатые кулаки к самому лицу Горста. — Вас она любит.
Горст Геслинг отшатнулся.
— Вы невменяемы! — воскликнул он и уже вознамерился бежать, но Бальрих подскочил к нему, схватил за плечи и повернул лицом к себе. Горст Геслинг побагровел и оттолкнул противника.
— Внимание! Вот шпага. — И он вытащил ее из своей трости. — Я вынужден прибегнуть к самозащите.
— Негодяй! — сказал Бальрих. — Трус! — И с бранью начал отступать перед натиском врага — дальше, все дальше, до самого забора. И вот удар, но шпага, звякнув, упала, а Горст напрасно старается вырвать руки, стиснутые противником.
— Хватит! — сказал Бальрих. — Не вздумайте толкнуть меня на колючую проволку! Кто вынужден теперь прибегнуть к самозащите? Если я напорюсь затылком на колючки, я получу право убить вас.
Горст Геслинг понял, что Бальрих прав; он перестал сопротивляться и, задыхаясь, прохрипел:
— Ваши условия!
Бальрих отпустил его. У богача морда снова стала надменной.
— Сто тысяч! — бросил он.
— Жениться, — ответил Бальрих, задыхаясь от ярости.
— Сто тысяч! Я начинаю с того, чем кончил мой отец.
— Ваш отец далеко не кончил. Он еще предложит мне весь Гаузенфельд.
— В таком случае — весь Гаузенфельд, — с любезным ехидством сказал сын.
— Если бы даже это было в ваших силах, то этого отнюдь не достаточно. Жениться! — повторил, задыхаясь, Бальрих.
— Неужели ваша сестра стоит дороже всего Гаузенфельда? — При этих словах Горст Геслинг вытянул шею, чтобы в сумерках разглядеть лицо рабочего.
— А вы еще сомневаетесь? — крикнул Бальрих. И вполголоса, торопливо, чуть не скрежеща зубами, продолжал: — Если вы не знали этого до сих пор, так еще узнаете! И если вы не женитесь на Лени, то вся ваша жизнь — поймите меня правильно, — вся ваша жизнь будет отныне сплошным страхом. В ближайшем будущем я стану студентом, вызову вас на дуэль. Но я не дам вам умереть, я только сделаю вас калекой. Напрасно вы смеетесь! Я знаю, вы не такой уж трус, но против меня вы бессильны, потому что я хочу — вы слышите, — я требую, чтобы вы женились на Лени!
И так как враг в ужасе отпрянул, Бальрих двинулся следом.
— Вы будете встречать меня всюду, где бы ни ступала ваша нога. По частям будете околевать. И узнаете, на что способен человек, который живет только ради того, чтобы мстить!
— Хвастун! — пробормотал богач, однако шарахнулся в сторону, как от огня. — Но и вам, — пролепетал он, — придется кое-чем поплатиться.
— Я отомщу за сестру.
— Какая вам от этого польза?
Бальрих выпрямился:
— Вы не способны любить по-настоящему, и вам не понять меня.
Тут Бальрих заметил, что враг его, стоявший в тени забора, вдруг растерялся. Молодой Геслинг спросил невнятно:
— Но как это сделать?
— Ваше дело — достать денег.
— Вы видели, в каком состоянии я вернулся из города. Ростовщиков вряд ли удастся долго водить за нос.
— Это ваше дело, — повторил Бальрих. — Достаньте денег, уезжайте с Лени в Англию, женитесь на ней!
Сделав неопределенный жест, богач ответил:
— Попытаюсь.
— И не воображайте, что вам удастся улизнуть. Я отыщу вас в самых отдаленных уголках земного шара еще легче, чем здесь. Я сбросил с себя ярмо наемного раба, заметьте это себе. И для меня не существует больше никаких преград.
Горст пробормотал:
— Единственный выход — обокрасть кассу.
— И вы уедете лишь тогда, когда на нас не падет ни малейшего подозрения.
— На вас, — повторил Горст Геслинг как-то униженно. Но тут же гордо выпрямился. — А какую сумму требуете вы лично для себя?
— Нет, я не ударю вас. Своего зятя я не бью. — И Бальрих решительно пошел прочь.
Он только что хотел свернуть за угол, как чья-то огромная тень встала на его пути.
— Ну и ну! — воскликнул Клинкорум, ибо это был он. — Вымогатель, разбойник и вор! Ну и ну! И это наш пророк!
Бальрих с изумлением увидел, что учитель словно заплясал на месте. Казалось, перед ним качается башня… Но Клинкорум уже овладел собой; он опустил руку на плечо рабочего.
— Сын мой! — возгласил он.
Испуганный своим признанием, он умолк, прислушиваясь: но кругом стоял мрак и глубокая тишина.
— Сын духа моего! Ты унаследствовал от меня самое сокровенное, то, что я носил в тайниках души — ненависть к сильным мира сего и смертельную вражду против власть имущих! — И другой рукой он обнял Бальриха за плечи. — Сын мой! Во что превратил меня деспотизм! Я шут, я игрушка в руках богачей, я — интеллигент! Сам разум лишь игрушка в их руках, они его использовали и надругались над ним! Отомсти за меня! Благодаря тебе я буду знать, что жил недаром!
Тут он совсем повис на шее у своего ученика и чмокнул Бальриха в щеку. Тот снисходительно принял этот поцелуй. Затем обратился к учителю:
— Допустим, я сделаю это, а вы потом отречетесь от меня?
— Никогда! Клянусь крыльями святого духа, никогда!
Клинкорум стоял, словно башня в ночи… Бальрих ощупью пробрался мимо него и кинулся к калитке. Не успел он достичь ее, как еще кто-то отделился от выступа стены. Это был Крафт Геслинг.
— Мне хочется сказать вам, что я глубоко порицаю брата. В нем нет ни чуткости, ни благородства. В вас я угадываю родственную душу.
Но так как Бальрих явно усомнился в этом, Крафт поспешно продолжал:
— Верьте мне. Никогда бы я не смог вести себя так неделикатно и обольстить вашу сестру.
Это бесспорно. В этом отношении ему можно было поверить.
— Что вам, собственно говоря, угодно?
— Помочь вам, мой дорогой.
«Богачи, видно, сумасшедшие, — подумал Бальрих. — Когда их берешь за глотку, они отдают не только деньги, но и сердце».
Крафт силился придать выразительность своему глухому голосу:
— Вы, наверно, предпочли бы достать денег, не взламывая кассы? Так вот, я знаю выход. Мой брат Горст зашел в безвыходный тупик, он окончательно продался бабам. А у меня есть сбережения.
— И вы хотите ему помочь, — уточнил Бальрих, — чтобы он мог действовать как порядочный человек?
— Это прекрасно, не правда ли? Я так люблю красоту душевную и… телесную… — При этом Крафт, слегка покачнувшись, обхватил Бальриха за плечи. Тот стряхнул его руку, но Крафт засюсюкал: — Разве я не могу надеяться на дружескую награду?
Он получил пощечину и стал тут же грозить своему «другу» донести на него, выступить свидетелем против него, стереть с лица земли. Выкрикивая угрозы, он убежал.
Крафт поспешил домой: среди ночного мрака он обдумывал свою месть. Смелость, которой недоставало старшему брату, Крафт почерпнул в своей неразделенной любви… Он сказался больным и лег спать без ужина. Долгие часы он терпеливо дожидался возвращения брата. Войдя в спальню, Горст сделал вид, что раздевается, то и дело поглядывая на спящего. Крафт мерно дышал, по временам вздыхая во сне. Тогда Горст перестал притворяться, снова надел пиджак и тоже стал ждать. Светила луна. Когда в окнах фасада погасли последние огни, он, надев мягкие домашние туфли, вышел из комнаты.
Как только брат начал спускаться по лестнице, Крафт неслышно вошел в спальню, откуда доносились стоны отца. Лампа горела на ночном столике, освещая сведенное гримасой лицо главного директора. Он невнятно бормотал что-то во сне. Слышались какие-то отдельные слова, цифры… Внезапная судорога пробежала по всему его грузному телу, скованному сном, Он вдруг приподнялся, опершись на, руки, белый как полотно, и уставился перед собой. Чья-то скрюченная черная тень, будто готовясь кинуться на него, притаилась в углу.
— Боже мой! — вскрикнул он и упал навзничь.
Крафт хрипло окликнул его:
— Папа!
Отец пристально взглянул на сына, увидел его черную шелковую пижаму, впалые глаза, тень под крючковатым носом. Разгневанный, не помня себя, он, наконец, потянулся к револьверу. Но Крафт, весь поглощенный тем, ради чего пришел, решил довести дело до конца.
— Пойдем, папа, — настойчиво позвал он отца и медленно поманил длинной, костлявой рукой. — Пойдем, папа, ты не поверишь глазам своим.
Главный директор, уже не расспрашивая ни о чем, встал с постели и последовал за сыном. Крафт, неразличимый в темноте, взял его за руку и повел вниз по лестнице. Раззолоченная галерея была залита лунным светом. Крафт упорно держался в тени. Так крались вдоль стен отец и сын, направляясь в обтянутый белым атласом зал в стиле барокко. Здесь, к своему ужасу, директор увидел свет: он падал из притворенной двери его кабинета. Геслинг словно к полу прирос. Но Крафт потащил его за собой. Один высокий, весь в черном, у другого тело словно выпирало из белой сорочки — так они предстали перед Горстом. А тот, оторопев, смотрел на вошедших. Он стоял наполовину скрытый выдвижной дверью, за которой находилась святая святых его отца — несгораемый шкаф. Он был раскрыт, а в руках у Горста дрожала пачка кредиток.
Увидев все это, главный директор преобразился. Решительно и уверенно он крикнул:
— Руки вверх! — и поднял револьвер.
— Pardon! — отозвался Горст. — Это я!
Главный директор, который в этом не сомневался, подошел к несгораемому шкафу и деловито обследовал его.
— Без взлома, — заметил он. — Как ты его открыл?
Горст, припертый к стене, вынужден был признаться: число, набрав которое можно было отпереть сейф, он узнал у отца уже давно, когда тот назвал его во сне, в беспокойном сне работодателя, преследуемого врагом.
— Уже давно?
Давно Ибо Горсту Геслингу давно не хватало легальных источников для получения вспомогательных сумм, и он уже не в первый раз совершал то, что готов был сделать сегодня. Но он счел неуместным разыгрывать перед отцом раскаяние, а, как мужчина, посетовал на скудость отпускаемых ему средств. В ответ главный директор достал кассовую книгу, сопоставил несколько цифр и назвал сумму, которая, как он полагал, должна была ужаснуть сына. Но Горст не ужаснулся. А Геслинг без сил упал в глубокое кресло и тяжело вздохнул, как вздыхают только удрученные отцы.
— Что мне до этих денег, пусть их берет кто хочет, но надо же, чтобы взял именно ты!.. Мой сын взломщик! Мой первенец — вор! Тебе остается еще убить кого-нибудь, и твоя карьера преступника будет завершена. А меня ты сведешь в могилу.
Сын слушал его с подобающей почтительностью. Руки отца свисали с кресла, как обрубленные. Он весь утонул в этом кресле, живот вздымался, точно надутая воздухом подушка. Когда Геслинг начал повторяться и снова завел речь о том, что пусть бы эти деньги взял кто угодно, Горст счел официальную часть церемонии законченной и принялся укладывать банкноты обратно в несгораемый шкаф. Одна бумажка упала на пол, отлетела в сторону — прямо под дверь, ведущую в квартиру адвоката Бука. Горст предусмотрительно оставил ее там, на случай неожиданной развязки, к которой мог привести гнев отца.
— И все это можно было бы еще простить, — сокрушался отец, — если бы мой сын не избрал известную особу, чтобы с ней спускать отцовское состояние. Не воображай, будто отец твой не знает, до какой степени ты бессердечен. Ради сестры моего злейшего врага, только ради нее ты посягнул на мой несгораемый шкаф, на святыню твоего родного отца.
«Наконец что-то новое, — подумал Горст, — можно будет оставить бесплодную область чувств».
— Я должен предупредить тебя, папа, — сказал он, — что твоя осведомленность, как бы я ею ни восхищался, как раз в самом главном подвела тебя. Статья моих расходов, на которую ты намекаешь, играла в моем бюджете сравнительно скромную роль. Даю слово. Гораздо большая часть ушла по другим, я бы сказал, более славным путям.
— По каким же? — спросил отец.
Но Горст заявил, что он рыцарь и считает неудобным пускаться в дальнейшие откровенности.
— Я не могу тебе помочь? — язвительно ввернул Крафт.
Одно движение, и Горст толкнул его в самый дальний угол. Сиплый голос Крафта затерялся в грохоте мебели, за которую взялся отец, ибо он уже не стонал, а ревел и, вскочив с кресла, принялся расшвыривать все, что попадало ему под руки. Горсту, напротив, тем легче было блюсти свое рыцарское достоинство. Уже благодаря корректному жакету он выгодно отличался от полураздетых отца и брата. Но тут, привлеченная шумом, в пеньюаре с кружевным шлейфом появилась Густа — жена и мать. Овна все увидела, все поняла и сразу вмешалась.
— Да ведь все дело в маленькой Анклам, неужели ты до сих пор не знаешь этого, несчастный! — властно заявила она. — Надеюсь, ты теперь посмотришь на все другими глазами.
Отец пытался возражать:
— Он признался, что давал и той особе…
— Неправда! — отрезала Густа.
— Но, мама, я же видела ее обстановку. — Это внезапно появилась Гретхен в длинном халатике; она сладко позевывала. — Я была на аукционе. Ведь Горст давал ей до неприличия мало, этого нельзя отрицать.
Но тут дело обернулось плохо для Гретхен.
— До неприличия? — повторил Горст и сделал движение, словно собираясь ударить сестру.
Мать тоже напустилась на нее:
— А молодой девушке неприлично и знать-то такие вещи. Она не должна верить им, даже если они происходят у нее на глазах. Вон отсюда, негодница!
И Гретхен исчезла так же внезапно, как появилась.
Главного директора вдруг осенило, казалось — небеса разверзлись над ним и перст божий указал ему выход.
— Дело в том, — властно начал он, — что мой сын подвергается подлейшему шантажу.
— Супруг мой! — воскликнула Густа. — Таких вещей не говорят о даме. Наш сын пользуется успехом у племянницы генерала!
Но глаза директора метали молнии.
— Замолчи, иди к дочери! В серьезные минуты женщинам тут делать нечего.
Глаза его продолжали метать молнии, пока Густа не признала, что ее роль сыграна, и, шелестя пеньюаром, не ушла к себе. Главный директор собственноручно запер за ней дверь.
— Ты подвергаешься гнуснейшим вымогательствам, — настойчиво повторил он.
— Так точно, папа, — согласился Горст.
— И притом — со стороны недостойной особы, брат которой готовит против меня мятеж. Эти несметные суммы попадут в его руки.
Горст смекнул, в чем дело:
— Если бы мы могли это доказать…
— Докажем, — категорически заявил отец. — Он оскорбил тебя действием. Он угрожал тебе в случае отказа исполнить его требование.
Горст испуганно пролепетал:
— А ведь так оно и есть.
Главный директор просиял:
— Где твои свидетели?
— Сколько я получу за это? — глухо прозвучал за их спиной голос Крафта. Но главный директор схватил его за шиворот:
— Оплеух сколько угодно, или ты сейчас же расскажешь все, что видел! Я хочу знать, какие у тебя отношения с этим негодяем!
Крафт, почуяв опасность, сказал:
— Клинкорум свидетель. После Горста он говорил с Бальрихом.
— Так он соучастник! — Директор ликовал. — Может быть, даже сообщник. Значит, и он у меня в руках. Вперед! Мы сразу уберем их всех! Завтра утром — арест.
Он схватился за сердце.
— Ах, пора, давно пора! Я уже подумал… — И, обратив почти благоговейный взор на несгораемый шкаф, главный директор вдруг снова почувствовал твердую почву под ногами и торжественно кивнул ему.
— Письмо! Письмо, которое должно лишить меня всего. Вернуть его и запереть вот тут, чтобы оно служило предостережением самым отдаленным моим потомкам, напоминая о страшной угрозе, нависшей над головой их предка. Ради этого я готов на все. — Он выпрямился и еще громче изрек: — Клянусь всем святым, я найду это письмо, ибо жестокая борьба за существование, которую мне навязали, оправдывает самые суровые меры. Я найду это письмо, даже если бы мне пришлось извлечь его из пылающих развалин… — Он умолк.
— Три часа мы еще можем поспать, — заявил он. — Мне сон необходим.
Впереди шел Крафт, затем главный директор, за ним Горст. Так они двинулись в обратный путь через белый зал и золотую галерею. На лестнице Геслинг повторил:
— Я готов на все.
Но Горст вдруг остановил его. Крафт исчез, когда они были еще наверху.
— Позволь тебе сказать, отец, — как бы невзначай бросил Горст. — Только для твоего личного сведения. Он потребовал от меня лишь одного: чтобы я женился на его сестре.
Директор свирепо посмотрел на сына:
— У меня нет никаких оснований верить тебе. Мы же с тобой порешили на том, что он требовал у тебя денег. Видимо, ты еще не знаешь истинную цену деловым соглашениям.
Горст замялся.
— Как мужчине, — заговорил он снова, — мне неудобно…
— Ха-ха! Честь фрейлейн Бальрих… Не ее ли ты намерен восстановить?
— Вот именно! — сказал сын. Он побледнел. — В случае моего отказа от женитьбы мы ничего не выиграем, а наоборот…
Главный директор опять пристально посмотрел в глаза сыну. Какая здесь таилась угроза для его отпрыска, какие еще козни замышлялись против них обоих? Он предпочел не спрашивать. Быть может, это дело можно уладить без огласки, мирным путем, более верным и действенным, чем недолгое тюремное заточение вымогателя. «Для меня будет тяжким ударом, — размышлял главный директор, — если с моим мальчиком случится несчастье. Но расплачиваться приходится каждому из нас, и бывают положения, для ликвидации которых даже пожертвовать сыном — не слишком высокая плата. Таким путем можно лишить врага его прав, и власть по-прежнему останется у того, у кого она была». Отец задумался, сын понял его мысли; ледяная дрожь пробежала по его телу… Оба вдруг отшатнулись друг от друга, после чего главный директор с некоторой поспешностью удалился к себе.
Хотя огромный зал был совершенно пуст, все же Горст после ухода отца вставил в глаз монокль и, едва держась на ногах, направился к двери. Как ни важно было то, что сейчас произошло, он не забыл об упавшей ассигнации. Она все еще лежала на том же месте. Но едва он дотронулся до нее, как бумажка выскользнула у него из рук и очутилась под дверью — у Буков.
Новая опасность. Он продолжал сидеть на корточках, боясь пошевельнуться. Вдруг за дверью раздался свист, зловещий свист. Такой можно услышать только в темную ночь из оврага или из кустов, когда ты один в пути. Горст понял, что это Ганс Бук и что он угрожает ему. Ганс мог разболтать все, о чем здесь говорилось. Уж лучше дать ему возможность улизнуть с этим банкнотом. Горст в своем теперешнем положении не видел никакого смысла участвовать и впредь в опаснейшей игре отца. Все еще сидя на корточках, он неслышно подался назад.
Ганс Бук, наблюдавший эту сцену в замочную скважину, отскочил от двери и со всех ног пустился бежать. За ним могли погнаться, поэтому скорее прочь отсюда, черным ходом через парк, «рабочий» лес, через Гаузенфельд — прямо к ней! В город, на ту улицу, в тот дом, где живет она, к ней! Ее руки, ее губы! Теперь у тебя есть деньги. Беги же, беги с ними к ней, к твоей любви!
Он уже промчался через ворота, между корпусами рабочих казарм. Вот луг, вот шоссе. Тут он приостановился, рванулся вперед, опять замедлил шаг и все же вошел в огромный дом — убежище бедноты. Ворота только что открыли. Светало. Люди были уже на ногах, сновали по коридорам и лестницам. Ганс Бук останавливался, здоровался со знакомыми. Тут слово, слово там… Но теперь быстрей на виллу Клинкорума! Лампа в комнате Бальриха тускло желтела в предрассветной мгле. Стук в окно, быстрый шепот, — сообщить только самое главное. Вот он спешит дальше, и гравий летит у него из-под ног. Ничто их сейчас больше не разделяло, только время.
И он мчался, но сердце опережало его. Оно уже было у цели, оно видело ее, его сердце смотрело ей в лицо, которого так боялось — слишком оно было прекрасно. «Вон она раскидывает белоснежные руки…» Но он увидел себя все еще на шоссе, он пробежал только дом Клинкорума. По светлеющему небу скользили ласточки, пролетали над городом, над ее домом и возвращались, трепеща, как его сердце.
«Когда же я доберусь? — думал он. — Только бы добраться! Ничего больше. Потом все равно что — хоть конец». Он спешит к ее дому, а из иного мира к дому спешит смерть — они должны встретиться в ее объятиях! Ликуя, спешил он навстречу смерти, ибо смерть — это была любовь.
Но не прошло и часа, как он, обессилев, уже плелся обратно. Крылья его сердца поникли, по запыленному лицу текли слезы. Так добрел он до виллы Клинкорума. Сад был полон полиции, — семью Динклей, высыпавшую из подвала, жандармы также не выпускали за ограду. Ганс Бук заявил, что его ждет учитель, и ему разрешили подняться наверх. Там он наткнулся на людей в штатском, с еще более мерзкими рожами, чем у тех в полицейских мундирах; они искали кого-то или сидели в засаде. Начальник находился в кабинете Клинкорума. Главный директор Геслинг даже взгромоздился на письменный стол и рылся в бумагах, видимо разыскивая что-то. Оба напустились на Клинкорума. Но тот с достоинством отражал их натиск. Бальриха, которого они искали, он не видел. Ни о каком покушении Бальриха ему ничего не известно. Он, Клинкорум, его сообщник? Да он расхохотался бы им в лицо, если бы не боялся встретить еще большее непонимание своих верноподданнических чувств.
— Ваши верноподданнические чувства будут проверены в другом месте, — резко сказал главный директор. — У нас есть свидетели… — И Геслинг указал куда-то в темный угол, но там ничего нельзя было разглядеть.
Клинкорум непоколебимо стоял на своем, он шагнул в глубь комнаты и положил руку кому-то на плечо. Затем вывел из угла Крафта.
— Свидетели, — сказал Клинкорум не без иронии, — найдутся у каждого, даже у господа бога. И самые затаенные порывы человеческого сердца не так уж глубоко запрятаны в нем! Итак, вперед, цвет немецкой молодежи! — И он слегка подтолкнул Крафта к отцу, причем Клинкорум усмехнулся своей акульей пастью столь многозначительно, что главный директор, недолго думая, сполз со стола. Правда, он пробурчал еще несколько угроз, но уже начал отступать в сопровождении Крафта и полицейских чинов.
Опасность миновала; Ганс Бук, стоявший за дверью, крикнул «гу-гу», предвкушая удовольствие от испуганной физиономии учителя. Но тот не испугался, а лишь пригрозил пальцем своему ученику и назидательно изрек:
— Теперь ты сам убедился, мой мальчик, во что превращаются жалкие властолюбцы, когда против них восстает наука. Мы, интеллигенты, несем в своем духе ту взрывчатку, которая их всех погубит.
Напутствуемый этими словами, юный Ганс Бук выбрался из дома, который был теперь окружен уже не полицией, а народом, главным образом женщинами. Когда полиция проникла в сад, Динкли все рассказали женщинам, а те сообщили мужьям, и рабочие спешили сюда прямиком через луговину. Они убежали с фабрики, чтобы самим удостовериться, неужели Геслинг осмелится арестовать Бальриха, их Бальриха, их вожака, того, на кого они так надеялись. Ибо теперь они возлагали все свои надежды только на него. Они стояли кучками и разговаривали вполголоса, точно боялись, что их подслушивают.
— Вот это человек, он наперед предсказывал, что Геслинг этим участием в прибылях надует нас. Бальрих наверняка что-то против него затеял, иначе почему его арестовали?
— А что он мог затеять? — волновался Гербесдерфер. — Стачку? Только в ней наше спасение. Но Бальрих всегда был против стачки. Если же он теперь изменил свое мнение, значит необходимо поддержать его.
Рабочие разделились: одни отправились на фабрику за остальными товарищами, другие, которым жены шепотом сообщили о событиях, вернулись в корпуса и рассыпались по коридорам и лестницам. Шпиона Яунера несколько человек втолкнули в чулан и обещали прикончить, если он посмеет хоть пикнуть о том, что видел и слышал. Прошло довольно много времени, прежде чем все сошлись перед комнатой No 101. Здесь, в своем прежнем жилище, сидел за сосновым столом Бальрих. Он поднял глаза на вошедших, перед ним лежал револьвер, который он прикрывал рукой.
— Тут мне нужны только друзья, — сказал он, сдвинув брови. — А если меня найдут враги… кажется, я ради вас перестарался, то мне остается только одно…
Как ни взволнованы были люди, они выслушали его молча, пока кто-то не заявил, что теперь все равно им тоже некуда податься и они готовы идти за ним.
— На жизнь и на смерть, — заявил Гербесдерфер.
— И ни один уже не сдрейфит, — добавил Польстер.
Тогда Бальрих дал им совет без шума бросить работу.
— Никакого насилия! Ждать, пока Геслинг не примет ваших требований.
— Тариф! — закричали рабочие. — Минимальный заработок — двадцать восемь марок!
Но Бальрих возразил:
— Не тариф, а тридцать пять марок… А не пойдет на это — выжидать! У меня есть дело к его сыну… — обращался Бальрих то к одному, то к другому. — Вы же сами понимаете, что Геслинг не пожертвует сыном, если вы от отца потребуете только одного, чтобы он перестал обманывать вас и сосать из вас кровь. Неужели он откажет в помощи родному сыну и не спасет его? Кто поверит этому?
Старик рабочий положил руку на плечо Бальриха и сказал:
— Никто не поверит.
— Такого не бывало, — повторяли рабочие и поодиночке, украдкой стали выходить из комнаты.
Позади кровати послышался шорох. Бальрих схватился было за револьвер, но перед ним вдруг предстал Ганс Бук. Бальрих бросился его обнимать.
— Ах ты пострел, как я тебе благодарен! Без тебя мне бы уже пришел конец!
Но он неожиданно встретил отпор. Юному богачу было сейчас не до него, он вывернулся из его рук.
— Не благодари меня, — сказал он сердито; его широко открытые глаза были полны слез, как у девушки. — Я только мимоходом, случайно задержался здесь у тебя. Я спешил к другой. — Держась за столбик кровати, он согнулся, словно от боли. — Но она не стоит этого, — проговорил Ганс и зарыдал. Затем он стал перед ее братом и спросил: — Она прогнала меня… Можешь ты ей это простить, если ты мне друг?
— Бедняга, — сказал рабочий участливо.
Семнадцатилетний юноша в отчаянии ломал руки.
— Вот какое у меня горе! Неужели девушка не чувствует, когда ее беззаветно любят, и что никто, ни один человек не будет так ее любить? Я никогда бы этому не поверил. Но для меня теперь все кончено… Я погиб.
Брат взял его стиснутые руки в свои. Он тоже мучился и с болью сказал:
— Забудь ее. Ты лучше всех нас. Я тоже люблю ее. Но мы с ней дурные люди: мы любим деньги.
Тут Ганс вскипел:
— Деньги? У меня были деньги, но она не взяла их. — И он показал Бальриху банкнот на крупную сумму. — Даже этих денег она не приняла, а какая женщина отказалась бы от них! Это мы, богатые, приучили вас брать деньги. За что же ты бранишь ее?
На этот раз слезы показались на глазах Бальриха. Он положил руку на кудрявую голову Ганса:
— Эх ты, несчастный!
Ганс заломил руки.
— Мы бежали бы с ней и были бы одни в целом мире. В людской толпе никто не узнал бы нас. Я стал бы работать. Я бы взял самую трудную, самую грязную работу! Я трудился бы для нее, чтобы наряжать ее дивное тело, питать ее сладостный рот. Я жил бы ради ее поцелуев, а если бы мне не дано было жить в этом блаженстве, я умер бы, целуя ее. Мы умерли бы бедными и побежденными; но столько жизни, столько бессмертного счастья излучали бы мы, что наша убогая мансарда еще сияла бы, когда мы стали бы уже трупами.
Ганс опустился на колени возле постели и стал изливать свое сердце, обращаясь к той, чей образ неотступно витал перед ним.
Бальрих за его спиной участливо спросил:
— Почему она не приняла от тебя деньги?
Юноша поднялся, и потупил глаза:
— Потому что она боялась за меня. Ведь я похитил эти деньги, и она сказала, чтобы я их вернул. Но я знаю настоящую причину… — Он посмотрел на Бальриха и с неприязнью продолжал: — Она боялась за тебя… А я? Какое ей дело до меня! И она поцеловала меня, чтобы я передал этот поцелуй тебе. Но ты не получишь его. Я сохраню его для себя, чтобы сохранить желание умереть.
Он стремительно отвернулся. Бальрих снова повернул его к себе.
— Что ты плетешь?
Ганс скривил губы в горькой старческой гримасе:
— Ты, вероятно, думаешь, что все это пройдет и я со временем забуду ее. Каким же подлецом и трусом ты считаешь меня? Сам-то ты мог бы забыть о том, что является целью и смыслом твоей жизни?
Бальрих промолчал. Ганс Бук порывисто протянул ему руку:
— Она отвергла меня. Теперь я твой — до конца! Ты еще увидишь, на что я способен. — Он выглянул за дверь: не подслушивают ли их. — Ты не выйдешь из этой комнаты, Карл; здесь тебя никто не найдет. Я тебя спрячу. Я поведу их по ложному следу. Пусть твои люди опять сплотятся, как в те дни, когда они так дружно хранили тайну и Геслинг боялся показаться на фабрике.
— Ему и теперь есть чего бояться, — заметил Бальрих.
Ганс Бук покачал головой:
— Сейчас он пойдет на все, у него нет другого выхода. Все готовы на все, и ты, и я. Теперь без насилия не обойтись. Пусть я поплачусь жизнью…
Он был бледен, на лице появилось торжественное выражение. Потом он овладел собой и со своей обычной живостью сказал:
— Предоставь все мне. Я буду сообщать тебе о ходе дела и передавать твои указания. Общаться ты будешь только со мной. Один я могу проникать всюду, и никто не заметит меня.
Он шепнул еще что-то на прощанье, насторожился и выскользнул из комнаты.
На столе перед Бальрихом лежали книги, по привычке он потянулся к ним; но сердце его взволнованно стучало. Вот куда он привел своих товарищей путями, которые должны будут завершиться неизмеримо большим, чем то, к чему он стремился; привел, сам того не ведая. А теперь он даже не может быть с ними. Призывать к бунту и потом смотреть, как твой призыв приводится в исполнение, — вот роль вожака. «Но я больше не вожак, я был им в прошлом. Сейчас мне хочется только одного — нанести решительный удар и перевернуть все вверх дном, — а ради какой цели? Да никакой!»
Он притаился за оконной занавеской. «Вы боретесь за жалкие гроши, и это возмездие. Как дороги вы были мне когда-то, и вот все, что осталось. Высокой была моя миссия, а в результате гроши».
И он видел из своего убежища, как борются его товарищи. С каждым днем бороться становилось все тяжелее. Напротив, на стене одного из корпусов висело обращение дирекции к бастующим. Издали выделялось слово «вымогательство», напечатанное крупными буквами. Рабочие стояли перед объявлением. В первые дни они смеялись над ним. Перед фабрикой ходили пикеты; рабочих арестовывали за то, что они подговаривали штрейкбрехеров не работать — это считалось преступлением, им приходилось действовать тайком, между тем как господа — Геслинг и генерал фон Попп — в открытую, прямо на улице держали военный совет. Геслинг и его приспешники ходили по так называемым «виллам» для рабочих, где жили сейчас штрейкбрехеры, и приносили им подарки. Но стоило только появиться в таком доме двум бастующим, и их приход карался как нарушение неприкосновенности жилища. Суды были завалены делами, и судьи рассуждали так: что делаешь, делай скорей. Рабочий, имевший судимость, стащил колбасу. Ему дают полтора года тюремного заключения. За несколько кусочков угля, которые женщина окоченевшими руками завернула в свой передник, — полгода тюрьмы.
Эти женщины с землистыми лицами плелись мимо его окна, таща за руку детей, с ввалившимися глазами. Прошло меньше месяца, но нигде уже не было слышно мужского смеха. Читая развешанные по стенам грозные приказы дирекции, рабочие плевались, предварительно убедившись, что поблизости нет полицейского. Голодай, но будь тверд! Голодай, но отстаивай свое право. Геслинг же на вилле «Вершина» пировал, угощая генерала. За этим занятием дни шли незаметно. А тем временем на фабрике устанавливали машины нового образца, которых еще никто не видел. В особом сарае, на самом дальнем дворе, стояли они, как некая тайна, как новая опасность, о которой шептались по углам и которая вызывала беспокойство.
Когда рабочие совсем измотались, явился Наполеон Фишер и предложил свое посредничество. Он советовал принять предложение Геслинга — тридцать марок без тарифа. Это, мол, справедливо, — говорил он. Партия отказывается субсидировать стачку в угоду безответственным смутьянам. Он имеет в виду вполне определенное лицо. Где этот человек? Куда он запрятался? Однако этого Наполеону так и не удалось узнать. Впервые за время его парламентской карьеры избиратели гнали его в три шеи. Он ушел, убежденный в правильности своего предложения, причем в глубине души рабочие соглашались с ним. Тридцать марок минимальной оплаты — это было больше прежнего. Но перед тем их еще обманули с прибылями, люди были озлоблены, они испытали насилие и голод. Произошло и нечто большее: один раз в жизни мы подняли головы, поверили, что близок день справедливости, что он скоро наступит для нас и для наших детей. Дни богатых уже сочтены, и все то, что они выжали из нас в течение долгих лет, теперь будет нашим, мы сами будем теперь богаты; в просторных залах мы будем все вместе есть сытную пищу, и наши машины будут работать на нас. Мы поверили, что и на нашу долю выпадет счастье, и вот оно приближается. А теперь расплачивайтесь за свою мечту, обездоленные!
Карл Бальрих, чье сердце билось в унисон с сердцами всех его товарищей, думал: «Мы расплачиваемся нашей беспросветной жизнью, нашим бунтом, а если так будет угодно богу, то и нашей гибелью. Окруженные врагами, с каждым часом все больше теснимые, готовые начать с ними борьбу, вступить в смертельную схватку, — вот как мы живем. Пришлые штрейкбрехеры идут сомкнутым строем, они вооружены дубинками и хотят сломить нас. Купленные за предательскую мзду, они глумятся над нами и швыряют черствыми корками в наших голодных жен».
И вот однажды вечером механик Польстер стал в воротах фабрики. Штрейкбрехеры должны пройти мимо него.
— Мерзавцы! — говорит он громко.
Никого нет поблизости, лишь несколько женщин, от слабости прислонившихся к стене, да дети, которые держатся за материнскую юбку. Что ему вздумалось — этому столь невозмутимому человеку? Стиснув кулаки, он дает им подойти поближе, словно так и надо. Он — под защитой своих прав. И вот он стоит спокойно, этот степенный человек, он крепко уперся ногами в землю, так же твердо стоял он и в жизни, которая была сурова. Одежда с недавних пор висит на нем, лицо осунулось и посерело.
— Мерзавцы!
Штрейкбрехеры бросаются на него, сбивают шапку. Польстер молотит их кулаками, но они наваливаются на него, и он исчезает под грудой тел. Когда они отступают, он лежит распростертый на земле, в груди — нож, из горла вырывается предсмертный хрип.
Бальрих распахнул окно, он хочет крикнуть, позвать на помощь, но чьи-то руки обхватили его и тянут назад. Он захлопывает окно. Перед ним стоит Ганс:
— Тебя видели! Беги!
Бальрих колеблется, но мальчик не отстает!
— Не успеет наступить ночь, как они придут и схватят тебя. Но сегодня начнется… Ты видишь сам — это продолжаться дальше не может. Или ты хочешь удержать своих товарищей, чтобы они так никогда и не выступили?
Мальчик сует ему в руки шапку и выглядывает за дверь. Никого. Все внизу, возле тела убитого. Бальрих встал, и оба вышли из комнаты.
— Ты знаешь куда, — весь дрожа, прошептал Ганс.
Так исчез Бальрих, он поспешил перейти луговину, и вечерние сумерки скрыли его.
Выбравшись на шоссе, он перебегал от куста к кусту, а войдя в город, стал петлять по самым глухим улицам и, наконец, подкрался к дому, где жила Лени… Она сама открыла ему дверь и без единого слова увлекла в дальнюю комнату. Здесь, указав на окно, она сказала:
— Внизу двор. Ты сможешь спрыгнуть на крышу прачечной и оттуда перемахнуть через ограду. — Быстро проговорив это, она обернулась к нему, как будто он только что появился: — И все-таки ты пришел!.. — И вдруг отшатнулась: — Ты поседел!
Лени упала на стул.
— Карл родной мой! — прошептала она прикрывая рот рукой. — Что с тобой случилось?
— Они уже были здесь? — спросил он.
Лени кивнула.
— Все равно я должен был тебя повидать.
— Я знала! Я ждала тебя… Но прежде всего ты должен непременно поесть. — Она вскочила. И, уже сидя за столом против него, сказала: все это время я так боялась за тебя! Но теперь спокойна. Пока мы вместе, мне все равно.
Когда он поел, она пододвинула свой стул и прижалась к его плечу.
— Помнишь, детьми мы взбирались на опрокинутую бочку. Мы играли воображая, что это наш дом, и кто-то вот-вот выйдет из лесу и утащит нас. Мне было ужасно страшно, но ты был такой смелый, и я надеялась на тебя. — Лицо ее стало серьезным, как у женщины, уже познавшей жизнь. — Теперь мы опять играем в ту же игру. Страшный разбойник вот-вот выбежит из лесу и похитит меня, или, может быть, уже похитил. Но ты не можешь меня спасти, потому что тебя схватят.
— Нет, меня не схватят!
— Как ты хорош, когда так говоришь. Ты лучшее, что есть во мне. Я, должно быть, никогда больше не полюблю; одного тебя я буду любить всегда, как бы я ни кончила.
Вдруг Бальрих увидел стоявший посреди комнаты раскрытый чемодан.
— Тебя высылают! Тебе грозит опасность! И все из-за меня!
— А ты? Ты ведь тоже страдаешь из-за меня, — торжественно сказала Лени.
Оба замолчали… Вдруг она вздрогнула, насторожилась, мигом выключила свет и побежала вместе с ним в самую дальнюю комнату.
— Они опять здесь. Уходи отсюда! — И в лихорадочной дрожи последней минуты добавила: — Беги! Но богачи проворнее нас, и я попаду в тюрьму по их милости. Я становлюсь все хуже из-за них. Но хоть ты не забывай, кто я. — Она обвила его шею руками: — Я же твоя сестра!.. Скорей, они уже звонят…
Лени бросается к выходу. В последний раз мелькнуло ее лицо, и дверь захлопнулась. Вот он еще видит ее, еще, еще — и вот она уже исчезла.
Он выпрыгнул в окно, перелез через ограду и темными садами выбрался на окраину. Из казармы у городских ворот выступил отряд — Бальрих знал, куда они идут, и пропустил его вперед, а сам поспешил в Бейтендорф. Вдали пылало зарево пожара, в Бейтендорфе звонили в набат. Он свернул, и пожар оказался слева от него. «Если идти прямо, то куда же я попаду?» Бальрих быстро сообразил куда и со всех ног помчался на зарево. В свете все разгоравшегося пламени он увидел нечто похожее издали на шагающую ветряную мельницу. Оказалось, что Клинкорум, воздев руки к небу, мечется вокруг своего пылающего дома. Когда Бальрих внезапно вынырнул из-за нового корпуса, кто-то прошмыгнул мимо, точно заяц. В ту же минуту обрушился горящий балкон, и при вспышке пламени Бальрих узнал, кто этот «заяц»: предатель, вор, шпион и поджигатель Яунер.
— Смотрите, как удирает! — крикнул Бальрих Динклям; они сидели на своих спасенных пожитках возле канавы и, уставившись на пожар, даже не обернулись на его голос. Но старик Геллерт, ничего не успевший вынести из огня, кроме бутылки, угрожающе размахивал ею.
— Никто не убегает! Никто и не думал убегать! — кричал он.
Бальрих отвернулся от пьяного и сказал подбежавшему растерянному Клинкоруму:
— Геслингу пожар очень на руку. Теперь ему не надо платить вам… и потом письмо… Он воображает, что там сгорит письмо, которое лишит его богатства.
— А разве оно не там? — удивился Геллерт, неожиданно протрезвев.
— Будь уж мерзавцем до конца, — упавшим голосом пробормотал Клинкорум, — и ты можешь сделать то, чего не сделает даже святой дух.
Ломая руки, он вновь побрел куда-то, а Геллерт крикнул ему вслед:
— Геслинг не человек, а золото! Он купит все, что от вас останется, он купит даже нас, никому не нужный сброд!
Уходя, Бальрих успел заметить злорадную усмешку, с какой Геллерт поглядывал на догоравшее пожарище.
По пути к вилле «Вершина» Бальрих услышал топот идущих людей, и ему показалось, что это шагает его неистово бьющееся сердце. От топота гудела дорога, это был и его путь, единственный и последний. Туда! Мрак сгустился. Он видит разъяренную толпу, вот она рванулась вперед, словно занесенная для удара рука, словно задушенный вопль: толпа бедных. И Бальрих исчез в ней.
Рабочих были тысячи; позади осталось их нищенское жилье, эти тюрьмы, откуда они убежали, и город с властителями, которые старались их схватить; а властителей защищали солдаты.
Рабочих были тысячи, и все они — как единый порыв бури. Они мчались на приступ, словно выброшенные штормом на неведомую землю, без конца и края простиравшуюся перед ними во мгле, где такие же, как они — их неизвестные братья, — в этот же час, быть может, штурмовали такую же виллу «Вершина», которая все равно останется недосягаемой. Никогда нам не войти в нее, никогда ей не быть нашей! И все-таки мы идем на нее приступом, ибо в атаке мы едины, для нас не существует ничего, кроме атаки, — ни того, что было раньше, ни того, что будет потом.
Стой! Вот она, вилла «Вершина»! Мы чуть не пронеслись мимо. Открыть ворота! Мы больше не можем ждать! Мы ждали слишком долго! Что нам ограда! Мы разбиваемся об нее в кровь, напарываемся на острия решетки, соскакиваем в сад, топчем клумбы. Стреляют! Пули летят вокруг нас, впиваются в землю. Мы бросаемся врассыпную. И вот уже по одному, ощупью, ползем, мчимся вперед, только вперед! Стреляют! И с дороги — тоже. Мы между двух огней. Мужество — в нем одном наше спасение. Назад! Ворота распахнуты. Врезаться в ряды солдат, биться, колоть, кусаться! В темноте они не разберут — где свои, где чужие. Они кричат: «Дайте свет!» Но когда над воротами вспыхивает дуговой фонарь, мы уже прорвались, мы далеко, кроме тех, кто остался лежать, сраженный. Но там полегли и солдаты. Пулемет в саду богачей не делал различия между нами и ими.
Отряд выравнивал свои ряды. С опушки леса доносился яростный рев. Отдельные рабочие еще выбегали из-за сосен, они не хотели верить, что дело проиграно. Брань и угрозы оглашали воздух, кто-то выстрелил. Солдаты взяли на прицел. Бежать! Но вдруг в свете прожектора появилась фигура одичавшего человека с обнаженной грудью, в очках; он тащил какого-то коротышку, а тот кричал и отбивался, стараясь вырваться. Гологрудый взмахнул руками, и коротышка полетел прямо под выстрелы. Отряд дал залп. В куцего человечка попала пуля, но, уже падая на колени, он забился, задергался и успел крикнуть:
— Не надо стрелять! Я не виноват!
Потом упал на живот, стал скрести пыль ногами и руками и умер. Это был предатель Яунер.
В лесу закричали:
— Молодец, Гербесдерфер!
И, спотыкаясь, рассыпались между деревьями. Бальрих — с ними. Но вдруг, обессиленный, свалился на кого-то в овраг. Человек застонал, и по его стонам Бальрих тут же узнал Ганса.
— Это ты, мальчик? — Бальрих зажег спичку. — Ты шел вместе с нами? Ты весь в крови… — Но, увидев, что Ганс без сознания, пробормотал: — Пролил за нас кровь, а я остался невредим.
Он взвалил его на спину и стал выбираться из оврага, обходя стволы, чтобы не ушибить Ганса. Из окон виллы «Вершина» лился свет. Она стояла на холме, белая, заброшенная, оцепленная солдатами. «Я отнесу его туда, — решил Бальрих, — пусть меня арестуют». Но не успел он выйти из леса, как Ганс очнулся.
— Что ты делаешь? Беги отсюда! — Подросток из последних сил так схватил за голову Бальриха, что чуть не свихнул ему шею. — К тебе! — потребовал Ганс. — В твой корпус!
Но тут рабочий споткнулся, и Ганс снова потерял сознание.
Бальрих покорился и пошел в обход домой. Это заняло половину ночи. Лес, дорога — все было оцеплено войсками, кроме рабочих корпусов. Да и кого им там искать? Никто еще не возвращался; Даже ворота стояли открытыми настежь. Бальрих бережно опустил мальчика на свою койку и стал перед ним, сложив руки. «Настоящий герой, — думал он. — Кто заставлял его идти с нами, и что ему за дело до нас?.. Так вот каковы они; истинные герои! А нам, бедным, даже это не дано».
Он стоял, глядя на мальчика, как будто сам не тащил его на руках чуть не всю ночь и не уложил на эту постель. Он долго смотрел на него из-под сдвинутых бровей и вдруг, опомнившись, кинулся перевязывать. Покончив с перевязкой, Бальрих, глядя перед собой, сказал:
— Семнадцать лет, богат, а идет с нами, бедными, с нами, кому ничего не осталось, кроме отчаяния.
Мальчик, не открывая глаз, слабым голосом спросил:
— Отчаяния? Разве ты не был счастлив, Карл?
Бальрих отвечал:
— Да, как может быть счастлив самоубийца в час избавления, после долгих страданий.
Юный богач улыбался, не размыкая век.
— Это было прекрасно, точно праздник. И как светло! И эта арка в розах! Победа! — бормотал он в бреду. — И мы плывем по небу!
А Бальрих в ответ:
— Нет, тяжела наша жизнь на земле, и мы знаем, что лечь в эту землю — цель нашего пути.
— Все принадлежит нам — свобода, счастье!
— Пустые слова, — ответил Бальрих. — Кто верит им?
Богач открыл глаза. Их горячечный, восторженный блеск вдруг затуманился печалью:
— Вы не верите в счастье даже в такую ночь?
— Пиршество богов не для нас.
— Зачем же вы тогда бунтовали?
— А ты? — спросил Бальрих. Он стоял перед Гансом, укоризненно глядя на него. — Ты уже забыл?
Разгоряченное лицо мальчика побледнело, и он в ужасе прошептал:
— Лени! Я хотел умереть за нее! Как я мог забыть о ней? — Обняв Бальриха, скорбно склонившегося над ним, и прижавшись к его груди, Ганс разрыдался: — Какие мы несчастные, — промолвил он.
Сейчас их ничто не разделяло, и они предались своему горю.
Утро едва забрезжило, когда Ганс в испуге очнулся.
— Беги! Тебя будут искать!
Бальрих равнодушно махнул рукой.
— Куда? Бесполезно.
— Там, в моем пиджаке, деньги. Возьми…
Ганс запнулся. Гримаса на лице друга напомнила ему, что это были за деньги.
— Отдай их отцу. Твой отец тебе друг. — И, увидев, что губы мальчика задрожали, Бальрих спросил: — Ты разве не хочешь домой?
Ганс опустил голову, ему было стыдно признаться в этом желании. Все же он позволил Бальриху одеть себя.
— Пошли кого-нибудь узнать, — шепнул он ему на ухо. — Солдаты, наверно, уже ушли, а Геслинг еще не вернулся.
— Разве его не было? Не было там, в эту ночь! — Бальрих расхохотался. — Нам-то, мятежникам, следовало бы это знать!
— Он хитрый, — протянул мальчик, — если встретишься с ним, берегись!
— А теперь он вернется? Ну, что ж, пойду. Твои родные придут за тобой. Прощай, мой милый мальчик, поправляйся и будь здоров!
— И ты будь здоров, — сказал Ганс Бук серьезно и задумчиво. Они обменялись крепким рукопожатием, как мужчины, которые и без слов понимают друг друга.
Бальрих послал какого-то парнишку к отцу раненого Ганса, а сам отправился на пожарище. Над развалинами еще курился дым; Бальрих посмотрел кругом. В этих развалинах, в этом запустении, казалось, еще жила ночь мятежа. Забастовщики попрятались, скрылись и Динкли, и лишь Клинкорум все еще стоял над своим погибшим добром, бормоча и размахивая руками, словно мельница крыльями. Бальрих прошел мимо, выискивая среди придорожных деревьев такое, в ветвях которого можно было бы спрятаться.
Взбираясь на дерево, он тотчас узнал его. Вот и сук, на котором он когда-то хотел повеситься. Все это началось здесь, и события опять привели его сюда. А эти два момента отделяли один от другого борьба, испытания, падение и восстание, схватка не на жизнь, а на смерть, продолжавшаяся до столь печального конца. Ты уже тогда предвидел его, бедняк, предвидел свою гибель. Если бы ты все-таки ушел из жизни еще тогда! Теперь это слишком трудно; все, что ты выстрадал с тех пор, бунтует в тебе и противится самоубийству. Если умирать, так умирать в бою, и пусть враг погибнет вместе с тобою!
Он посмотрел на оголенные ветви. Тогда вершины покачивались на ветру, изливая теплый аромат своих цветов.
«Я уж не услышу их благоухания, — сказал себе Бальрих с горечью. — Солнце уже не будет греть меня своим теплом, я уже никогда не испытаю сытости, никогда не буду любить женщину».
Здесь, у последней черты, всего острее возвращались к нему физические ощущения. «Брось все, беги отсюда, спасайся, живи!»
Вдруг послышались шаги.
Далеко внизу, между последними деревьями, показался Геслинг. Он был один. Бальрих приготовился, проверил револьвер. «Внимание! Мужайся! Именно этот человек, и никто другой, стоял на твоем пути. Это он хотел обречь тебя на голод, засадить в сумасшедший дом. Он хотел выставить тебя перед людьми вымогателем и вором, арестовать, утопить в позоре! Но я здесь, внимание, я здесь!» И он прицелился. Однако Геслинг куда-то исчез.
Он, наверное, стоит вон за тем деревом! Бальрих соскочил на землю. Вытянув руку с револьвером, он ринулся вперед. И вдруг как бы прирос к месту. Он решил, что наткнулся на дерево, бросился в сторону, хотел бежать вперед. Но вдруг понял, что двое держат его с обеих сторон. Третий вырвал у него оружие. Теперь он понял: за каждым деревом стоял человек. Это было как во сне. Вдали показались еще какие-то фигуры, и только очутившись в кольце вооруженных людей в штатском с мерзкими физиономиями, Геслинг вышел из своей засады.
Куда девались его дряблые, отвисшие щеки, мутный взгляд? По-прежнему исполненный надменности и силы, прошествовал главный директор между шпалерами своей охраны прямо навстречу обезвреженному врагу. Вот он, этот человек, который лишил его сна, преследовал и довел до болезни, человек, в своем кощунственном дерзновении посягнувший на высшую святыню — собственность и власть. Вот он стоит, окруженный сыщиками, кисти его рук крепко зажаты в их руках, и тут уже не помогут насупленные брови, — можно подойти и плюнуть ему в лицо!
Но, пока победитель наслаждался своей победой, побежденный резко сказал:
— Прикажите вернуть мне револьвер! Я убью себя.
Взрыв смеха, мерзкие рожи ликуют.
— А еще кого? — насмешливо спросил главный директор.
— До вас мне больше нет дела! Только себя, — буркнул рабочий.
— Я считал вас умнее, — снисходительно заметил главный директор. — Увидеть, что я иду один, пешком, и вообразить, что это так на самом деле. Теперь у вас по крайней мере целый эскорт.
Бальрих смерил его уничтожающим взглядом.
— Вы переоцениваете себя. Вашего сына вы так не охраняли, и я мог бы просто пристрелить его и за это поплатиться жизнью. — Он посмотрел на Геслинга в упор: — Вы на это рассчитывали.
Геслинг отпрянул. Он уже не казался таким самоуверенным; обвел взглядом своих телохранителей и открыл было рот, чтобы приказать им увести его жертву, но вдруг передумал.
— Хотите быть благоразумным? — спросил он, вплотную подойдя к Бальриху.
Побежденный ответил:
— То, что мною сделано, я считаю вполне благоразумным.
— Мне надо поговорить с этим человеком, — властно заявил директор. — Но сначала наденьте на него наручники.
Его приказание было исполнено.
— Мне не о чем говорить с вами, пока вы не освободите мне руки.
Директор упорствовал. Тогда Бальрих снова обратился к нему:
— Зачем мне вас убивать? Вы и без выстрела все равно отправитесь туда же, куда и я.
— Напрасно вы мне угрожаете! — воскликнул главный директор. Но все же велел сыщикам на время снять наручники. Он даже отошел с Бальрихом в сторону, за развалины виллы Клинкорума.
Блюстители общественного порядка и спокойствия были изумлены, увидев, что главный директор Геслинг вступает в секретные переговоры с человеком, только что покушавшимся на его жизнь.
— Немедленно освободите меня! — потребовал Бальрих.
— Немедленно отдайте мне письмо! — потребовал в ответ директор.
— Значит, вы все-таки не уверены, что оно сгорело? — спросил Бальрих.
— Геллерт отрекся от него, — ответил вполголоса Геслинг, — он клянется, что знать не знает никакого письма. Я бы рекомендовал ему попридержать язык после его истории с маленькой Динкль. В свое время я уплатил ему за письмо сполна. Можете спокойно оставить его при себе.
— А рабочие? — спросил Бальрих. — Они же все знают с его слов, и вы их, господин хороший, надули на участии в ваших прибылях?
— Вы осмелились вымогать деньги у моего сына, — торопливым шепотом перебил его Геслинг.
— Само ваше существование, Геслинг, — сплошное вымогательство.
— Приберегите ваши фразы для ораторской трибуны! А вот покушение на убийство, милейший…
— Сколько народу хотели убить вы, когда подожгли дом Клинкорума?
У директора перехватило дыхание: из-за груды развалин своего пепелища вдруг показался Клинкорум, измазанный, оборванный, с бутылкой в руке. Величественной улыбкой приветствовал он «гостей».
— Спас в шлюпке, — заявил он, указывая на бутылку. — Не угодно ли вам, господа?
Но так как никто не ответил, он сам сделал большой глоток.
— Гостеприимство и наука, — сказал он, переведя дух, — в этом была моя жизнь.
Он выпрямился, стараясь принять былую величественную осанку и предстать во всем своем великолепии, с торчащими прядями бороденки и выпяченным из-под расстегнутой фуфайки животом. Но покачнулся и задрожал. Все же, потрясая бутылкой, Клинкорум обратился к Геслингу.
— О вы, главный директор всех и вся! — с пафосом воскликнул он. — Вы показали себя! Я могу только благоговеть и преклоняться перед вами. Вы — порядок. Вы — сила. Вы — само величие. — Он низко поклонился, раскинув руки. Затем, исполненный сознания своей правоты, торжественно продолжал: — Презрения достоин этот бунтовщик! Мир только и может держаться на несправедливости и жестокости! Я готов дать показания против него!
Главный директор от удивления даже рот разинул. И Клинкорум не без иронии взглянул на него. Затем сделал еще глоток и только после этого как ни в чем не бывало заключил:
— Или хотя бы сохранить в тайне имя того, кто улепетывал, как заяц, когда горел мой дом.
Это заявление вполне удовлетворило главного директора. Впрочем, Клинкорум сейчас меньше всего интересовал его. И учитель в изнеможении опустился на груду развалин, охваченный глубоким равнодушием ко всему, что происходит вокруг.
Директор опять вполголоса обратился к Бальриху:
— Теперь вы поняли?
— Но не поняли вы, — ответил Бальрих. — Мертвый Яунер может сказать еще меньше, чем погорелец Клинкорум. Поэтому вы все еще обвиняемый…
— Чего вы, собственно хотите? — хрипло взвизгнул главный директор. — Вам можно предъявить большой счет! Вымогательство! Бунт! Покушение на убийство!
— А на вашем счету, — тяжело дыша, бросил Бальрих. — Грабеж! Обман! Поджог!
— А разве эти два счета не покрывают друг друга? — вставил кто-то.
Оказалось — адвокат Бук. Никто не заметил, как он подошел. Машина ждала на улице.
— Я уже забрал сына, — сказал он Бальриху и, обратившись к Геслингу, сказал: — Гансу жестоко досталось прошлой ночью… Мне послышалось, что вы, господа, ведете здесь переговоры. Я могу предложить свои услуги.
— В них нет ни малейшей нужды, оборвал его главный директор и грозно обернулся к своей охране. — Мой последний ответ — наручники!
Но Бук неожиданным маневром остановил его.
— Ганс сидит в машине, — сказал он тихо, но твердо. — От полученной раны у него жар, он бредит… бредит о каком-то сговоре между тобой и твоими сыновьями, который якобы происходил ночью перед несгораемым шкафом… — Геслинг вздрогнул. — И этот сговор якобы был скреплен клятвой, — найти какое-то письмо, даже ценой пожара и дымящихся развалин…
Главный директор был взбешен.
— Я сотру вас с лица земли, — гремел он, задыхаясь. — Я выброшу вас на улицу!
Неожиданно присмирев, он снова принялся за Бальриха.
— Чего вы еще хотите? — спросил он уже деловым тоном. — Ваше покушение на убийство даже я при всем желании не смог бы вычеркнуть из вашей жизни.
— А я за поджог упеку вас на каторгу, — не менее деловито возразил его враг.
Главный директор стал вдруг как-то оседать. Зять Геслинга, адвокат Бук, раскрыл объятия, чтобы поддержать его. Геслинг едва внятно выдохнул:
— Что для вас каторга! А вот для меня…
— Вы, господа, слишком далеко зашли, — заметил адвокат. — Убежденные в своем праве на победу, соперничая друг с другом, вы прибегали ко все более сомнительным способам борьбы, — и вот вы здесь.
— Теперь он у меня в руках! — уверенно заявил Бальрих, сделав решительный жест.
— Нет, это он у меня в руках. — И Геслинг повторил его жест.
— В таком случае, господа, вам остается только одно — обменяться тем, что у вас есть, — посоветовал адвокат.
Но враги не сдавались.
— Я знаю про вас еще больше, — грозил Бальрих.
— А я сильнее вас, — утверждал директор.
— Освободите меня, — опять потребовал Бальрих, — иначе и вам придется последовать за мною.
— Это невозможно! — взревел главный директор. — Освободить вас, отпустить на все четыре стороны со всем, что вы знаете, с вашим письмом, с вашими кознями против меня? Нет, лучше сразу на каторгу!.. Оставайтесь здесь и пикнуть не смейте — тогда посмотрим.
— Лучше на каторгу! — сказал Бальрих.
Тут главный директор прибегнул к помощи зятя.
— Я обещаю тебе… — настойчиво продолжал он. — Уговори его! Пусть останется здесь, подле меня, в Гаузенфельде. В своей казарме он может жить по-прежнему, как рабочий, и снова работать на фабрике, у меня на глазах. Иначе я ни одного часа не буду спокоен за свою жизнь. Уговори его!
Бук подумал с минуту, потом, переваливаясь, направился к Бальриху, взял его под руку, стал прохаживаться с ним взад и вперед и начал переговоры. А Геслинг тем временем сидел на развалинах против Клинкорума.
Бальрих слушал, ему хотелось заткнуть уши, и все-таки он не мог не задуматься над тем, что нашептывал ему этот дружественный и неумолимый голос. В голову закрадывалась мысль — не пора ли кончить борьбу и не лучше ли смириться… Но, тогда все было напрасно — и знания, добытые с таким трудом, и силы, растраченные впустую! Вернуться туда, где ты начал! Возможно ли это?
— Да, — сказал Бук. — Вы сами больше не надеетесь победить ваших врагов — богачей. Вам остается только зарабатывать деньги и преуспевать, служа им в качестве сообщника, пособника… — Бук пошевелил пальцами, указывая на что-то, быть может, на собственную грудь, — и предателя, — закончил он.
— И всегда в роли побежденного, — возразил Бальрих, — прозябать до своего смертного часа…
Но Бук перебил его, быстро переменив свои позиции в пользу главного директора:
— Власть — это нечто большее, чем дело рук человеческих; это извечный отпор каждому нашему чувству, вздоху, стремлению. Это та сила, которая гонит нас вспять, тот зверь, каким мы некогда были. Это — сама земля, к которой мы прикованы. Наши предки иногда освобождались от нее, и наши потомки некогда сбросят с себя ее оковы. Но мы — нынешнее поколение — нет. Давайте смиримся.
И Бальрих вернулся в свой корпус. Для этого достаточно было только пересечь луговину.
Вновь стоит у машины рабочий Бальрих, опять он ест хлеб Геслинга, чтобы быть сильным для Геслинга. В шестом часу, подняв воротник, бежит он по словно озябшему серому шоссе, и сотни товарищей молча спешат рядом с ним. Топот спереди, топот позади, топот отдается в тебе самом, однообразный, как стук машин. Вконец измученный, возвращаешься вечером в свою комнату. Подумать бы, вспомнить, понять! Но, как и раньше, шум огромной казармы заглушает мысли; и кажется, что так даже лучше… Хорошо — уснуть, хорошо — отдаться покою. Уже не работать головой, ведь химеры разъедают мозг, Только трудом наших рук заглушаем мы сознание жестокого смысла нашей жизни. Он кажется нам менее ужасным. Рабочий Бальрих женился на девушке Тильде, взял ее к себе с ребенком и с матерью и кормил их всех.
Теперь он снова стал проводить вечера с товарищами в закусочной, и рабочие наконец увидели, что он такой же, как и они, никто больше не сдерживался в его присутствии. И все-таки они встретили его без ненависти, без вражды. Напротив, он чувствовал, что теперь, когда все оказалось тщетным, они еще более благодарны ему, и подчас простое пожатие руки говорило о том, что теперь все в порядке. Мы любим друг друга, и предаем один другого, и боремся, и сдаемся, когда силы изменяют нам. Мы много пережили и многому научились, но постепенно снова забываем то, что осталось позади.
Когда крестили ребенка, Тильда ожидала уже второго. Бальрих говорил: «Мы пролетарии» — и только он один понимал весь горький смысл этих слов. Так как было воскресенье, он достал из ящика стола свои латинские книги, те немногие, которые уцелели вовремя пожара на вилле Клинкорума. Он посмотрел на них, сердце у него сжалось, и он твердо решил убрать их подальше и забыть. Пусть читает их тот, кому они дадут силы для победы над Геслингом. Ты все-таки попытался это сделать — мог по всей справедливости сказать себе Бальрих. Если бы ты читал их, как читал Клинкорум! Но ты читал их без пользы и себе на горе. Знание, не приносящее плодов, суетно и вредно. Бездействие духа более преступно, чем умерщвление зарождающейся жизни. Тот, кто мыслит, должен мыслить ради счастья людей.
Он смирился… Но вот однажды пришло письмо от Лени. Легкий аромат, каким повеяло от еще не вскрытого конверта, перевернул ему всю душу. Что сталось с нею? Ты виноват, ты покинул ее. Ради нее надо было не сдаваться, а бороться до конца… Но ей жилось хорошо, даже великолепно, как уверяла она. В Берлине она посещала театры и вращалась среди баронов и баронесс… Прошлое вдруг предстало перед ним. Да, борьба есть борьба. И от нужды избавишься только ценою крови. Не такой рисовалась мне ее судьба… Но весь этот блеск, писала она, не радует сердца, лишь только она вспоминает о своем милом Карле. Слова эти сразили его, точно придавила своей тяжестью вся его загубленная жизнь. Он чужой среди своей семьи, и все разбито. Не видимый никем, он плакал, пока близкие не нашли его.
Письмо Лени он спрятал. Как-то, перечитывая его, он опять наткнулся в нем на выражения, смысл которых был ему не вполне понятен. За ними, видимо, таился тот же неведомый ему мир, как и в изысканных разговорах актеров тогда, в театре «Аполло». Она называла виллу «Вершина» — «провинцией». А ведь когда-то его высшей мечтой было — подарить эту виллу Лени. Как же назвала бы она теперь его самого? «Что ж, у каждого своя жизнь, — подумал Бальрих, — у нее — своя, а это сейчас — моя жизнь». С грубоватой прямотой он написал ей, чтобы она откладывала деньги на черный день, ведь веселой жизни тоже когда-нибудь настанет конец.
Но она так и не ответила на это письмо. А он считал недели: вот прошло три, вот уже шесть недель. Что ж, все идет своим чередом. Она там, вдали от него, будет подниматься все выше, а ты здесь, день за днем, отстаешь и опускаешься все ниже. И все меньше будем мы помнить друг о друге. Пятьдесят лет, быть может, дано нам прожить — достаточный срок, чтобы забыть о том, как ты нес ее на руках, среди пыли в тот день, когда она плясала вокруг всего света. Вот видишь — ты больше не плачешь.
Вяло потекла жизнь. Борьбу, которая кончилась твоим поражением, ты не забыл и вызываешь вновь ее картины среди мирной тишины наступившего лета. Она еще здесь, в воздухе чувствуется какая-то скрытая тревога. То, что казалось таким отдаленным, вдруг придвигается к тебе вплотную, и ты содрогаешься от ужаса, словно у тебя отнимают жену и детей. Россия! — вот он враг, Франция! Англия! — вот они враги! Кто сейчас думает о Геслинге? До него мы не сумели добраться, так двинемся же вместе с ним на тех, кто на нас напал. Оттуда нам улыбается победа! Война нужна, чтобы мы, бедные, наконец вырвали у жизни то счастье, какое не смогла нам дать никакая борьба. Геслинг выплачивает восемьдесят процентов заработка семьям призванных в армию. Какие там пролетарии, какие буржуа — Отечество, вот что теперь на первом месте. Главный директор давно уже предвосхитил события. Он заблаговременно установил нужные машины. Теперь они работают на оборону.
Бальрих, Динкль и прочие были призваны в числе первых. Великий день свершения настал. Мы выступили. Все взоры были обращены на нас, мы шагали по украшенным флагами улицам; за нами следовали походные кухни; матери несли цветы или колбасы; маленький красный кулачок сестры сжимал ручку нашего сундучка, концом фартука утирала она слезы. А мы пели. Мы пели, и на шлемах у нас пестрели венки. И, когда из-за угла выходил наш полковой оркестр, все окна на улицу распахивались настежь. Машины останавливались и пропускали нас вперед. Вокзал тоже был украшен флагами и венками. Увидим ли мы еще когда-нибудь тех, кто здесь ищет нас? Но где же Тильда?
Вагоны нас ждут. Проезд бесплатный! И юный Ганс тоже здесь, его ясные глаза широко раскрыты, он записался добровольцем и приедет позднее:
— Париж можете брать без меня, а Лондон — не смейте, пожалуйста, подождите меня!
Динкль острит, как обычно, и тянется за второй чашкой бесплатного бульона, который раздает дама-патронесса.
А Тильды все нет. Какая давка! Если не взяться под руки, навсегда потеряешь друг друга. Груды багажа навалены вдоль вагонов — «без гарантии за доставку». Из поездов несутся крики: «Господин лейтенант, похлопочите, чтобы дали отправление! Ох, и всыпем же мы этим негодяям!»
Нас отправляют; смех и слезы, бравада и сердечная тоска; паровозные свистки; медленно отходит первый поезд. Кто-то уже лежит под колесами вагона — «без гарантии»! И даже весь этот хаос рождает подъем, даже горе воодушевляет. Но куда провалилась Тильда?
На мешке сидит старушка. Она одета бедно, но опрятно; ее согнутая спина похожа на гриб. Она ломает руки:
— Я так и не видела его!
Бальрих знает кого! Гербесдерфера. С ним порешили сразу. Ни одного шпиона не бросит он больше под дула ружей… Бальрих протягивает руку сестре.
— Прощай, Малли!
Но Тильда? Где его дитя и Тильда?.. И вот с подножки вагона он заметил свою жену, а она его. Он уже смертельно побледнел, — таким она увидела мужа. Под коричневым платком осунувшееся, посеревшее лицо, на руках — ребенок, и рядом с его белокурой головкой — ее запыленные волосы; стареющая работница, вот какой он видит ее. Он машет ей рукой. Остается едва ли полминуты.
Вот она, оберегая огромный живот, спеша и задыхаясь, проталкивается к мужу. Он машет ей снова; последние полминуты на исходе, а в груди теснится еще многое, что надо бы сказать: «Я недостаточно любил ее, недостаточно любил нашу бедность, нашу простую жизнь и людей, которые могут быть и хорошими и дурными Но почему так черствы, так безжалостно алчны те, кто сидит наверху, а по их вине и те, что внизу — и худшие и даже лучшие из нас?» Он чувствует, что истекают последние полминуты, а упущена целая жизнь, как бы яростно он ни боролся, — та истинная жизнь, которая есть разум и добро. Все наши помыслы были направлены на борьбу, мы искали ее, мы жили борьбой еще задолго до этого дня, когда вступаем в войну. В нас разжигали вражду, и вот мы нашли врагов Я отдал дань своему времени и теперь искупаю его вину.
Их руки встретились. Колеса медленно и неотвратимо сделали первый оборот. Он целует ребенка, в тесном пожатии сомкнулись две жестких руки; прошла секунда, еще одна. Он порывисто наклоняется к Тильде:
— Когда я вернусь, жизнь станет лучше…
Задыхаясь, бежит она за ним, ужас всей жизни отражается на ее лице, и она безутешно повторяет:
— Когда ты вернешься…
1
Консисторский советник — Консистория — в Германии совещательная коллегия при католическом епископе.
(обратно)2
Тантьема — дополнительное вознаграждение, отчисляемое от прибыли, которую получают директора и члены правления капиталистических предприятий.
(обратно)3
Базельский конгресс — чрезвычайный конгресс II Интернационала в Базеле в 1912 году, посвященный вопросу борьбы против опасности войны.
(обратно)4
Один — в древнескандинавской мифологии верховное божество.
(обратно)5
Монте — подразумевается Монте-Карло, курортный город в Монако, где находится всемирно известный игорный дом.
(обратно)6
Вот! (фр.)
(обратно)7
«Прилетела птичка…» — слова немецкой народной песни.
(обратно)8
Воскресшие Катилины вырывают у тебя из рук то, что дано тебе свыше — священную собственность и власть! — Пытаясь привлечь на свою сторону широкие массы, Катилина выдвинул демагогическую программу уничтожения долговых обязательств и конфискации имущества своих противников.
(обратно)9
…герой Троянской войны, отдающий жизнь за Елену. А какая польза от этого Лени?.. Но все ради нее сошли в подземный мир — Аякс… и Гектор… — Елена Прекрасная — дочь Зевса и Леды, жена спартанского царя Менелая, из-за которой, по преданию, началась троянская война. Аякс Теламонид — греческий герой, в припадке безумия покончил самоубийством, Гектор — защитник Трои, убитый Ахиллом.
(обратно)10
Последний довод (лат.)
(обратно)

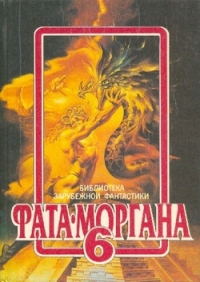

Комментарии к книге «Бедные», Генрих Манн
Всего 0 комментариев