Мэтью Фиппс Шил Вайла и другие рассказы Собрание рассказов Том I
ДЕЛО ЕВФИМИИ РАПХАШ[1]
От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой?[2]
Притчи.О, он наконец-то здесь, мистер Паркер!
— Святые небеса! Вы говорите о докторе?
— О докторе, сэр — своими глазами его видела — прише л пешком — должно быть, вошел через северные ворота п арка, а теперь он уже на дорожке!
Я вы бежал на лужайку; он медленно приближался, в старом то нком сюртуке, глаза опущены долу.
— А, Паркер, — он поднял голову и протянул вялую руку, — это вы? Все хорошо, надеюсь?
— У меня все хорошо, благодарю вас, доктор.
— И почему вы выделили «меня»? Что-то с моей сестрой, Паркер?
Я был просто поражен.
— Вы не слыхали?
— Слыхал? Нет, ничего не слыхал.
— Господь милосердный! где вы только скитались?
— В дальних странах, Паркер.
Я не произнес больше ни слова, как и он. Впервые в жизни доктор ощутил страх — страх задать вопрос, на который я боялся ответить.
Мы вошли в мрачное, полуразрушенное строение, старинное здание, дом древнейшей расы. В небольшой комнате, именуемой нами «кабинетом», он уселся на диван и с завидным самообладанием сказал:
— Итак, Паркер — моя сестра.
— Мисс Евфимии, доктор, больше нет.
Его лицо оставалось каменным; но он побледнел. Через некоторое время я расслышал его бормотание:
— Так я и думал — такое уже как-то случалось.
Что именно? гадал я, но только добавил:
— Три недели назад, доктор.
— Отчего?
— Ее...
— Продолжайте.
— Доктор, ее...
— Скажите прямо, в конце концов — ее убили.
— Она была убита, доктор.
Я отчетливо вспоминаю его в ту минуту: худой, невысокий, с мощным лбом, переходящим в редкую, коротко остриженную поросль серо-стальных волос; толстые, плотно сжатые губы; бледное бритое лицо; и эти глаза, серые, такие беспокойные, вопрошающие, не замирающие ни на миг, переходящие с предмета на предмет, вверх, низ, по сторонам.
Имя его было прославлено в мире — апостол науки, иерофант средь архипастырей знания. За те пятнадцать лет, что я прослужил у него секретарем, он написал девять книг, и каждая их них была в своем духе основополагающей. Его заслуги в области научной мысли были действительно неизмеримы — хотя не скажу, что постоянны; по крайней мере, насколько я мог судить, так как доктор время от времени покидал меня, нередко занятого какой-либо работой, и на долгие недели исчезал из Рапхаш-Тауэрс; не сумел я и определить, влекли ли его за моря саркофаги древних египетских династий, раскопки в Микенах или соблазны Хорсабада[3] и Баальбека. Я лишь знал, что он порой бесшумно и таинственно исчезает и так же тихо возвращается в положенное время к своим трудам; немногословие так глубоко укоренилось в нем, что могло показаться грубостью.
Старая экономка и я, не считая доктора и мисс Евфимии, были единственными обитателями ветхого особняка. Мы занимали малую часть первого этажа в одном из громадных крыльев здания. Ни единый посетитель не нарушал нашего одиночества, помимо джентльмена, чьи визиты всегда приходились на периоды отсутствия доктора. Он надолго уединялся с мисс Евфимией, и я подозревал, что здесь имело место давнее увлечение; доктор не высказывал по этому поводу никаких возражений.
Мисс Евфимия, дама сорока пяти лет, ростом была повыше брата, но в остальном внешне очень походила на него. Чтение книг из библиотеки доктора дало ей хорошее образование. Ни за что не смог бы сказать, почему — ибо они едва обменивались и словом — но постепенно я пришел к убеждению, что каждая из этих жизней была необходима другой, как воздух, которым они дышали.
Вот уже три недели газеты обсуждали невероятное исчезновение мисс Евфимии, и он, единственный из всех людей, ничего об этом не знал! Он взглянул на меня сквозь полуприкрытые веки и произнес с привычной равнодушной сухостью:
— Изложите обстоятельства.
Я отвечал:
— Я был в Лондоне по делам, связанным с вашим имением в Шропшире, и могу лишь повторить показания старой миссис Грант. Мисс Евфимию, как ни странно это звучит, убедили принять участие в похоронах одной леди в Рингльторпе, знакомой ей с юности; она оставалась с друзьями покойной и сюда возвратилась лишь к полуночи. На ней были, похоже, кое-какие старинные фамильные украшения. К часу ночи дом погрузился во тьму; час спустя ночную тишину разорвал пронзительный крик. Миссис Грант ощупью зажгла свечу, выглянула в коридор и увидела смутные очертания человека, бегущего к ней с каким-то необычным оружием, ярко блеснувшим в полутьме — это был, как ей показалось, маленький, жилистый мужчина. Мисс Грант успела захлопнуть дверь, и он тут же принялся яростно в нее колотиться; при этом, как ей почудилось, чей-то голос начал со злобой отчитывать нападавшего. Но здесь ее свидетельство становится совсем запутанным; через несколько часов она пришла в себя, поспешила в спальню госпожи и нашла комнату пустой.
— Иными словами, бриллианты исчезли?
— Исчезла сама мисс Рапхаш.
— А бриллианты?
— Украшения лежали на туалетном столике, там же, где она их оставила. К ним никто не прикасался.
— Очевидно, убийца явился не ради грабежа.
— Безусловно. Он или они, правда, взяли некоторые ценности из вашей комнаты и из моей, на общую сумму в четыреста фунтов.
— Но хоть что-то удалось отследить?
— Нет. Кое-что из пропавшего было найдено, но не «отслежено».
— Найдено где?
— В кустах прямо под балконом южного крыла.
— Странные грабители. И тело сестры нашли...
— Нигде не нашли.
— Тело зарыли в парке.
— Определенно, нет. Парк самым тщательным образом обыскали.
— Значит, сожгли.
— Не в доме, и опять же не в парке. По какой-то жуткой причине тело унесли.
— И его нет сейчас в доме, к примеру?
— Нет — если только можно доверять скрупулезнейшим поискам в самых темных закоулках.
— Пятна крови были?
— Несколько, на кровати.
— И никакой зацепки?
— Только одна. Судя по всему, убийца или один из убийц снял ботинки перед тем, как войти в дом, а после, убегая, позабыл о них, что само по себе довольно загадочно.
— Все очень просто. Он надел ваши или мои.
— Нет. Ботинки были огромного размера; будь его нога и втрое меньше, он не влез бы в вашу либо мою обувь.
— И все же миссис Грант утверждает, что видела человека маленького роста; странно, что у него были такие громадные ступни.
— В таком случае, вполне понятно, что нападавших было несколько.
— Однако я склоняюсь к гипотезе, что убийца действовал в одиночку; если мужество или память изменили одному, он мог еще бросить бриллианты, но двое — вряд ли. Миссис Грант, в расстройстве чувств, могла ошибиться в оценке его роста; и в ходе моих собственных антропологических исследований я сталкивался с подобным несоответствием роста и размера ступней — ведь у человеческих существ иногда сохраняются обезьяньи черты.
— Есть еще кое-что, — сказал я. — Ботинки оказались непарными.
— Но это же зацепка! — воскликнул доктор. — Убийца у меня в руках. Теперь вы рассказали все?
— Я не упомянул о джентльмене, который в тот день приходил к мисс Рапхаш.
— Ах, вот оно что. И как он выглядел?
— Высокий, одетый в черное, среднего возраста, с бакенбардами. Он бывал здесь в ваше отсутствие. Миссис Грант уверяет, что мисс Рапхаш несколько злилась, беседуя с ним, но слов ее она не разобрала.
— Вот как! — произнес доктор и снова начал без остановки расхаживать по кабинету.
— Возможно, — продолжал он, помолчав, — что темные глубины, видящиеся полисмену непроглядно черными, покажутся на взгляд мыслителя прозрачными. Приступим к осмотру дома.
Наука научила доктора трудиться, не ожидая быстрого результата. Мы провели немало часов в бесплодном обыске затхлой громады дома; в торжественной тишине его крыльев эпохи Тюдоров, где поступь человека, возможно, веками не пробуждала отклика эха; в глубоких подвалах с коркой селитры на стенах. Наконец мы оказались в древних покоях на втором этаже, окна которых выходили на участок сада, поросший кустами. Помещение было очень сырым и сумрачным, висевшие на стенах аррасские гобелены превратились в серые тряпки. Доктор использовал его как своеобразную кладовую: здесь громоздились кости мамонтов, зародыши в стеклянных бутылях, окаменелости, образчики морских губок, а также каменные, железные и бронзовые орудия. У одной из стен стоял массивный дубовый сундук, резной, почерневший от старости. В нем, как и в тайной нише, скрытой за панелью, хранились груды костей, снабженные аккуратными этикетками.
Замок на двери имел необычную конструкцию, и доктор всегда носил с собой ключ. Поэтому, войдя в комнату, я не смог сдержать улыбку и заметил:
— Уж тут, по меньшей мере, поиски будут напрасны.
Он посмотрел на меня и с упрямым видом вошел внутрь.
Свет едва проникал сквозь въевшуюся в оконное стекло сажу. То тут, то там старинные доспехи или погребальная урна из Этрурии отсвечивали в полутьме серым налетом плесени; повсюду лежал слой влажной пыли.
— Здесь кто-то побывал, — сказал доктор.
— Доктор!
— Оконная защелка, похоже, сорвана; и поглядите на пыль на полу — разве не выглядит она...
— Но это невозможно, никак невозможно. Всему есть предел, — ответил я.
Он открыл окно. Под ним находился каменный балкон первого этажа, откуда по стене у самого окна тянулась вверх оловянная водосточная труба. В садовых кустах под этим балконом и были найдены похищенные ценности.
— Он взобрался, как видите, по водосточной трубе, — сказал доктор. — Может показаться, что человеку подобное не под силу, и тем не менее, вот труба, а вот покосившаяся защелка. Мы должны оценивать факты по мере их обнаружения.
— Но по крайней мере, доктор, не забрался же он сюда с мертвым телом в руках?
— Нет. В этом вы правы.
— И через дверь не входил.
— Нет.
— Тогда искать здесь бессмысленно.
— Без сомнений. Загляните-ка за панель.
Я заглянул и увидел лишь пыльные кости допотопных чудовищ.
— Думаю, здесь ее нет? — сказал он, постучав костяшками пальцев по сундуку.
Я улыбнулся.
— Нет, доктор, в сундуке тела нет. Не родился еще человек, который разгадал бы древний секрет этого замка.
— Идемте отсюда, Паркер. За мной — мы найдем ее.
Мы вышли, и он снова запер в комнате вековую тишину и уединение. Великие умы обращаются к задачам, которые уже в силу своей огромности видятся обычным людям полнейшей глупостью. Область невозможного есть истинное поле деятельности гения. Но, с другой стороны, толпу можно понять, если при виде гения она испытывает недоверие или возмущение, а то и разражается гомерическим хохотом.
И, должен признаться, я с некоторым раздражением выслушал доктора, заявившего:
— Мы должны найти его, Паркер — убийцу моей сестры — похитителя ее тела. Это дело мы не можем оставить на произвол неотесанного интеллекта властей. Выследим его — и после благополучно вернемся к рассмотрению научных вопросов, связанных со сравнительной мифологией.
Его метод, однако, отличался своими странностями. Близко познакомиться со всем криминальным сословием Лондона — предприятие сложное, если не вовсе непредставимое. Но именно это он вознамерился сделать. В течение нескольких месяцев мы изучили новый язык и стали своими в новом мире. Да, мы познали язык и мир Восточного Лондона, оделись как «работяги» и приобрели манеры пропащего отребья.
Только тогда передо мной раскрылись пугающие глубины души доктора Рапхаша. Его ненависть к неизвестному убийце казалась мне дьявольской. «Выследим его». Вся его жизнь стала воплощением этой фразы. Человек науки превратился в хищного зверя, сохраняя в то же время совершенное хладнокровие ученого; накал страсти, граничивший с безумием, скрывался под безмятежностью океанских вод; ангел мщения без взора горящего и меча пламенеющего.
Дни и ночи мы проводили в тавернах, игорных притонах, каморках ростовщиков, бродили с головорезами по улицам трущоб и расталкивали буйные толпы у дверей мюзик-холлов. Мы стали закадычными друзьями людей, открыто и не краснея хваставшихся своими разнообразными подвигами на ниве преступности. По утрам мы разделялись, вечерами рассказывали друг другу события дня. И затем я до поздней ночи слышал в соседней комнате размеренные тихие шаги этого божественного терпения. Только они, да еще блеск в глазах, выдавали терзавшую сердце доктора манию.
В один прекрасный день я кое-что услышал.
Две женщины с развратными лицами стояли у стойки пропахшей джином забегаловки.
— Ну как твой старик? — услышал я.
— А ну его ко всем чертям, вот что. Утром отнесла в ломбард его ботинки — последнее, что еще осталось. А там их и не взяли.
— Дырявые, что ли?
— Да нет, прочные, вот разве непарные.
— Да ну!
— Богом клянусь... Чуть ему зенки не выцарапала за эти ботинки. Покупаю милорду летом отличную пару и он в них вышивает на уборке хмеля, что твой король; а два месяца назад заявился — на правой ноге свой ботинок, а на левой чужой.
— И чего он имел сказать в свое оправдание?
— Тут-то самая и заковыка. Всякий раз, как спрашиваю, он заводит: «Отвали, женщина» да «Отстань, говорю тебе». Бьюсь об заклад, был он на деле, угодил в передрягу, а теперь ничего говорить не хочет.
Не стоит и упоминать, какими путями я полчаса спустя сделался сердечным приятелем обеих женщин. Время, место и обстоятельства, о которых шла речь, глубоко впечатлили меня, и по расставании с женщинами я был убежден, что полученные мною имя и адрес были именем и адресом нашего убийцы. Когда доктор Рапхаш, изможденный и бледный, как покойник, вернулся тем вечером в нашу маленькую мансарду, я крепко пожал ему руку.
— У вас для меня новости, Паркер.
— Слышал кое-что, что может иметь отношение к делу.
И я рассказал ему о встрече с женщинами.
— Несомненно, отношение самое прямое. Пойдемте.
— Вы выглядите усталым. Может быть, завтра...
— Ни за что! Сегодня, слышите, сейчас же — сейчас же — пришло время найти искомое... — и он топнул ногой по полу.
Я в изумлении посмотрел на него. Впервые, казалось, свойственное доктору божественное спокойствие покинуло его.
Мы вышли; предосторожности ради я вооружился револьвером Кольта. Когда мы, блуждая в бесконечных лабиринтах, нашли нужный дом, доктор наконец заговорил:
— Света нет, как видите; не иначе, он еще не вернулся домой. Сделаем так: подождите здесь, затем заговорите с ним, подведите его сюда, под фонарь, рассмотрите хорошенько ботинки и пригласите его выпить. Я буду ждать на другом углу и присоединюсь к вам.
С неба плавно падали хлопья снега. Я ходил взад и вперед, как часовой, пытаясь согреться; доктор застыл в неподвижности. Часы на шведской церквушке пробили полночь, и в тот же миг я увидел рядом чернорабочего.
— Холодно нынче, приятель, — дружески заметил я.
— Да уж, — отозвался он.
Его зубы стучали, лицо посинело. Поднятый воротник пальто, засунутые глубоко в карманы руки и согбенная поза без слов говорили о муках холода.
— Ты весь замерз, кажись. Пойдем, выпьешь со мной.
— Стаканчик мне не повредит, приятель. Целый день во рту и крошки не было.
— Что — на мели?
— Не то слово!
— Пошли тогда в «Коричневый медведь».
Он последовал за мной. Под фонарем я остановился.
— Тебе нравится «Коричневый медведь»? Если нет...
Свет упал на него. При виде его слабовольного лица и робких голубых глаз меня охватило чувство презрения и разочарования. Но ботинки на его ногах, во всяком случае, были парными к тем, что я передал властям.
Доктор неторопливо приближался к нам и был уже на середине улицы, когда Харди поднял голову и заметил его.
Лицо его стремительно и непередаваемо изменилось.
Глаза вспыхнули, лицо залила синюшная бледность; он пошатнулся, оперся об ограду и затем внезапно бросился наутек, за угол, точно спасаясь от смертельной опасности.
Доктор кинулся за ним; я бежал следом. Теперь мне стало ясно, что друг мой, помимо неизведанных душевных глубин, обладал и значительной физической силой. Расстояние между нами все увеличивалось. На ногах у него выросли крылья. Харди, конечно, лучше нас знал запутанные и мрачные проулки, где искал теперь спасение. Порой он на мгновение исчезал из глаз. Но доктор постепенно нагонял его, «выслеживал», как охотник дичь. Улицы были пустынны.
Харди вдруг метнулся в глухой переулок. Дом в конце его стоял в запустении, все окна были разбиты. Проникни беглец в дом, и он скрылся бы от нас через черный ход. Я понял, что Харди с самого начала направлялся сюда. Подбежав к дому, он поспешно скатился по наружной лестнице в подвальный этаж, находившийся ниже уровня улицы.
— Стреляйте! — закричал доктор, оглядываясь. — Достаньте револьвер — стреляйте!
Я был далек от такой мысли, да и стрелять было слишком поздно, так как Харди исчез. Минуту спустя мы вслед за ним сбежали по ступенькам, миновали металлическую решетчатую дверь и очутились в широком и сыром подвале с низким потолком; наши ноги глубоко ушли в слой мягкой и рыхлой земли, служившей полом. Другого выхода из подвала не было; я начал было осматриваться в поисках Харди, когда дверь позади нас неожиданно захлопнулась. Засов с лязгом опустился в скобу на наружной стене.
Итак, мы превратились в пленников. Было ясно, что беглец спустился в подвал и как-то сумел покинуть его, не выходя через дверь. Но этим наши умозаключения исчерпывались. Темнота была непроглядна, как сам Эреб[4]; каждый шаг вздымал целые облака душившей нас пыли; но сырой холод, что охватил нас после горячки погони, не позволял произнести ни слова. Я ощупал стены, выстрелил из револьвера, но вспышка осветила лишь участок нештукатуреной стены и низкий потолок; я бился и кричал у двери, но дома вокруг лежали в развалинах, и мне ответило только эхо.
Ранним утром меня донельзя ужаснул, признаюсь, доктор Рапхаш. Я со всей ясностью осознал, что он не в себе и страдает гораздо больше, чем я. За всю ночь он выдавил из себя не более одного-двух слов. Он сидел скорчившись в углу, в пыли, согнув колени и закрыв руками голову. Я на ощупь нашел его.
В какой-то момент я в тревоге сказал:
— Доктор, не спите! От холода вы...
— Нет, нет, — с горечью произнес он, — этой ночью сон мне не грозит.
Я стал расхаживать по подвалу, волоча ноги в пыли и пытаясь согреться. Тихий стон привлек меня к нему, и мои холодные пальцы прикоснулись к его лбу, словно к раскаленной плите.
— Вы очень страдаете, — сказал я.
— Оставьте меня, Паркер! Ступайте прочь!
Миновал еще час, и я понял, что он теперь быстро меряет шагами всю длину подвала; быстро! — наполняя подвал постоянной невыносимой вонью коричневых частичек пыли. Я долго стоял неподвижно: негромкие звуки то приближались, когда он оказывался рядом, то стихали, и я мысленно следил за его передвижениями в облаках пыли, определяя для себя — вот он здесь, там, сейчас вон там. Мне помогало его невнятное бормотание. Казалось, он не сознавал, что я был рядом.
Когда дышать стало почти невозможно, я направился к нему. Мою голову что-то задело; я нащупал рукой веревку, свисавшую с потолка. Не понимая ее назначения, я в конце концов с немалыми усилиями забрался по веревке наверх. Моя голова ударилась о потолок. Я повел рукой и наткнулся на что-то, показавшееся мне внутренней стороной люка. Сразу же стало понятно, как Харди удалось бежать из подвала. Я надавил кулаком, и в подвал проник тонкий луч света. Минуту спустя я оказался на свободе — снаружи уже начинался день.
Незнакомое, иссиня-бледное лицо глянуло на меня снизу, дико вращая глазами. Я помог доктору забраться наверх и мы вместе вышли на улицу.
Здесь он вдруг схватил меня за руку.
— Паркер! — он дышал с судорожными всхлипами, — будьте цепки, как пиявка! Ради меня, друг мой! Выследите его! Прощайте... Безумец! не вздумайте следовать... Прощайте!
И прежде чем я всплыл на поверхность из глубин удивления и оцепенения, в которое повергли меня его слова, точнее шипение, он бешено рванулся вниз по улице, остановил проезжавший кэб и исчез.
После таинственного бегства доктора Рапхаша, бросившего наши поиски накануне их успешного завершения, мне оставалось лишь вернуться в имение и ждать. Я рассказал полиции о работнике с непарными ботинками (с тех пор он благополучно скрывался), и долг свой, собственно говоря, счел таким образом исполненным.
Месяц спустя я заметил как-то вечером подозрительного человека; заслышав мои шаги, он нырнул в кусты — те самые кусты, где были найдены украденные в доме ценности.
Меня сопровождал рослый мастиф. Я подошел ближе и громко произнес:
— Не пытайтесь бежать. Встаньте и поднимите руки над головой. Я вооружен — а собаку вы и сами видите.
Меня меньше удивил бы звук выстрела, чем пристыженный вид, с каким беглец поднялся на ноги. Я тотчас узнал вялую физиономию Харди.
— Я никого не хотел обидеть, хозяин, — сказал он, приподнимая шляпу и дрожа, как осиновый лист.
— Так-так. Мы с тобой уже встречались, Харди.
Он внимательно оглядел меня и покачал головой.
— Стало быть, вы меня получше знаете, чем я вас, сэр.
— Тебе придется пройти со мной, Чарльз.
Я взял его за руку и провел в дом; когда мы вошли, я велел миссис Грант послать за парочкой обретавшихся вдалеке от нас местных полисменов. Затем я запер дверь и обратил взгляд на своего пленника. Подумать только, это существо разразилось слезами!
— Ну хватит, Чарльз, — сказал я, — прекрати рыдать и расскажи мне, что ты делал в тех кустах.
— Искал кольца и другие вещи. Меня погнал голод — весь последний месяц за мной охотились, как за зверем, я и не выдержал.
— Какие кольца?
— Которые я бросил в тех кустах. Думал, может, одно куда-нибудь завалилось да так и лежит.
— Так ты признаешься в ограблении?
— Признаюсь, хозяин. В первый раз со мной такое и, надеюсь, в последний. Ни минуты покоя с тех пор не знал. Я даже веревку приладил в старом подвале, хотел повеситься, да только боязно мне стало...
— И в убийстве признаешься?
— Убийстве, хозяин? — испуганно вскричал он. — Убийстве! Я-то никого не убивал, хозяин, это один из тех двоих.
Да разве я чуть не окочурился, когда увидел, что он сделал?
— Говоришь, с тобой были еще двое?
— Да, сэр. Один работник вроде меня и еще старик.
— Рассказывай.
— Мы с приятелем, сэр, отправились на уборку хмеля. А он парень дикий, работать в поле ему скучно, вот он и говорит мне, что в эти сельские дома забраться легко, пожива там есть и совсем не опасно. А парень он из таких, что слово «нет» напрочь не понимают, и вот раз ночью стоим мы за старым сараем с той стороны и ждем, покуда старуха заснет, и вдруг как из-под земли выскакивает между нами тот старик. Я давай бежать, он ведь показался мне как призрак, а Джим, он посмелее будет, стоит на месте; а вскоре он мне свистит и, когда я подхожу, говорит: «Вот так штука, Чарли», говорит он, «старик-то и сам вышел на дело». «От напарников одни беды, Джим», говорю я, а он говорит: «Да ладно тебе, живи и дай жить другим». В общем, тут мы с Джимом снимаем ботинки и залезаем в дом. И только мы все оказались в доме, как старик начинает командовать, говорит нам, куда идти и что делать, а мы с Джимом все делаем, как он велит, будто так и нужно. А он каждый угол там знает, и перво-наперво он ведет нас в комнату и говорит, точно ошалелый: «Грабьте теперь! разоряйте и опустошайте! Сколько вашей душе угодно!» После лезет на полку, и достает из ящика такой необычный блестящий нож, закрывает ящик — я так думаю, у него были ключи ко всем замкам в доме — выскакивает и бежит в комнату напротив. «Чудной он какой-то», говорит Джим и сам глядит как ошалелый, «прям дрожь пробирает», говорит, и не успел я ему сказать, что это сам дьявол или привидение какое, слышим мы в другой комнате, будто драка, и будто кто задыхается, а после долгий такой крик, какой я до смерти не забуду. И тут же выскакивает старик с горящими глазами и бросается на дверь другой старухи чуток поодаль. Джима прошиб холодный пот, но он набрался храбрости и попробовал его успокоить, и наконец тот старик бежит к убитой леди и снова выскакивает, несет ее на руках, будто перышко, а прямо в груди у ней рана и седые волосы волочатся по полу. И тут он подходит к нам и благородно так говорит: «Построиться предо мною! шагом марш! марш! я покажу вам добычу и приведу вас к грудам сокровищ, что созрели для вашей жатвы!» Я прямо запомнил эти его слова. И он заставляет нас идти впереди, мы проходим весь дом и идем в другое крыло и там поднимаемся на второй этаж, и тут приходим в пыльную комнату с кучей костей мертвецов и — там, о Господи! спрячьте меня! там — там — вон он! Он зарежет меня, как пришил моего приятеля — он и вас прирежет...
Он резко вскочил и спрятался за моим креслом, присев на корточки. В ушах у меня еще звучал панический крик Харди, когда внушительная дверь медленно распахнулась и в комнату вступил доктор Рапхаш. Я застыл, вцепившись руками в подлокотники кресла.
— Итак, Паркер, — по обыкновению равнодушно и сухо произнес он, — это снова я, как видите. Но кто это тут у нас... убийца наконец пойман, не сомневаюсь!
Его взгляд зажегся торжеством, упав на Харди, который, побледнев как полотно и тяжело дыша, стоял теперь у стены.
— Да, убийца! — выдохнул Харди. — Да только это не я!
О, у меня доказательств хватит! Вы были в этом самом сюртуке — а пятно крови на рукаве уже замыли?
Доктор Рапхаш уселся, еле заметно улыбаясь и не спуская глаз с Харди. Затем он осмотрел свой рукав.
— Удивительное дело, — вполголоса заметил он, словно размышляя вслух. — Я заметил пятно на рукаве; это никак не может быть кровь; поглядите, Паркер, это ведь не похоже на кровь, а?
Но мои глаза заволоклись густым красным туманом; я ничего не видел.
— Самая настоящая кровь, — продолжал Харди; спокойный тон доктора придал ему мужества. — Вы и сами это знаете, а может, совсем обезумели той ночью и не знаете ничего. Только умалишенный мог тащить тело этой леди так далеко, чтобы запихнуть его в старый сундук; а там, разве не вы гнались за Джимом по всей комнате и резали его ножом, как собаку, и приговаривали, что один труп сундук не заполнит? И если бы я не слез с балкона по трубе, разве вы не убили бы и меня? Не вы ли выглянули из окна и велели мне готовиться, потому как вы уже идете, так что мне пришлось прыгнуть, и покатиться по земле, и растерять все ценное, а потом схватить два первых попавшихся ботинка, когда вы спустились и погнались за мной?
Я глядел на доктора Рапхаша; пока Харди произносил эти недвусмысленные обвинения, он не издал ни звука; постепенно желтоватая смертная бледность разлилась по его лицу, оно застыло и напряглось; голова его свесилась на грудь, ноги и руки выпрямились как палки и недвижно торчали из туловища; в глазах появилось поистине жуткое, холодное, каменное выражение, придававшее ему вид непреклонно-сурового Радаманта[5].
Я подбежал и сжал его холодные и влажные пальцы в своих; но он не узнал меня. Так он сидел в течение нескольких минут, и ни единый звук не нарушал тишину комнаты.
Затем, не пошевелив окаменевшими конечностями, он поднял голову и с трудом откинул ее на спинку кресла; и с этим движением из его побелевших губ — все более высокий, раскат за раскатом, в ужасающей членораздельности, пронзительным стаккато — вырвался перезвон маниакального смеха. И когда он стих, на лице доктора медленно проявилась бессмысленная улыбка идиота.
Весь дрожа, я схватил Харди за руку, неверными шагами выбежал из комнаты, захлопнул дверь и запер внутри человеческую развалину.
Так доктор Арнот Рапхаш выследил убийцу своей сестры; и так, вместе с ним, пал иудейский Дом Рапхашей в графстве Кент.
Спустя несколько дней я получил письмо; привожу некоторые отрывки:
«Когда я сообщу вам, что являюсь владельцем частной клиники для душевнобольных, названием которой помечено это письмо, и кузеном доктора Рапхаша, вы тотчас сделаете вывод, что периоды его необъяснимого (для вас) отсутствия всегда совпадали со временем его добровольного пребывания в моем заведении. Он хорошо изучил первые симптомы — головная боль, высокая температура и т.п. — и обычно располагал двумя-тремя днями отсрочки до полноценного приступа болезни. Случалось, однако, что недуг нападал на него внезапно, особенно в тех случаях, когда приступу предшествовало любое волнение; например, месяц назад он поступил в мое заведение уже в совершенно безумном состоянии, и я немедленно заключил, что в этом повинно какое-то сильное потрясение… Первый пароксизм наступил у него в возрасте тридцати лет: только что женившись, он убил свою молодую супругу, заперев ее в комнате, наполненной ядовитым газом. Пребывая в здравом уме, он ничего не помнил о своих безумных деяниях, отличавшихся большой хитростью и ярко выраженной манией человекоубийства, направленной в основном на самых близких людей. О судьбе жены он так и не узнал, поскольку был немедленно помещен под мою опеку, а по возвращении домой нашел лишь ее могилу... Когда он покидал клинику, «излечившись» после гибели сестры, я посчитал благоразумным ничего не рассказывать ему о трагедии, решив, что для него предпочтительней вернуться в Тауэрс, прежде чем тяжкий груз этого известия падет на его едва окрепшие плечи; именно поэтому он ничего не знал о происшедшем... Вероятно, я попадался вам на глаза, когда посещал мисс Рапхаш во время пребывания доктора в клинике; целью моих визитов были подробнейшие отчеты о состоянии ее брата, каких требовала от меня мисс Рапхаш. В день трагедии у нас произошел довольно острый спор относительно необходимости заковать ее брата в кандалы; она резко возражала, я настаивал. К несчастью, я поддался ее влиянию, последствием же стала ее смерть... Теперь не остается никаких сомнений, что доктор в ту ночь бежал из моего заведения; понятия не имею, как ему удалось незамеченным покинуть клинику и прилегающий участок и вернуться обратно; однако хитроумие его, как я уже намекал, воистину не знает границ... Должен лишь прибавить, что в скором времени буду иметь — готов почти сказать, удовольствие — сообщить вам о смерти доктора Рапхаша. Он может протянуть еще несколько недель, но конец, как бы то ни было, уже близок.
КСЕЛУЧА[6]
Тотчас он пошел за нею... и не знает....[7]
(Из дневника)Три дня тому! Клянусь небесами, кажется, миновал целый век. Я воистину потрясен — мой разум поддался соблазну. И тогда я впал в мгновенную кому, в точности схожую с приступом petit mal[8]. «Гробницы, черви, эпитафии»[9] — вот что мне виделось. В моем-то возрасте, с моим телосложением ходить шатаясь, как старик после удара! Но все это пройдет: я должен собраться — разум мой повредился. Три дня тому! словно миновал целый век! Я сидел на полу перед старинной шкатулкой, полной писем. На глаза мне попалась стопка посланий от Космо. Никак, я забыл о них! о, они увядают! Нет, я более не вправе считать себя молодым. Я сидел и бездумно читал, унесенный воспоминаниями. Витать в прошлом смерти подобно! этой дурной привычке я обязан свернуть шею или погибнуть. Я снова прошел лабиринтом гармонических орбит менуэта, вновь кружился в вальсе, видел вокруг удлиненную пышность канделябров, разгар и буйство вакханалии. Космо, сей царь и махараджа сибаритов! Приап détraqués[10]! В укромных уголках римской виллы стояли на высоких постаментах кушетки, окруженные и полускрытые зеркалами в рамах чистейшего золота. Чахотка пожирала его; усаживаясь наконец за стол, он дрожал в ознобе, не в силах поднять бокал с вином! глаза его были подобны двум светлякам, тесно обвившим друг друга! вкруг них будто мерцали дымные эманации фосфора! Отчаянна, как понимал всякий, была его потаенная борьба с Пожирателем. Но до конца оставалась покойна царственная улыбка; до конца — до последнего дня — он пребывал для смешной и жалкой толпы бесспорным корифеем всех обрядов, не скажу Пафоса, но Хамоса! и Ваал-Фегора![11] Согрев свою кровь, он не отказывался от бражничества, пляски, темноты покоев. Его опочивальня была черна, без единого луча света, круглой формы; к ней вел секретный проход; в воздухе струились ароматы бальзамических курений, бдолаха[12], едва различимые звуки кимвалов и флейт; комната была уставлена сотней оттоманок Марокко. Здесь Люси Хилл пронзила сердце Какафого, приняв шрам на его спине за отметину Сориака. Здесь в малахитовой ванне принцесса Эгла, проснувшись поздно однажды утром, нашла бездыханное, окоченевшее тело Космо, полностью сокрытое водою.[13]
«Но во имя Господа, Мериме!» (так писал он), «подумать, что Кселуча мертва! Может ли лунный луч уступить гною? Могут ли сожрать радугу черви? Ха! ха! ха! Смейтесь со мною, друг мой: elle dérangera l’Enfer![14] Да она и сам Тофет[15] познакомит с pas de tarantule![16] Кселуча, воплощение женственности! Кселуча, что напоминает обольстительных блудниц древности! Плачьте со мною — manat rara meas lacrima per genas![17] умелая, как Фаргелия; образованная, как Аспазия; розовая, словно Семирамида[18]. Она понимала сосуд человеческого тела, друг мой, его тайные пружины и восторги тоньше любой из дышащих savants[19] Саламанки! Tarare[20] — ведь Кселуча не мертва! Живое начало не подвержено смерти; и пламя не завернуть в саван. Кселуча! Где же ты? Вознесена, быть может — живою взята созвездием на небо, подобно дочери Леды[21]. Она отправилась в Индостан, в сопровождении кортежа и почестей бегумы, грозясь свершить набег на императора Татарии. Я заговорил о запустении Запада; она поцеловала меня и обещала вернуться. Упоминала и о вас, Мериме — “ее Завоевателе” — “Мериме, Разрушителе Женщин”. Ветерок из оранжереи плясал средь янтарных дуновений ее локонов, вздымая их легкой волной над тем розалиновым румянцем, что вам так памятен. Убранная с головы до ног, она, милый мой, обладала утонченной грациозностью маргаритки, отраженной в воспаленном зраке созерцающего быка. Строки Мильтона, сказала она, многие годы возбуждают страсть ее Взора: «Среди пути, на степи Сериканы, где легкий, тростниковый свой возок, Китаец, парусами оснастив, по ветру мчится»[22]. Я и сабеи, заверила она меня, ошибочно сочли Огонь мерилом всех вещей; другая половина мироздания — идеальный свет Аристотеля. В Ourania Hierarchia[23] и книге Фауста налицо цельность: горящий Серафим, Херувим, исполненный очей. В Кселуче соединились они. Она вернется, вновь завоевав Восток под эгидой Диониса. Слыхал я, что она ярко пылала в Дели; ее везли на колеснице, запряженной львами. А после тот слух — полагаю, ложный. И впрямь, источник его сомнителен. Как Один, Артур и прочие, Кселуча явится снова».
В скором времени Космо лег в малахитовую ванну и уснул, укрывшись одеялом воды. Ко мне же, в Англию, доходили лишь отрывочные вести о Кселуче: сперва она была жива, позднее мертва, затем сожжена в древнем Фадморе пустыни, ныне Пальмире. Мне было все равно — Кселуча давно стала для меня прахом яблок Содомских[24]. И до тех пор, пока я не извлек из ларца письма Космо, она не посещала моей памяти.
В последние годы я привык проводить большую часть дня во сне, тогда как ночами я блуждаю по городу под успокоительным воздействием тинктуры, сделавшейся для меня необходимой. Подобное теневое существование не лишено известного очарования; и немногие, думается мне, сумели бы длительное время подвергаться влиянию этих чар, не испытывая воспарения чувств, глубокого благоговейного трепета. Путешествие наедине с Изначальным по определению торжественно. Луна отливает бледным сиянием болотного огонька, Ночь непроглядна, как склеп. В Никс[25] не меньше от Танатоса, нежели от Гипноса, и горькие слезы Изиды льются потоком. В три часа ночи, если рядом проезжает экипаж, звук обретает величие громовых раскатов. Как-то часа в два, на углу, я приметил священника; он сидел, мертвый, зловеще оскалившись, подогнув ноги. Одной рукой он опирался о колено и наискось воздевал окостеневший указательный палец. Путем тщательных наблюдений я установил, что он указывает на Бетельгейзе, звездную альфу, что подпирает плечом влажный меч Ориона. Он жутко раздулся, погибнув от водянки. Во всем Возвышенном есть, безусловно, доля grotesquerie[26]; и средь сынов Ночи — попадается и Буффо[27].
На лондонской площади, пустынной, вероятно, и днем, я внезапно услышал металлический, серебряный стук каблучков. Было три часа, стояла мрачная зимняя ночь; день тому я нашел письма Космо. Я стоял у парапета, глядя, как плывут облака, словно по велению луны, просоленного морем капитана в хмуром плаще. Обернувшись, я увидал прелестную дамочку, весьма победоносно одетую. Она подошла прямо ко мне. Ее голова была непокрыта и увенчана янтарной волной волос, небрежно собранной на затылке в усеянный драгоценными камнями узел. Изобилием щедрого декольте она напомнила мне Парвати, крутобедрую богиню любви из соблазнительных грез браминов.
Она обратила ко мне вопрос:
— Что ты там делаешь, милок?
Ее красота взволновала меня, а ночь — bon camarade[28]. Я ответил:
— Загораю под лучами луны.
— Все это заемный глянец, — парировала она, — ты начитался «Цветов Сиона» старины Драммонда[29].
Вспоминая теперь об этом, я не могу сказать, что ее замечание поразило меня, хотя и должно было — разумеется — поразить.
— Нет, клянусь всеми фибрами души, — отозвался я, — но ты?
— Не так уж трудно догадаться, откуда явилась я!
— Ты ослепительна. Пас, конечно.
— О, бери дальше, сын мой! Скажем, с благотворительного бала в Сохо.
— Неужели?... и одна?... по холоду? пешком...?
— Что поделать, я стара годами и к жизни отношусь философски. Могу представить тебя верхом на Андромеде рядом с оседланным Овном. Ошибаются, месье, те, что мыслят атмосферу на видимой стороне Луны. Но у меня есть резоны считать, что на Марсе обитает раса, чьи веки прозрачны, как стекло; и глаза их видимы, когда они спят; и всякий сон являет наблюдателю крошечную панораму на просвечивающем сквозь веки зрачке. Не воображай, что я всего лишь заурядная fille[30]! Cогласиться на провожатого значит признать себя женщиной, что неуместно в Нигде. Младая Эос правит колесницей, запряженной четверкой коней, но Артемида «прогуливается» в одиночестве. Не заслоняй мне остаток света, Диогена ради![31] Я иду домой.
— И далеко это?
— Близ Пикадилли.
— Может, экипаж?
— Мне экипаж не требуется, благодарю. Дом мой совсем близко. Пойдем.
Мы тронулись в путь. Спутница моя, не медля, воздвигла меж нами дистанцию, процитировав из «Испанского курата»[32] изречение о том, что открытый воздух враждебен любви. Талмудисты, дважды со значением заметила она, справедливо считали руку самой священной частью тела; поэтому и здесь на соприкосновение в настоящий момент был наложен запрет. Походка ее отличалась чрезвычайной стремительностью. Я следовал за нею. Нигде не было видно и кошки. Наконец мы остановились у двери особняка на Сент-Джеймс. Ни проблеска света в доме. Он казался безжизненным, на лишенных штор и занавесок окнах местами было выведено слово «Сдается». Моя спутница, однако, вспорхнула вверх по ступенькам и с пригласительным жестом вошла в дом. Я, поднявшись следом, захлопнул дверь и очутился в темноте. Я слышал, как она поднимается; затем островок света озарил широкий изгиб мраморной лестницы. На пролете, где я находился, не было ни ковра, ни какихлибо предметов мебели; повсюду лежал толстый слой пыли. Я двинулся было по лестнице, когда она, к моему удивлению, вернулась, приблизилась ко мне и прошептала:
— На самый верх, дорогой.
Опережая меня, она проворно взлетела по ступенькам.
Чем выше мы поднимались, тем меньше оставалось у меня сомнений в том, что дом, за исключением нас, был необитаем. Везде царила пустота, полная лишь пыли и отголосков эхо. И тем не менее наверху из открытой двери струился свет; и я вошел в просторную овальную гостиную, расположенную примерно по центру особняка. Я был совершенно ошеломлен неожиданным блеском комнаты. Посередине стоял накрытый квадратный стол, ломившийся от золотых приборов, фруктов, посуды; над ним три тяжелых канделябра изливали электрический свет; я также разглядел на столе (что показалось мне очень странным) небольшой подсвечник обычного олова со старым, замызганным и кривым огарком дешевой жировой свечи. Гостиная производила впечатление роскоши, сравнимой с ассирийской. Кушетка слоновой кости в дальнем конце уподоблялась солнцу благодаря изголовью из халцедона, служившему морем, где резвились стаи изумрудных ихтиокентавров. Драпировки цвета меди, чередуясь с зеркалами в яшмовых рамах, выгодно оттеняли купол меди и пламени; но этот последний, как я вспоминаю, беглому взгляду казался покрытым копотью. Моя спутница устроилась на изогнутой оттоманке, поднятой вровень со столом на семитский манер; теперь я видел ее всю до кончиков шафрановых шелковых туфелек. Она указала на сиденье напротив. Неуместность его присутствия среди всей этой вызывающей помпезности так позабавила меня, что я не смог удержаться от улыбки: то был грязный, жесткий, простой деревянный стул, причем одна его ножка, как я вскоре обнаружил, была короче других.
Она указала на вино в бутылке черного стекла и высокий бокал, но сама не подала и виду, что собирается разделить со мной угощение. Она возлежала, опираясь на бедро и локоть, petite[33], ослепительная, и мрачным взором глядела куда-то вверх. Я, однако же, выпил.
— Ты устала, я вижу, — произнес я.
— Сколь же мало видишь ты! — задумчиво ответила она, едва удостоив меня взглядом.
— Надо же! твое расположение духа вдруг изменилось?
Ты помрачнела и замкнулась.
— Тебе не доводилось, я полагаю, видеть коридорные гробницы древней Скандинавии?
— И спешно меняешь темы.
— Никогда их не видел?
— Коридорные гробницы? Нет.
— Они достойны путешествия! Это округлые или продолговатые каменные палаты, прикрытые сверху величественными насыпными курганами; наружу ведет «коридор» из каменных плит. Вдоль стен палаты сидят мертвецы с опущенными на согнутые колени головами и в молчании ведут свою беседу.
— Выпей со мною вина и оставь погребальные разговоры.
— Ты, похоже, глуп как пробка, — отвечала она с ледяной язвительностью. — Ведь это донельзя романтично! Гробницы те, знаешь ли, относятся к эпохе неолита. Когда зубы, один за другим, выпадают из безгубых ртов — они оказываются у мертвецов на коленях. Затем, когда проступает скелет — они скатываются на каменный пол. И после каждый зуб, что падает на пол, резко прерывает тишину.
— Ха! ха! ха!
— О да. Подобно медленному, многовековому, последовательному и вечно возвращающемуся на круги своя просачиванию слизи в далеких пещерах подземных глубин.
— Ха! ха! Вино твое, кажется, ударило мне в голову! Да уж, эти мертвецы изъясняются на языке по преимуществу дентальном.
— Обезьяна, с другой стороны, изъясняется всецело горловыми звуками.
Часы на городской башне пробили четыре. Беседа наша тянулась вяло, прерываемая долгими минутами молчания. Брожение винного восторга охватило мой мозг. Я видел ее словно в тумане; она то разрасталась и начинала дрожать в воздухе, то снова сжималась и обретала изящный облик. Но жажда амурных подвигов угасла во мне.
— Известно ли тебе, — спросила она, — что нашел както маленький мальчик в одном из датских Кjökkenmöddings[34]? Истинная жуть! Скелет громадной рыбы с человеческой...
— Думаю, ты очень несчастна.
— Молчи.
— Ты так заботлива...
— Видимо, ты непроходимо глуп.
— Тебя обуревают страдания.
— Ты неразумен, как ребенок. Ты и понятия не имеешь о смысле этого слова.
— Вот как? Разве я не человек? Страдающий, любящий?
— Ты, в сущности, ничто — пока не сумеешь сотворить.
— Сотворить что?
— Материю.
— Как напыщенно! Материю невозможно ни сотворить, ни уничтожить.
— Бесспорно, в таком случае, что ты являешься созданием с крайне недоразвитым интеллектом. Теперь мне это очевидно. Материя не существует, в действительности нет такой вещи — материя есть видимость, призрак — и всякий автор, которого не сочтешь последним тупицей, от Платона до Фихте, по доброй воле или невольно доказывал это для твоего же блага. Сотворить означает произвести впечатление реальности на чувства других; уничтожить — провести влажной тряпкой по грифельной доске.
— Быть может. Мне все равно. Поскольку никто не сумеет такое сделать.
— Никто? Ты всего-навсего эмбрион...
— И кто же?
— Любой, чья сила Воли равна силе притяжения звезды первой величины.
— Ха! ха! ха! Клянусь небесами, ты решила пошутить! И кто же обладает такой грандиозной волей?
— Их было трое, и все они стали основателями религий. Был и четвертый: сапожник из Геркуланума, один волевой акт которого вызвал катаклизм Везувия в 79 году, в прямом противостоянии с притяжением Сириуса. Есть много больше славных деяний, чем ты когда-либо воспевал. И чем больше бесплотных духов, я уверена...
— Ради всего святого, ты полна печали, не иначе! Бедная девочка! давай же, выпей со мною. Вино густое и пойдет тебе на пользу. Сетианское, не правда ли? По вине его ты колышешься и разрастаешься предо мною, подобно пурпурному облаку вечерней...
— Ты таишь одни низменные мысли! — Я об этом и не догадывалась! — ты мне не спутник! твои ничтожные помыслы обращены к низшим сферам!
— Выпьем — забудь свои муки...
— Какую, считаешь ты, часть захороненного тела первой пожирают черви?
— Глаза! глаза!
— Ты чудовищно ошибаешься — ты настолько далек от истины...
В пылу возражений она склонилась вперед с такой яростью, что оказалась совсем близко от меня. Просторный халат янтарного шелка, с широкими рукавами, сменил ее бальное платье, хотя и не понимал, когда это случилось; я с недоумением заметил ее новое одеяние, когда она широко расставила руки, упираясь ими в стол. Внезапный запах пряностей и флердоранжа, смешанный с мерзостной струей смертности, давно созревшей для могилы, ударил мне в ноздри. Холодок пробежал по моей спине.
— Ты так безнадежно обманываешься...
— Ради Бога...
— Ты самым жалким образом заблуждаешься! Отнюдь не глаза!
— Тогда что же, во имя небес?
Часы пробили пять.
— Увула! тот мягкий язычок слизистой плоти, что свисает с нёба над голосовой щелью. Черви проедают кожу лица и щек, или пробираются через губы, сквозь дыру от сломанного зуба, клубятся во рту. Затем они набрасываются на увулу. Это настоящий деликатес склепа.
Ее ужасное возбуждение, запах, слова наполняли меня отвращением. Невыразимое чувство собственной незначительности и глупости приковало меня к месту.
— Ты говоришь, что я полна печали. Ты говоришь, что я преисполнена скорби; что я в мучениях скрежещу зубами. Что ж, разумом ты дитя. Ты используешь слова, не сознавая их значения, словно пребываешь в том, что Лейбниц именовал «символическим сознанием». Но если это и так...
— Это так.
— Ты ничего не знаешь.
— Я вижу, как ты корчишься в муках. Глаза твои бледны. Мне показались они карими. Нет, они отливают легкой голубизной фосфорических вспышек, зримых в темноте.
— Это ничего не доказывает.
— Но «белизна» белков окрашена желтизной. Твой взор обращен внутрь. Отчего ты глядишь бледным, столь исстрадавшимся взором внутрь себя, на свою душу? Почему говоришь об одних только могилах, гниении? Глаза твои, кажется мне, заволокла тусклая пелена бесконечных веков бдения, сокрытых таинств и тысячелетий боли.
— Боль! ты так мало знаешь о боли! в тебе одно недомыслие и пустословие! о философии и подоплеке боли — ты не знаешь ничего!
— И кто же знает?
— Дам тебе намек. Это подсознание наделенных сознанием созданий Вечности, осознание вечной утраты. Малейший укол булавки, но не Пеана[35] и Асклепия, и силы небес и ада способны полностью излечить. Наделенное сознанием тело подсознательно ощущает непреходящую утрату изначальной целокупности, и «боль» есть знак той трагедии. И чем сильнее боль — тем сильнее, значительней утрата. Самой невосполнимой потерей является, конечно, утрата Времени. Лишившись его, любой частички его, погружаешься в трансцендентализмы, в бесконечности Утраты; но утратив его целиком...
— Безумное преувеличение! Ха! ха! Ты излагаешь высокопарные банальности в тоске по...
— Ад там, где чистый, свободный Дух подсознательно ощущает утрату Времени; где он кипит и содрогается от зависти к миру живых, в вечной к нему ненависти, в вечной ненависти к сынам Жизни!
— Успокойся же, прошу тебя! Выпей — молю тебя — умоляю — ради Бога — хоть немного...
— Кидаться в силки[36] — вот оно, бедствие! направлять свой корабль к скале маяка — вот она, Мара[37]! Проснуться и со всей безнадежностью осознать, что ты пошел за нею — и были там жилища смерти[38] — и нисходили гости ее в преисподнюю — а ты и не знал! — но мог бы. Взгляни в предрассветное окно на дома града сего: и нет никого, говорю тебе, но обитает в нем некая душа, что скитается по стародавним подмосткам театра своего Дня — и понукает воображение тысячью детских фокусов, подобий — и на мгновение тешится иллюзиями обмана, воображая, что она все еще жива, что возможность жизни не утрачена ею безвозвратно и навсегда — но расщепленная далекой памятью утраченного Лета, истекшего мгновения света меж двумя провалами вечного мрака — вдребезги разбитая, говорю и кричу тебе — разбитая, Мериме, всеразрушающий демон...
Она вскочила на ноги и выпрямилась во весь рост между оттоманкой и столом, показавшись мне теперь высокой.
— Мериме! — вскричал я. — Мое имя, блудница, произнес твой безумный рот! Бога ради, женщина, ты до смерти пугаешь меня!
— Твое имя? Уж не думаешь ли ты, что я не знаю твоего имени, как и всего, с тобою связанного? Мериме! Не ты ли сидел вчера на полу, читая обо мне в письме Космо?
— А-ах... — мои иссохшие губы кривились в истерике плача и смеха. — Ах! ха! ха! Кселуча! Память моя застыла и посерела, Кселуча! пожалей меня — ибо иду долиной смертной тени![39] — увядший и старый! — погляди на мои волосы, Кселуча, на эти седые пряди! — погляди на меня, дрожащего, омраченного! — я не тот, кого знала ты во дворцах Космо! Ты Кселуча!
— Ты бредишь, ничтожный червяк! — воскликнула она с искаженным гримасой злобного презрения лицом. — Кселуча умерла от холеры десять лет назад, в Антиохии. Я сама отерла пену с ее губ. Нос ее успел сильно разложиться еще до похорон. Он так глубоко ушел в мозг, что левый глаз...
— Ты — ты Кселуча! — взвизгнул я. — В голове моей воют громоподобные голоса — и клянусь святым Господом, Кселуча, пусть и испускаешь ты на меня тлетворное дыхание ада, я сожму тебя в объятиях, — живую или проклятую навеки...
Я бросился к ней. И тогда я услышал слово «Безумец!», что будто прошипели языки десятка тысяч змей; порыв губительного разложения исторг в гнилостный воздух ядовитые испарения; на мгновение перед моими дико блуждающими глазами воздвиглась, раздуваясь до самого купола, бесформенная башня изорванного облака, и прежде, чем мои протянутые руки обняли самую опустошенность пустоты, непреодолимая гигантская сила неведомого Бегемота[40] швырнула меня назад, к дальнему закруглению овала, где я ударился головой о стену и рухнул, лишившись сознания.
. . . . . . . . . . .
Когда солнце начало клониться к закату, я очнулся и долго лежал, равнодушно созерцая закопченный потолок, кривой стул, оловянный подсвечник и бутылку, из которой я пил. Стол был маленьким, грязным, вполне обыкновенным, без скатерти. Казалось, он простоял там много лет. Помимо этих предметов, комната была пуста; видение роскоши растворилось без следа. Внезапное воспоминание промелькнуло перед глазами. Я с трудом поднялся и, пошатываясь и спотыкаясь, выбежал с истошными криками на сумеречную улицу.
ВАЙЛА[41]
E caddi come l'uom cui sonno piglia[42]
Dante.Много лет тому назад, в бытность мою парижским студентом, я свел близкое знакомство с великим Коро и вместе с ним воочию наблюдал ряд тех случаев психических заболеваний, в анализе которых он не знал себе равных. Мне вспоминается одна девочка из Марэ, которая до девяти лет ни в чем не выказывала отличия от своих товарок по играм. Но однажды ночью, лежа в постели, она прошептала на ухо матери: «Мама, неужели ты не слышишь, как звучит мир?» Видимо, из недавних уроков географии она почерпнула, что Земля несется с огромной скоростью по орбите вокруг Солнца; это звучание мира она (весьма субъективно) воспринимала как едва слышимое мелодичное гудение, подобное шепоту морской раковины в молчании ночи, и в своих фантазиях считала этот звук песнью бесконечного движения. В течение полугода безумие всецело овладело ею.
Я упомянул о происшествии с девочкой в беседе со своим другом, Хако Гарфагером, делившим со мной, на Сен-Жермен, уединение старого дома, укрытого с улицы кустарником и высокой стеной. Он выслушал меня с какой-то странной жадностью, а после целый день выглядел подавленным.
Другой случай, который я подробно ему изложил, произвел глубокое впечатление на моего друга. Молодой человек, мастер игрушек из Сент-Антуана, страдавший врожденным хроническим туберкулезом, прожил двадцать пять лет жизни самым заурядным образом. По натуре был он скромен, прилежен и погружен в себя. Как-то зимним вечером, возвращаясь в свою пустынную каморку, он приобрел один из тех сеющих смуту листков, что, подобно созданиям тьмы, вьются в ночи над Большими бульварами. Сие заурядное деяние возвестило его погибель. Он лежал в постели и просматривал feuille[43]. Он никогда ничего не читал и мало ведал о мире и тяжком стоне его страданий. Но на следующий вечер он купил свежий выпуск. Мало-помалу он начал интересоваться политикой, общественными движениями, грохотом жизни. И этот интерес стал всепоглощающим. Каждый вечер вплоть до поздней ночи он лежал, углубившись в яростный вздор и бурный вихрь печатных страстей. Он просыпался усталым, кашляя кровью, но воодушевленным — и немедленно покупал утренний выпуск. Постепенно он деградировал. Чем сильнее скрежетали его зубы, тем меньше они жевали. Он сделался неряшлив, часто прогуливал работу, по целым дням валяясь на кровати. Газетенки взяли над ним верх. Большие вопросы и треволнения овладели его слабой душой, и потому все меньшие заботы и волнения умерли в нем. Вскоре наступил день, когда он перестал дорожить своей жизнью, и день следующий, когда со рвением маньяка он стал рвать на себе волосы.
Великий Коро сказал мне об этом человеке: «Воистину, не знаешь, смеяться или плакать над подобными случаями. Прежде всего отметим, сколь различно сотворены люди! Есть умы чувствительные, как расплавленное серебро: они грубеют и темнеют от малейшего ветерка — а случись самум, торнадо? Здесь не метафора, но сравнение. Для таких людей эта планета — я чуть было не сказал, наша Вселенная — не место обитания, а Машина Смерти, гибельная Пустота. Слишком ужасен для многих нескончаемый пронзительный крик Бытия, они не в силах вынести земную юдоль. Им следует сосредоточиться на скромном шорохе своей жизни, сказал бы я, а не думать об этом беспредельном огнедышащем Механизме. В случае с нашим бедным игрушечных дел мастером, мы наблюдаем расстройство слуха, называемое “оксиэкойя[44]”. Вспомним превосходный греческий миф о Гарпиях: этот человек точно был похищен ими или же, скажем, его затянуло под смертоносные колеса Мироздания. Весьма, знаете ли, почетный уход — попасть под Огненную Колесницу. Только помните, что вначале его ухватили за ухо, которым он вслушивался в завывание Европы и в итоге закончил собственным воем. Может ли соломинка спокойно кружиться в первозданном вихре? Хаос и топот наших подошв, скажу я вам, разделяет весьма тонкая граница! Я знал человека, у которого была подобная особенность, слуховая гиперестезия: всякий звук немедленно приносил ему детальные сведения о своем источнике; иными словами, слух этого человека соотносился с обычным примерно как спектроскоп с телескопом. Он мог, например, определить на слух соотношение металлов в упавшем слитке, отличая, допустим, сплав меди и железа от сплава олова и свинца, причем звук сталкивающихся слитков сообщал ему не только пропорции металлов в каждом из них, но и какое-то странное знание о первичном значении и, если можно так выразиться, духе меди, железа, олова и свинца. Конечно, он сошел с ума, но перед этим сообщил мне удивительную вещь: некое прозрение подсказало ему, что точно такое же свойство, как у него, присуще и Высшему Существу, в Его восприятии пространства; это позволяет Ему постигать природу и движения разума и материи. И он также добавил, что Грех — то, что мы полагаем грехом — не что иное, как движения материи или разума, которые причиняют боль или оскорбляют чувствительнейшую диплакузию[45] (так я вынужден назвать данное свойство) Творца. Даже “Законы” Откровения были, по мнению этого несчастного, установлены Создателем лишь для того, чтобы оградить себя от боли, причиняемой подобными звуками. И божественное наказание за убийство, к примеру, есть не более чем ответ на беспокойство, произведенное в божественном сознании материей кинжала или пули, оказавшихся в некий момент в неподобающем месте! Человек тот также, утверждаю я, был похищен Гарпиями».
Я уже упоминал, что подробно рассказал обо всем этом своему другу Гарфагеру. Меня удивил не столько его пристальный интерес — ибо Гарфагера интересовали любые знания — сколько его очевидные усилия скрыть это любопытство. Он торопливо листал книжные страницы, но был не в силах утаить трепет ноздрей.
С первых же дней совместной учебы в стокгольмской семинарии между нами установилась молчаливая близость. Он был мне очень симпатичен, и я знал, что и он симпатизирует мне. Но то была близость, лишенная обычных проявлений дружбы. Гарфагер был самым скромным и замкнутым созданием. Хотя наше совместное ménage[46] (вызванное случайной встречей на полночном séance[47] в Париже) длилось уже несколько месяцев, я ничего не знал о его планах и намерениях. В течение дня мы оба много читали — он пристально всматривался в прошлое, а я в равной степени был поглощен настоящим; по ночам мы возлежали на диванах подле огромной пещеры старого камина в стиле Людовика XI и выдыхали в сторону умирающего пламени клубы дыма в тишине полыни и эфирных масел[48]. Иногда soirée[49] или лекция заставляли меня выйти из дома, но — за одним исключением — я никогда не замечал, чтобы Гарфагер покидал его. В тот раз я возвращался домой по улице Сент-Оноре, где непрерывное движение сотрясало старинную булыжную мостовую, и внезапно натолкнулся на него. Он отрешенно стоял на тротуаре посреди окружающего шума и прислушивался к чему-то; похоже, он не сразу узнал меня, когда я прикоснулся к нему.
Еще мальчишкой я разглядел в моем друге подлинное благородство прирожденного патриция. Это было в нем зримо. Не скажу, что личность его создавала впечатление некоей возвышенности, богатства — скорее напротив. Он, однако, внушал чувство глубокой древности и наводил на мысли о последних минутах великой эпохи. Мне не приходилось встречать дворянина, болезненный облик которого столь явно нес бы печать истинного аристократа, правителя по своей сущности, чей чахлый цветок распустился вчера и завтра увянет; но корни того цветка пронизывают бездну столетий. Я знал лишь, что родовое поместье Гарфагера находится на одном из мрачных островов к северу от Зетландии[50], где жили его мать и тетка со стороны отца; что он был глуховат, но порой мог испытать боль или восхищение от каких-либо сочетаний музыкальных звуков, скрипа двери, птичьего крика. Едва ли мне было известно тогда что-либо еще.
Он был ниже среднего роста и выказывал склонность к полноте. Его орлиный нос резко выступал вперед под того рода лбом, что френологи именуют «музыкальным» — иначе говоря, виски выдавались наружу над скулами, оставляя обширное пространство для мозга, в то время как линии бровей и блекло-голубые глаза под тяжелыми веками словно уходили от носа вглубь лица. Лицо это украшала реденькая бородка. Но наиболее удивительной чертой его облика были уши: почти круглые, очень маленькие и плоские, лишенные наружного завитка, известного как helix[51]. Два крошечных диска хрящей всегда напоминали мне маленькие круглые щиты античных времен, называемые клипеус и пельта[52]. Со временем я узнал, что представители его рода на протяжении нескольких веков отличались подобным строением ушных раковин. На бледном лице моего друга читалось грустное безволие, исполненное горечи. Ктото назвал его Сарданапалом, последним и тщедушным отпрыском великого Нимрода.
Год спустя я счел необходимым известить Гарфагера о своем намерении покинуть Париж. Вечером мы сидели на наших привычных местах у камина. На мое сообщение он отозвался сдержанно вежливым «Вот как!» и продолжал глядеть на огонь; но через час повернулся ко мне и сказал:
— Похоже, этот мир суров и эгоистичен.
Мне приходилось и раньше выслушивать его трюизмы, преподнесенные под видом вновь открытых истин, но серьезный пристальный взгляд, сетование в голосе и отчаяние, с каким он покачал головой, немало изумили меня.
— Отчего вы так говорите? — спросил я.
— Друг мой, не оставляйте меня!
Он простер руки. Голос его звучал сдавленно.
Тогда-то я и узнал, что он пал жертвой дьявольской злокозненности, стал добычей адского искушения. Эта прельстительная, манящая рука, потаенная страсть, которую он всю жизнь избегал (и которой был особенно подвержен в одиночестве), все время соблазняла его — с того самого дня, когда в возрасте пяти лет он был выслан отцом из опустевшего дома, окруженного морем.
— Кто же питал злые умыслы?
Он ответил: его мать и тетка.
— И в чем заключалось искушение?
Он сказал, что это было искушение вернуться — помчаться в безумии желания — обратно в тот сумрачный дом.
Я спросил, в чем именно он усмотрел преступные козни матери и тетки. Он отвечал, что, по его мнению, у них не было никакого определенного мотива, но лишь постоянная зловредность, ненамеренная и роковая; и что обнаруживалась она в бесконечных просьбах и наставлениях, какими на протяжении многих лет они докучали ему, заставляя вновь стремиться к далеким владениям предков.
Все это не укладывалось в моей голове, что я и высказал со всей ясностью. В чем же состояли ужасный магнетизм и столь же ужасная опасность его дома? На мой вопрос Гарфагер не ответил, но, поднявшись со своего места, скрылся за портьерой и покинул комнату. Он быстро вернулся с рукописью в кожаном переплете ин-кварто. Она оказалась «Хроникой скандинавских семейств» пера Хьюго Гаскойна, выполненной староанглийским готическим письмом. Указанный Гарфагером отрывок гласил:
«Знайте же, что старший из двух братьев, Гарольд, муж, исполненный неоспоримых достоинств и доблести, свершил паломничество в Данию. Возвращаясь оттуда домой, в Хьятланд (Зетландию), привез он с собою супругу, любезную Тронду, в коей текла кровь датских королей. И младший брат, Свейн, каковой был задумчив и приятен в обхождении, однако же много превосходил старшего хитроумием, принял его со всем возможным радушием. Но вскоре Свейн слег, занемогши от порочной страсти к Тронде, жене брата своего. И в то время, как достойный Гарольд с доверчивостью и чистосердечием молодости хлопотал у постели, где лежал больной, Свейн внезапно нанес ему могучий удар мечом, немедля заковал его руки в оковы и бросил на дно глубокого узилища. И поскольку Гарольд не желал отказываться от Тронды, жены своей, Свейн отрезал ему оба уха и выколол один глаз, и после этих истязательств намеревался убить его. Но в тот же день доблестный Гарольд, разорвав оковы, напал на своего врага, обхватил его руками и, одолев и сбив его с ног, скрылся. Однако он не сумел отойти далеко от Замка, ибо, хоть и был он быстроног, не в силах был бежать дальше, ослабев от причиненных братом мук. И покуда он лежал без сознания, Свейн тихо подобрался к нему и, пронзив его копьем, сбросил с Сумбург-Хед в море.[53]
Вскоре после того леди Тронда (не ведавшая ни о том, как погиб ее господин, ни того, жив он или мертв) благосклонно приняла Свейна; с великим торжеством и под звуки труб они разделили ложе. И отправились они оттуда в дальние края.
Случилось так, что Свейн возмечтал построить большой дом в Хьятланде к возвращению домой с леди Трондой. Посему он призвал искусного Зодчего и спешно отправил его в Англию собрать трэллей для постройки дома, а сам жил со своею женой в Риме. И отплыл Зодчий со своими работниками из Лондона, но на пути к Хьятланду вместе с кораблем утонули и он, и все прочие. А спустя два года, когда наступил назначенный срок, Свейн Харфагер послал письмо в Хьятланд, чтобы справиться о своем большом Доме, так как не знал он о гибели зодчего. И вскоре получил ответ, что с Домом все хорошо, и построен он на острове Вайла, а не на том острове, что указал Свейн. И страшно ему стало, и едва не пал он мертвым от ужаса, ибо узнал почерк брата своего Гарольда. И молвил он: “Стало быть, жив Гарольд, или же призраком написано сие письмо”. И горевал он много дней от столь сокрушительного удара. Впоследствии воротился он в Хьятланд узнать, как обстоят дела, и увидал, что старый Замок у Сумбург-Хед разрушен до основания. Тогда Свейн вскричал во гневе: “Иисус милосердный, что стало с великим Домом отца моего? Увы мне! нелегкая година судьбы”. И один из людей сказал ему, что толпа чужеземных работников разрушила его. И молвил Свейн: “Но кто подвигнул их на это?” И никто не ответил. И вновь вопрошал он: “Ужели мой брат Гарольд жив? Ибо вот его письмо у меня”, и снова ответа не было. Тогда отправился он на Вайлу и увидел, что стоит там большой Дом. И, глядя на тот Дом, сказал
Свейн: “Видать, его построил брат мой Гарольд, мертвый или живой”. И там он поселился и жил, и жена его, и сыновья его и сыновья сыновей по сей день. Сей Дом не ведает пощады и жалости, и потому сказано, что на всех, живущих там, падут греховное безумие и нечестивая агония, и что слуху их предстоит испить чашу ярости безухого Гарольда, доколе не завершится время Дома сего».
Я прочел отрывок вполголоса и улыбнулся.
— Это, Гарфагер, — сказал я, — неплохой рассказ старого доброго Гаскойна, пусть он и несколько суховат.
— Тем не менее, история подлинна, — ответил он.
— Вы в нее верите?
— Дом тот до сих пор прочно стоит на Вайле.
— Братья Свейн и Гарольд были достаточно грамотны для своей эпохи, не так ли?
— В моем роду, — ответил он с ноткой высокомерия, — неграмотных не было.
— Но вы же, по крайней мере, не верите, что средневековые призраки могут руководить постройкой семейных особняков?
— Хьюго нигде не утверждает этого, ибо от удара копьем вовсе не обязательно умирают. А если бы он и говорил так, было бы неверно полагать, что мне известно что-либо подобное.
— И в чем же, Гарфагер, заключается природа того «греховного безумия», той «нечестивой агонии», о которых пишет Гаскойн?
— Вы спрашиваете меня? — он развел руками. — Что я знаю? Ровным счетом ничего! Я был отослан из дома пяти лет от роду. Но отголосок этого по-прежнему криком отдается в моей душе. И я не рассказывал о муках — даже самому себе — наследственной тоски и отвращения...
В любом случае, объяснил я, именно сейчас моя поездка в Гейдельберг необходима. Я готов пойти на компромисс, сократив по возможности время своего отсутствия, и воссоединиться с ним, если он подождет несколько недель. Молчание Гарфагера я расценил как согласие и вскоре покинул его.
Но я был вынужден задержаться, а по возвращении в наше старое жилище нашел дом пустым. Гарфагер исчез.
И лишь двенадцать лет спустя мне пришло письмо — весьма сумбурное и чрезмерно многословное — написанное хорошо знакомым мне почерком друга. Местом отправления была означена Вайла. Характер начертания букв, заключил я, выдавал бешеную спешку, что было тем более удивительно, если учесть тривиальное содержание этого объемистого послания. В самом начале письма отправитель говорил о нашей старой дружбе и просил в память о ней посетить его умирающую мать; оставшаяся часть послания, лист за листом, содержала кропотливый анализ генеалогического древа его матери, целью которого было доказать, что она является урожденной Гарфагер и кузиной его отца. Далее он углублялся в рассуждения о необычайной плодовитости своего рода, утверждая, что с четырнадцатого столетия более четырех миллионов его предков жили и умерли в различных краях света; в настоящее время, по расчетам Гарфагера, оставались в живых всего трое из его обширного семейства. Этим выводом письмо завершалось.
Под впечатлением от полученного послания я отправился на север; достиг Кейтнесса; миновал шквалистые Оркнеи; добрался до Лервика; на Унсте, самом холодном и северном из Шетландских островов, посредством денежной дани убедил владельца оценить мореходные качества «сиксерна»[54] под люгерным парусом (сходного с ладьями викингов) в противостоянии с водными стихиями и мрачным нависшим небом. Меня предупредили, что путешествие в такое время сопряжено с известным риском. Декабрь в этих северных широтах был по-киммерийски суровым[55]. Говорили, что здесь не бывает морозов, но редко обходится без штормов. Невзирая на вялое дуновение ветра, густой и сырой туман, порождение моря, стелился высоко над водами, заключая лодку в куполовидную каверну среди печальных сумерек и угрюмых волн. Большие острова остались позади; нечто призрачное в мертвенном сочетании безмолвного моря и тусклой мрачности неба вызывало у меня чувство, что я словно покидаю нашу землю, направляясь за пределы обитаемого мира. Порой, однако, мы проносились мимо одной из тех уединенных шхер, или морских скал, чьи отвесные стены, изрешеченные и расколотые приливными волнами и течениями Северного моря, являли пейзаж ужасающей гибели и опустошения, заметный даже на расстоянии. Лишь три таких шхеры случилось мне увидеть, прежде чем миновала середина тусклого дня; затем внезапная чернота ночи пала на нас, и с ней пришла одна из тех бурь, что составляют зиму этого околополярного моря. В блеклых и скорбных сумерках следующего краткого дня не прекращался дождь; но, прежде чем наступила полная темнота, мой рулевой, все время беседовавший с помощником о морских девах, водяных конях и грюлях[56], прервался, чтобы указать на мрачную серую возвышенность с наветренной стороны, которая и была, как он заверил меня, островом Вайла.
Вайла, добавил он, служила центром своеобразной системы опасных вихревых течений и водоворотов, что возникают под действием приливных волн, хаотически кружащихся меж островов. Близ Вайлы, по словам моряка, они мчатся с необыкновенной стремительностью из-за высоких утесов, которые подобно барбаканам сторожат окрестности; поэтому приближаться к острову в любое время тяжело, а ночью — безрассудно. Преодолевая сильные волны, мы подошли уже достаточно близко и могли разглядеть гриву прибоя, высоко вздымавшуюся над прибрежными скалами. Сила его ударов, заметил моряк, была в несколько раз больше, чем при артиллерийском обстреле; удары эти подбрасывали тонны камней на высоту нескольких сотен футов над островом.
Когда солнце едва приподнялось над линией горизонта, явив свой бледный лик сквозь траурную пелену мрака, мы вплотную приблизились к берегу; и я впервые ощутил некое вращательное движение на острове (вызванное, без сомнения, круговым потоком воды). Мы пришвартовались в маленьком заливе или морском рукаве на западной стороне острова; восточный берег из-за сильного волнения не подходил для высадки, хотя и был целью моего путешествия. В двух крытых торфом и соломой ске (каменных хижинах), которые приютились под защитой нависшего склона, я обнаружил пятерых-шестерых оборванных местных крестьян-мореходов; очевидно, они добывали средства к существованию, поставляя необходимые припасы в большой дом на востоке. Других жителей на Вайле не было; взяв одного из них в качестве проводника, я вскоре тронулся в пеший переход по острову. Всю ночь, проведенную в лодке, я испытывал странное ощущение гнетущего гудения в ушах, что никак не могло объясняться даже ревом моря вокруг побережья. По мере нашего продвижения гул этот угрожающе усилился, и вместе с тем меня еще раз посетила необъяснимая уверенность в наличии уже упомянутого вращательного движения. Я обнаружил, что Вайла представляет собой край отвесных утесов и пропастей, сложенных из превосходного гранита и слоистого гнейса; однако примерно в центре острова мы достигли высокого плато, наклоненного от запада к востоку и покрытого замкнутой цепью сообщавшихся озер, которые зловеще и непрерывно перетекали друг в друга. За чередой мрачных, мерцающих черным светом волн я не мог разглядеть противоположный берег; выкрикивая имя своего спутника и напрягая слух в ожидании его ответных криков, я осознал, что берега того нет совсем. Да, я кричал, ибо ничто другое не могло спорить с непрерывным ревом десятка тысяч бизонов, несущимся со всех сторон. Я ощущал теперь несомненную дрожь земли. Напрасно взгляд мой искал в тоскливой местности хоть одно дерево или куст; никакая растительность, кроме мха, не смогла бы выдержать и дня в поединке с вечной агонией бурь, сделавших эту заболоченную и бесплодную землю своим владением. Спустя час после полудня темнота начала сгущаться вокруг нас; и в скором времени проводник, указав вниз на крутой узкий проход около восточного берега, поспешил обратно тем же путем, каким мы пришли. Я отчаянно кричал ему вслед, когда он ушел — но человеческий голос в том месте не мог быть услышан.
Спустившись в ущелье, я двинулся по нему с замиранием сердца и сильным головокружением. Дойдя до конца ущелья, я вышел на широкий уступ, который содрогался от непрестанного натиска моря. Вся эта часть острова была, вдобавок, подвержена резкой и постоянной тряске, и явно не по причине ударов океана. Страшась порывов ветра, я ухватился за скалу и увидел зрелище таинственной жути, мрачной дикости. Казалось, окрестности воплощали пролог «Гекубы»[57] или же некую мрачную область дантовского «Ада». Три черных утеса в окружении невообразимого сочетания скал, скрюченных, как ведьмины пальцы, служили убежищем визгливым стаям скоп и бакланов, тюленям и моржам, лежавшим в нескольких саженях от них; к их крикам и вою море добавляло свой надменный голос, полный вспененного, буйного, но невнятного гнева, ярясь словно армия под развернутыми знаменами, атакующая сушу. Пошатываясь, я прошел немного влево, и вдруг передо мной открылся огромный амфитеатр, и взору моему предстала панорама ужаснувшего сердце величия, какого я не мог вообразить ранее и не могу вспомнить во всех подробностях сейчас.
Я сказал «огромный амфитеатр», однако он скорее имел очертания округлого готического (или норманнского) дверного проема. Пусть читатель вообразит подобный проем, около мили в ширину, только лежащий на земле; изогнутая часть его наиболее удалена от моря; вокруг идеально гладкая и ровная стена вздымается на высоту, достойную гнезда коршуна, а в глубине этих готических форм на всем их протяжении пусть разбиваются волны ревущего океана, торжествующе расточаясь в изумрудно-седой ярости — тогда и немое благоговение, испытываемое мною, и томительный ужас, и ощущение полета легко найдут у него понимание.
Вот сколь впечатляюще заканчивали свой путь воды озер Вайлы.
В арке этого готического фонтана, пребывавшего в мире своих дымных мук и всепроникающей водной взвеси, стоял медный дворец... круглый по форме... гигантский по размеру.
Последний отблеск увядавшего дня почти исчез, но я еще мог различить, несмотря на беспрестанный ливень, чье мрачное мерцание напоминало ореол слез, что здание было низким в сравнении с его необъятной окружностью; что на крыше у него имелся невысокий купол; что вдоль стен тянулись два тесно сомкнутых ряда закрытых ставнями норманнских окон; и что верхние окна были меньше нижних. Некоторые признаки заставили меня предположить, что дом был построен на природном каменном фундаменте, громадной округлой скале, покоящейся в арке водопада. Но основание это едва возвышалось над потоком; по местности, на которую я смотрел, текла глубокая и яростно пенящаяся река, обрушиваясь прямо в море. Было бы невозможно пройти к дому, если бы не перекинутый рядом массивный мост, увитый толстым слоем водорослей; он вел прямиком к зданию. Спустившись с уступа, я пересек его, промокнув до нитки. Вблизи я увидел, что дом до половины высоты стен также был густо покрыт, подобно старому кораблю, раковинами моллюсков и всевозможными видами блестящих морских трав; и — что особенно удивительно — во многих местах с медных стен свисали огромные, позеленевшие от ила железные цепи варварского обличия, отполированные веками. Они тянулись симметрично расходящимися лучами к скрытым водой точкам на земле: здание выглядело как стоящий на нескольких якорях ковчег. Но я не стал тратить время на его осмотр и отправился дальше; миновав плавный круглый водопад, ниспадавший с карниза крыши, я через один из многочисленных небольших портиков, выступавших из стен, наконец проник в дом.
Теперь меня окружала темнота — и звук. Мне казалось, что я стою в самой глотке какой-то вопящей планеты. Бесконечная грусть снизошла на меня, я был близок к тому, чтобы дать волю слезам. «Именно здесь, — сказал я, — находится Хорив[58], и сие есть место плача и долина вздохов». Сумятица звуков напоминала непрерывную канонаду многих тысяч орудий, смешанную со странными сотрясениями и грохотом взрывов. Я прошел через темные комнаты и пытался понять, куда идти дальше, когда омерзительная фигура с лампой в руке быстро двинулась ко мне. Я сжался от страха. Казалось, я вижу скелет высокого человека, завернутый в саван. Однако блеск крошечных глаз и увядшая кожа лица мгновенно успокоили меня. Ушей у вошедшего не наблюдалось. Это был, как я потом узнал, Аит, а его необычайный облик частично объяснялся его же утверждением — не то истинным, не то ложным — что он некогда сильно обгорел, чуть ли не сгорел дотла, но чудом выжил. Со злобным выражением лица и странной взволнованной жестикуляцией он проследовал к покоям на верхнем этаже, где зажег восковую спичку, махнул рукой в сторону накрытого стола и оставил меня.
Долгое время я сидел в одиночестве. Земля под особняком сильно содрогалась; но все чувства мои, мнилось, были поглощены исключительно восприятием звука. Вода, вода стала моим миром — кошмаром на моей груди, ужасом в моих ушах, невыносимой пыткой моих нервов. Меня переполняло ощущение бесконечного погружения и гибели в сносящем все потопе — инстинктивно я хватал ртом воздух. Я встал и прошелся по комнате, но вдруг застыл на месте, злясь отчего-то на самого себя. Как видно, я осознал, что двигаюсь c некоторой поспешностью, несвойственной мне, неестественной для меня. Чувство головокружения резко усилилось. Я заставил себя остановиться и внимательно оглядел зал. Помещение было большим и сырым; обветшавшая, но богатая средневековая мебель словно терялась в нем. В центре зала стояло широкое низкое надгробие из мрамора с высеченным на нем именем Харфагара, жившего в пятнадцатом столетии; стены были покрыты старыми, коричневыми дубовыми панелями. Мрачно рассматривая все это, я ждал, борясь с невыносимым чувством одиночества; но вскоре после полуночи занавесь разошлась, и Гарфагер быстрой походкой приблизился ко мне.
За двенадцать лет мой друг постарел. Он по-прежнему выказывал известную склонность к полноте, однако пристальному взгляду представлялся нынче истощенным, недоедавшим. Шея торчала из туловища, поясница искривилась под бременем лет, по лицу и плечам в беспорядке рассыпались волосы ужасающей белизны. С подбородка до самой груди свисала седая борода. На нем было что-то вроде засаленного халата, который развевался при ходьбе, выставляя напоказ неприкрытые и волосатые голени ног, обутых в мягкие комнатные туфли наподобие тех, что называются ривлинами[59].
Внезапно он заговорил. Когда я взволнованно вскричал, что уста его движутся впустую и я не улавливаю ни звука, он прижал обе ладони к своим ушам и яростно возобновил осаду моих – и вновь безрезультатно. Тогда он с сердитым мановением руки схватил свечу и поспешно вышел из комнаты.
В поведении его было нечто чрезвычайно искусственное и невольно напоминавшее скелетообразного Аита: резкость, возбуждение, пылкость, шумное неистовство, порывистость походки и экстравагантная дикость жестов. Его руки постоянно отбрасывали назад пряди волос. И хотя по лицу его разливался шафрановый оттенок смерти, глаза с набрякшими веками, напротив, опухли и налились кровью; он все время напряженно глядел вниз и куда-то в сторону. Он вернулся с листом бумаги цвета слоновой кости и графитным стилосом, свисавшим со шнура поверх его одежды.
Гарфагер поспешно нацарапал на листе просьбу принять вместе с ним участие (если я не слишком устал) в похоронах его матери. Громким возгласом я изъявил согласие.
Он снова прижал ладони к ушам, а после написал: «Не кричите: я слышу малейший шепот в любом месте этого здания».
Я вспомнил, что в молодые годы он казался несколько глуховатым.
Мы миновали анфиладу комнат; он прикрывал свечу рукой. Это было необходимо, поскольку я вскоре обнаружил, что в дрожащей среде дома воздух нигде не пребывал в покое, но был будто охвачен загадочным волнением. Едва ощутимое дуновение, похожее на эхо далекой бури, легко пошевеливало драпировки. Повсюду я сталкивался со следами былого великолепия и гниением нынешнего упадка. Во многих комнатах стояли старые мраморные надгробия; одна напоминала музей, хранивший россыпи бронзовых изделий, урн — но все разбитое, покрытое грибком, повсеместно капавшее сыростью, точно сам особняк источал пот в пылу тяжких трудов. Дурманящий запах разложения витал в воздухе. Мне было нелегко поспевать за Гарфагером, пока он безудержно мчался сквозь этот лабиринт. Только раз он резко остановился и, вздернув в бликах света безумно исступленное лицо, воздев руку, произнес единственное слово. По движению его губ я угадал слово «Внемлите!».
Затем мы вошли в длинный темный зал, в самом центре которого покоился глубокий гроб, расположенный на стульях возле кровати в окружении ряда высоких подсвечников из черного дерева. Я заметил одну особенность: часть изножья отсутствовала; приблизившись, мы увидели ступни трупа. К боковой стенке гроба крепились три вертикальных шеста; каждый был увенчан серебряным бубенчиком на гибкой стальной пружине — вроде тех, чей звон сопровождает движения танцоров морески[60]. Аит с явным раздражением мерил шагами небольшое пространство у изголовья. Гарфагер быстро прошел по комнате к гробу, поставил свечу на каменный стол поблизости и встал над телом, погрузившись в болезненное созерцание. Я стоял рядом и смотрел на покойницу. Столь неумолимой смерти, Горгоны, я еще никогда не видел. Мне показалось, что гроб полон спутанных седых волос. Леди определенно была преклонного возраста, костлява, с носом-ятаганом. Ее голова торжественно покачивалась от непрерывного дрожания дома. Из каждого уха сочился черный ручеек, рот окружала полоса засохшей пены.
Я разглядел, что над трупом были установлены три тонкие пластины из полированного дерева, по форме и местоположению схожие с мостиком скрипки. Они были вставлены в пазы по бокам гроба, а форма их верхних кромок точно соответствовала наклону, который предстояло принять двум створкам крышки гроба при закрытии. Одна из этих пластин располагалась над коленями мертвой леди; другая — над животом; третья — в области шеи. В каждой имелось небольшое круглое отверстие. Из каждого отверстия вверх к ближайшему бубенцу был протянут шнур; таким образом, три отверстия делились тремя шнурами на шесть вертикальных полукругов. Прежде, чем я смог догадаться о предназначении этого устройства, Гарфагер закрыл складную крышку гроба, в центре которой, в свою очередь, были проделаны крошечные отверстия для шнуров. Затем он повернул ключ в замке и произнес слово, прозвучавшее как «Пойдемте».
По его приказу Аит, приблизившись, взялся за ручку в изголовье; и тогда из темной глубины зала появилась дама в черном. Она была очень высока ростом, бледна и отличалась благородной наружностью. По изгибу ее носа и округлым ушам я признал леди Сверту, тетку Гарфагера. Ее глаза покраснели, но от рыданий ли, я не мог определить.
Мы с Гарфагером взялись за поручни в ногах гроба, и леди понесла перед нами один из подсвечников. Процессия тронулась в путь. Когда мы дошли до дверного проема, я заметил еще два гроба, стоящих в углу; на них были начертаны имена Гарфагера и его тетки. Мы проследовали по широкой изогнутой лестнице на нижний этаж и, спустившись еще ниже по узким бронзовым ступеням, оказались у металлической двери, где леди поставила канделябр и покинула нас.
Внешней стеной комнаты смерти, куда мы перенесли гроб, служила медная стена дома, наиболее близко подступавшая к водопаду; судя по всему, она подвергалась яростным ударам бурлящего потока. Сотрясение здесь было достаточно сильным. Все огромное пространство, в несколько ярусов, было заставлено деревянными полками со сгнившими или гниющими на них гробами. Я с удивлением заметил, что пол был медным. Судя по шороху массового бегства при нашем приближении, место это служило логовом для целых полчищ водяных крыс. Поскольку они не сумели бы прогрызть шестнадцать футов меди, я предположил, что некая плодовитая пара, должно быть, нашла здесь во время строительства дома спасительный ковчег; но и эта мысль показалась мне дикой. Гарфагер же впоследствии поделился со мной подозрением, что крыс, с неким умыслом, поселил в подвале архитектор, выстроивший здание.
Мы опустили нашу ношу на каменную скамью посредине комнаты, после чего Аит поторопился уйти. Затем Гарфагер принялся быстро расхаживать из угла в угол вдоль длинного склепа, нетерпеливо склоняясь и привставая на цыпочки, чтобы исследовать полки и их содержимое.
Мог ли он, задавался я вопросом, испытывать какие-либо сомнения относительно сохранности гробов? Влага и распад проникали во все. Кусочек дерева, который я растер пальцами, превратился в труху.
Но вот он подозвал меня, и, вновь застыв, опять произнес: «Внемлите!». Мы вернулись в мою комнату. Здесь, оставшись один, я долго, снедаемый странным неясным гневом, мерил шагами пол, а после, утомленный, провалился в наполненный ужасом сон.
Даже тусклый дневной свет этой унылой местности никогда не рассеивал мрак в дальних углах дома. Однако я мог определить время levées[61] по часам, стоявшим в моей комнате. В поразительно короткий срок наша былая близость с Гарфагером более чем восстановилась. Я говорю — более чем, и это само по себе поразительно, учитывая, что между нашими судьбами пролегли двенадцать лет. Но так оно и было; близость наша подтверждалась тем обстоятельством, что мы теперь принимали и прощали вольности в выражениях и поведении, какие, будучи оба людьми необычайно замкнутыми, ранее никогда не допустили бы по отношению друг к другу. Мы бродили по дому с бессмысленной настойчивостью, пересекая коридоры, исчезавшие в темной дали. Как-то он написал, что моя походка терзает его слух своей размеренностью. Я отвечал, что походка моя соответствует настроению. Он написал: «Вы развили в себе способность раздражать». Я был глубоко оскорблен и ответил: «Во вселенной уж точно существует более одного пальца, на который можно надеть обручальное кольцо».
Я стал понемногу догадываться о секрете нечеловеческой обостренности его слуха. К собственному ужасу, я и сам по прошествии некоторого времени начал улавливать какие-то отголоски громко произнесенных слов. Я предположил, что причиной может быть повышенная возбудимость слухового нерва; даже исключая водопад, рева океана и грохота непрекращающегося шторма вокруг нас было бы достаточно, чтобы вызвать подобное нарушение; в таком случае, воспаление его собственного слухового аппарата, вероятно, достигло совершенной стадии гиперпиретической лихорадки[62]. Я определил эту болезнь как Paracusis Willisii[63]. Гарфагер недовольно нахмурился, но я, не смущаясь, безжалостно продолжал рассказ об одном случае из своей практики. Речь шла о безнадежно глухой женщине, которая, тем не менее, была в состоянии расслышать звук падения булавки, находясь в мчащемся вагоне поезда [64]. На это он только ответил: «Среди всех невежд, по моему давно сложившемуся мнению, ученые являются людьми самыми невежественными».
Гарфагер приписывал ужасное состояние своего слуха темноте, но мне это объяснение казалось просто надуманным. По его собственному признанию, сам он, его тетка и Аит нередко испытывали приступы сильнейшего головокружения. Я был поражен, так как сам незадолго до этого дважды просыпался от ощущения качки и тошноты, будучи уверен, что комната вместе со мной неудержимо вращается справа налево. Когда это ощущение прошло, я рассудил — пожалуй, преждевременно (хотя и в согласии с распространенными медицинскими теориями), что оно вызвано сотрясением нервных окончаний в улитке внутреннего уха. Что касается Гарфагера, то его убежденность в том, что дом и весь окружающий мир кружатся, приняла поистине пугающие формы, и ее последствия порой напоминали признаки невменяемости или демонической одержимости. По его словам, чувство головокружения никогда полностью не покидало его; временами ему казалось, что он с протянутыми вперед руками взирает в жуткую бездну, над которой уже занесена нога. Как-то раз во время наших блужданий он был словно повержен оземь незримой силой; так он пролежал целый час, весь покрытый холодным потом, и застланными безумием глазами удивленно следил за круговращением дома. Ко всему прочему, его постоянно терзало восприятие столь необычайных по своей природе звуков, что я не мог найти для них иного объяснения, помимо сильнейшего tinnitus[65]. Он рассказывал, что в неразборчивый шум иногда вторгались пронзительные трели некоей орфической птицы, чьи страстные мадригалы наполняли его пониманием, что птица та явилась из далекой страны, имела оперение снежной белизны и была увенчана сиреневым хохолком. Порой он слышал соединенный гул человеческих голосов; их отдаленное отчетливое многоголосие рассыпалось в финале хаотическими музыкальными звуками. Бывало, его оглушал удар бесконечного и грозного столкновения, точно в его ушах раскалывалась и рушилась вселенная из стекла. Он также говорил, что мог скорее видеть, нежели слышать, разноцветные спутанные спирали музыки сфер, где-то глубоко, в глубине бездны, в черном мрачном провале ревущего водоворота. Эти его впечатления, которые я упорно считал сугубо внутренними явлениями, порой доставляли ему удовольствие, и он надолго застывал с приподнятыми руками, прислушиваясь к обольстительным звукам; другие, однако, воспаляли его, доводя до грани яростного безумия. Я предположил, что именно в этом заключалась причина тех раздраженных возгласов «Внемлите!», что он издавал примерно каждый час. Но я заблуждался — и вскоре с испугом и ужасом узнал истину.
Однажды мы проходили мимо железной двери на нижнем этаже; он замер и несколько минут прислушивался к чему-то с выражением чрезвычайно проницательным и хитрым. Наконец у него вырвалось: «Внемлите!»; после он повернулся ко мне и написал на листке: «Вы не слышите?» Я слышал лишь монотонный рев. Он прокричал прямо мне в ухо — слова его до сих пор слышатся мне, как далекое эхо сновидений: «Вы увидите».
Он поднял подсвечник; достал из кармана своего одеяния ключ; отворил дверь.
Мы вошли в круглый зал с очень высоким, в сравнении с размерами помещения, куполом; зал казался пустым, за исключением прислоненной к стене стремянки. Пол был устлан мраморными плитами, а в центре темнел бассейн, напоминающий имплювий римского атриума[66], но круглой формы; бассейн явно был глубок и полон маслянистой миазматической воды. Меня поразило одно обстоятельство: когда свет упал на угольно-черную поверхность воды, я заметил, что она была совсем недавно чем-то потревожена; это никак не могло объясняться вибрацией дома — от середины бассейна к мраморным бортикам угрюмо расходились чернильные волны слизи. Я недоуменно взглянул на Гарфагера. Он знаком велел мне ждать и затем около часа прогуливался вокруг бассейна, привычно заложив руки за спину. По истечении этого времени он остановился; стоя вместе у края, мы пристально всматривались в воду. Внезапно он с силой сжал мою руку и я с неподдельным страхом увидел, как крошечный шар, без сомнения свинцовый, но окрашенный каким-то кроваво-красным химическим пигментом, упал из-под купола и исчез в центре черных глубин. При соприкосновении с водой он зашипел, исторгнув легкое облачко пара.
— Во имя всего греховного! — вскричал я. — Что это вы мне показали?
Он снова сделал быстрый и уверенный жест, призывая меня подождать; передвинул стремянку ближе к бассейну; вручил мне подсвечник. Взобравшись на лестницу, я поднял повыше свечу и разглядел нечто, свисавшее из туманного центра купола. То была сфера из потемневшей от древности меди; опущенное вниз горлышко придавало ей сходство с сосудом. На конце этого горлышка, как мне показалось, виднелось крошечное отверстие. По выпуклому медному боку сферы вились полустертые красные письмена:
«Дом Гарфагеров: 1389 – 188...»
Что-то сверхъестественное — не знаю что — в сочетании покрытой патиной сферы, мрачного бассейна и затеи с ежечасно падающими и шипящими шарами заставило меня поскорее спуститься со стремянки.
— Но что это значит?
— Вы видели надпись?
— Да. Что же все-таки она означает?
Он написал: «Сопоставив тексты Хьюго Гаскойна и Трунстера, я вычислил, что особняк был построен около 1389 года».
— А вторая дата?
— После последней восьмерки, — ответил он, — следует еще одна цифра, почти, но не полностью изъеденная патиной.
— Какая цифра?
— Разобрать ее нельзя, но догадаться нетрудно. Так как -й год практически миновал, это может быть только цифра 9.
— Ваш рассудок в ужасном расстройстве! — воскликнул я, вспыхивая от гнева. — Вы предполагаете — отваживаетесь утверждать — такое, с чем разум, привыкший основывать свои выводы на фактах, не в состоянии примириться!
— А вы, со своей стороны, говорите вещи попросту абсурдные, — написал он. — Полагаю, вам известна формула Архимеда, согласно которой, зная диаметр сферы, можно определить ее объем. Итак, диаметр сферы под куполом, как я установил, равен четырем с половиной футам; диаметр каждого из свинцовых шаров составляет около трети дюйма. Если допустить, что в 1389 году вся сфера была наполнена шарами, нетрудно вычислить, что из четырех с лишним миллионов ежечасно падавших шаров внутри осталось не так-то много. И действительно, в сосуде их не могло быть больше. Падение шаров никак не может продолжаться еще год. Следовательно, мы неизбежно приходим к заключению, что речь идет об указанной цифре 9.
— Понимаете ли вы, Гарфагер, — вскричал я, — какую дикость утверждаете? Поверьте, друг мой, это самое порочное распутство мысли! С помощью какой безысходной алгебры вычислили вы, что крайний срок обязан быть именно таким, что ему назначено совпасть с остановкой часового механизма? И даже если так — каково назначение всего этого? Здесь нет — и не может быть значения! Вы думаете, что создатель этого жилища был подобен всеведающему карлику[67]?
— Вы что, пытаетесь разозлить меня? — возопил он. Затем лихорадочно принялся писать: «Я не знаю — клянусь вам, что решительно ничего не знаю о предназначении этого устройства! Но разве вам не очевидно, что это огромный хронометр, призванный отмечать часы — не дня, а некоего цикла? цикла продолжительностью в пятьсот лет?»
— Но это всего лишь, — неистово прокричал я, — мрачный фантом нашего воображения! злая выдумка! Как же тогда регулируется падение шаров? О, друг мой, вы заблуждаетесь — ваш разум повредился в этой вакханалии шума и грохота.
— Я не сумел выяснить, — ответил он, — посредством какого внутреннего механизма, вязкой субстанции или пружины, чье действие, несомненно, основано на вибрации дома, шары замедляются в своем падении; но искусный средневековый ремесленник, изобретший эти часы, обладал достаточными познаниями, чтобы создать такое устройство; по крайней мере, понятно, что одним из элементов замедления служит малый размер пропускного отверстия, также очевидно и то, что этот элемент по известным, хотя и трудным для понимания, законам статики перестанет действовать, когда останется не более трех шаров; последние три упадут почти одновременно.
— Ради Бога! — безрассудно воскликнул я, не пытаясь подбирать слова, — ваша мать мертва, Гарфагер! Вы же не посмеете отрицать, что не осталось никого, кроме вас и леди Сверты!
Вместо ответа он лишь наградил меня презрительным взглядом.
Однако день или два спустя он поведал мне, что звук свинцовых шаров постоянно отравлял его слух, что жизнь его превратилась в напряженное, час за часом, ожидание их падения. Даже забываясь ненадолго сном, он непременно просыпался при каждом их всплеске; в какой бы части особняка он ни находился, звук этот повсюду настигал его с неотступной и настойчивой громкостью, и каждое падение отзывалось приступом мучительной боли во внутреннем ухе. Поэтому я ужаснулся, когда он заявил, что звуки падения шаров стали для него теперь сутью жизни, настолько близкой и схожей со свойствами его души, что их прекращение могло даже сокрушить его рассудок. И он судорожно закрыл лицо руками, прислонившись к колонне. Когда приступ миновал, я спросил, не согласится ли он раз и навсегда отринуть наваждение хронометра и бежать вместе со мною. Он начертал таинственный ответ: «Тройственный узел нелегко разорвать». Я вздрогнул. Почему тройственный? Он написал с горчайшей улыбкой: «Быть очарованным болью, тосковать о боли, обожать бесплодно и отчаянно — это ли не греховное безумие!» Я был потрясен. Бессознательно он цитировал Хьюго: греховное безумие! нечестивая агония! «Вы видели лицо моей тетки», — продолжал он, — «взор ваш был затуманен, если вы не заметили святотатственного спокойствия, радости кощунственного терпения, оскала, что прячется за ее милой улыбкой». Затем он заговорил о будущем, которое виделось ему бесконечным ужасом и заставляло содрогаться все его существо, но порой веселило сердце безумной надеждой. Он полагал, что уровень звука вокруг может значительно усилиться. И тогда, сказал он, содрогнется разум. В первый мой вечер в имении, звук моих шагов, а позднее и какие-то громко произнесенные мною фразы причинили ему острое беспокойство. При такой чувствительности, как я понял из его дальнейших слов, роскошь пытки от всевозрастающей громкости звуковой среды была искушением, перед которым никто не сумел бы устоять; и когда я заметил, что не в силах даже представить себе подобное усиление звука, не говоря уж о средствах, с помощью которых оно могло быть произведено, он извлек из архивов дома некую летопись, передававшуюся из поколения в поколение. Из нее следовало, что бури, которые постоянно разоряли уединенные просторы Вайлы, с промежутком в несколько лет порождали особо сильный ураган — подобный Сириусу среди солнц — предельное буйство злонамеренных стихий. В такие дни обрушивались дожди и разливались реки, как во времена первого всемирного потопа; те rösts или водовороты, что всегда окружали Вайлу, расширяли затем в безумном порыве свои вращающиеся воронки и с ревом устремлялись вверх в многоликой смертоносной пляске водяных смерчей. Словно змееподобные динотерии[68] или вздымающиеся монолиты Стоунхенджа с его грозными циклопическими колоннами, наступали они на маленький клочок суши и, сомкнувшись с торжественным грохотанием, обрушивали на него свои воды; и озера, питающие водопад, удваивались в объеме, и струи падали с удвоенным шумом. По словам Гарфагера, только чудом можно было объяснить то, что уже двадцать лет на Вайле не происходило такого грандиозного события.
И что же, спросил я, служило третьей нитью упомянутого им тройственного узла?
Он повел меня в круглый зал, который, по его словам, был построен в качестве геометрического центра круглого дома. Зал был огромен — столь огромен, что подобного, как мне кажется, я никогда не видел — так огромен, что любой участок стены, освещаемый свечой, казался почти прямым. И почти все его пространство от пола до потолка было занято колонной желтой меди; пространство между стеной и цилиндром позволяло разве что протиснуть руку.
«Этот цилиндр кажется сплошным, — написал Гарфагер. — Он доходит до купола и продолжается дальше, а другой его конец пронзает нижние этажи, спускается к медному полу склепа и, проходя насквозь, погружается в скальное основание. Под каждым этажом он расходится во все стороны, поддерживая пол своей вершиной. Какого рода мысли вызвал я в вашем уме этим описанием?»
— Не знаю! — ответил я, отворачиваясь. — Избавьте меня от ваших вопросов, Гарфагер. У меня кружится голова...
— Но вы ответите мне, — продолжал он. — Подумайте о странностях медного пола внизу, толщина которого, как я обнаружил, составляет около десяти футов; я имею причины считать, что его внешняя поверхность расположена несколько выше уровня земли; вспомните, что здание нигде не крепится к цилиндру; вспомните о цепях, что выходят из наружных стен и словно бы прикрепляют дом к скале. Скажите-ка, что вы теперь думаете?
— Так вот чего вы ждете? — воскликнул я. — Ждете этого? Не исключено ведь, что здесь не было никакого злого умысла. Вы торопитесь с заключениями! Любое жилище, даже прочно стоящее на земле, всегда может быть разрушено сильной бурей, а уж тем более на такой земле, в таком месте! Быть может, архитектор предусмотрел, что в подобном случае цепи порвутся, а дом за счет проседания будет спасен?
— Милосердия в вас, по крайней мере, с избытком, — отвечал он, и мы вернулись к книге, которую затем стали вместе читать.
Он не полностью утратил давнюю привычку к исследованиям, но больше не мог принудить себя к чтению. Он то отбрасывал, то снова брал в руки тяжелый том, расхаживая взад и вперед в круге света от лампы; бывало и так, что я, не слыша собственного голоса, читал ему вслух. По странной душевной прихоти, несколько книг, не испытывавших сейчас границ его терпения, были объединены общим мотивом — чем-то picaresque[69] или претенциозно-умозрительным: Пройдоха Кеведо, небесная система Tихо Браге и прежде всего «Могущество и Промысел Божьи» Джорджа Хейквилла[70]. Но однажды, когда я читал, он прервал меня высказыванием, на первый взгляд неуместным: «Чего я не могу понять, так это того, что вы, как ученый, считаете, будто физическая жизнь прекращается с остановкой дыхания», — и с этого момента характер нашего чтения изменился. Он привел меня в хранилище библиотеки в самой нижней части здания, и час за часом с неким яростным экстазом, доставая с полок том за томом, осыпал меня учеными доказательствами бытия человека после «смерти». В его сознании звучало высказывание Галлера, и он настойчиво повторял его, снова и снова: «Sapientia denique consilia dat quibus longævitas obtineri queat, nitro, opio, purgationibus subinde repetitis...»[71]; и поскольку опиум был эликсиром долголетия, самая смерть, утверждал он, была тем опиумом, чей куда более действенный напиток забвения убаюкивал тело, даруя покой бесчувствия далеко за вратами, ведущими в сад сновидений. Он цитировал различные труды, начиная с Дхаммапады буддистского канона и Theatrum Цвингера и кончая Historia Vitæ et Mortis Бэкона[72], выстраивая передо мною свидетельства истинности своей веры. Как-то он спросил, что я думаю по поводу рассказа барона Верулама[73] о мертвеце, который во всеуслышание произнес молитву, или о пульсирующих внутренностях казненного преступника? Он, казалось, был удивлен моим скептическим отношением к этим россказням и напомнил мне о корчах мертвой змеи и биении сердца лягушки, наблюдаемом спустя несколько часов после «смерти». «Она не умерла», — процитировал он, — «но спит». Причудливую мысль Бэкона и Парацельса о том, что жизненный принцип заключен в тонком духе или флюиде, наполняющем организм, он развил в замысловатое доказательство того, что подобный дух, по самой своей природе, не может быть подвержен внезапному уничтожению, пока пронизанные им органы остаются взаимосвязаны. Я спросил, каков, по его мнению, предел сохранения чувствительности в организме. Когда медленный распад, ответил он, заходит так далеко, что нервы уже не могут быть названы нервами, клеточная структура — клеточной структурой, а мозг — мозгом, или когда искусственным путем связь мозга с телом пресекается в шейном отделе — тогда воистину воцаряется царь ужасов, и тело как таковое прекращает свое существование. С опрометчивостью, никак не свойственной мне до прибытия на Вайлу, я, не сдержавшись, задал вопрос: не считает ли он, что это суеверие имеет какое-либо отношение к телу его покойной матери? Некоторое время он стоял в задумчивости, а затем написал: «Даже если бы я не имел оснований полагать, что моя собственная жизнь и жизнь моей тетки в определенной степени зависят от полного прекращения ее существования, мне все равно следовало бы принять меры предосторожности, чтобы удостовериться в постепенном разрушении ее тленной оболочки; посему я буду осведомлен о самых мельчайших подробностях». Затем он объяснил, что кишащие в склепе грызуны со временем потрудятся и над ней; но не смогут проникнуть к области горла, так сперва им придется прогрызть себе путь через три шнура, протянутые сквозь отверстия пластинок в гробу — и тем самым, один за другим, они заставят бубенцы звенеть.
Миновало зимнее солнцестояние, открывая следующий год. В одну из ночей я спал глубоким сном, когда Гарфагер вошел в мою комнату и принялся трясти меня. Его лицо в свете свечи казалось мертвенно-бледным. За несколько часов он совершенно преобразился. Он уже не был прежним. Он напоминал тех несчастных, чей доверчивый взор — в самую полночь — заглянул внезапно в глазницы Ужаса.
Он сообщил мне, что слышал странные прерывистые звуки, напряженные и скрипучие, которые были словно подвешены в воздушном пространстве на нитях, готовых вот-вот разорваться от натяжения. Затем он спросил, не соглашусь ли я, Бога ради, сопровождать его к гробнице. Мы прошли через дом; Гарфагер малодушно дрожал и впервые отставал от меня. В мертвецкой он украдкой осмотрел несколько полок. Глаза его ввалились, лицо исказила гримаса, напоминавшая лик Смерти. Я заметил старую водяную крысу, которая тайком кралась прочь от лишенного изножья гроба, содрогавшегося на каменной скамье. Когда Гарфагер проходил мимо одной из самых коротких полок, единственный гроб, помещавшийся там, вдруг рухнул с высоты и разлетелся на куски у его ног. Он издал крик испуганного зверя и неверными шагами устремился ко мне. Я на руках отнес его обратно в верхний зал.
После он сидел, отвернувшись, в углу небольшой комнаты, трясущийся, согнувшийся под бременем лет. Более он не сопровождал привычным «Внемлите!» падение свинцовых капель. На мои увещевания он отвечал лишь словами: «Так скоро! так скоро!». Всякий раз, заходя к нему, я заставал его в том же положении. Его мужество было сломлено, он дрожал в нервной лихорадке. Не думаю, что он хоть на минуту забылся сном.
Во вторую ночь, когда я приблизился к нему, он внезапно вскочил с бешеным криком:
— Прозвенел первый колокол!
И едва он прохрипел эти дикие слова, как моего, теперь болезненно чувствительного, слуха достиг отдаленный слабый вой; несомненно, в том далеком месте, откуда он исходил, вой тот звучал ужасающим пронзительным воплем. Заслышав этот звук, Гарфагер зажал руками уши и бросился вперед, не разбирая дороги; я стремглав побежал за ним в черные глубины особняка. Мы мчались, пока не очутились в круглой комнате, залитой красноватым отсветом канделябра. В дальнем конце алькова стояла кровать. На полу лежала в обмороке леди Сверта. Темноватые седые пряди в беспорядке окутывали ее, подобно сердитому морю; повсюду были разбросаны клочья волос, вырванных с корнем. На ее горле багровели следы пальцев душителя. Мы перенесли ее на кровать и, найдя в шкафу настойку, влили ей меж стиснутыми зубами лекарство. На отрешенном, бесчувственном лице леди Сверты я не увидел признаков смерти и, поскольку нашел нечто отталкивающее в ее облике, поспешил поручить ее заботам Гарфагера.
При следующей встрече я заметил, что манеры Гарфагера претерпели изменения, которые я могу назвать разве что омерзительными. Он держался с самодовольной важностью, характерной для человека слабого интеллекта, ни к чему толковому не способного, но ободряющего себя возгласами: «За дело! время не ждет — пора встряхнуться!» Его походка вызвала у меня отвращение и предположение об ataxie locomotrice[74]. Я осведомился о леди и происхождении следов на ее теле. Низко склонившись к нему, я расслышал глухой вкрадчивый ответ: «Тайная попытка покушения на ее жизнь была совершена этим скелетом, Аитом».
Его слова искренне удивили меня, но он, судя по всему, не разделял моего удивления. На мои неоднократные настойчивые вопросы о причине пребывания в доме подобного слуги и роде его службы он не мог дать внятного ответа. Аит, по словам Гарфагера, был взят в особняк во время его долгого отсутствия в годы юности. Он знал лишь, что Аит отличался необычайной физической силой. Откуда и как он явился, не ведало ни одно живое существо, кроме леди Сверты; и она боялась или, по крайней мере, постоянно отказывалась посвятить Гарфагера в эту тайну. Собственно говоря, добавил он, со дня его возвращения на Вайлу леди по каким-то причинам хранила молчание касательно семейных дел, и ни разу, не считая случайных замечаний, не нарушила свой же негласный запрет.
С любопытной и излишней целеустремленностью, в приступе добровольной и беспорядочной энергии, напоминая во всем пьяницу, который заставляет себя действовать упорядоченно, Гарфагер демонстративно обратился в те дни ко множеству несущественных дел. Он собрал семейные летописи и расположил их в хронологическом порядке. Связал и пометил стопки документов и, упросив меня помочь, перевернул все портреты лицом к стене. Однако его труды прерывались постоянными головокружениями; шесть раз на день он падал наземь. Кровь порой текла из его ушей. Он с жалобными стонами сетовал на ясный звук серебряной флейты-пикколо, который не прекращая манил его. Когда он в поте лица занимался сиюминутными мелочами, его руки трепетали, словно дрожащий тростник. Я замечал, как двигались с невнятным бормотанием и хныканьем его губы, а глубоко запавшие глаза слезились.
Его молодость уступила место дряхлости старческого слабоумия.
Но настал день, когда он ожил и вновь помолодел. Он вошел в мою комнату, пробудив меня ото сна; я видел безумное ликование в его глазах, слышал дикое шипение его крика:
— Вставайте! Это грандиозно. Буря!
Ах! Я уже ощутил ее — в долгом круговращении ночного кошмара. Я чувствовал ее в томительной атмосфере комнаты. Итак, буря пришла. Я видел ее в зловещих отсветах лампы на дьявольски искаженном лице Гарфагера.
Я взглянул на циферблат часов. Было девять утра. Сардоническая радость сразу взорвалась внутри моего существа. Я вскочил с дивана. Гарфагер тем временем удалился, вышагивая гордой поступью обезумевшего древнего пророка. Я бросился вслед за ним. Дрожь здания явственно усилилась; иногда дом на секунду замирал и будто прислушивался, затаив дыхание. То и дело мне мерещились едва различимые отзвуки каких-то далеких причитаний и воплей, подобных плачу иудеев в Раме[75]; но были ли они плодом моего воображения или завываниями бури, я не мог судить. Слышались мне и отчетливые звуки органа. Воздух дома полнился смутным предчувствием беды.
Ближе к полудню я увидел Гарфагера, с лампой в руке бежавшего по коридору. Его ноги были босы. Поравнявшись со мной, он окинул меня взглядом, но едва ли признал и проскользнул мимо, однако тотчас остановился, вернулся и прокричал мне в ухо: «Желаете взглянуть?». Он поманил меня за собой. Я последовал за ним и увидел небольшое окошко во внешней стене, закрытое железной створкой. Когда он отодвинул защелку, металлическая пластина мгновенно распахнулась и отбросила его далеко в сторону; в тот же миг порыв ветра, завывая и грохоча, быстро ворвался через отверстие, с громогласной яростью пленил меня и приковал в противоположном углу. По коридору прокатилась разрушительная волна, сопровождаемая падением картин и мебели. Я, тем не менее, умудрился подползти на животе к окошку. Я ожидал увидеть море — но все мои чувства поглотила кружащаяся, перестилавшаяся вихрями тьма, чья распахнутая пасть напоминала букву O. Солнце Вайлы исчезло. Улучив подходящую минуту, мы в едином усилии сумели закрыть створку.
— Пойдемте, — Гарфагер снова зажег свечу и подозвал меня, — посмотрим же, каково приходится мертвецам в Судный день посреди великого запустения[76]!
Едва мы бегом достигли середины лестницы, как я содрогнулся от грозного толчка; по всему дому разнесся низкий глухой удар, который мог объясняться лишь одновременным падением всей огромной массы нагроможденных на полках склепа гробов. Я обернулся к Гарфагеру и краем глаза заметил, что он, сломя голову, панически удирает по своим следам, зажимая руками уши и широко распахнув рот. Затем страх настиг и меня — вселил дрожь в отважное торжество моего сердца — и отозвался мыслью, что теперь мне остается только бросить Гарфагера в беде и задуматься о собственном спасении. Но все же некое странное сомнение заставило меня в последний раз броситься на его поиски; колебания эти я безусловно воспринял как эгоистичные и болезненные. Я долго бродил по полуночному дому в поисках света и, наконец обнаружив лампу, продолжал искать Гарфагера. Так прошло несколько часов. Воздух сгустился, и царившее вокруг неистовство усилилось до чрезвычайности. Звуки, похожие на отдаленные крики — призрачные, как вопли духов — терзали мой слух. С приближением вечера я начал распознавать в грохочущем все громче баритоне водопада нечто новое: пронзительность — свист экстаза — преступное намерение — угроза бешенства, слепого и глухого.
Около шести вечера я нашел Гарфагера. Он сидел в темном помещении, склонив голову и сложив руки на коленях.
Лицо его было скрыто волосами, из ушей текла кровь. Правый рукав его одеяния был разорван, как я предположил, во время повторной попытки справиться с окном; исцарапанная рука безвольно свисала. Некоторое время я стоял и слушал его бессвязное бормотание. Теперь, когда я нашел его, я ни слова не сказал об отъезде. Он вдруг резко поднял голову с криком «Внемлите!» — затем с властным нетерпением повторил: «Внемлите! Внемлите!» — и после восторженно вскричал: «Второй колокол!». И снова, лишь только замер его крик, по всему дому разнесся приглушенный, но явственный вопль. Мгновенный приступ головокружения швырнул Гарфагера на пол; я же, схватив лампу, выбежал из комнаты, весь дрожа, но охваченный решимостью. Резкие крики продолжались еще некоторое время, не то наяву, не то отдаваясь эхом в ушах. Подбежав к покоям леди, я заметил на противоположной стороне коридора открытую дверь оружейной комнаты; я бросился внутрь, схватил боевой топор и, вооруженный таким образом, собирался уже прийти на помощь даме, когда Аит, сверкая глазами, выскочил из ее спальни через дальнюю дверь. Подняв свое оружие, я с криком кинулся к нему, готовясь поразить врага; однако я случайно выронил лампу — и не успел опомниться, как топор был выбит из моей руки, а сам я был с силой отброшен назад. И все же света из комнаты оказалось достаточно: я разглядел, что скелет метнулся в ближайшую ко мне дверь оружейной, где я раздобыл топор. Я тотчас захлопнул ее и запер; затем, поспешив к другой, проделал то же. Аит очутился в плену. Потом я вошел в комнату леди. Она лежала, свесившись с кровати в алькове; склонившись над нею, я услышал громкий предсмертный хрип. Взгляд, брошенный на растерзанное горло, убедил меня, что ее последний час уже пробил. Я положил ее на кровать и полностью прикрыл распущенными гирляндами черных драпировок, а затем бездушно отвернулся от ужасного зрелища. На секретере, стоявшем поблизости, я увидел записку, предназначенную, очевидно, для Гарфагера: «Я намерена ослушаться и бежать. Не думай, что из страха — но ради самой ослепительности Вызова. Ты готов присоединиться?» Я позаимствовал из канделябра свечу и покинул леди, оставив ее в одиночестве последних мук агонии.
Я успел отойти на некоторое расстояние от спальни, когда вздрогнул от удивления, услышав необычный звук — звон, напоминающий по тембру бряцанье тамбурина. Он показался мне довольно громким, несмотря на то, что раздавался на значительном расстоянии от меня; все это означало, что звук производился с какой-то невероятной силой. Я ждал, и минуты две спустя вновь раздался тот же звук, который затем стал повторяться с такими же равномерными промежутками. Почему-то он вызывал у меня боль. Постепенно во мне крепло убеждение, что источником звука был Аит: должно быть, он снял со стены два старинных медных щита и, ухватив их за ручки, ударял теперь щитами друг о друга, давая выход овладевшей им ярости. Я вернулся к Гарфагеру; казалось, истерзанные до предела нервы заставляли его метаться по комнате. Он склонял голову; встряхивал ею, как лошадь под градом ударов; пытался оградить руками свой слух от повторяющегося звона медных щитов.
— О, когда... когда... когда же, — хрипло простонал он мне в ухо, — этот дьявольский хрип угаснет в ее горле? Я вот-вот не выдержу и сам, говорю вам — сам, своей собственной рукой! — о Господи...
С утра воспаление его слуховых окончаний (как, впрочем, и моих собственных), похоже, только усилилось сообразно окружающему реву и вопящему хаосу; и слышимые им хрипы леди ужасающе заполняли выверенные интервалы между бряцанием жутких кимвалов Аита. Он воздел трепещущие пальцы в воздух и, размахивая руками, стремглав помчался в темноту.
И вновь я тщетно искал его. Проходили часы, и медленно этот адский день клонился к мрачной полуночи. Удвоенный шум водопада смешался с громом и величием бури, достигшей своей кульминации, и превратился в скрежещущий крик — звук слишком определенный и намеренный, чтобы его можно было приписать какой-либо естественной причине. Я лишился власти над собственным разумом, и тот блуждал по своей прихоти. Здесь, в очаге лихорадки, я заразился ею; средь сынов противления[77], был крепок силою и слаб немощью безумия. Я бродил из комнаты в комнату, повергнутый, ошеломленный, испытывая головокружение от прилива радости. Я пал, «как тот, кого объемлет сон»[78]. И все же, когда я приблизился к оружейной, бурные экстазы Аита слабым звоном отозвались в ушах. Гарфагера я нигде не встретил; несомненно, и он, словно неприкаянный Агасфер, блуждал в круглом мире дома. Однако ближе к полуночи я заметил слабый свет, проникавший сквозь приоткрытую дверь одной из комнат на нижнем этаже. Я вошел туда и обнаружил Гарфагера. Это был зал с хронометром и свинцовыми шарами. Гарфагер полусидел на стремянке, раскачивался и, обхватив себя руками, глядел в черноту бассейна. Последнее мерцание буйства дня, казалось, умирало в его глазах. Он не поднял головы, когда я приблизился. Его руки, особенно обнаженная правая, были красны от свежей крови; но и на это он, похоже, не обращал никакого внимания. Так он сидел с широко раскрытым ртом и тяжело дышал. И пока я смотрел на него, он внезапно подскочил, хлопнул в ладоши и с криком: «Прозвенел последний колокол!», как безумный, бросился вон из комнаты. Поэтому он не увидел (хотя и мог догадаться по звукам) зрелище, созерцание которого наполнило меня благоговейным ужасом: из хронометра в оцепеневший бассейн выскользнул в облаке шипящего пара шар: и с тиканьем часов, другой! — и снова тиканье, и следующий! и не успел еще полностью рассеяться пар от первого, как испарения третьего смешались с ним над серой поверхностью воды. Понимая, что свинцовые песчинки часов исчерпались и время здания истекло, я также, беспорядочно размахивая руками, помчался прочь. Однако бегство мое внезапно было остановлено ощущением грозного рока, пролившего свой фиал на особняк; и тотчас, благодаря залпам пронзительного треска наверху и надвигающемуся ливню всемирных вод, я осознал, что водяной смерч, целиком или частью, обрушил на нас катастрофу разразившегося потопа и прорвался внутрь, уничтожив по пути купол здания. В тот миг я увидел Гарфагера; он несся в мою сторону и рвал на себе волосы. Когда он пробегал мимо, я схватил его.
— Гарфагер! спасайтесь! — закричал я. — Те самые источники, — ради Бога, Гарфагер! — я шипел ему прямо в ухо, — источники самой Великой Бездны..![79]
Он посмотрел на меня пустым взглядом и скрылся. Я кинулся в комнату и захлопнул дверь. Здесь некоторое время я ждал, ощущая дрожь в коленях; но нетерпение бешенства понукало меня, и я снова двинулся дальше. Коридоры были повсюду затоплены водой, доходившей мне до бедер. Посланцы бури, яростно хлынувшие сквозь разрушенный купол, теперь буйствовали и распутничали по всему дому. Мой светильник сразу погас; и тут же я вздрогнул, пораженный присутствием иного света — призрачного, мрачного, синеватого — донельзя мягкого, но дикого, фосфоресцирующего — который заливал теперь все здание. Я не мог найти этому объяснения. Но покуда я стоял в раздумьях, неодолимый порыв ветра ворвался в дом и я услышал где-то совсем рядом резкий хруст. Минута бездыханной тишины — и затем — быстро, быстро — все быстрее — послышались удары, и биение, и лязг рвущихся одна за другой, по всему огромному кругу, якорных цепей, что удерживали дом под упорным натиском урагана. И вновь мгновенье вечного покоя — и тогда — неспешно и уверенно — ибо час его пробил — громоздкий дворец сдвинулся с места. Моя плоть корчилась, как липкая кожа змеи. Здание медленно перемещалось и останавливалось: — затем толчок — вихрь — и пауза! снова кружение — и удар — и пауза! — потом непрестанное напряжение чудовищной медной оси, подобное тяжкому движению плуга, взрезающего землю; и после пылкая устремленность, и первый взмах крыла только что оперившегося птенца — порыв — и наконец воздушный экстаз полета. И когда я качался и падал, вращаясь вместе с домом, мысль о бегстве вновь посетила меня, но на сей раз я в ярости сжал кулаки.
— Нет, Господи, нет, нет, — вскричал я. — Более не стану я стремиться прочь отсюда, о Боже! Я готов погибнуть рядом с Гарфагером! Позволь мне танцевать здесь, на этом Балу Вихрей, в Хаосе Громов! Разве великий Коро не назвал это переходом в огненной колеснице? Но огонь этот ярче! краснее! Словно прогулка по жарким волнам лавы, по расплавленным слиткам адского золота! Это — крещение в жаровне солнца!
Память на ощупь пытается внести ясность в сумерки, окутывающие дальнейшие события. Я пробирался по лестнице, уже затопленной потоком воды; после долго бежал, спотыкаясь и падая, с дикими речами на устах, среди обваливающихся потолков и рушащихся повсюду стен. В воздухе висела капель, вся крыша, помимо трех балок стропил, была снесена ветром. В мертвенной луной синеве гобелены плескались на ветру, влачась за движущимся домом, словно развевающиеся волосы гневного факира, что корчится под укусами роя оводов и смертоносных тарантулов. Пол постепенно наклонялся, как палуба судна; вся покрывавшая его вода стекала, сливаясь воедино, в одном направлении. Там, где находился самый большой из выступающих портиков, дом стал при каждом своем повороте биться с ужасающим содроганием о какую-то преграду. Удар — и пока губы успели бы сосчитать до трех, еще три толчка. То была ветреность громады! вакханалия тяжести! Быстро — еще быстрее, все быстрее — дом лихорадочно закружился и помчался; свирепая буря обрывала его портики, точно паруса, и превращала в развалины его огромное тело. Протиснувшись через заваленную обломками стены дверь одной из комнат, я увидел в тусклом синевато-сером свете Гарфагера, восседающего на саркофаге. Он сжимал в окровавленной руке палку и слабо, но упорно бил в находившийся рядом с ним большой барабан. Скорость накренившегося дома достигла теперь точки покоя, равновесия, предельной энергии вращения. Гарфагер сидел, опустив голову на грудь; внезапно он отбросил волосы с лица, вскочил, распростер руки и начал вращаться — головокружительно! — в том же направлении, что и дом! — в таком же равновесии сна! — его волосы развевались, щеки дрожали, глазные яблоки закатились от ужаса, а язык вывалился наружу, как у волка, раскрывшего пасть в бешеном издыхающем вое. В приступе отвращения и тошноты я отвернулся от этого зрелища и побрел, спотыкаясь, на подгибающихся ногах, пока не обнаружил, что нахожусь на нижнем этаже, напротив крыльца. Дверь упала, разлетевшись на куски, к моим ногам, и дыхание бури обдало меня своей свежестью. Некий порыв, частью безумие, но в большей мере глас небесной ясности, бросил меня вперед. Я выскочил наружу и погрузился в разверзшийся вокруг ад.
Я сразу очутился глубоко в воде; река сбила меня с ног и понесла к морю. Даже здесь я расслышал мгновенный пронзительный треск будто разъятого на части мира. Едва он стих, как мое тело натолкнулось на своем пути на одну из окутанных толстым покровом морских водорослей базальтовых опор полуразрушенного моста. Я чуть не потерял сознание. С усилием подняв голову над водой, я сумел подтянуться и выбраться на деревянный настил. Участок моста, доходивший до скалы, откуда я спустился в первый день, оставался в целости. Я с трудом пополз на животе, сжимаясь под порывами ветра. Струи дождя хлестали не переставая, в воздухе мерцала шелковая завеса капель. Надо мной разливалось то же неистовое свечение, что озаряло ранее дом сквозь дыры разрушенного купола; я оглянулся — и увидел, что жилище Гарфагеров стало достоянием прошлого; поднял глаза — и вот, все северное небо до самого зенита горит одним волнистым изменчивым океаном торжественных огней. То было полярное сияние, и каждое мгновение его трепещущие лучи выстраивались в колонны, конусы и обелиски — ярко-красные, лиловые и розовые; колыхаясь от дуновения бури, они словно по волшебству сложились в необъятную сверкающую орифламму чарующих световых локонов, и завитков, и радуг, а дальше, над самым горизонтом, разлившиеся лучи полярного света воздвигли незыблемую северную корону ослепительной чистоты и блеска. Блаженные слезы нахлынули на меня при виде этого величественного явления. И с ними разрушилось сновидение! — рассеялось наваждение! — будто чья-то рука сняла с моего разума слепую пелену заблуждений; и я, рыдая на коленях, воздел руки к небесам в благодарственном воздаянии за чудесный Рефидим[80] и чудо избавления от всех искушений — и скорбей — и трагедии — Вайлы.
МЕСТО СТРАДАНИЙ[81]
Хотя мое повествование касается того, как преподобный Томас Подд узрел средоточие зла, темой его является скорее зло, что обретается на небесах: ибо я полагаю, что Британская Колумбия подобна небесам или тому, каким я мечтал бы увидеть свой рай — если вознесусь столь высоко: сплошная громада гор с зерцалами озер, потоками вод и густыми лесами, прорезанная ревущей Роной.
Случилось это в Смолл-Форкс, куда я приехал, думая пробыть две недели — а остался на пять лет. Поистине невероятно, как за недолгое время изменился и разросся городок: ведь поначалу Смолл-Форкс был центром снабжения всего-навсего трех шахтерских поселков, и даже четверть тех двух миллионов тонн руды, что добываются здесь в наши дни, показалась бы тогда непредставимой.
Рудную жилу Скэтчерин, расположенную в трех милях от озера, обслуживала одна медеплавильная печь. Но на пятьдесят миль в округе не было ни одной серебряно-свинцовой шахты, ни одной пивоварни, ни единой машинной мастерской или кирпичного завода. Никто в ту пору еще не считал водопад Харпер-Фоллз источником энергии.
Именно с Харпер-Фоллз связана гибель пастора Томаса Подда, о которой вам предстоит услышать; и только мне известны обстоятельства и причины его смерти.
Если не ошибаюсь, впервые я увидел Подда в первую неделю моего пребывания в Смолл-Форкс — однажды вечером на Набережной.
(Вы знаете, вероятно, что Смолл-Форкс тянется вдоль побережья одного из заливов озера Сакунэй, у подножья гор, окруженных лесными чащами – и впрямь, по моему мнению, подобен райскому уголку.)
Тем вечером Подд прогуливался вместе с другим священником по Набережной, и впечатление, что произвела на меня его персона, выразилось в усмешке — слишком уж непривычным было тогда для меня зрелище чернокожих в сутанах и белых колоратках. По правде говоря, Подд был скорее коричневым, чем черным — худой низкорослый человечек лет пятидесяти, с выступающими скулами, ввалившимися щеками, скудными пучками бородки, уверенной осанкой и лбом подлинного интеллектуала; однако взор его просверлил меня с выражением диковатым и рассеянным.
Он занимал важное положение в Смолл-Форкс, где колония примерно из сорока цветных трудилась на лесопилке.
Подд читал им проповеди в скособоченной церквушке на углу Шелуховой улицы.
Он вел молитвенные собрания вечерами, по понедельникам; и в один из понедельников, когда миновало около месяца моего проживания в Смолл-Форкс, я забрел на его проповедь, возвращаясь с прогулки. Я услышал молитву — или, вернее, требовательный призыв к этим темнокожим, которые стучали по своим скамьям и раздраженно раскачивали их перед кафедрой.
По окончании собрания, я вышел и ощутил слабое прикосновение к спине. Оказалось, что преподобный джентльмен, завидев незнакомца, бросился вслед. Он величаво соединил руки и затем с улыбкой осведомился, не намерен ли я «присоединиться к ним». Мысль эта была далека от меня; я сказал, что «мне было любопытно», и оставил преподобного.
Вскоре после того он зашел ко мне, и дважды в течение трех месяцев пил со мной чай — видимо, с надеждой обратить меня в свою веру. В обращении он не преуспел, но зато весьма меня заинтриговал.
Подд был человеком науки до самых кончиков пальцев; я обнаружил, что он пылает врожденной страстью к Природе; и я выяснил — не могу припомнить, у него самого или у других — что у Подда была манера время от времени покидать человеческое общество, теряясь на несколько дней в лабиринте гор, вздымающих к луне область озера Сакунэй.
Никакой груз дел, никакие доводы или заботы не могли удержать Подда дома, в уюте Смолл-Форкс, когда его соблазнял зов дикой природы. Эта характерная причуда была давно известна в городке, где к ней относились со смирением и снисходительностью. Он родился милях в сорока от Смолл-Форкс; мне показалось, что он знает леса и горы Британской Колумбии так же хорошо, как фермер – свой двухакровый лужок.
Итак, спустя недели две после его второго визита, меня достигла внезапная весть о том, что в голове у преподобного Томаса Подда что-то помутилось — да и могло ли обойти меня это известие, если слухи о пасторе вызывали насмешки по всей округе далеко за пределами Смолл-Форкс?
Поговаривали, что как-то субботним вечером преподобный джентльмен вернулся домой из очередного долгого странствия, наполненного праздным общением с Природой. Утром в воскресенье он пришел в молитвенный дом возмутительно поздно и нетвердым шагом, точно помешанный лунатик, взошел на кафедру — без сутаны! — без колоратки! — со сползшими подтяжками! — а затем, водрузив локти на лежавшую здесь же Библию, пристально и с издевкой взглянул на свою малочисленную черную паству и принялся глумиться и насмехаться над нею.
Он открыто назвал прихожан толпой обезьян, шайкой черномазых лепечущих младенцев; сказал, что стыдится их всем сердцем, ибо они так невежественны и затеряны во мраке; и все, что содержится в их неотесанных башках — пустота; никто из них не разумеет ничего, кроме него, Подда; он единственный средь людей познал то, что знает, и узрел то, что видел...
Что ж, его глубоко уважали за интеллект, красноречие и несомненную искренность в христианском служении, и потому община, похоже, восприняла это непристойное выступление с большой терпимостью. Возможно, прихожане надеялись, что то было лишь помрачение ума, каковое скоро пройдет; но когда преподобный джентльмен сразу после указанного события снова отправился в горы, исчезнув на несколько недель — никто не ведал, где он скитался — это было уже чересчур. Поэтому, вернувшись наконец в город, он узнал, что место его занял другой темнокожий священник.
С той минуты социальное падение Подда стало неудержимым. Он довел себя до бедности и лохмотьев. Жена и две дочери отряхнули его пыль со своих туфель и покинули Смолл-Форкс – предпочитая самостоятельно где-нибудь искать средства к существованию, насколько я понимаю. Но Подд остался или, во всяком случае, часто попадался на глаза в Смолл-Форкс, когда снисходил до городка, спускаясь сюда после горних блужданий.
Мне довелось видеть его пьяным на Набережной; подтяжки Подда свисали до колен, шляпа превратилась в руины — хотя я уверен, что он так и не сделался пропойцей. Как бы то ни было, тонкий слой внешнего лоска стерся с него, будто едва намеченный рисунок, и он успешно погрузился в дикое состояние. Чем он жил, я не знаю.
Однажды днем я встретил его возле новой судостроительной верфи, которую «Канадская тихоокеанская железная дорога» возвела в полумиле от Смолл-Форкс. Он сидел на куче сосновых бревен, сложенных на обочине дороги. Его голая грудь и нога виднелись в прорехах одежды, глаза пожирали небо, где замерла дневная луна. Но, завидев меня, он блеснул великолепными зубами, беспечно вскричав на французском: «Ah, monsieur, ça va bien?»[82] — на французском, поскольку неграм свойственна известная фривольность речи, выражающаяся подобным образом.
Я прервал его болтовню, спросив:
— Подд, что это было, в конце концов — ваше внезапное низвержение от святости к порочности?
— Ах, наконец-то вы спрашиваете о чем-то дельном! — беззаботно отвечал он, подмигнув мне.
Я заметил, что он прискорбно отощал; кожа приобрела шафрановый оттенок, скулы, казалось, вот-вот обнажатся, а в глазах горел огонь, свойственный человеку, переживающему длительную экзальтацию или возбуждение.
Желая, по мере сил, помочь ему, я сказал:
— Должно быть, что-то случилось внутри или вовне; вам лучше обо всем поведать мне, и тогда я смогу что-либо для вас сделать.
Он тотчас же раздраженно заметил:
— О, вы мыслите так же, как дурная толпа глупых маленьких ребятишек, барахтающихся во тьме!
— Вот как, — отвечал я, — но если вы так мудры, почему бы вам не раскрыть свою тайну, дабы мы также обрели мудрость?
— Что я скажу вам, — его голова дергалась вверх и вниз, губы сжались, — сомневаюсь, что кто-либо может выдержать это зрелище; да тут у любого волосы поседеют!
— Какое зрелище? — спросил я.
— Зрелище Ада! — вздохнул он, чуть воздев руки.
Помолчав с минуту, я сказал:
— Ну, это ерунда, Подд.
— Конечно, сэр, наверняка так и есть, раз вы так говорите, — тихо отвечал он грустным голосом. — Разумеется, именно это говорили Галилею, когда он утверждал, что земной шар движется.
Приняв, насколько возможно, серьезную мину, я посмотрел на него и спросил:
— Так вы видели Ад, Подд?
— Возможно, – ответил он и добавил: — А также и вы, кстати. Вы могли лицезреть его с того момента, как вышли на прогулку, но не поняли того.
— Ну что ж, тогда Ад не столь уж ужасен, не так ли, — заметил я, — если можно увидеть его и не распознать. Но Ад прямо у нас, в Смолл-Форкс? Я только что оттуда.
При этих словах он поднял голову и с довольно едким смешком промолвил:
— Да, как прекрасно, когда невежда подшучивает над теми, кто обладает знанием, и чем глупее этот судья, тем лучше! Так оно обычно и бывает.
Кровь вдруг прилила к его лицу, и он вперил взор в небеса.
— Видите вы там этот мир?
— Луну? — переспросил я, тоже посмотрев в небо.
— Души в месте том обитают в боли, — пробормотал он; подбородок его внезапно опустился на грудь.
— Так на Луне есть люди, Подд? — спросил я. — Вам известно, конечно, что там нет воздуха? Или вы имеете в виду, что Луна и есть Ад?
Он взглянул вверх, улыбнувшись:
— Боже мой, да вы много отдадите за то, чтобы узнать, уж я-то понял это с самого начала. Раз уж это вы, сделаю вам деловое предложение. Вы будете давать мне три доллара в неделю, покуда я жив, а перед смертью я расскажу вам, что и как я узнал; научу вас всем приемам. Или напишу письмо и запечатаю его в конверт, который вы получите после моей смерти.
— Надо же, — сказал я, — какая жалость, что я не могу себе такое позволить.
— Вполне можете, — был его ответ, — но истина в том, что вы не верите ни единому моему слову: вы полагаете, что я сумасшедший. Да, это так, отчасти! Ей-богу, что верно, то верно!
Он вздохнул и замолчал на некоторое время, рассеянно глядя на Луну и явно забыв о моем присутствии.
Но затем он продолжил:
— Предложу вам все-таки рискнуть. Платить вам недолго придется: вижу, у меня началась чахотка – проклятье нашего цветного народа — и только вчера горлом шла кровь. И кроме того, вы сможете оказать ближнему благодеяние, ибо я очень голоден — по собственной вине; но после того, что видел, я не мог продолжать прежнее пустословие перед теми бедными глупцами. Если не хотите давать мне три доллара в неделю, дайте один.
Что поделать, я согласился — конечно, не ожидая услышать какую-нибудь «тайну». Но я видел, что этот человек, будучи не от мира сего, не мог заработать себе на хлеб. Я считал его в той или иной степени безумным — и по-прежнему считаю так; однако теперь я убежден, что он далеко не настолько повредился в уме, как мне представлялось поначалу. Таким образом, я обещал, что он сможет еженедельно получать один доллар в моем банке, пока сам я буду оставаться в Смолл-Форкс.
Иногда Подд брал свой доллар, но часто этого не делал, хотя был предупрежден о том, что накопившиеся долги выплачиваться не будут, и ему следует являться в банк каждую неделю. Так продолжалось свыше четырех лет, в течение которых он становился все более тощим и окончательно одичал.
Тем временем насмешки над Поддом в Смолл-Форкс и округе Сакунэй прекратились: шутки давно утратили свою свежесть. Опустившийся нищий стал деталью местного пейзажа, подобно конной полиции или лесопильной фабрике — зрелище слишком привычное глазу, чтобы тревожить сознание какими-либо чувствами.
Но на исходе этих четырех лет Смолл-Форкс единым строем восстал против Подда.
Произошло следующее: округ Сакунэй как раз отправил ежегодную партию из приблизительно четырехсот миллионов футов древесины в провинции канадских прерий; число добывающих и плавильных компаний увеличилось до четырех — крупные концерны, работавшие с тремя-четырьмя тысячами тонн руды в день. Учитывая такое положение дел, все население округа дружно подхватило клич: «Электричество! Электричество!».
Вслед за тем в Смолл-Форкс появился главный минералог провинции с внушительным лбом и ответственным видом; его отчет правительству Британской Колумбии гласил, что водопад Харпер-Фоллз способен дать мощность в 97 тысяч лошадиных сил; это вызвало в округе большой интерес; и, наконец, городской совет Смолл-Форкс принял решение о создании муниципальной электростанции на Харпер-Фоллз.
Один только Подд возражал!
Он считал, — как я узнал впоследствии — что ХарперФоллз принадлежит лично ему; и он не желал, чтобы люди изгадили водопад или появились где-либо поблизости от него.
Тем не менее, он ничего не желал объяснять. Были начаты работы — пока что в виде сбора строительного материала. Первый намек на сопротивление делу возник однажды в полночь, в начале мая — эту ночь я никогда не забуду — когда все муниципальные запасы сгорели дотла.
Величественные языки пламени были отлично видны в Смолл-Форкс с расстояния пяти миль, и я наблюдал представление, находясь в гуще огромной толпы горожан.
Все пришли к заключению, что какой-то неизвестный преднамеренно совершил поджог, так как иных объяснений не нашлось. Оставалось загадкой, кто именно сделал это — поскольку не было и подозреваемых. И, подобно пауку, чья сеть неожиданно разорвалась, муниципальные власти снова начали собирать материалы для строительства электростанции.
Затем, в конце июля, произошел еще один пожар.
Но на сей раз на складе находились бдительные ночные сторожа, и один из них показал под присягой, что, судя по всему, видел Подда в подозрительной близости к месту бедствия.
Город был весьма возмущен этим обстоятельством, ибо все ожидали от электростанция множества благ.
По крайней мере, когда Подд был пойман и допрошен, он не стал всецело отрицать обвинение.
— Возможно, это был я, — был его ответ; и далее, — ну так и что с того?
Слова Подда доказали мне, что он был невиновен; я считал, что его ответ был продиктован тщеславием либо безумием. Власти, должно быть, рассудили так же, и Подд был отпущен, как безобидный дурень.
В городе, тем не менее, освобождение Подда вызвало взрыв негодования; три дня спустя я увидел его посреди толпы, откуда, если бы я не пришел на помощь, он едва бы вырвался живым — ведь теперь он представлял собой лишь мешок костей с двумя горящими глазами. В самом деле, вмешательство потребовало от меня немалой решительности, поскольку там были полицейский из Северо-Западного управления, хладнокровно поощрявший нападки на бедного изгоя, агент по продаже недвижимости, провонявший скипидаром менеджер лесопилки и прочие граждане, чьи интересы были задеты. И все же я прокричал краткую речь, поручившись, что Подд невиновен; вероятно, реноме уроженца Британии помогло мне вырвать его, задыхающегося, из их хватки.
Когда Подд обнаружил, что мы оказались вдвоем на дороге за пределами города, он внезапно рухнул на колени и, обняв мои ноги, принялся рыдать, обращаясь ко мне в пароксизме благодарности.
— Вы были всем для меня — вы, чужак. Господь вознаградит вас — жить мне осталось недолго, но вы узнаете, что ведомо мне, и увидите то, что созерцал я.
— Подд, — сказал я, — вы слышали, я дал слово, что вы невиновны. Скажите же мне теперь, что не вы совершили эти преступления.
С ледяным высокомерием он поднялся, взглянул мне в лицо и произнес:
— Конечно, это сотворил я. Кто же еще?
Я рассмеялся. Но затем строго заметил:
— Ладно, вы сознались в злодеянии, вот и все.
— Послушайте, — отвечал он, — не будем спорить. Мы смотрим на вещи с разных точек зрения — оставим споры. Я имею в виду, что в течение нескольких недель или месяцев, что я еще проживу, никакая электростанция не будет построена на Харпер-Фоллз — после, пускай строят. Вам не известно то, что знаю я о водопаде. Это глаз сего мира — да, безусловно, глаз сего мира. Но вы узнаете и узрите.
Он взглянул на клонящийся к западу лунный серп и, немного подумав, продолжил:
— Встретимся в пятницу, в девять вечера. Вы многое сделали для меня.
Говорил он с такой убежденностью, что я обещал повстречаться с ним. Несколькими минутами позднее я уже смеялся над тем, что был так впечатлен его болтовней.
Так или иначе, два вечера спустя, в девять, я встретился с Поддом и мы тронулись в путь; мы прошли, взбираясь и карабкаясь по склонам, около семи миль, которые я запомню навсегда.
Если я смогу хоть отчасти рассказать об этом колдовском приключении, то стану куда лучшего мнения о своих художественных способностях; но подлинная реальность тех событий ускользает от описания.
Невзрачный, угасающий Подд по-прежнему обладал легкой поступью горного козла, и мы пробирались в местах, которые без его помощи я едва бы преодолел — призрачные овраги, ельники и старые унылые кедровники с гудящими кронами, скалы перевала Гэрровэй, где грохот водных струй внушает трепет, и ледниковые озера, спящие во мраке дебрей, заросших лиственницами, болиголовом, белыми и желтыми соснами.
Мы продирались вверх сквозь ущелья перевала Гэрровэй, когда Подд резко остановился; ощупью, не видя ничего в темноте, я нашел его и обнаружил, что он застыл, прислонившись лбом к скале.
На мой вопрос «Что-то не так?» он ответил:
— Погодите – у меня кровь на губах.
И после добавил:
— Думаю, у меня начинается кровотечение.
— Тогда нам лучше вернуться, — сказал я.
Но он сразу оживился и сказал:
— Все будет хорошо. Пойдемте.
Мы продолжили наш трудный путь.
Примерно через полчаса мы вышли на небольшое плато площадью с восемьсот квадратных ярдов; с трех сторон его окружали поросшие соснами утесы. С утеса позади нас струился поток воды, который растекался по платформе довольно широкой рекой, прокладывал себе дорогу между скалами и ниспадал пенистым водопадом с переднего края плато.
— Вот мы и на месте, — промолвил Подд, сев на скалу и склонив голову к коленям.
— Подд, вы в беде, — сказал я, остановившись рядом с ним.
Он не отвечал, но с трудом приподнял голову и поглядел на Луну глазами, которые сами были подобны ночному светилу — земной спутник уменьшился до половинного размера и переходил в убывающую четверть.
— Теперь смотрите, — сказал Подд с одышкой и дрожью в голосе, так что я был вынужден наклониться, чтобы расслышать его сквозь шум воды. — Я привел вас сюда, потому что вы мне очень дóроги. Вскоре вы увидите то, над чем глаза ни единого смертного, кроме моих, не исторгали соленую влагу слез...
Когда он произносил эти слова, я впервые с некоторым потрясением осознал, что и впрямь приблизился к созерцанию чего-то беспредельного. Я более не сомневался в том, что его задыхающаяся речь содержала зерно истины; в сущности, я внезапно понял, что Подд говорил правду, и мое сердце забилось быстрее.
— Но как вы примете это зрелище? — продолжал он. — Действительно ли я окажу вам услугу? Вы видите, как это сказалось на мне — мысль о том, что создавшее нас — самая наша сущность — породила такую горечь! Нет, вам нельзя увидеть все, узреть самое худшее: там я остановлюсь. Видите водопад, что падает к нашим ногам? Я могу, погрузив некий камень в определенное место реки, превратить скопище воды и пены в стекловидную массу — две массы стекла — две огромные двояковыпуклые линзы. Я случайно обнаружил это однажды ночью, пять лет назад — в черную ночь моей жизни. Нет, что-то мне нездоровится нынче вечером. Не имеет значения. Спускайтесь прямо по этой стороне скалы — это нетрудно — пока не достигнете пещеры. Войдите в нее; затем заберитесь наверх по выемкам на стене. Вы окажетесь на уступе, край которого находится приблизительно на два фута позади внутреннего окуляра. Через четыре минуты, начиная с данного мгновения, Луна покажется перед вами; и я дам вам пять минут созерцания — не более. Вы увидите ее примерно в трехстах ярдах от себя, и она будет терзать ваш мозг, словно десять триллионов поездов. Но никогда не рассказывайте ни одной живой душе, что вы видели на ней. Ступайте, ступайте! Да, не очень-то хороший выдался вечер...
Он встал с таким болезненным усилием, что я сказал:
— Вы еще не вошли в реку, Подд, и уже дрожите? Почему вы не покажете мне, как разместить камень?
— Нет, — пробормотал он, — вы не должны знать, не должны! все в порядке, я справлюсь, идите. Поначалу продолжайте двигать глазами, пока не поймаете фокусное расстояние. Там много призматических и сферических искажений, радужных граней, и повсюду вторгается желтая спектральная линия натрия – объектив столь велик и тонок, что, кажется, еле улавливает свет. Не имеет значения, вы сами все прекрасно увидите — в перевернутом виде, конечно. Диоптрические картины, как в телескопе. Ступайте, идите, не теряйте времени зря; я управлюсь с камнем. И вы должны всегда помнить — что я воздал вам — в полной мере — за всю вашу любовь.
Произнося эту речь, он то и дело корчился в приступах удушья, а дикий блеск глаз выдавал сильное беспокойство или лихорадочный жар. Он подталкивал и вел меня к тому месту, где я должен был спуститься. Кивнув на Луну, он заплетающимся языком вымолвил: «Вот она» и отбежал от меня, в то время как я ногами нащупывал путь — слева от водопада, вниз по склону утеса; склон был почти отвесным, но настолько неровным и заросшим кустарником, что спуск оказался легким.
Спустившись футов на шесть, я подтянул подбородок к краю утеса и заметил, что Подд наклонился над кустами у подножья утеса слева от меня, где он, очевидно, прятал свой магический камень; я видел, как он поднял камень и, шатаясь под его тяжестью, направился к реке.
Но затем я подумал, что вряд ли было бы честно следить за ним; когда он очутился в нескольких ярдах от реки, я двинулся вниз — долгий спуск — и, наконец, с передней стороны утеса открылась пещера, красивая и просторная полость с увлажненными водной взвесью водопада стенами.
Я взобрался на уступ, о котором говорил Подд; там, в темноте, я лежал в ожидании, насквозь промокший. Должен признаться, я дрожал и слышал, как мое сердце колотится о ребра; биение его не заглушал даже торжественный гимн пенящегося потока, ниспадавшего передо мной. Некоторое время спустя мне показалось, что сквозь пену я вижу какое-то свечение: быть может, там проплывала Луна.
Но долгожданного превращения пены в линзы так и не произошло.
И наконец я громко вскричал: «Быстрее, Подд!» — хотя и сомневался, что он может услышать.
Во всяком случае, ответа не было. Я продолжал ждать.
Должно быть, прошло минут двадцать, прежде чем я решил спуститься вниз с уступа; после я выбрался из пещеры и полез вверх, на плато, раздраженный и злой; не думаю, правда, что я считал тогда, будто Подд умышленно выставил меня дураком. Я полагал, что он по какой-то причине не сумел разместить камень в нужном месте.
Но добравшись до вершины, я увидел, что бедняга был мертв.
Он лежал на берегу реки; ноги погрузились в воду, камень был зажат в его руках. Вес оказался для Подда чрезмерным: камень был залит кровью из его легких.
Два дня спустя я своими силами похоронил его там же, на речном берегу, в шуме песнопения водопада, рядом с его гигантским телескопом — «глазом мира сего».
И затем, в течение трех месяцев, день за днем, я устремлялся в эту уединенную пустошь, пытаясь верно установить камень в реке и превратить пену водопада в чистую воду. Но у меня ни разу не получилось. Тайна зарыта вместе с единственным человеком, которому было предначертано судьбой — возможно, лишь единожды за долгие века — узнать, какие пути проторены и какие узоры вытканы на орбите иного небесного тела.
ВЫСТРЕЛ В СОЛНЦЕ[83]
Расскажу вам кое-что, что видел своими глазами; можете верить или нет – как хотите.
Пишу я уже старческой рукой, а случилась эта история лет сорок назад, в былые дни рабства, далеко на Юге.
Чарльз К. Браунригг владел в те годы двумя сотнями и сорока пятью ниггерами, не говоря о пятнадцати сотнях акров хлопковых плантаций. И его, позвольте заметить, ненавидели и боялись, как никого другого в южных штатах Америки.
Это был громадный краснолицый человек с твердыми безволосыми складками у рта и козлиной бородкой, который всюду разгуливал с винтовкой на плече. Его обширное поместье с разбросанными тут и там строениями располагалось поблизости от Клифтонвилля (в Южной Каролине), главный дом выходил окнами прямо на плантацию. Винтовка, что он всегда носил с собой, в разное время отобрала жизнь не менее чем у пяти ниггеров – в Клифтонвилле никто в этом даже не сомневался; но благодаря какой-то неведомой силе, присущей Браунриггу, он сумел избежать рук правосудия.
Как-то раз – было это в разгар сезона 59 года – в сарай, откуда Браунригг наблюдал за сбором урожая, вбежал марон[84] со словами:
– Масса, масса, Брамс и Джесс-то как есть сбежали!
Брамс был негритянским парнем лет двадцати, а Джесс мулаткой с фигуркой Венеры, и были они рабом и рабыней Браунригга. Несколько месяцев тому Брамс и Джесс с первого же взгляда полюбили друг друга, а теперь, по обоюдному согласию, скрылись в леса и долы в безумной надежде обрести свободу и счастье.
В то утро панама Браунригга была глубоко надвинута на лоб, и задолго до этого известия на лице его сложилась да так и застыла гримаса, поскольку он испытывал некоторые денежные трудности; хлопок не уродился два года подряд, так что, едва лишь слова о побеге сорвались с губ марона, Браунригг взмахнул короткой рукоятью, длинный кнут воловьей кожи обвился вокруг ног марона с треском пулемета «Максим» и раб затанцевал на месте от боли.
В этом Браунригге было что-то странное – он вовсе не походил на других рабовладельцев. Например, прямо сейчас, когда он отшвырнул кнут, а раб упал, корчась, в высокую траву, было бы естественно ожидать, что Браунригг куда-то побежит, соберет собак и лошадей и ринется в погоню за беглецами. Но ничего подобного он не сделал.
Вместо этого он запустил руку в жилетный карман, достал три маленьких черных камешка, поместил их на левую ладонь и минуты три внимательно на них глядел. То были колдовские камни обеа[85].
Вслед за тем Браунригг, широко расставив одетые бриджами кривоватые ноги, поднес к губам палец, смочил слюной каждый из камней и перемешал их в левом кулаке. После он разжал кулак, вернул средний камень в карман и двумя пальцами правой руки резко ткнул в оставшиеся камни. Камни выскочили из его руки в противоположных направлениях; Браунригг эти направления отметил и подобрал с земли камни.
И только тогда он отправился в погоню. Он бросился к дому и поднял тревогу. Через десять минут два отряда преследователей помчались туда, куда указали камни, и меньше чем через час Брамс и Джесс были надежно заперты в подвале. Может, поймали их случайно, или благодаря колдовским камням Браунригга; я этого, понятно, не знаю – просто излагаю факты.
Если кого из смертных и надо было жалеть в тот день, то Брамса и Джесс. Я говорю именно «в тот день» в отличие от всех прочих дней, ибо в тот день в Браунригге кипела злоба целого десятка дьяволов. Сейчас объясню, почему. Возможно, вам известно, что во время уборки хлопка бывают три особых дня (иногда четыре или даже пять, но обычно три); в такие дни очень важно, чтобы солнце светило ярко и непрерывно, на небе не появлялось ни облачка и не выпадало ни капли дождя. Облака означают потерю денег, дождь – катастрофу: только что собранный сырец в это время нуждается в солнечном жаре, чтобы, как говорится, «дозреть». Так вот, тот день, когда Брамс и Джесс бежали и были пойманы, как раз и был вторым из трех важнейших дней того года, а солнце светило не то что бы хорошо, и Браунригг на него сердился.
Вам может показаться, что солнце и в грош не ставило ярость Браунригга, но весь Клифтонвилль имел причины в том сомневаться, и не будет преувеличением сказать, что в салунах, на бирже и в лавках заключались сотни пари – спорили, будет солнце светить как полагается или нет, а если нет, прикажет ли ему Браунригг это сделать, и подчинится ли светило в таком случае его приказанию.
Суть в том, что в минувшем году, во время сбора хлопка, солнце как-то после обеда зашло за облако, и многие видели, как Браунригг выкинул нечто невероятное. Стоя посреди поля, он поспешно зарядил винтовку, взвел затвор, приготовился к стрельбе, а затем взял в левую руку свои тяжелые серебряные часы; и три ниггера, которые были поблизости, услышали, как он, задрав голову к солнцу, произнес следующие странные слова: – Даю тебе пять минут!
Прошла минута, вторая, третья, а солнце все еще оставалось за облаком; четыре минуты, а оно все прячется; но вот пять минут истекли и оно показало на голубом небе свое ясное, дышащее жаром лицо.
Клифтонвилль, скажу так, был ничуть не более суеверен, чем любой другой город, и если бы на месте Браунригга оказался любой другой человек, его записали бы в законченные глупцы. Но выходка Браунригга отчего-то никому не показалась глупой. Его считали и вправду дьявольским и ужасным созданием. Было достоверно известно, что он, с зачерненным лицом, принимал участие в ритуалах и полуночных оргиях негритянских последователей обеа где-то в глубинах леса. Весь Клифтонвилль знал об этом. К тому же на крыше дома он выстроил что-то вроде купола, и по ночам там горел свет, и никто не имел ни малейшего понятия, чем занимался там Браунригг – глядел ли на звезды либо вызывал неизвестно кого или что.
Вот почему, как я уже сказал, в Клифтонвилле в тот день люди сделали немало ставок, и весь город так и бурлил; и когда, около двух часов дня, солнце решительно скрылось за пеленой облаков и, похоже, собралось остаться там надолго, погрузив землю в тень, на всех дорогах и тропинках близ плантации Браунригга по двое, трое, а то и группами в пять-десять человек начали появляться зеваки, которые с невинным видом подбирались все ближе, чтобы поглазеть на зрелище.
В тот час Браунригг находился вместе с беглецами в мерзкой яме – и больше никого в подвале не было. Он связал их вместе многочисленными витками канатов, впивавшихся в кожу, и уложил их на земляной пол с протянутыми руками. У его ног стояли два ведра с кипящей водой, на поверхности которой все еще лопались пузыри, а в руке он держал винтовку. – Эй вы, юные ниггеры! – только и сказал он.
Тремя струями он вылил на оба тела содержимое одного из ведер, и связанная масса заполнила карцер воплями и принялась кататься по полу в судорожных корчах. Затем он поставил ведро, достал из жилетного кармана один из колдовских камней, плюнул на него, бросил камень во второе ведро и громко произнес: – Отдаю жизни этих двух молодых ниггеров за хороший урожай. Когда вода остынет, пусть они умрут, Бам, пусть умрут, о Бам.
После этого Браунригг вскинул винтовку к плечу и прицелился. Убивать он вовсе не собирался, ибо какое-то правосудие в делах рабовладения все же существовало, а его и так слишком часто подозревали в убийстве. Однако же он прицелился; стрелял он метко и, хотя в подвале было темно, мог рассмотреть цель. Он выбирал мясистые части тихо стонавших тел.
Он пронзил пулей плечо Брамса; минута, затем – бах! – бедро Джесс; еще минута, и – бабах! – попал непонятно куда, потому что при третьем выстреле винтовка угостила его такой сильной отдачей в плечо, что он отшатнулся. Удара он не ждал. Он поморщился. – Что это случилось с доброй старой винтовкой? – пробормотал он.
Он покосился на ведро с камнем, надел ремень винтовки на плечо и поднялся по ступеням. Свет упал на его отвратительное, искаженное яростью лицо.
И первым делом он увидел, что солнце светит совсем не так, как надо.
Он тут же поспешил по тропе на плантацию, оглядел ее мрачным взором и заметил, должно быть, что все дорожки и заросли полны людей из Клифтонвилля. Но он не обратил на них никакого внимания. Повсюду трудились надсмотрщики и ниггеры – везде, да только в тени, ведь солнце скрывалось за облаком.
Каждую минуту Браунригг терял семьдесят пять долларов.
Все взгляды были обращены на Браунригга. Вокруг перешептывались. Ставки росли до небес. Браунригг, казалось, ничего не сознавал.
Внезапно он дернулся. Потянулся левой рукой к жилетному карману.
Это послужило сигналом для толпы; по тропинкам или напрямик через поля, все они приблизились, держась, однако, на почтительном расстоянии.
Рядом с Браунриггом имелся камень. Он положил на него свои часы вместе с кожаным ремешком, которым они крепились к жилетке. Часы Браунригг разместил циферблатом вверх, прямо перед глазами, вскинул к плечу винтовку и с дьявольской злобой на лице прицелился в солнце.
Проделывая все это, он произнес такие слова: – Три минуты – даю тебе три.
Его слова услышал один из зрителей, оказавшийся в тот миг близко от Браунригга. И зритель, прижав мизинец большим пальцем, высоко поднял за спиной Браунригга три пальца, показывая толпе, как обстоят дела.
Мгновенно сотни рук выхватили из карманов сотни часов и положили их на сотни ладоней. Прошла минута. Теперь не раздавалось ни звука, лишь ветер шелестел в листьях хлопка; каждый чувствовал глухое биение сердца в груди.
Миновала вторая минута. Солнце, как и раньше, прячется за облаками, Браунригг твердо держит его на мушке. Каждые пять-шесть секунд он бросает взгляд на часы. В толпе зрителей едва ли найдешь лицо, не залитое мертвенной бледностью волнения.
Внезапно толпа начинает шевелиться – все вне себя от удивления! Солнце в полном порядке – вон там, наверху, какие-то перемены, движение – облака расходятся, как толпа пред Королем! А вот выступает и он – в победоносном сиянии – и мир плавится в его жаре.
Крик огласил поля и тропинки. Браунригг, как заметили некоторые, кивнул головой, словно говоря: «Что ж, тем лучше для тебя!» До исхода отведенных им трех минут оставалось пятнадцать секунд.
Следующие пять минут толпа взволнованно переговаривалась. Выплачивались выигрыши по ставкам, слышались отрывистые замечания, вдалеке кое-кто уже поворачивал к Клифтонвиллю. Вполне можно было ожидать, что в салунах в тот день будет весело, так как из рук в руки перешли довольно значительные суммы.
Браунригг вернул часы в карман. Он о чем-то говорил с подошедшим надсмотрщиком. Не прерывая разговор, он взмахнул рукой, и его длинный кнут воловьей кожи хлестнул по голым ногам негра, который очутился слишком близко.
Тотчас возвращавшиеся уже в город зеваки остановились и, громко крича, бегом бросились назад. С необычайной внезапностью солнце скрылось в облаке, и мир окутала тень.
Напряженность ожидания достигла предела. Новый поворот событий вдесятеро увеличил аппетиты любителей пари; но, сказать по правде, никто не успел сделать и ставки, поскольку Браунригг не оставил зрителям времени. В ужасающем гневе он вытащил из кармана часы, швырнул их на камень, схватил винтовку и вздернул дуло в небо.
Прилежный наблюдатель, по-прежнему остававшийся рядом, прижал большим пальцем мизинец и безымянный и высоко поднял два пальца за спиной Браунригга, показывая их толпе. Браунригг успел уже сказать: – Две минуты – даю тебе две.
И вновь сотни часов легли на сотни ладоней. Минута пролетела в молчании.
Должно быть, именно в это время, как утверждали впоследствии горожане, израненный негр Брамс пополз вперед по земляному полу темницы, волоча за собой подругу по несчастью. Он слышал произнесенное Браунриггом проклятие, видел, как колдовской камень упал в кипящую воду. Одним толчком он перевернул ведро и сжал камень в руке. Так он рассказывал позднее.
Какая бы доля истины ни содержалась в словах чернокожего, факт остается фактом: Браунинг стоял, целясь из винтовки в солнце, прошла минута, и солнце продолжало прятаться.
На сей раз – упрямо. Полторы минуты; никто не осмеливался даже вздохнуть; благоговейный страх сжал сердца; в замершем воздухе ощущалось нечто торжественное. Ветер стих, словно и он, затаив дыхание, следил за этим святотатством.
Затем – наконец – с дрожью ужаса все поняли, что две минуты истекли. Солнце продолжало оставаться лишь размытым пятном в вышине.
Бах! Браунригг выстрелил.
Он растворился. Он испарился. Никто не мог такого ожидать. Сказать, что винтовка выстрелила и отправила его прямиком в вечность – значит мягко выразиться: он исчез. Винтовка, Браунригг и часы были стерты с лица земли. Люди из Клифтонвилля говорили, что от него не осталось и следа – что его без остатка поглотил гнев небес. Это преувеличение – но умеренное. Кое-какие следы были все-таки найдены – однако на удивление малочисленные. Я просто излагаю факты.
***
Издательство выражает благодарность С. Т. Джоши, А. Гулетту, а также А. Тарнавскому и Ю. Лукачу за помощь в работе на книгой.
Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.
SALAMANDRA P.V.V.
Примечания
1
Рассказ вошел в сборник «The Pale Ape and Other Pulses» (1911). Пер. А. Шермана
(обратно)2
От Господа направляются шаги человека... – Притч. 20:24.
(обратно)3
...Хорсабада – Хорсабад – селение и городище в 50 км к северу от г. Мосул (Ирак), остатки ассирийского города Дур-Шаррукин. В 1843 г. французский археолог П. Э. Ботта открыл здесь дворец царя Саргона II, что положило начало ассириологии.
(обратно)4
...Эреб – в греческой мифологии олицетворение мрака, порождение Хаоса.
(обратно)5
...Радаманта – в греческой мифологии Радамант – сын Зевса и Европы, критский законодатель и братоубийца; после смерти стал одним из судей в загробном мире (Аиде).
(обратно)6
Рассказ «Xélucha» вошел в сборник «Shapes in the Fire» (1896). Пер. А. Шермана
(обратно)7
Тотчас он пошел за нею... и не знает... – Притч. 7:22-23. Цитируется рассказ о блуднице и следующем за нею юноше: «Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как пес – на цепь, и как олень – на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они – на погибель ее».
(обратно)8
...petit mal – легкий приступ эпилепсии (фр.).
(обратно)9
«Гробницы, черви, эпитафии»... – Искаж. цитата из «Ричарда II» Шекспира: «Let's talk of graves, of worms, and epitaphs».
(обратно)10
...détraqués – Здесь: люди испорченные, извращенные (фр.).
(обратно)11
...Хамоса! и Ваал-Фегора – Хамос, Ваал-Фегор – упоминаемые в Библии божества моавитян, поклонение которым связывалось с мерзкими и нечестивыми обрядами; в христианской демонологии Ваал-Фегор превратился впоследствии в демона Бельфегора.
(обратно)12
...бдолах – ароматическая смола (ивр.); в Библии этот термин встречается в значении драгоценного камня.
(обратно)13
... Здесь Люси Хилл пронзила сердце Какафого...принцесса Эгла... – Ряд намеков и аллюзий, понятных лишь автору и немногим посвященным. Люси Хилл – литературная дама, дочь издателя писем Д. Г. Россетти Джорджа Хилла; Какафого – персонаж пьесы английских драматургов XVII в. Ф. Бомонта и Д. Флетчера «Женись и управляй женой»; принцесса Эгла – героиня поэмы «Зофиэль» американской поэтессы М. Брукс (1794-1845).
(обратно)14
... elle dérangera l’Enfer! – Здесь: Она растормошит сам Ад! (фр.).
(обратно)15
...Тофет – в Библии место в Иерусалиме, где идолопоклонники приносили детей в жертву Молоху и Ваалу; в переносном значении ад, преисподняя.
(обратно)16
...pas de tarantule – Здесь: коленца тарантеллы (фр.).
(обратно)17
...manat rara meas lacrima per genas! – Букв. «редкая слеза стекает по моим щекам» (лат.). Цитируются «Оды» Горация, IV:1.
(обратно)18
...Фаргелия ...Аспазия ...Семирамида – Перечислены знаменитые женщины древности: ионийская куртизанка Фаргелия, афинская гетера и любовница Перикла Аспазия (ок. 470-400 до н. э), легендарная царица Ассирии Семирамида.
(обратно)19
...savants – Здесь: искусницы, умелицы (фр.).
(обратно)20
Tararе... – Хм, гм (фр.).
(обратно)21
...созвездием на небо, подобно дочери Леды – Герой Шила контаминирует образ дочери Леды – Елены Прекрасной – с ее братьями, близнецами-Диоскурами Кастором и Полидевком; как считали греки, они были помещены на небо в виде созвездия Близнецов.
(обратно)22
«Среди пути, на степи Сериканы...» – цит. из «Потерянного рая» Д. Мильтона (1608-1674); нами использован пер. А. Штейнберга.
(обратно)23
Ourania Hierarchia ... – «Небесная иерархия» (лат.). Очевидно, намек на трактат «О небесной иерархии» Псевдо-Дионисия Ареопагита (V-VI в.)
(обратно)24
...прахом яблок Содомских – Привлекательные на вид «содомские яблоки» в руках сорвавшего, согласно «Иудейской войне» И. Флавия, превращались «в прах и золу» (IV, 8:4). Широко ассоциируются с плодами растения Calotropis procera.
(обратно)25
...Никс – также Нюкта, древнегреческое божество, персонификация ночи.
(обратно)26
... grotesquerie – гротескность (фр.).
(обратно)27
...Буффо – Здесь в значении «площадной шут» (ср. буффонада).
(обратно)28
...bon camarade – Добрый товарищ, подруга (фр.).
(обратно)29
...«Цветов Сиона» старины Драммонда – Речь идет о сборнике стихотворений шотландского поэта Вильяма Драммонда из Готорндена (1585-1649).
(обратно)30
...fille – Здесь: уличная девка (фр.).
(обратно)31
Не заслоняй мне остаток света, Диогена ради! – По легенде, на обращение Александра Великого «Проси у меня, чего хочешь», древнегреческий философ Диоген ответил: «Не заслоняй мне солнца».
(обратно)32
...«Испанского курата» – «Испанский курат» – комедия Д. Флетчера и Ф. Мессингера (1622).
(обратно)33
...petite – маленькая, миниатюрная (фр.).
(обратно)34
...Кjökkenmöddings – Кьёкккенмединги или т. наз. «кухонные кучи» (букв. «кухонные свалки», дат.), скопления раковин моллюсков, костей рыб и животных и пр. пищевых отбросов на некоторых прибрежных стоянках первобытных людей эпохи мезолита и неолита.
(обратно)35
...Пеана – Пеан (Пайеон) —врач богов в греческой мифологии.
(обратно)36
Кидаться в силки... — Здесь автор возвращает читателя к эпиграфу из Притч. 7.
(обратно)37
...Мара – в скандинавской мифологии злой дух, насылающий кошмары и иллюзии.
(обратно)38
...и были там жилища смерти – Притч. 7:27: «Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти».
(обратно)39
...иду долиной смертной тени – Парафраз Пс. 22(23):4.
(обратно)40
...Бегемота – Бегемот – сухопутное чудовище библейской книги Иова, олицетворение Божественного могущества, позднее – один из демонов христианской демонологии.
(обратно)41
Рассказ вошел в сборник «Shapes in the Fire» (1896). Позднее публиковался в сборнике «The Pale Ape and Other Pulses» (1911) в сокращенном и переделанном виде под названием «The House of Sounds». Пер. А. Миниса
(обратно)42
E caddi come l'uom cui sonno piglia – «И я упал, как тот, кто схвачен сном». Данте, «Божественная комедия», «Ад», финал песни III (пер. М. Лозинского).
(обратно)43
...feuille — листок, газета (фр.).
(обратно)44
...оксиэкойя – также гиперакузия, болезненная чувствительность к слышимым звукам, иногда наблюдаемая при поражении или параличе лицевого нерва.
(обратно)45
...диплакузию – Диплакузия — расстройство слуха, при котором один и тот же тон воспринимается правым и левым ухом по-разному. Здесь имеется в виду то, что Творец слушает одновременно идеальный и материальный миры.
(обратно)46
...ménage – Здесь: проживание (фр.).
(обратно)47
...séance – Здесь: спиритический сеанс (фр.).
(обратно)48
...полыни и эфирных масел — Имеется в виду абсент, крепкая полынная настойка, обладавшая наркотическим эффектом, излюбленный напиток французской богемы.
(обратно)49
...soirée — суаре, званый вечер (фр.).
(обратно)50
...Зетландии – Зетландия — устаревшее название Шетландских островов.
(обратно)51
...helix – завиток ушной раковины (лат.).
(обратно)52
...клипеус и пельта – Клипеус (аспис) — щит древнегреческой тяжелой пехоты (гоплитов), пельта — щит легкой пехоты (пельтастов).
(обратно)53
...Сумбург-Хед – скала на южной оконечности острова Мейнленд Шетландского архипелага.
(обратно)54
...сиксерна – Сиксерн — рыбачья лодка, традиционно используемая на Шетландских островах.
(обратно)55
...по-киммерийски суровым – Киммерийцы — древние племена, населявшие Северное Причерноморье в VIII-VII вв. до н. э. В гомеровской традиции считались выходцами из северной страны, где царит вечная тьма.
(обратно)56
...грюлях – В шетландском фольклоре грюли – ужасные существа неопределенной формы, способные спускаться по дымоходам и похищать непослушных детей. По мнению фольклористов, они ведут свое происхождение от Грилы, страшной старухивеликанши исландской мифологии и легенд. C. 47. ...барбаканам – Барбакан – навесная крепостная башня.
(обратно)57
...пролог «Гекубы» – Трагедия Еврипида «Гекуба» начинается словами тени Полидора, злодейски убитого сына Гекубы: «Хранилище усопших и врата / Аидовы покинул я, которых / Чуждаются и боги» (пер. И. Анненского).
(обратно)58
...Хорив – Хорив или Синай – гора в Аравийской пустыне, точное местонахождение неизвестно. Близ этой горы было явление Божие Моисею в купине неопалимой (Исх. 3-4); здесь Моисей ударом жезла источил воду из скалы (Исх. 17:6); здесь же Господь дал Моисею Десять заповедей.
(обратно)59
...ривлины – старинная шотландская обувь из кожи с тонкой подошвой, напоминающая мокасины.
(обратно)60
...мореске – Мореска – преимущественно итальянский танец эпохи Возрождения, гротескно представлявший «мавров», обязательный атрибут шествий и карнавалов; танцоры часто прикрепляли к одежде бубенцы или колокольчики.
(обратно)61
... levées – Здесь: пробуждения (фр.).
(обратно)62
...гиперпиретической лихорадки – т.е. лихорадки, характеризующейся чрезмерно высокой температурой тела.
(обратно)63
...Paracusis Willisii – паракузис Веллизия (от греч. parakousis, дефект слуха), феномен улучшения слуха у тугоухих больных в условиях внешнего шума и сотрясения.
(обратно)64
Подобные случаи изучены или, по крайней мере, доступны пониманию любого медика. Поражение нервов у глухих может быть причиной усилившейся чувствительности. При значительных повреждениях, предела такого усиления чувствительности не существует (Прим. авт.)
(обратно)65
...tinnitus – тиннитус (от лат. tinnīre, «звенеть подобно колокольчику»), шум или звон в ушах.
(обратно)66
...имплювий римского атриума – т.е. четырехугольный открытый бассейн во внутреннем дворе древнеримского дома.
(обратно)67
...всеведающему карлику – Рассказчик подразумевает, очевидно, Альвиса (букв. «всеведающий», др. исл.), карлика из скандинавской мифологии, который согласно «Старшей Эдде» сватался к дочери бога Тора и в беседе с последним описал мир на языке богов, людей и обитателей подземного царства.
(обратно)68
...змееподобные динотерии – Громадные динотерии, вымершие представители семейства Deinotheriidae, никак не походили на змей; возможно, автору напомнили о змеях их хоботы.
(обратно)69
...picaresque – нечто плутовское, авантюрное, забавное (фр.).
(обратно)70
...«Пройдоха» ...Хейквилла – Речь идет о романе испанского писателя и поэта Ф. де Кеведо (1580-1645) «История жизни пройдохи по имени Дон Паблос, пример бродяг и зерцало мошенников», астрономических трудах датского астронома и астролога Тихо Браге (1546-1601) и написанном в 1627 г. сочинении английского священника и духовного писателя Д. Хейквилла (1578-1649).
(обратно)71
«Sapientia... repetitits» – ««Мудрость, в итоге, дает советы, коими возможно стяжать долгожительство – сода, опиум, многократно повторяемые очищения...» (лат.). Эту цитату из примечания швейцарского анатома и физиолога А. фон Галлера (1708- ) к сочинениям знаменитого нидерландского врача XVIII в. Г. Бургаве автор почерпнул из предисловия к вышедшему в середине XIX в. собранию философских трудов английского философа, ученого и государственного деятеля Ф. Бэкона (1561-1626).
(обратно)72
...Дхаммапады... Бэкона – Упомянуты, соответственно, одно из центральных произведений буддийской литературы (ок. III в. до н.э.), энциклопедия швейцарского врача и гуманиста Т. Цвингера (1533-1588) «Театр человеческой жизни» (1565) и сочинение Ф. Бэкона «История жизни и смерти» (1623).
(обратно)73
...барона Верулама – Ф. Бэкона, носившего этот специально созданный для него титул.
(обратно)74
...ataxie locomotrice – локомоторная атаксия (спинная сухотка), сифилитическое заболевание нервной системы.
(обратно)75
...плачу иудеев в Раме – Цитируется Иер. 31:15 («Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание»); в гор. Раме, по Библии, были собраны пленные иудеи перед переселением их в Вавилон.
(обратно)76
...посреди великого запустения – «И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле» (Ис. 6:12).
(обратно)77
...средь сынов противления – См. Кол. 3:6.
(обратно)78
...«как тот, кого объемлет сон» – Отсылка к эпиграфу из Данте (см. прим. к с. 38).
(обратно)79
...Источники самой Великой Бездны – Цитируется библейское описание всемирного потопа в Быт. 7:11 («В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились»).
(обратно)80
...чудесный Рефидим – Это географическое название использовано как олицетворение чудесного спасения. В Библии Рефидим – местность близ Хорива (см. прим. к с. 70), где Моисей ударом жезла извлек воду и скалы (Исх. 17:1-6) и тем самым спас свой народ от жажды. У Шила грозная водная стихия в конце концов спасает жизнь и разум рассказчика.
(обратно)81
Рассказ был напечатан в мае 1914 г. в «The Red Magazine»; под названием «The Place of Pain Day» вошел в сборник «The Invisible Voices» (1935). Пер. Б. Лисицына
(обратно)82
...Ah, monsieur, ça va bien? – А, месье, как поживаете? (фр.).
(обратно)83
Рассказ был опубликован в «Pictorial Magazine» в октябре 1903 г. Пер. А. Шермана
(обратно)84
...марон – Здесь: потомок выходцев из сообщества беглых негров.
(обратно)85
...обеа – Система колдовства, народной магии и религиозных верований, изначально зародившаяся в Западной Африке; благодаря работорговле распространилась в бассейне Карибского моря и США.
(обратно)
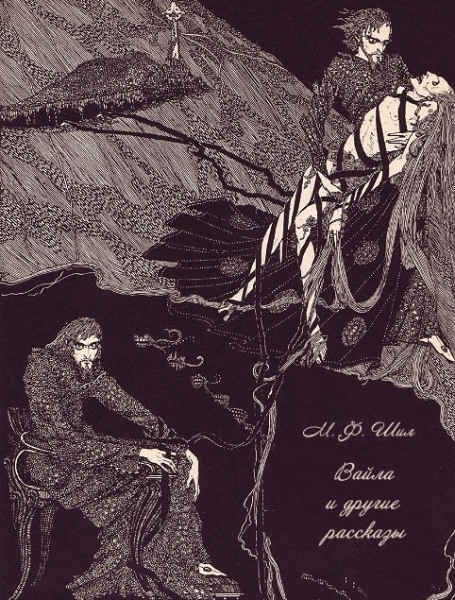



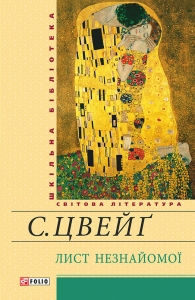
Комментарии к книге «Вайла и другие рассказы», Мэтью Фиппс Шил
Всего 0 комментариев