Асорин ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Н. Малиновская МАСТЕР ТИШИНЫ
Уже глубоким стариком, по просьбе друга Асорин написал короткий сценарий — автопортрет, так и не пригодившийся кинематографистам. Просто убранная комната со сводчатым потолком, похожая на келью, книги, книги и книги; распахнутое окно. В окне — даль, холмы, колокольня, белые облака. На некрашеном сосновом столе желтая роза в расписном кувшине, белый лист, песочные часы. Издалека, затихая, доносится «Dies irae»[1]. И ни единого слова. Режиссер, имевший намерение снять короткометражку из серии «Жизнь замечательных испанцев», опешил: «Это же натюрморт, а не портрет!» И услышал в ответ: «Поверьте, здесь сказано все, что нужно. Абсолютно все…»
8 июня 1873 года в тихом городке южной Испании, в Моноваре, на Тюремной улице, где никогда, однако, не было тюрьмы, в семье алькальда родился первенец — его назвали Хосе Аугусто Тринидад Мартинес Руис. Звучно для русского слуха, но для испанского заурядно, и потому Хосе переберет с десяток вычурных псевдонимов, пока не найдет короткое, разящее и насмешливое АСОРИН («Ястребок»). Несолидно для тридцатилетнего автора двух десятков книг? Но зато без претензий: Асорин — обычная фамилия в Леванте и особенно на родине матери, в Моноваре, «синем, античном городе детства».
Хосе, голубоглазый и светловолосый, походил на мать не только внешне. От нее он унаследовал ясный, созерцательный склад души, деликатность, сдержанность, скрупулезность. До старости он вел тетради, где выписки из книг чередовались с рассуждениями о языке и фразами, услышанными на улице. Прообразом этих тетрадок была упрятанная в шкаф, под ключ, материнская «зеленая тетрадь» с датами не только памятных, но и пустяковых событий, заметками по хозяйству, счетами. Все это мало похоже на дневник и несет печать как индивидуальности, так и скрытности.
Старший из девяти детей, Хосе рос приветливым, но робким и внутренне одиноким. С самого раннего детства у него была своя комната, изначально поименованная «Библиотекой». С книгами ему всегда было легче, чем с людьми, даже родными. Сестра Консуэло вспоминает, как он подсовывал под дверь ее комнаты записку: «Сыграй, пожалуйста, сонату Бетховена». Она играла и шла к двери за следующим лаконичным посланием: «Спасибо». Младшие привыкли к эпистолярному общению и не числили его причудой, зато не упускали случая оповестить мать: «Пепе опять полдня просидел с лупой над муравейником!» — и разделяли недоумение нянек по поводу личных домашних животных брата: три паука Кин, Пик и Рон проживали у него на столе, каждый в своей коробочке со стеклянной крышкой.
Мать уверяла, что к муравьям и паучкам Хосе привязался за время долгой болезни, но, видимо, не только ею обусловлено странное, почти естествоиспытательское любопытство. Мальчика рано заворожил обособленный микромир, не замечаемый людьми, «что само по себе высокомерно и несправедливо». Этому безотчетному выбору — детали, а не панораме, — он будет верен всю жизнь: «Сумеречный, сероватый — вот мой цвет; все приглушенное, сказанное вполголоса, шепотом, — мое. Подробность, к которой надо приглядываться…» А увеличительное стекло, будь то монокль, подзорная труба или лупа, еще станет и атрибутом его облика и писательским инструментом, который понадобится, чтобы разглядеть все переливы серой гаммы, узор листа и сеть прожилок; городок, затерянный в горной глухомани и самого неприметного из его жителей за будничным трудом. «Мне никогда не хотелось стать генералом — в детстве часто мечтают об этом, — меня терзала моя неспособность воплотиться в других, обыкновенных и безвестных людей», — не часто услышишь от писателя такое признание, и еще реже оно бывает правдой. И здесь это правда наполовину — правда Асорина. Человеку Хосе Мартинесу Руису всю жизнь хотелось быть депутатом. (Может быть потому, что Монтень, любимый с первой прочитанной строки, был мэром Бордо.)
Во всем, что написал Асорин, слышится долгое эхо детства: вечерние чтения, одинокие прогулки, сестрино музицирование. Отозвалась и болезнь, всегда многое определяющая в человеке, если выпадает на детство. Всю жизнь длиною почти в столетие Асорин боялся рецидива, лет с сорока блюл диету, по мелким поводам советовался с врачами. Один из докторов назвал своего пациента «парадоксальной разновидностью стоика-неврастеника», а критики сочли его поздний роман «клинически подробной историей болезни», не заметив, как из мелочей, привычных болей, тревог и воспоминаний слагается если не жизнь, то горестное подобие жизни…
Но это — старость, а в детстве отец, человек умный, суровый и властный, счел врачебные визиты семейным баловством (сам он ни единого раза в жизни не обратился к врачу) и положил им конец. Хосе выздоровел («Поневоле!» — шутил отец), но душевной близости между ними не возникло. Наперекор отцу, обладавшему великолепной памятью, Хосе был забывчив, а излюбленным местом его прогулок стали окрестности кладбища, одного вида которого, как и похорон, отец не переносил. И яростный атеизм молодого журналиста, изумлявший даже друзей, и его пристрастие к анархизму тоже уходят корнями в давний внутренний спор с отцом, консерватором по убеждениям и душевному складу, сочетавшим страсть к философии с непреклонным католицизмом.
Восьми лет Хосе был отдан в колледж при монастыре — и не дома, а в другом городе, где жили родные отца. Суровый монастырский распорядок: молитвы, уроки, трапезы, прогулки под надзором, холодные спальни, унылая форменная одежда. И потаенные радости — окно, за которым зеленела долина, потрепанная книжечка (которую могут отнять!), заветная тетрадка, пластина домашнего мармелада… Монотонная тюремная жизнь сроком почти в восемь лет. Но тюрьма не кончалась стенами монастыря. Весь этот сумрачный, отделенный от мира горами город с гудящими колоколами, со старухами в черном, сновавшими из дома в церковь, из церкви на кладбище, сам казался могилой. И все же об этом городе Асорин скажет: «Екла вылепила мою душу». Не Моновар, а Екла — «места немилые, хотя родные» — войдет в его книги и под своим именем, и безымянной. Здесь он утвердился в том, что поддерживало его и в старости: «Суть в нашей внутренней, душевной жизни — только она дает силы превозмогать жизнь обыденную, дает силы мыслить, творить».
Шестнадцати лет, сменив колледж на валенсийский университет, Хосе вырвался на волю. Не помышляя об адвокатской карьере, он поступил на юридический, но учиться не стал, На лекциях появлялся раз в год, на семинарах неизменно отвечал: «Сегодня я не готов — не успел», — и с каменным лицом выслушивал саркастическую реплику: «Можно ли надеяться, что когда-либо вы соблаговолите отвлечься от литературных упражнений, которыми одаряете нашу прессу, и все же займетесь правом?» Первые журналистские опыты Мартинеса Руиса не уступали в витиеватости профессорским тирадам. Поначалу он был многословен, но все искупала пылкость, так не вязавшаяся с его похоронным обликом. Обаяние искренности и серьезности делало его филиппики неотразимыми — их пересказывали друг другу те же профессора, не говоря уже о студентах. И если в колледже был отец Ласальде — ученый, археолог и просто душевно тонкий и чуткий человек, разбудивший в Хосе интерес к истории, то в Валенсии многое определила встреча с Эдуардо Солером. Фрондер и атеист, приверженец немецкой философии и социологии, он открыл Хосе новые миры и даже подвиг на курсовую работу «Патологическая наследственность в династиях Габсбургов и Бурбонов» (особенно уместную в правление Марии Кристины). За упомянутую работу Хосе получил «отлично» по государственному праву (!), но тем его успехи и исчерпались. Он сменил четыре университета, 14 лет числился студентом разных курсов и ушел без диплома. Такое более никому из испанских писателей (при схожей любви к юриспруденции) не удавалось. А ведь по меньшей мере пять из написанных за те годы книг (и прежде всего «Социологию преступлений») можно было защитить как диссертации, если бы их предваряла справка о высшем образовании — если бы он уступил материнским просьбам и озаботился своим будущим. Но призвание не допускало распыления сил: «Только одно было для меня важно — писать. Посвяти я себя другому делу, несчастнее меня не было бы человека».
Валенсийские газеты охотно печатали его очерки и театральную хронику, однако положение Мартинеса Руиса было непрочным. Разгромная рецензия на пьесу Гальдоса положила конец сотрудничеству с одной газетой, вторая по просьбе читателей, оскорбленных выступлением против института брака, отказалась от услуг «журналиста, для которого нет святынь», и наконец еженедельник, едва ему было предложено нечто вроде манифеста под названием «НЕТ — МОРАЛИ, СОБСТВЕННОСТИ, ЗАКОНУ», вернул рукопись без объяснений.
В 1896 году Мартинес Руис отправляется завоевывать столицу. Первые несколько лет жилось трудно: заработок чисто символический, от случая к случаю, нищета в полном смысле слова — угол на чердаке, продуваемый всеми ветрами, и голодные обмороки, о которых не подозревала далекая, любящая, благочестивая семья. «Кусок хлеба утром и другой такой же кусочек вечером. Больше у меня ничего не было целых двадцать дней подряд… С тех пор я нежно люблю хлеб».
Валенсийский опыт не научил благоразумию — тем же анархическим пылом и буйством сарказма отмечены пробы пера в столице. А на остережения Мартинес Руис ответил публично: «Я было подумал, что в прессу допущено искреннее слово! Да, допущено. Но — вполголоса. Шепотком». (Он и не подозревал тогда, что сумеет перейти на шепот.)
Это годы увлечения Кропоткиным и Бакуниным. Мартинес Руис пишет о них, переводит их труды и разрабатывает свою теорию «литературного анархизма». Эпитет в данном случае совершенно необходим, ибо его книжный анархизм не имеет ничего общего ни с теорией, ни с практикой реального анархизма. В анархистах у него числятся Толстой, Сократ и Лопе де Вега, Платон, Иисус Христос и король Карлос III — за то, что изгнал иезуитов. Короче: «Ты — анархист, если считаешь преступлением все, что ущемляет свободу личности. Ты — анархист, если способствуешь всякому делу справедливости». Эти определения вкупе с категорическим требованием ликвидации частной собственности газета донесла до читателей, но проповедь «естественного права человека на свободную любовь» переполнила чашу редакторского терпения. Мартинес Руис был вынужден распроститься с «Эль Паис» и, не без труда отыскав себе новое место, напечатал статью о другом естественном праве — на свободное творчество, в которой всуе помянул Испанскую академию, «приют для спятивших старичков».
Бичующего пошлость Аримана (таков был один из псевдонимов Мартинеса Руиса) заметили не только оскорбленные литературные столпы. Его оценили и настоящие мастера — Рубен Дарио, Кларин. И, что особенно важно, за бурей, поднятой пока что в окололитературном стакане воды, Кларин разглядел порыв защитить культуру от натиска пошлости и преданную любовь к слову: «Неправда, что для него нет ничего святого. Святое есть. Это — испанский язык». Не только. Но разглядеть Кандида в Аримане (другой излюбленный псевдоним Мартинеса Руиса) сумел лишь ровесник и сподвижник. С первой же встречи Бароху поразила приверженность истине, в которой он ощутил суть натуры Асорина: «Меня изумили его резкость, доброжелательность, независимость, но главное — неукоснительное уважение к правде». Не потому ли, когда кончилось время дебюта и пришла пора взглянуть в глаза опустошающе горькой правде, Асорин оказался среди тех, кто в год национального краха взял на себя ответственность за судьбу родины.
Унамуно, Валье-Инклан, Пио Бароха, Асорин, Антонио Мачадо — поколение 98 года. Их имена и судьбы скрепила национальная катастрофа — позорное военное поражение и потеря последних колоний. Страна испытала шок и, как дурному сну, ужаснулась недавнему прошлому — веренице фантомов и марионеток у власти и мишуре коррид, опереток с хабанерами и карнавальных забав. Треск выстрелов оборвал оглушительные кастаньеты — столько их было, солдат, погибших задешево, на другом краю земли… На месте мировой державы, властительницы морей и заокеанских сказочных россыпей, торчал трухлявый колосс, пугало, рядившееся в истлевший бархат, но возведенный в ранг государственной идеологии миф о великой Испании еще грел сердца и дурманил умы.
Именно в расчете на миф правительство объявило: «Мы потеряли колонии, но честь Испании спасена!» — и едва ли не в первый раз демагогия не оправдала надежд. Тесня ее, на газетные полосы хлынула новая публицистика — шок приоткрыл цензурные шлюзы. И — странное дело! — оказалось, что Испания не оскудела умом, не разучилась писать хорошо, пылко и с толком (о чем уже лет тридцать и не мечтали). Не только столичные газеты, но и провинциальные листки конца века впечатляют всплеском талантливости. Это заговорило поколение. В итоге из него запомнят пять главных, уже названных имен, но будь их только пятеро — без хора, без тех, кто ловил и обсуждал каждое слово, не всколыхнулось бы общественное сознание. Да и сами они, не будь такого резонанса, не стали бы тем, кем стали. Их услышали — и они заговорили о главном. Каждый из них мог повторить вслед за Унамуно: «У меня болит Испания».
В военном поражении поколение 98 года увидело закономерное следствие государственного устройства, приведшего страну к полному краху: военному, хозяйственному, политическому. И они пятеро первые сказали открытым текстом, что страна тяжело больна, гибнет, почти при смерти. Каждый нашел свое слово для неутешительного диагноза: абулия, духовный паралич, маразм, медленное самоубийство. В их статьях тех лет подробная и точная, без эвфемизмов, история болезни: «Спала пелена, и развернулся свиток наших убожеств. Чего нам только недоставало! Школ, законодательства, воды, национального дохода, совести, трудолюбия, азарта…» — свидетельствует Рамиро де Маэсту. «Мы — самая отсталая страна Европы, — продолжает Асорин, — нам жужжат в уши о наших неотъемлемых правах и свободах, ежечасно попирая их без зазрения совести. Свобода совести, печати, слова — у нас это фикция, пустой звук… Страну душит военщина, клубится казарменный угар, катит мутная волна религиозного дурмана. А как иначе? Сорок миллионов мы тратим на нужды культа и семь миллионов на образование и еще удивляемся, что учителя умственно недоразвиты, а профессора страдают размягчением мозгов! Да и как не страдать, если и сегодня действует декрет от 26 февраля 1875 года, предписывающий преподавателям представлять тексты лекций в известное учреждение для „изъятия всего, что может быть неверно истолковано и возбудить противоречащие нашим идеалам, морали и религии мысли“? Только скудоумие просочится сквозь это сито. А гордость нашей науки — Хинер де лос Риос и Гумерсиндо де Аскарате, — отбыв срок, лишились права преподавать… Ни единой искренней, свежей, молодой мысли. Политик у нас если не вор, так подлец, а не подлец, так убийца. Журналисты наши изолгались сверх предела, насквозь фальшивы поэты, ничуть не лучше пустопорожние наши драматурги, но, кажется, хуже всех живописцы с их глянцевыми полотнами высотой в три человеческих роста на темы славных национальных эпизодов… И я не знаю, что омерзительнее — оголтелая разнузданность тех, кто правит, или всеобщая рабская покорность…»
Впору извиниться за длинную цитату, но рука не поднялась оборвать. Таким — негодующим и пламенным, без экивоков, без аккуратно замощенных путей к отступлению — Асорина запомнили друзья юности. Но не последующие поколения, не читатели послевоенной Испании, ибо он сам сделал все для того, чтобы вычеркнуть из своей жизни эти страницы и годы. (Ни много ни мало — десять лет, десять книг, более двухсот статей.) В предисловии к собранию сочинений, первый том которого вышел в 1947 году, Асорин помянул о своей ранней публицистике вскользь, как о «сумбурных, не стоящих внимания грехах молодости», и — в который уже раз — заверил, что лоялен, что примирился с церковью и чтит государственные устои… Своя рука порой безжалостней цензуры. В итоге многое утрачено (правда, и до того, как Асорин научился осторожничать, он не заводил архива), но все же в газетных подшивках кое-что удалось найти, и в последние годы появились книги, составленные из статей тех лет. В наше издание публицистика Асорина не вошла, но тем необходимее цитата: нельзя в полной мере ощутить драматизм судьбы Асорина, не зная, каким он был в начале века.
Сейчас трудно себе представить, как свежо и дерзко прозвучал тогда голос Мартинеса Руиса, но, может быть, открытое письмо Кампоамора — испанского поэта, академика, лауреата всех государственных премий, депутата и орденоносца, расставит точки над i. Совсем не детскими шалостями счел он выступления Асорина, если потребовал «применить самые строгие меры пресечения вплоть до судебного преследования, тюремного заключения и высылки к тем, кто хочет заменить государство анархией, семью — свободным союзом без божественных уз, религию — бесхребетным пантеизмом, искусство, отражающее действительность, — беспредметным хаосом».
В своем отношении к современной Испании поколение 98 года было единодушно: «Нас сплотила ненависть к эпохе Реставрации, ее духу, букве и сути». Но и отпор со стороны официозной литературы был силен. По тогда уже старой доброй традиции их объявили «врагами отечества, посягнувшими на святая святых — наши исконные ценности и честь нации». Один из писателей, чье имя по справедливости скоропостижно кануло в Лету, всю свою речь при вступлении в Академию в 1898 году посвятил разоблачению «вредоносной позиции, занятой длинногривыми сторонниками литературного космополитизма». Какая горькая ирония: в недостатке патриотизма обвинили тех, кому испанская словесность обязана новым открытием Испании… Они не удостоили Академию ответом, и только Асорин чуть позже повторил слова неведомого ему и никогда не читанного Чаадаева: «Я не могу любить родину с завязанными глазами…»
Для них обличение не было самоцелью, и, когда негодованию дали выплеснуться, когда они выговорились и задумались о будущем, Испания предстала проблемой, ждущей решения. «Мы, дети оскорбленной национальной гордости, искали единственного, точного слова, чтобы определить наше убожество, — писал Маэсту. „Нет человека“, — сказал Коста, „Нет воли“, — сказал Асорин, „Нет доброты“, — сказал Бенавенте, „Нет идеала“, — сказал Бароха, „Нет веры“, — сказал Унамуно, „Нет героизма“, — сказал было я, но спохватился: „Нет денег!“ и поправился: „Нет единства“. Наши слова сталкивались, падали, иные больше не поднимались. А мы то горевали о бесславной нашей родине, то оплакивали ее честь, то грезили о силе, о развитом хозяйстве… Того, единственного слова, мы не нашли». Согласные в диагнозе и в том, что лечение должно быть срочным, а лекарства сильнодействующими, они разошлись в определении причин болезни и, следовательно, в рецептах. Но суть сделанного поколением не в утопических путях спасения — нравственном, эстетическом, идейном. Они не верили в чудодейственные средства, вроде изобретенной деревенским самородком из «Воли» управляемой летучей динамитной шашки, способной без проволочек вернуть Испании былое могущество, и, рассуждая о будущем, не раз обращали к себе иронию Унамуно: «Всякий раз, когда у нас поговаривают о Программе, я трепещу. Если же печь заходит о претворении Программы в жизнь — спасайся кто может!» Не только неверие в навязанные сверху прожекты отвращало их от политической деятельности. Убежденные защитники личностного начала, они инстинктивно сторонились игры на темных инстинктах толпы, которой оборачивалась политика. И надежду возлагали не на смену караула у кормила власти, а на саму Испанию, на народ, который «молчит, молится и платит», — неведомый народ.
Переоценку испанских ценностей поколение 98 года начало с национальной истории. Оставив в стороне ее поверхностный слой — коронации, смены кабинетов, шелест верительных грамот и грохот пушек и гимнов, — они обратились к исследованию подводных течений национальной жизни, интраистории, по определению Унамуно. Неспешная, неприметная, затаенная сила, равнодушная к ряби на поверхности и не зависимая от нее, косная, но и животворная — такой ее ощутило поколение 98 года. И научилось различать ее приметы, угадывать омуты, пороги и мели. Исследование глубин народного бытия было осознано как неотложная задача литературы.
Очерк трех веков испанской истории, данный Асорином, обнажая корни недавнего краха, смещал слежавшиеся пласты. Звездный (по официальной историографии) час испанской истории знаменовал начало конца: «Удушив местные вольности и выдрав ростки независимой мысли, католические короли отдали страну на откуп инквизиции. И она не обошла никого: ни ученого, склоненного над древним манускриптом, ни естествоиспытателя, ни крещеного еврея-ювелира, ни всякого усомнившегося в чем бы то ни было касательно матери нашей святой церкви… Испания стала великой державой — раем для святош, солдафонов и девок. Три века габсбургского правления мы навязывали миру свой устав, открывали новые земли, проклинали Реформацию — и что же? Обессиленная страна, изнуренная указом об изгнании, войнами и голодом, разваливается на глазах. Бурбоны блистательно завершили дело краха».
Новая версия испанских побед и поражений требовала доказательств, но инструментарий архивиста для интраисторика не годился. Не столичная жизнь — рябь на поверхности — управляла течением народной судьбы, и надо было, оставив парламентскую, газетную, окололитературную возню, своими глазами увидеть стылое небо над кастильским нагорьем, голые скалы, узкую тропу и куст терновника над обрывом, увидеть глаза тех, кому эти пустоши, пашни и рощи привычны, «как нам книги». Так начались для поколения 98 года странствия по Испании.
В начале века один за другим выходят первые романы нового поколения — «Любовь и педагогика» Унамуно, «Сонаты» Валье-Инклана, «Путь к совершенству» Барохи. Чуть позже — «Воля» Асорина, контрастная параллель роману Барохи, итоговая книга эпохи. Так в Испании начался новый роман, предвосхитивший многие из поздних (можно сказать — вчерашних) открытий экспериментального романа. (Частично это объяснимо еще и тем, что литературные теории Хосе Ортеги-и-Гассета, воспринятые европейским авангардом как руководство к действию, создавались под влиянием сделанного поколением.) Однако столь же неоспорима и преемственность: у их открытий мощный, глубокий фундамент. Через голову Гальдоса и его школы поколение 98 года тянется к Ларре, Кеведо и Грасиану, среди чтимых ими имен Фейхоо, Кадальсо, философы французского просвещения; в поле их пристального внимания роман воспитания и все разновидности путевого очерка — от Монтескье, до Стерна и Готье, «сумевшего разглядеть в пейзаже душу». Разбираться в литературных, философских и исторических перекличках, которыми пронизаны романы, бесконечно интересно, но все-таки и сегодня секрет их притягательности в другом: это живые голоса рубежа столетий, исповеди сыновей века — натур страстных, деятельных и безвольных, воспитанных (и отравленных) книгами, равно готовых и бросить вызов и смириться, печальных, ироничных, обманутых и временем и собой.
Таков герой «Воли» Антонио Асорин — сосредоточенная, чистая и слабая душа, жадно впитывающая книжную мудрость; милый, умный, глубоко и тонко чувствующий юноша, не лишенный талантов и честолюбия, способный к состраданию и добрым порывам, но не годный ни к какому делу. Он словно бы и не живет — кажется, жизнь, своя и чужая, без всякого его участия развертывается у него на глазах, а сам он и сторонний наблюдатель и беспомощная марионетка. И губят его не внешние силы, а разрастающееся омертвление души, которому он, истерзанный внутренним разладом, и не сопротивляется. «Беда испанцев не в том, что они не согласны друг с другом. Испанец не согласен сам с собой — вот в чем наш нравственный изъян», — заметил Ортега-и-Гассет в эссе об Асорине. (Позже рефлектирующее — совсем не исключительно испанское — сознание станет предметом исследования экзистенциалистов, но далеко не сразу в Антонио Асорине разглядят предшественника Рокантена.)
Как бы ни был значим в «Воле» герой, роман не сводится к истории его духовных исканий, странствий и краха, прослеженных подробно и беспощадно. Это еще и портрет поколения 98 года — с наставниками и учителями, настольными книгами, манифестами, ночными прогулками, долгими разговорами и букетиками для Ларры.
Портрет документален — и не потому, что в Олаисе узнается Бароха, а в Асорине — сам Мартинес Руис. Едва ли не впервые здесь в ткань романа в полном объеме включены документальные материалы: письмо Толстого редакторам испанского анархистского журнала, речь Мартинеса Руиса, воззвание Троих. И рядом — подробный сценарий пострижения в монахини с репликами хора, партией священника и ремарками. (Недаром Мартинес Руис полгода просидел в Национальной библиотеке над монастырскими уставами и духовными поучениями; даже гравюра с изображением образцовой монахини дотошно списана с натуры — вплоть до тезисов на ленточках.) Документален пролог — скрупулезный отчет о нескончаемом строительстве церкви с перечислением когда, на какие пожертвования и кем начаты работы, сколько кому уплачено, что именно возведено и что тем временем успело рухнуть. Сообщено число поденщиков и даже прозвище одного из них — мальчика, бесследно сгинувшего на стройке. Его незаметной смертью открывается роман. А в эпилоге будет документально засвидетельствована еще одна смерть — духовная смерть Антонио Асорина. Круша последние иллюзии, здесь автор акцентирует документальность, вводя фиктивный документ — три своих письма Барохе, который таким образом входит в роман как реальное лицо, сегодняшний газетный собеседник читателя. Исторически достоверны речи Юсте, Асорина и Ласальде — стенограммы бесед испанской интеллигенции, пересыпанные именами, которые тогда были у всех на слуху, и цитатами из только что переведенных (небрежно и с ошибками) Шопенгауэра, Конта и Ницше, из затверженного в детстве Платона и любимых собеседников — Монтеня и Грасиана.
Будь это портрет в интерьере — вблизи груды беспорядочно читанных книг, — «Воля» осталась бы камерной, головной хроникой эпохи. Но в ней есть другой — и не второстепенный план: Мадрид, Толедо, вереница провинциальных, забытых богом городков, и Екла, цитадель испанской косности, если не символ Испании. Фон, выписанный подробно и скупо, статичен: уже двадцать пятый век строится — и разваливается — храм, четвертое столетие растет смоковница, посаженная Святым Паскуалем. И, кажется, эта широкая, неподвижная панорама нужна затем, чтобы поместить в реальное пространство первый план романа — портрет героя и поколения, данный в лихорадочном (особенно по контрасту с фоном), беспорядочном движении, резкими монтажными стыками. Но не только. Фон «Воли» переносит все происходящее под знак вечности и потому так же необходим роману, как коллективному портрету в «Погребении графа Оргаса» верхняя часть картины.
Поколение 98 года узнало себя в портрете; как ни странно, они — мятежники, проповедники, трибуны — в безволии Антонио Асорина узнали свою болезнь, mal de siecle[2]. Безвременье, в которое выпало жить, отпечаталось и на их душах изначальной, изматывающей усталостью.
Принято считать, что композиция «Воли» намеренно размыта: «Книга безвольна, как ее герой, — пишет один из исследователей, — она дробится на несвязные фрагменты, необязательные эпизоды, а главное — вязнет в нескончаемых разговорах, которые язык не поворачивается назвать философскими, настолько они эклектичны. В книге нет действия — не потому ли, что Асорин не был силен в сюжетосложении?» Не потому. (Поверьте на слово, в рассказах Асорина, которые не вошли в наше издание только по недостатку пространства, есть головокружительно закрученные сюжеты.) Здесь, в романе без действия, без воли, сюжет в привычном понимании слова невозможен. Не будем навязывать писателю отвергнутые им законы. С первых же опытов он шел к роману, «где все переменчиво, зыбко, невнятно — как в жизни, а не расчерчено условными фигурами, как на любом литературном чертеже».
Ему нужно, чтобы книга казалась безвольной. Это читательское впечатление подготовлено музыкально выверенной композицией: у каждой части своя завершенная структура, словно бы не нуждающаяся в продолжении или обрамлении, части соразмерны, контрастны и связаны сложной системой лейтмотивов, смен тональностей, мелодических обращений. Одним из таких перепевов в переложении для двух дуэтов и начинается повествование.
И сегодня «Воля» изумляет своей кинематографичностью: точно отмеренные доли хроники, смонтированные с пейзажными панорамами, проходы от самого дальнего и верхнего плана к медленно укрупняемому общему плану города, улицы, дома, комнаты и, наконец, лица. Лаконичная, точно увиденная деталь, и снова суетливые кадры хроники, пейзаж…
«Волю», отчетливо полемичную по отношению к традиционному роману, конечно, естественнее рассматривать в одном ряду с идеологическими романами поколения 98 года, но и этого определения недостаточно. Ведь здесь нет испытания идеи или идеей, ибо нет выбора — непременного условия романов Унамуно. Суть как раз в неспособности избрать — себя ли, судьбу, мысль. Да и идеи (здесь критик прав) так расплывчаты и разнородны, что не могут удержать на себе роман; авторское же отношение к ним нередко иронично. Это какая-то ненастоящая философия; обращенная в быт, в словоговорение и в итоге подменившая собой жизнь, она чревата не только жизненным крахом, но и «упадком разума» — таков конечный диагноз автора. Но поначалу игра кажется привлекательной и не вызывает протеста у читателя, а героев затягивает. Может быть потому, что философствование, как и ирония, — непременный атрибут эссеистики, особенно дорогой сердцу всякой книжной натуры. Так обнаруживается вторая жанрообразующая составляющая «Воли» — эссе, причем равнозначимая собственно романной. Наверное, только «Воля» — один из первых и наиболее чистых опытов в экспериментальном жанре — полностью отвечает определению «роман-эссе», строго удерживая равновесие: не сбиваясь ни на эссеизацию романа, ни на беллетризацию эссе.
Традиционно романная линия «Воли», история любви Хустины и Асорина, словно бы и не нужна в повествовании, где кипят идеологические страсти. Здесь всякий и каждый по любому поводу разражается монологом, донесенным до нас во всех подробностях, и только влюбленные не говорят ни слова. Мы ничего не знаем об этой любви, хотя даже рушится она на наших глазах — прилюдно, в екланской церкви, бессловесно и бесслезно, в день предательства — Святой четверг. Автор не отступает от своих правил. Ни пояснений, ни осуждений, ни оправданий — только безжалостный монтаж: пока над Хустиной совершают обряд пострижения, Асорин внемлет речам Учителя о жизни членистоногих… Крах этой беспомощной, призрачной любви («бесполой», по злому определению критика) стоит Хустине жизни. Но не только предательство Асорина губит Хустину, не только чужая воля ведет ее в монастырь. Есть какой-то всеобщий, едва угадываемый закон, по которому обречены и Хустина, и Асорин, и Юсте, — закон духовной энтропии, итоговая формула «Воли».
Следующий роман Мартинес Руис назвал именем уже знакомого героя — «Антонио Асорин». Это более камерный и подробный портрет героя с тем же панорамирующим вторым планом — испанским захолустьем, — и тоже в окружении наставников и друзей. Но эти люди, в отличие от героя, нам не знакомы, и судьба его среди них складывается иначе. «Не ждите от романа, — предупреждает автор, — необычайных событий: не будет ни измен, ни погонь, ни убийств». Будет обыденность: провинциальная жизнь, болезни и смерти близких, честолюбивые порывы и апатия, странствия и встреча с той, кого мог бы полюбить и почти полюбил… Не столько духовный, сколько душевный мир раскрывается в «Антонио Асорине», и потому книге отозвался новый круг читателей. Хуан Рамон Хименес писал: «Эта книга глубоко тронула меня тоской и усталостью, растворенными в каждом ее слове. И я родился в таком же сумрачном, печальном городке, спящем мертвым сном. И в мои кости въелась та же злополучная испанская тоска. Не потому ли, дочитав книгу, — что было, то было! — я бросился к окну и раздернул шторы навстречу солнцу. Мне хотелось выбежать из дому, закричать, податься куда глаза глядят, съесть изрядный кусок мяса…»
«Антонио Асорин» — не продолжение «Воли» и не дополнительный эпизод к ней, а еще одна жизнь. На сей раз автор расстается с Асорином в Мадриде, в начале его журналистской карьеры, но с тем же ощущением духовной опустошенности. Две части трилогии — и два равноправных варианта судьбы, не схожие ни в чем, кроме краха.
Ни «Воля», ни второй роман не принесли Мартинесу Руису писательской славы, но журналистская его известность становилась все прочнее. Однако ею он был обязан уже не столько своим театральным хроникам, сколько серии статеек под общим названием «Бредни захудалого философа». Точнее говоря, самому этому философу, которого вскоре спутали с автором, тем более, что сходство имелось. Философ, по всякому поводу делившийся с читателями своими «бреднями», тоже был снобом и щеголем, имел слабость к корриде и хорошему табаку, носил с собой не молитвенник, а томик Ларры, с любого места цитировал Монтеня, Вольтера и Стерна и был столь же убийственно саркастичен, как сам Мартинес Руис. Три атрибута захудалого философа — серебряная табакерка, монокль и красный зонтик запомнились надолго. И если точно известно, что монокль у Мартинеса Руиса имелся, а табакерки не было, то спор о зонтике бушует до сих пор. На мемориальной выставке зонтик занимал целую витрину, однако табличка честно свидетельствовала, что сделан он по случаю юбилея. Одни современники-долгожители уверяют, что видели Мартинеса Руиса с красным зонтиком, другие доказывают, что зонт был, но не красный, третьи полагают, что если зонта и не было, его следовало выдумать. И среди споров как-то затерялось свидетельство брата писателя: он уверяет, что дома, в чулане, ему попадался ободранный культовый зонтик красного цвета — под такими умирающим носили святые дары. Видимо, попадался он и Хосе Мартинесу Руису, поразив воображение и своим плачевным видом, и назначением. Он как нельзя лучше подходил к его черному костюму похоронного фасона, но был воспринят как пощечина общественному вкусу всеми, и в первую очередь служителями церкви.
Два года захудалый философ «разводил мелкую философию на глубоких местах», подытоженную в «Кратком курсе мелкой философии». Однако цикл, задуманный как забавная говорильня, оказался серьезнее, чем предполагал поначалу сам автор. «Фантазии и бредни» прозвучали как последний отзвук и, одновременно, саркастическая реплика — спустя шесть лет — монологам 98 года. Сколько умных, честных, безжалостных и дельных речей, способных, кажется, переменить все, чему нельзя не перемениться, было сказано за эти годы и кануло в пустоту, развеяв последнюю иллюзию поколения — веру в действенную силу слова. Отсюда новые оттенки в обличительных интонациях: «А газеты? Вчерашние, сегодняшние, завтрашние, какую ни возьми — тошно. Но — увольте! Меня словоплетением не прельстишь, я, благодарение богу, какой-никакой, а философ, и потому призываю вас спокойнее относиться к агонии — поговорим о пустяках!»
Свою следующую книгу Мартинес Руис озаглавил: «Исповедь захудалого философа», но читатели не узнали в герое своего собеседника, хотя красный зонт был упомянут в первой же строчке. Собственно, только название связывает книгу с газетным циклом. «Исповедь» оказалась последней частью трилогии об Антонио Асорине. Парадоксальной трилогии — с двумя вариантами судьбы героя в рамках одного повествования, обратным хронологическому ходом времени и резким жанровым сдвигом — от эпической панорамы в первой части к лирической исповеди в третьей. В «Исповеди» все романные составляющие трилогии исчезают. Она держится одной лирической мелодией, но в то же время это искусно сложенная (хотя кажется, что — рассыпанная) мозаика зарисовок в импрессионистской технике, лирических эссе, стихотворений в прозе.
И если в «Воле» стиль писателя еще складывался — с немалым трудом он освобождался от патетики и ораторских интонаций, то в «Исповеди» Мартинес Руис уже нашел себя: короткая, синтаксически простая или, напротив, долгая, однозвучная, с перекличками и повторами фраза; редкие определения, прозрачное, чистое слово, внимательный к неприметным подробностям взгляд. И если в свое время Кларин угадал в Мартинесе Руисе надежду испанской литературы, то после «Исповеди» Дарио назвал его первым мастером: «Слово его, продуманное и скупое, почти всегда звучит под сурдинку, движения сдержанны и классически четки; из красок его сердцу милее всего акварель. Но какая необычайная внутренняя сила таится за всем этим! Властвовать над нею так спокойно и строго, как властвует он, дано немногим. Этот захудалый философ пишет просто, чисто и мощно — на века».
Исследовав два варианта судьбы героя и дважды удостоверившись в крахе, в «Исповеди» Мартинес Руис намерен отыскать его внутренние причины. Зная итог, он начинает с истока, с детства, и останавливает, вглядываясь в каждое, мгновенья, предопределившие судьбу. Но исследовательский замысел растворяется в лирической стихии книги. Дистанция между автором и героем, очевидная в других частях трилогии, исчезает. Антонио Асорин — не просто второе «я» автора, это его «внутренний человек», если воспользоваться выражением Ортеги-и-Гассета, «двойник-дополнение», как придуманные философы Антонио Мачадо.
В «Исповеди» Мартинес Руис отдал своему герою все, что вылепило его душу, — не только любимые книги, но и ночные страхи, заветные тетрадки, изморозь на монастырском окне, распахнутом в промозглое утро, заповедь дяди Антонио и даже любимого деда вкупе с портретом и рукописью. Отдал — и словно заглянул в будущее, которое вдруг показалось своим, — в конец «Воли». Ее беспощадные страницы теперь звучали пророчеством: мятежник, фрондер, анархист Мартинес Руис кончит если не тем же, то так же, как Антонио Асорин. Жестокий итог. Но именно тогда, разглядев тени, отброшенные будущим, Мартинес Руис не отступился от родства и взял себе имя героя. («Доморощенный стоик», — так он иногда шутил на свой счет в кругу близких.)
Хосе Мартинес Руис — отныне Асорин — напишет еще множество прекрасных книг (критики до сих пор спорят, какая из них глубже, отшлифованнее, утонченней), но все же, если на одну чашу весов положить все его собрание сочинений в сто семь томов, а на другую — «Исповедь», чаша склонится под ее тяжестью. «Исповедь» всколыхнула идо сих пор не утихшую волну подражаний, однако только одна книга той же тональности может сравниться с нею по чистоте внутренней мелодии — «Платеро и я» Хименеса.
В начале 1905 года исполнилась давняя мечта Асорина: ему предложила сотрудничество газета «Эль Импарсиаль», независимая, основательная и смелая. Ее редактор Хосе Ортега, отец философа, предложил Асорину по случаю близкого юбилея «Дон Кихота» повторить путь рыцаря Печального образа и дать серию очерков. Газета обеспечила корреспондента мулом и повозкой, а редактор в последнюю минуту — «Чуть не забыл!» — снабдил путешественника револьвером («на всякий случай»).
Верный себе, перед поездкой Асорин проштудировал сотни книг — литературоведческих, исторических и географических. Однако, читая «Путь Дон Кихота», догадаться об этом нельзя. Эрудиция и архив заняли свое место — за кадром. И поначалу кажется, что Асорин пишет именно путевой очерк и занимает его не столько книга и рыцарь, сколько люди, которые встречаются ему — Асорину — сегодня. Их судьбы, привычки и обыденные заботы, их преданная, простодушная любовь к Сервантесу, Дон Кихоту и Санчо. Но таков асориновский путь к Дон Кихоту — он лежит не от достопримечательности к памятнику, а от души здешней горемыки-крестьянки или девушки, которая могла быть невестой Сервантеса, в глубь народной души, связанной тайными нерушимыми узами с рыцарем Печального образа. И еще — в глубь времени. Здесь, в глуши, время так тягуче и длинно, что ощутим лишь его ход, за которым нельзя поспеть, а само время ускользает, все оставляя без перемен. И кажется, не века пролегли между этими странствиями — кажется, только что от постоялого двора, к которому приближается повозка Асорина, отъехал, устремляясь к новым подвигам, Дон Кихот. И та же печаль растворена в воздухе, и та же земля под ногами, и в руках та же — вечная — книга.
Почувствовать — вот первое душевное движение Асорина, когда речь идет о родной литературе. Вслушаться, чем отзовется книга, и ощутить родство. В конечном итоге — вернуть книгу (старинную или недавнюю, великую или просто достойную) живому общению. Свой антиакадемический принцип Асорин сформулирует позже, но в полной мере он ощутим уже в «Пути Дон Кихота». Когда историко-литературная — окололитературная — работа становится самоцелью и набор архивных сведений выдается за итог, рождается только мертвое слово, отравляющее первоисточник. Такая история литературы при всем ее научном антураже лжива, как и официальная историография. Не только история Испании должна быть переосмыслена — нужна интраистория национальной литературы. Первые главы этого совместного труда поколения 98 года посвящены испанской Библии — «Дон Кихоту» — и написаны в один год: «Путь Дон Кихота» Асорина и «Жизнь Дон Кихота и Санчо» Мигеля де Унамуно. Но если Асорину на его пути к Дон Кихоту нужны земля и люди Кастилии, Унамуно достаточно одной — его собственной — души: «Какое мне дело до того, что хотел сказать и чего не хотел сказать Сервантес, и даже до того, что он сказал? Живо лишь то, что я слышу в его словах сегодня…» И если Дон Кихот Унамуно — «мой Дон Кихот», то у Асорина это скорее «Дон Кихот нашего поколения», Дон Кихот глазами испанца рубежа веков.
По сути дела Асорин всю жизнь писал интраисторию испанской литературы, начиная с первой своей брошюры, датированной 1893 годом, и кончая очередной книгой о своем поколении, выпущенной в шестидесятые годы. Между этими датами не менее двух десятков томов, и примечательно, что один называется, как школьный учебник, — «Родная речь». По его книгам об испанской классике трудному искусству чтения — духовной перекличке — училось не одно поколение испанцев.
Но испанская словесность была для Асорина не храмом, где подобает благоговеть и молиться, а родным домом, где живут, переставляют вещи, иногда даже меняют планировку. И если Унамуно, объявив Дон Кихота своим творческим достоянием, знал, что дерзок, то для Асорина такое отношение было скорее нормой. В его романе «Томас Руэда» в новом облике живет сервантесовский лиценциат, вечный испанский образ возрожден в «Дон Хуане». Начало же «Облаков» для испанского слуха звучит примерно так же, как для нашего сообщение о золотой свадьбе Ромео и Джульетты, будто бы описанной Шекспиром. «Он оболгал всю испанскую литературу, и как убедительно!» — всполошились специалисты, не ощутив, что «Облака» открыли новый, прежде затененный трагедией пласт «Селестины». Асорин намеренно убирал накатанные рельсы, искал другую дорогу, сворачивал в сторону, но тем непреложнее был итог, если он подтверждался. И кто знает, в чем больше печали: в истории гибели влюбленных, описанной Фернандо де Рохасом, или в одном из мгновений — отзвуке уже далекой их юности, — остановленном в «Облаках».
Если в этой литературной игре таилась опасность, отчетливее других ее сознавал сам Асорин (и спустя годы исследовал в романе о Феликсе Варгасе, превратившем себя в антенну, настроенную только на голос святой Тересы). «Когда книга подменяет жизнь и застит свет, человек гибнет как личность», — сказал он уже в старости, но эта строгая формулировка пронизана тем же пафосом, что и речь героя из его ранней повести: «День за днем, год за годом перебирать обглоданные пергаменты… угробить жизнь на трухлявый свиток былого?!» Менее всего в этой ярости пренебрежения к «свитку былого». Асорин лучше чем кто бы то ни было знал его притягательность, но книга всегда оставалась для него только одним из голосов жизни: «Наших классиков я люблю оттого, что слышу в них голос жизни. Люблю так же, как нашу землю, наше прошлое». И не случайно именно в «Пути Дон Кихота» Асорину, убежденному индивидуалисту, открылась непреложная с этих пор истина: ты можешь быть министром, губернатором, писателем, художником, кем угодно, но народ — «все — это не ты, а Хуан, Рикардо, Педро, Роке, Альберто, Луис, Антонио»… и Асорин продолжает список обычных испанских имен.
Следующее путешествие расставило в этой фразе свои резко социальные акценты. Месяц спустя Асорин отправился в Андалусию, страдающую от жестокой засухи. Зрелище народных бедствий было так мучительно, что Асорину изменил голос — в очерках, изрядно искаженных цензурными выпусками, он то срывается на крик, то впадает в патетику. Но все искупает боль, которой пронизано каждое слово «Трагической Андалусии». Там Асорин понял: есть две Испании, и одна — нищая — по праву винит в своих бедах другую. Это была его последняя работа для «Импарсиаль». Асорину отказали от места — «Андалусия» вышла за рамки дозволенного, мало того; попутно он поместил заметку о министре, который, не таясь, содержит свое имение на казенные деньги, и подсчитал, сколько воды украдено у андалусцев за последний месяц, сколько недоплачено каждому… Защита Ортеги не помогла. Министр лично озаботился наведением порядка в газете.
Наверное, не только личный счет к журналисту тому причиной, но и клановая ненависть, естественная, если вспомнить еще об одном газетном цикле того же года — «Парламентских впечатлениях». Велеречивая болтовня, дешевое актерство и непостижимая невозмутимость, скрывающая главную пружину поведения — страх: «Они боятся всего: ответственности, дела, перемен, будущего и топят свой страх во лжи, доходящей до абсурда. Повсюду же мерзость запустения, неразбериха, груды бумаги, грязь… И звонкий, не потревоженный мыслью голос с трибуны: „Отрадно сознавать, что сегодня наша родина ни в чем не нуждается!“»
Автор знал цену испанскому парламенту, в этом нельзя усомниться. И в «Антонио Асорине» уже было сказано, что политика — дело грязное и бессмысленное. Но именно сейчас, после визита в парламент и двух хождений в народ, Асорина стало особенно тяготить бессилие слова. Даже впечатанное в газетную страницу, оно оставалось пустым звуком. Не будем судить, оправдан ли путь, выбранный в тот поворотный момент. Слишком легко сегодня нащупать нити, тянущиеся от этого решения в будущее. Не будем подозревать в двурушничестве человека, который раз и навсегда разделил свою жизнь на литературу и политику, а себя — на писателя Асорина и депутата Мартинеса Руиса. Конечно, не ради осуществления детской мечты он взялся за «грязное дело», но поверив, что в его руках дело останется чистым, а слово станет действенным. Должны были пройти еще долгие годы, чтобы другим, осмысляющим его ясную в замысле и такую путанную на деле жизнь, открылось, что именно тогда, разделив себя, Асорин утратил власть над обеими своими ипостасями.
В политике Мартинес Руис скоро стал пешкой. С горьким недоумением следили за этой метаморфозой друзья, пытаясь отыскать рациональное зерно в его сбивчивых предложениях: сегодня фрондерских, завтра — крайне правого толка. Никто не усомнился в его искренности — в поколении 98 года уважали право человека на внутренние перемены и проистекающие из них ошибки, но скоро его стали жалеть, как певца, поющего с чужого голоса и уверенного в своем авторстве. (Надо сказать, что публичные выступления вообще были противопоказаны Мартинесу Руису. Обаятельный в дружеском общении, на публике он сникал: негромкий от природы голос звучал деревянно, жесты становились марионеточными.) Но жалость — только обертон тех сложных отношений. Именно непреложность асориновского дара, подтверждаемая каждой новой книгой, и несомненная внутренняя честность писателя заставляли Ортегу-и-Гассета и Унамуно негодовать, а Мачадо — горестно недоумевать при вести об очередном политическом демарше Мартинеса Руиса. И только Бароха — друг вопреки всему — во всяком его выступлении отыскивал начальный благородный импульс. И, наверно, был прав, хотя благое намерение — даже не половина дела…
Но это — будни, а был и праздник. Именно Асорин заставил своих современников вновь, пусть только на день, ощутить себя поколением. 23 ноября 1913 года по инициативе поэта Хуана Рамона Хименеса и философа Хосе Ортеги-и-Гассета цвет испанской интеллигенции собрался в Аранхуэсе на чествование Асорина. Поводом к тому было неизбрание Асорина в Академию. Первым говорил Ортега: «Нам, взращенным под грохот оваций, обычный у нас на родине, внутренне чуждо желание рукоплескать. Тем более, что вы, Асорин, не национальный герой и не государственный деятель. На нет и суда нет — вы, Асорин, действительно, ничего такого собой не представляете. Но вы — мастер, художник самой высокой пробы. Не более, но и не менее. И потому мы рукоплещем вам от всей души». Потом были письма от Гальдоса и от Барохи, стихи Хименеса и Мачадо, музыка и, конечно, речь Асорина, в которой он говорил об их общей боли — Испании. Кажется, эта речь должна быть произнесена в 98 году, настолько четко в ней сформулирована программа поколения, а главное — ощутим пафос тех лет. Но это первое впечатление. Речь в Аранхуэсе — скорее эпилог: задачи повторены оттого, что не решены, и решение даже не брезжит. «Не именно литература собрала нас здесь, — говорил Асорин. — Эстетические проблемы, стоящие перед нами, — лишь часть наших социальных проблем. Для нас, испанцев, болящих всеми болями родины, эстетика не может быть главной заботой. Есть другая — выше ее — мучительная, трагическая забота. И мы, сторонники литературного обновления, знаем, что оно неотъединимо от той насущной заботы. Нельзя суживать цель. Если мы не будем ловить журавля в небе, никакая литературная синица не дастся нам в руки».
Праздник в Аранхуэсе — последнее совместное дело поколения 98 года. Эта речь — их последнее общее слово. И, наверное, не случайно сказать его они доверили Асорину. Как не случайно и то, что спустя одиннадцать лет Мартинес Руис — государственный деятель со стажем — подал в отставку в день прихода к власти диктатора Примо де Риверы, заявив, что не считает для себя возможным участвовать в фарсе, которым оборачивается парламентская деятельность при диктатуре. («Господи, неужели прозрел?» — изумился тогда Ортега-и-Гассет.) Столь же безоговорочно Асорин отверг пост редактора официальной газеты, предложенный ему от имени диктатора. Дважды в 1924 году он выступил публично. Первый раз с протестом, когда диктатор выслал Унамуно, и второй раз при вступлении в Академию. (Его речь — исторический этюд «Один из часов Испании» — была первой и единственной, произнесенной в стенах Академии. На заседаниях его больше не видели, от участия в комиссиях он упорно уклонялся и в итоге, когда спустя годы в Академию на имя Асорина пришло письмо, его возвратили с пометкой «Адресат неизвестен». Испанская Академия всегда была плохо осведомлена по части литературных ценностей.)
«Одному из часов Испании» посвящено больше литературоведческих статей, чем всем романам Асорина, вместе взятым, но тайна жанра остается неразгаданной. У него нет даже названия, а такие определения, как путевой очерк, картина нравов, историческая зарисовка, условны и не затрагивают сути. Всякий же, кто пробовал свои силы в новооткрытом жанре, казавшемся таким легким (полторы-две странички, пейзаж, лейтмотивы, повторы, изредка скупой диалог) неизбежно терпел фиаско. Ни подражателей, ни продолжателей в этой области у Асорина не оказалось, поскольку не оказалось соперников.
Но и его путь к образцам жанра — «Испании» и «Кастилии» — был долгим. В 1900 году Асорин выпустил книгу «Кастильская душа», казавшуюся среди его публикаций того времени чужеродной, навеянной «свитками былого» — и только. Ее короткие, не связанные между собой главы на одной-двух страничках рассказывали о плутах, инквизиции, моде, обычаях, театрах, монастырях, словом, об испанской жизни XVII–XVIII веков. Казалось, знаток кастильской души фантазирует, но нет — каждую главку сопровождал список литературы, из которого любознательный читатель узнавал, что вышеописанный фасон воротничка знаком автору не только по портретам придворных, но и сверен по старинному учебнику кройки и шитья. Асорин никогда больше не включал библиографию в текст, хотя мог бы перечислить источники, стоящие за каждой строкой. Точное знание удерживало фантазию от ложных дорог, анахронизмов и передержек. Для Асорина оно имело особое значение хотя бы потому, что в его понимании ткань интраистории могла быть соткана только из нитей микроистории — живых, обыденных подробностей прошлого бытия, почитаемых за пустяки. «Презренные мелочи» становятся у Асорина знаками родства. И не случайно в остановленном мгновении веласкесовских «Менин» он сначала заметит то, мимо чего взгляд обычно скользит, — филенчатую дверцу и тень в ее проеме — и только потом встретится глазами с художником, чтобы узнать в них собственную боль, знакомую еще Гарсиласо. Ту извечную боль, что Унамуно назовет трагическим чувством жизни.
Всю Испанию Асорин исходил пешком, изъездил в поездах третьего класса. И всюду взгляд его искал не национальные святыни и не памятники зодчества, описания которых в романах ли, в исторических ли сочинениях были призваны крепить в испанце гордое благоговение (верный признак недомыслия, как считал Унамуно). Асорин ищет другое — давнее, но живое. Ему нужен не перемещенный с чердака в витрину музейный экспонат, а простая, согретая за века теплом сотен рук утварь, за которую и сегодня по-свойски берется хозяйка. Асорин верит, что «слагаемые отечества» — шершавая беленая стена, щербатая закраина колодца, лачужка у речки, заброшенная шерстомойня, ветхая узорчатая упряжь для ослика — еще способны воскресить омертвленное чувство родины.
И первое из слагаемых — пейзаж родного края, напоенный вековой печалью: «Только воплотив в слове душу земли, душу пейзажа, писатель достигает высот». Резкие светотени кастильского нагорья — те же, что двести, триста, тысячу лет назад; те же лиловые молнии над Толедо, что видел Эль Греко, те же серые купы олив. Веками эти скалы, ущелья, долины и небо лепили душу народа — суровую, тоскующую, привычную к одиночеству, мятежную, но знавшую и горький вкус терпенья. Для Асорина такой пейзаж — обиталище народной души — стал первостепенной и постоянной художественной задачей. Готовя собрание сочинений, он разобрал все написанное на шесть стопок и дал название каждой. Потом переписал названия в тетрадь в таком примечательном порядке: пейзаж, захолустье, люди, классики, критика, политика. Два первых места безоговорочно отданы пейзажу (ведь захолустье в асориновском понимании — тоже прежде всего пейзаж).
До поколения 98 года испанская литература не знала пейзажа-символа, пейзажа-мифа. Впервые они появились у Асорина, в очерках Унамуно, романах Барохи, стихах Мачадо и сложились в портретную галерею кастильской души, галерею запечатленных в слове мгновений испанской интраистории. В таких пейзажах (критики называют их идеологическими) доминирует внутренняя суть, мифологический пласт, но в то же время они всегда узнаваемы, географически точны, ибо писаны с натуры, в определенный час. Технику импрессионизма усвоили все, но первым, убежденным и преданным ее сторонником был Асорин. Для пейзажа, открывающего «Волю», он полтора месяца вставал затемно, брал тусклый фонарик и записную книжку и поднимался на дальний холм. Оттуда, случалось и под проливным дождем, он изо дня в день, как художник, писал с натуры рассвет. Итогом шестидесяти таких зарисовок стала одна страница — образец безукоризненно графичного пейзажного письма: парящий, прозрачный, четкий рисунок, подробный и отточенный, как на старинной миниатюре.
В «Захолустье», первой части триптиха, продолженного «Испанией» и «Кастилией», асориновский пейзаж уже неподвижен. Но как бы ни чаровала взор эта спокойная красота летаргии, художнику она почти ненавистна, ибо неотделима от народных страданий. В «Кастилии» иначе. Асорину казалось, что здесь он разрешил «давний спор между этикой и эстетикой» и сумел не только смириться с властью прошлого, без остатка поглотившего будущее, но и увериться в справедливости такого хода вещей (хотя горечь в интонациях книги явственно ощутима). Пройдет еще несколько лет, и Асорин укрепится в своем решении: «В Испании ничего не меняется, но ей и не нужно перемен. Довольно говорить об упадке. Упадка не было никогда». Все отточеннее и бесстрастнее становятся исторические этюды Асорина, все чаще чистым художником называет себя тот, кто в начале пути был убежден: «В искусстве нельзя работать только ради искусства. Всегда работаешь ради чего-то, не сводимого к искусству». Так в конце концов и в творчестве отозвалось роковое для Асорина разделение на человека и художника. Острее всех эту душевную отстраненность от горя, скорбное любование им и завороженность умиранием почувствовал Антонио Мачадо. Гармония, обретенная Асорином, была чревата гибелью личности и художника, и оттого в стихах о «Кастилии» Мачадо заклинает Асорина скинуть оцепенение.
Ответом на стихи Мачадо стал посвященный ему роман Асорина «Городок» — книга об Испании, о себе и о книге. Это не мистификация. Асорину действительно случилось купить на книжном развале старинное сочинение провинциального священника, составленное из бесед о сельском хозяйстве, политике, теологии, астрологии, медицине и литературе. Две трети «Городка» — это текст Бехарано, но столь созвучный асориновскому, что поверить в отдельное существование священника из Риофрио почти невозможно, хотя его удостоверяют два раритета: один экземпляр «Патриотических мыслей и благочестивых бесед» хранится в испанской Национальной Библиотеке, другой — в Библиотеке конгресса США.
Текст Асорина — по сути дела, глосса на полях книги Бехарано: через два века перекликаются их мысли о родной стране и книгах, до мелочей совпадают пристрастия и привычки. В Бехарано едва ли не с первой строки узнается автор — не зря же он называет старого священника доморощенным Монтенем, напоминая читателю не столько о любимом писателе, сколько о своей «Исповеди». Это его, асориновская тоска, его ирония, сдержанность и терпимость и даже его добровольно избранный быт. В том, что чувствовал два века назад Бехарано, он узнает свои душевные движения — те самые, из которых и сегодня, как тысячу лет назад, ткется материя бытия, обреченная и тлену и вечности.
Мир, открытый Асорином, Испания, увиденная им, недвижны, они те же, что и века назад, — скажет, поддавшись первому впечатлению, читатель — и ошибется. Неизменное — меняется, неподвижное — движется и, что печальнее всего, однонаправленно: это путь умирания. Асорин внутренне примирен с ним, хотя на свой лад противится небытию, останавливая — и тем возводя к бессмертию — неприметные мгновения обыденной единственной жизни. Вчитываясь в его неспешное, монотонное и завораживающее, как переливы ручья, повествование, невольно отдаешься печали, в которой поровну тоски и нежности, постигаешь силу инерции, скрытую маской безволия, и соглашаешься: «Жить — значит смотреть вослед». Но Асорин менее всего однозначен: «Жить — это видеть, как все возвращается». И пусть этим возвратом, тупым и косным, ты торишь себе путь к гибели, им же — других путей Асорин не знает — творится бессмертие. В повторе, извечном и тягостном, человек узнает в другом себя. А если верить Ортеге-и-Гассету, этот способ познания — из лучших.
Двадцатые годы для Асорина — время эксперимента. Его целью снова становится «роман без подпорок» — без фабулы, без действия, без завязок и развязок. Но если в «Воле» звучали живые голоса времени, в новых романах Асорина им нет места — это скрупулезная хроника едва уловимых душевных состояний, переменчивых ощущений, тончайших оттенков чувства. Психологический анализ Асорина поражает тщательностью, изобретательностью и глубиной, и тем не менее любой из его поздних романов похож на протокол опыта по воссозданию душевной жизни в стерильной герметизированной колбе и оставляет до странности тягостное ощущение.
В те же годы Асорин начинает серьезно работать как драматург. Он написал около десяти пьес, поставлено было менее половины, успеха не знала ни одна. Асорин — знаток театра и проницательный критик — понимал, что пьесы его обречены на провал, но верил, что путь, намеченный им, может вывести драматургию из тупика. Его искания и правда опередили время. В обыденной жизни, представленной в первых актах, к третьему проступали черты фантасмагории, водевильная коллизия разрешалась как притча, комедия нравов оставляла по себе смутное ощущение ужаса — и все это при полном отсутствии внешнего движения, почти без событий и, конечно же, без открытого конфликта, который упрощает жизнь, никогда не сводящую концов с концами. Только одна, последняя пьеса Асорина «Повстанцы» написана доступным тому времени театральным языком. В предгрозовой атмосфере весны 1936 года драма о любви, соединившей в разгар наполеоновской войны француза и испанку, прозвучала бессильным заклинанием.
В начале гражданской войны Асорин подал прошение о выезде и в октябре 1936 года уехал в Париж с женой, племянником и принятыми в дом детьми расстрелянного губернатора Авилы. Семья, как и большинство испанских эмигрантов, бедствовала. Они жили на скудные гонорары буэнос-айресской газеты «Ла Пренса», для которой Асорин писал рассказы, очерки и заметки об испанской литературе, архитектуре, истории. О чем угодно — только не о войне. Многим казалось, что он решил удержаться над схваткой, веря, что к этому обязывает долг художника. Но, думается, решение его было не умозрительным. Эмиграция, какой с первых дней ее ощутил Асорин, была другим именем смерти: «Все мои чувства мертвы, Осталось одно — жгучее чувство утраты, с которым нельзя дышать, а можно лишь продержаться, и недолго». С самого начала он знал: что бы там ни было, он вернется, потому что на всей земле есть только одно место, где он может жить, — Испания. Вернется во, что бы то ни стало и заплатит за возвращение любую цену.
Дипломат, к которому в начале 1939 года Асорин обратился за содействием, обещал похлопотать за старого писателя и дал недвусмысленный совет — возобновить сотрудничество с испанской прессой. Через день Асорин отослал в севильскую газету статью памяти друга — священника, расстрелянного республиканцами. А по приезде в Мадрид отнес в редакцию элегию памяти Хосе Антонио Примо де Риверы, основателя фаланги, и восторженный отзыв о литературных упражнениях Франко. Более ничего за два года, прошедшие после возвращения, ему напечатать не удалось. Неуклюжие попытки Асорина приспособиться к новой жизни поначалу лишь раздражали идеологов режима. Публичная травля то затихала, сменяясь снисходительными похвалами литературному мастерству, то накатывала вновь, понуждая к новым присягам и покаяниям. Асорин отрекался, каялся, присягал, отвоевывая свое право работать на родине и веря, что тем исполняет художнический долг. Не случайно именно тогда он задумался о том, что же подвигло в свое время Сервантеса на одобрение указа об изгнании мавров: «Нет и речи об искренней убежденности. Я вижу здесь только одно: страх потерять на склоне лет кусок хлеба и свободу». Удержимся от попреков — речь идет именно о праве печататься и куске хлеба. «От того, боится человек нищеты или нет, зависит, как сложится его жизнь», — как-то обмолвился Асорин. Сам он страха перед нищетой не знал — ни в молодости, когда отверг родительскую помощь, ни в старости, когда принял все условия возвращения. Кусок хлеба был условием существования, литература — целью. Дар свой он всегда ощущал как долг; теперь же служение своему делу — слову — стало для Асорина еще и последним, единственным оправданием. Если кого и убеждал он в правоте Сервантеса, то только себя — и сомневался: приверженность правде не изменила ему и в этот горький час.
Возвратясь, Асорин понял, что остался изгнанником: «В Испании мне нет места. И нигде нет. Я выпал из времени и пространства. Боюсь, что не смогу больше писать». Догадка была жестокой, и он перепроверял ее истово, изо дня в день садясь к столу и продолжая начатое — один, другой, третий большой роман, еще искуснее предыдущих, но с той же внутренней и прежде других ему заметной червоточиной, — пока не вынес себе суровый приговор: «Пора сойти со сцены. Довольно. Я больше не пишу». Но этой медленной казни вынести не смог и вернулся к письменному столу, «все еще надеясь суметь» и зная, что не сумеет. Тем временем ему присудили все государственные премии и удостоили правительственных наград — Большого креста Исабели Католической и Большого креста Альфонсо Мудрого (благодарственную речь Асорин произнес, но крестов не носил). Тем временем его объявили классиком и вставили в обязательный школьный список, надолго отбив у молодых охоту браться за «Исповедь» и «Волю», а заодно и вкус к языку. Моновар и Екла провозгласили Асорина своим почетным гражданином, а себя — мемориальными городами, его именем назвали лужайку в столичном парке, но чем пышнее были знаки официального признания, тем замкнутее, суровее и отрешеннее становился этот высохший старый человек, доживавший свой век в чужое время.
В который раз уже он пишет о былом, перебирая из страницы в страницу его приметы, припоминает ритм, мелодию и аромат канувших в Лету городов, вызывает тени друзей, соратников и противников, договаривает недосказанное, ловит эхо тех споров…
Один из них — давний спор с Мачадо — спустя шестьдесят лет разрешит чужой молодой голос: «Менее всего мы нуждаемся сегодня в литературных уроках. Сейчас нам нужнее урок достойно жить и достойно умереть — урок Антонио Мачадо». Асорин принял безоговорочный, запальчивый — и справедливый — приговор молодых, хотя знал, что исходный их постулат ложен. Он тоже разделял долги, хотя и по-другому: веря в главенство художнического долга. И счел себя вправе отделить его от человеческого, словно бы затем, чтобы собственной судьбой удостоверить неизбежный, пусть и отдаленный итог раздела — гибель художника. Это тоже урок. Он важен и сегодня, но не станем сводить к нему эту столько вместившую многотрудную жизнь. И вспомним не о закате, а о начале века — о том, что останется навсегда, о «Воле», об «Исповеди», о «Кастилии».
Н. МАЛИНОВСКАЯ
Антонио Мачадо АСОРИН Перевод Н. Ванханен
Багрянец нивы огненного жита, в бобовом поле дух цветочной пыли, Ламанчу, где шафраном даль покрыта, он чтил равно с красой французских лилий. Как он вместил подобное несходство — так ясность и уныние несхожи. Как сдержанность и холод благородства не выдали смятения и дрожи? Ему чужды и сумрачные норы пещер, и дебри чащи нелюдимой, но там, где светом озарило горы, где кряж, как будто пенный вал гонимый, где тишь селений и равнин просторы, он словно башня в синеве родимой!Antonio Machado
AZORIN
La roja tierra del trigal de fuego, y del habar florido la fragancia, y el lindo cáliz de azafrán manchego amó, sin mengua de la lis de Francia. ¿ Cúya es la doble faz, candor y hastío, y la trémula voz y el gesto llano, y esa noble apariencia de hombre frio que corrige la fiebre de la mano? No le pongáis al fondo, la espesura de aborrascado monte o selva huraña, sino, en la luz de una mañana pura, lueñe espuma de piedra, la montaña, y el diminuto pueblo en la llanura, ¡ la aguda torre en el azul de España!ВОЛЯ Роман Перевод Е. Лысенко
ПРОЛОГ
В былые времена исполненный рвения народ закладывал фундаменты своих храмов, обтесывал камни, воздвигал стены, сводил своды, расписывал витражи, ковал решетки, золотил ретабло, волнуясь, трепеща и стеная, в благочестивом единстве с величественным сооружением.
Община Еклы совершила в XIX веке то, что другие общины совершали в далекие века. Старинная церковь Вознесения стала им мала, в 1769 году городской совет решает соорудить другую церковь, в 1775-м заложен первый камень. Начинаются работы: копают рвы для фундамента, шлифуют каменные плиты, кладут основания стен. Но в 1804-м строительство прекращается.
В 1847-м работы возобновляются. Камень поставляет каменоломня Араби́, уже в июне на заброшенной площадке строительства снова раздается веселый рабочий шум. Трудятся: один подрядчик за 15 реалов в день, три каменотеса — по 10 реалов, два плотника — по 10 реалов, четыре каменщика — по 8 реалов, семь подручных — по 5 реалов, семь мальчиков — по 3 реала. Любопытно проследить перипетии работ по записям оплаты поденщиков. 8 июня мальчиков остается всего трое. Последнего из мальчиков зовут «Немой». Немому платят всего 2 реала. 15 июня Немого в списках уже не было. И я думаю об этом убогом, затурканном пареньке, который в течение недели смиренно, в меру своих силенок, приносит дань великому сооружению, а затем исчезает — быть может, умирает.
Стройка идет вяло, в октябре артель сокращена до шести каменотесов и одного мальчика. Работы на долгое время опять заброшены. Просторное помещение храма зарастает травою, колонны обвивает вьюнок, с несомкнутых сводов свисают розетки зелени.
Однако вера оживает вновь. В 1857-м строительству дан мощный толчок. То и дело наезжает епископ. Городской совет подстегивает жителей. Жители предоставляют упряжки и повозки; богачи жертвуют лес из своих сосновых рощ, двое умирающих завещают свое состояние на постройку храма. Тем временем смыкаются своды, вырастают нарядные контрфорсы, капители украшаются закрученными волютами и пышною листвой. С января до июня в каменоломне обтесаны 18 415 кубических футов камня. Двадцать девять городских плотников работают на постройке бесплатно. И под радостную пляску колоколов толпа торжественно перетаскивает огромные глыбы в 600 арроб…
В 1858-м работы продолжаются. Но нетерпеливый народ досадует, что храм все еще не завершен. И автор неизданного «Дневника», откуда я беру эти записи, с раздражением отмечает: «Постройка движется так медленно, что проходить возле нее — одно огорченье». Городской совет увольняет архитектора, назначает другого, требует от него чертежей, архитектор их не представляет, совет грозится его сместить, архитектор является с изумительным проектом.
В 1859-м городской совет просит средств у правительства. «Когда проект был представлен в министерство, — пишет автор „Дневника“, — он не мог не привлечь внимание господ, которым полагалось его смотреть и которые были крайне возмущены грандиозностью храма для столь маленького городка; это побудило секретаря в частной беседе намекнуть, что виды на получение каких-либо средств весьма шатки и что для нашего города это слишком большое предприятие и слишком большая роскошь». Правительство полагает, что еще не уложен ни один камень храма. Городской совет, от имени жителей, обещает безвозмездный труд и 125 000 песет. Удивленное столь мощным порывом правительство сулит 40 000 дуро.
Академия одобряет представленный проект, но средства от правительства не поступают. Два месяца расходы по строительству оплачивает один-единственный жертвователь — кабальеро Мерхелина. Средства все не поступают; утратив надежду на помощь со стороны, народное благочестие снова пылко берется за дело. В апреле и мае обтесаны еще 17 000 кубических футов камня. Материалы для строительства подвозят крестьяне. Завершается покрытие куполов, блистают совершенством капители, поражает изяществом резной антаблемент. Просторный, белостенный, строгий храм эррерианского стиля наконец, после долгих лет, открыт для богослужений.
И вдумайтесь только в таинственное сцепление дел человеческих. Двадцать пять веков тому назад в этой же каменоломне Араби, где обтесывали камень для церкви, брали камень для языческого храма, стоявшего на Холме Святых. У подножья Араби располагался Эло, богатый город, основанный египтянами и греками. Широкая Геркулесова дорога, прославленная Аристотелем, терялась вдали, среди тысячелетних лесов. Храм господствовал над городом. В его стенах, украшенных статуями, которые ныне равнодушно почиют в музеях, были у изможденных иерофантов, как и у нас, свои посты, процессии, молитвы, литании, скорбные песнопения; как и мы, они праздновали освящение хлеба и вина, сочельник, рождение Агнца, страстную неделю гибели Адониса. И удрученная, вечно жаждущая толпа, неся бальзамы и душистые масла, приходила молить об утешении и милосердии — как ныне, в этой церкви, воздвигнутой другою общиной, мы горячо молим: Ungüento pietatis tuae medere contritis corde; et oleo misericordiae tuae refove dolores nostros[3].
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
I
Вдали мерно, неторопливо, уныло бьет колокол. Робко начинает светлеть край неба. Туман широкой белой пеленой ложится на окрестности. И все петухи дремлющего города заводят шумливый концерт — поют голосами высокими, низкими, визгливыми, звонкими, глухими, еле слышными, но больше зычными. В долине, у подножья горы, темнеет туманным пятном город. Из мрака возникают два, четыре, шесть белых, курчавящихся столбов дыма, они растут, расширяются, растекаются по небу нежными вуалями. В утреннем воздухе слышится скрипучий, надсадный кашель, раздаются неспешные удары трепла для дрока.
Мало-помалу молочно-белый край горизонта окрашивается в бледно-зеленый тон. Из темноты медленно проступает хаотическое нагромождение домов. На этом обширном чернеющем пятне видно переплетение длинных, белесых жилок — пошире, поуже, прямых, вьющихся. Упорно кричат петухи, раздается заливистый жалобный лай собаки.
Окрестности под посветлевшим краем горизонта тянутся вдаль зеленым ковром с мазками темных крон, с узорами змеящихся дорог. Зеленоватые тона неба переходят в перламутрово-алые. Со звучным перестуком молотков просыпаются кузницы, где-то поблизости плачет ребенок, кто-то сердито кричит. И над бурой зыбью бесчисленных кровель, толстых стен, крытых оград, печных труб, фронтонов, коньков величаво высится белая громада Новой церкви, увенчанная гигантским куполом в бело-синих спиралях.
Город пробуждается. Неровная шеренга фасадов вдоль восточной его границы сияет в солнечных лучах яркой белизной. Голоса петухов стихают. Наверху, в храме, раздаются мерные вибрирующие удары колокола. Внизу, в городе, серебристые звуки других колоколов парят над смутным гулом голосов, стуков, зазываний торговцев, над лаем, пеньем, ослиным ревом, лязгом кузниц, над разнообразными шумами толпы, возвращающейся к своим трудам. Сияющим сводом драгоценного синего шелка раскинулось небо. Яркий, чистый, четко прорисованный, красуется город на склоне горы. Там и сям в сером море однотонных кровель проступают красные, желтые, голубые, зеленые пятна цветных фасадов. Заметней всего золотистые стены Старой церкви с ее приземистой колокольней; пониже — Новая церковь; еще ниже, на границе с садом, виднеется продолговатое здание школы с мелкими крапинками балконов. И по всему городу разбросаны старые церкви, часовни, молельни, капеллы: слева — Санта-Барбара, Сан-Роке, ветхий Сан-Хуан, Младенец Иисус с гроздью небольших куполов; по правую сторону — Приютская церковь, обрамленная двумя невысокими колоколенками, Сан-Каетано, Лас-Монхас… Колокола звучат разноголосым хором. Из тысячи труб белесыми столбами медленно поднимается дым. На светлых прожилках дорог кишат, суетятся, снуют черные точки, удаляясь, рассеиваясь, исчезая на равнине. Доносятся отголоски песен, скрип повозок, пронзительные крики. Колокол Новой церкви бьет тяжело, колокол Младенца Иисуса — суетливо, колокол Приютской призывает спокойно. А вдалеке, смеясь и резвясь, игриво заливается колокол Лас-Монхас малиновым хрустальным перезвоном.
* * *
Справа от Старой церкви — в черте города — расположена древняя его часть. Она лежит на склоне скалистой горы беспорядочным скоплением низких домиков с белыми стенами, синими дверями, образуя извилистые узкие улочки. Течет по глубокому оврагу горная речка, лоснятся на солнце голые холмы. Местами к порогам домов ведут прорубленные в скале узкие проходы, кое-где к дверям поднимаются крутые ступени. Мартовское солнце играет на белых фасадах. Вот на улице старик сосредоточенно плетет циновку, женщина, наклонив голову, перебирает волосок по волоску маслянистые распущенные пряди; из мрачных недр маслобойни выходит работник и ставит в длинный ряд корзины. Узкая, крученая, неровная улочка, извиваясь, ползет все выше. Идя по ней, то и дело видишь на беленном известью основании крест из нетесаного дерева под навесом-угольником; в нише, за ржавой проволочной сеткой, потемневший от времени образ.
Тянется дальше лабиринт извилистых дорог. В глубине улицы с низкими кровлями надменно высится мощная колокольня Старой церкви. Неведомый мастер Возрождения изваял на ее вершине, под балюстрадой, широкую полосу орнамента из лиц с уродливо скорбными гримасами. И на фоне ослепительно ясного неба, возвышаясь над унылым городом, эти искаженные мукою лица предстают символом извечной трагедии человеческой.
Рядом с колокольней одиннадцатью скользкими ступенями круто спускается улица Одиннадцати Балок. Оставив эту улицу позади, вы, все так же идя в гору, проходите через разрушенные древние ворота Замка и оказываетесь на живописном перекрестке. В центре его, на выбеленной известью глыбе, тревожною загадкой высится двойной зеленый крест. Дальше идет вниз широкая Тутовая улица. А свернешь за угол, и в нескольких шагах откроется хаотическая площадь Рынка с закругленными арками белых галерей и с ветхим зданием славного городского совета.
И вот уже начинаются современные постройки: скучные, вульгарные, размалеванные дома, пыльные магазины, мощенные розоватой плиткой прихожие с кирпичными стенами. Кое-где, среди однообразия недавно сооруженных домов, выделяется старинный дворянский особняк; старомодные выступающие вперед его балконы кажутся мрачными рядом с современными плоскими балкончиками; филигранная резьба герба из серого камня распласталась меж двумя зелеными жалюзи. По улицам расхаживают, кутаясь в толстые шарфы, кашляя и перхая, духовные особы, на углу, таинственно шепча, собираются кучки набожных прихожанок, движутся повозки, ослы везут поблескивающие сельские орудия, идут крестьяне в длинных бурых кафтанах. Двери домов открыты настежь. Внутри видны красные кирпичи прихожих, белеет мебель соснового дерева Вдоль тротуаров куропатки в клетках, выставленных на песок, клюют свой корм. А в клетках, подвешенных к дверным косякам, заливаются игривыми арпеджиями канарейки.
II
Дом был окончен в праздник Майского Креста. На фасаде, меж двумя деревянными балкончиками, выведен большой барельефный крест. Прихожая вымощена красным кирпичом. Стены — белые. Цоколь — цвета густого индиго — окаймлен черною полосой. Напротив входной двери висит доска для нарядной утвари. И на фоне белой стены блестят, искрятся, золотятся маленькие жаровенки, шоколадницы, грелочки, лампочки с конусными абажурчиками, сковородочки с длинными ручками, подставочки…
Прихожая разделена широкою аркой. На ней вверху и сбоку «ветка». «Ветка» — это тонкий, вращающийся стержень, увенчанный букетиком цветов из кованого железа. Четыре лилии и одна роза среди бутонов и листьев изящно склоняются над подвешенным к стержню белым фонарем.
За аркой, по левую сторону, одна ступенька ведет к двери, окрашенной в темно-красный цвет. Дверь состоит из выпуклых филенок — квадратных, прямоугольных и в виде буквы «Т», расположенных так, что в центре получается греческий крест. Рядом с врезным замком железный засов — черное ажурное обрамление красиво выделяется на темно-красном фоне. Сама дверь отделана широкой рамкой, по которой пущена резьба в виде мелких листочков. Это дверь в залу. В зале стоят стулья с желтой обивкой, украшенной черным шнуром, широкое соломенное канапе, стол. На стенах красуется галерея апостолов — старинные, грубо раскрашенные эстампы: Sanctus Joanes[4], держащий чашу, из которой выползает змея; Sanctus Mattheus[5], погруженный в чтение книги; Sanctus Bartholomeus[6] с острым ножом; Sanctus Petrus, Sanctus Paulus, Sanctus Simon[7]… Над канапе висит картина маслом: в широкой черной раме монах с красивой бородой, в низко надвинутом капюшоне, держа обеими руками посох, глядит печальным взором. Внизу надпись: S. Franciscus de Paula; vera effigie ex prototypo, quod in Palatio Vaticano servatur desumpta[8]… На столе лежат три тома ин-фолио и уложенные в аккуратный ряд крупные, душистые плоды айвы. В глубине залы, за ширмами с белыми занавесочками, — альков.
Направо от прихожей — кухня с большим колпаком над плитой. По двум сторонам, вдоль стен — низкие лавки. Рядом с каждой лавкой шкаф, где хранится кухонная утварь. В мягкой полутьме свет, проникающий сквозь большое отверстие дымохода, белесыми бликами ложится на каменные плиты очага.
Рядом с дверью, ведущей во внутренний дворик, мерцают в глубине ниши для глиняной посуды синие, зеленые, желтые, красные изразцы с изящными арабесками. Большой кувшин на массивной подставке выставляет напоказ широкую алую кайму вокруг своего горла. И в солнечных лучах, струящихся сквозь круглое окошко над дверью, сверкают поливные блюда, пузатые кувшины, белые миски, зеленоватые графины.
Мирный этот уголок дышит сладостным покоем. Слышится серебристый звон молоточков в соседней кузнице. На одном конце стола с гнутыми ножками сидит Пуче и неспешно беседует с сидящей на другом конце стола и внимательно слушающей его Хустиной. В затененных недрах кухни что-то булькает в горшке, будто жужжит назойливая муха, и из-под крышки вырывается белый пар.
Так и сидят они — Пуче и Хустина. Пуче — старый священник с тощим телом и изможденным лицом. В его речах мягкость ревностного визионера, а в жестах покорность судьбе человека зрелого, закаленного в горестях. Он скорее шепчет, чем говорит, слова его звучат нежно, кротко, смиренно, обволакивая и внушая. Тихо и напевно они живописуют блаженство жизни совершенной, обличают убожество житейской суеты, напоминают о неизбывной трагедии земных скорбей, ласкают обещанием вечного счастья смятенной душе… Пуче говорит тихо, вкрадчиво, но вот мало-помалу в словах прибавляется силы, в интонациях — страсти, в периодах — широты, закругленности. И в какой-то миг бурно вырывается на волю неукрощенный зверь, и смиренный духовник воспламеняется огнем древнего еврейского пророка.
Хустина — изящная белокурая девушка. Сквозь ее прозрачную кожу просвечивает сеть тонких голубоватых жилок. Горящие глаза обведены темными кругами. Светлые, вьющиеся пряди выбиваются на черную накидку, которая у шеи слегка стянута, а на спину падает широкими складками.
Хустина внимательно слушает Пуче. Чистая, пылкая душа, которую легко склонить к самоотречению или ввергнуть в отчаяние, благоговейно внимает словам наставника и размышляет.
Пуче говорит:
— Дочь моя, дочь моя! Жизнь печальна, скорбь неизбывна, зло беспощадно. В неуемной суете житейской нас снедает тревога о будущем. Отсюда гнев, всепожирающее честолюбие, угодливое лицемерие, алчная непоседливость людей, скитающихся по земле. Иисус сказал: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их…» Человечество гибнет от собственной суетливости. Знание печалит его, жажда богатства распаляет. Так, жалкое, полное отчаяния, оно стенает от нескончаемых скорбей.
— Забота о завтрашнем дне омрачает нас, делает молчаливыми, — тихим, глуховатым голосом говорит Хустина.
Пуче, выждав с минуту, продолжает:
— Пташки небесные и полевые лилии счастливей человека. Напрасно человек терзает себя. «Ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». Простота исчезла из наших сердец. Царство небесное принадлежит простодушным. «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное».
Звучит серебристый перезвон молотков в соседней кузне. Хустина и Пуче долго молчат. Затем Пуче восклицает:
— Дочь моя, дочь моя! Мир враждебен любви к Богу. А любовь к Богу — это покой. Но человек любит земное. Земное же лишает нас покоя.
«В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой.
У ней была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса, и слушала слово Его.
Марфа же заботилась о большом угощении и подошедши сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом.
А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нея».
Снова наступает молчание. Луч солнца, медленно, но неуклонно двигаясь, лег на покрытый сукном пол ярким светлым пятном. Вдали колокола мерно отбивают двенадцать. Из Новой церкви доносится величавый перезвон «Ave Maria». Пуче, скрестив руки, бормочет:
— Пречистая Дева от рождества. Боже спаси тебя, Мария, исполненная благодати и т. д. Пречистая Дева во время рождества. Боже спаси тебя, Мария… Пречистая Дева после рождества. Боже спаси тебя, Мария… — Затем мягко прибавляет: — Да ниспошлет нам Господь хороший день.
Опять наступает недолгая пауза. Наконец, Хустина со вздохом произносит:
— Жизнь — это юдоль слез.
И Пуче прибавляет:
— Иисус сказал: будьте добрыми, будьте бедными, будьте простыми. А люди и не добры, и не бедны, и не просты душою. Но придет время, и воцарится неумолимое высшее правосудие. Великие будут унижены, униженные же возвысятся. Гнев господень, лиясь через край, обрушится неслыханными карами. О, не передать словами ужас гордецов! Оглушительный вопль скорби издаст обезумевшее от страха человечество. Чума опустошит города: изможденные люди будут скитаться по бесплодным пустошам. Разъяренные моря возревут в своем ложе. Языки пожаров взовьются над землею, сотрясаемой безудержными толчками, и планеты небесные, выйдя из своих орбит, разрушатся в ужасных катаклизмах… И из зловещего хаоса, после грозы Страшного суда, воссияет свет Бесконечной Истины.
Поднявшись, Пуче с минуту стоит неподвижно, его голова апостола, словно нимбом, озарена ласковым лучом солнца, глаза возведены к небу.
III
Сырая, темная прихожая вымощена мелкой плиткой. У стены скамья с красивой резной спинкой, в центре с потолка свисает уродливый фонарь. В глубине прихожей дверь, за нею, направо, кухня с большим колпаком над очагом, налево — кабинет. Кабинет — это просторная комната с белыми стенами и красными потолочными балками. Полки из душистой лиственницы уставлены книгами, книг много, книг без счету — книги из желтоватого пергамента, книги в коричневой, с яшмовыми разводами, коже и с навощенным красным обрезом, огромные ин-фолио с шуршащими страницами, миниатюрные эльзевиры. В углу, притаились в полутьме, три толстых тома, создающих на темном фоне голубое пятно, на корешках надпись: «Шопенгауэр».
Сквозь тонкие слюдяные пластинки небольших окон проникают лучи солнца и рассеиваются равномерным, успокаивающим светом. Толстая циновка из дрока в красные и черные полосы покрывает пол. Между двумя стеллажами висит темная картина. Картина эта навевает грусть. Пожилая дама с худощавым лицом держит за руку девочку, у девочки в руке три гвоздики — две белые, одна красная. Справа от них стол, на столе череп. В глубине надпись на стене гласит: «Nascendo morimur»[9]. И пожилая дама и девочка глядят пристально, озабоченно, задумчиво, будто пытаясь проникнуть вопрошающими своими взорами в бесконечную тайну.
Юсте расхаживает по кабинету мелкими шажками, от которых поскрипывает циновка. Юсте шестьдесят лет. Юсте лыс и склонен к полноте; седые, коротко подстриженные усы прикрывают уголки рта, на белоснежной манишке расположился обильными складками толстенький подбородок. Изящная золотая цепь, которая свободно обвивает его шею дважды, блестит на опрятном черном костюме.
Асорин сидит и слушает учителя. Асорин — сосредоточенный, молчаливый юноша, говорит мало, и голос у него тихий. Он погружен в размышления о великих тайнах, светлые, зеленоватые его глаза восторженно созерцают бесконечность.
Учитель ходит перед Асорином взад и вперед, держа перипатетические речи. Говорит он решительно. Словами, полными энергии, пессимизма, отчаяния, раздражения, гнева — странный контраст с его почтенной лысиной и добродушной улыбкой, — учитель развертывает перед глазами ученика ужасающую картину всяческих язв, безумств и жалкого малодушия дряхлеющего человечества. Толпа приводит его в бешенство: глубокая ненависть — возможно, отзвук давних огорчений — побуждает к свирепым нападкам на легкомыслие изменчивой толпы. Рукоплескания по поводу речи глупца экс-министра, болтливая передовица газеты, пустопорожние фразы тщеславного журналиста, идиотизм худосочной буржуазии вызывают в нем судорожную, апоплексическую ярость. Он ненавидит избитые фразы, незыблемые критерии, отупляющую систематичность, закон — охрану бандитов, порядок — опору тиранов… И он ходит, ходит по заваленному книгами кабинету, возбужденный, гневный, разгоряченный, и его тирады то парят на высотах утонченной, подавляющей ученостью метафизики, то спускаются на землю, бичуя реальные факты продажной политики и презренной литературы.
Асорин слушает учителя. Глубокой печалью полон его дух в этот тихий зимний вечер. Юсте расхаживает. Вдали бьют колокола храма. Бледнеют полупрозрачные слюдяные квадраты. Учитель, на секунду останавливаясь перед Асорином, говорит:
— Все проходит, Асорин, все изменяется и погибает. А таинственная, непостижимая, неумолимая универсальная субстанция — существует вечно.
Асорин, зашевелившись, жалобным голосом вторит:
— Да, все проходит. И само время, благодаря которому все проходит, тоже кончится. Время не может быть вечным. А вечности, всегда сущей, не имеющей ни прошлого, ни будущего, чуждо понятие последовательности. Если бы в ней была последовательность и миг постоянно сменялся бы другим мигом, образовалось бы парадоксальное явление — вечность увеличивалась бы с каждым прошедшим мгновением.
Юсте, снова остановившись, улыбается.
— Вечность…
Юсте вынимает из кармана плоскую серебряную коробочку. На крышке ее, окаймленной изящными золотыми завитками, ребенок, склонясь над собачкой, нежно ее гладит. Дважды постучав по крышке, Юсте открывает табакерку и берет понюшку. Затем продолжает:
— Вечности не существует. Там, где есть вечность, не может быть жизни. Жизнь — это движение, движение — это время, а время, постоянно меняющееся, — это антитезис вечности, всегда наличествующей.
Задумавшись, Юсте делает несколько шагов. Старинные часы бьют час дня. Юсте продолжает:
— Все проходит. Головокружительная смена явлений не прекращается. Атомы в вечном движении создают и уничтожают все новые и новые формы. В бесконечном времени, в бесконечных комбинациях неутомимого атома, формы, возможно, повторяются; быть может, нынешние формы снова возродятся, либо же сами они повторяют другие формы, созданные в бесконечном прошедшем. Таким образом, ты и я, тождественные и различные, как тождественны и различны отражения одного предмета в двух зеркалах, — итак, ты и я, быть может, будем сидеть когда-нибудь опять друг против друга в этой комнате, в этом городе, на этой планете и беседовать, как беседуем теперь, в некий зимний день, подобный этому дню, среди надвигающихся сумерек и при завывании ветра.
Юсте — несколько скептически относящийся к современной теории «энтропии» вселенной — молча размышляет о неуловимых приливах и отливах непостижимых форм. Асорин молчит. В соседнем доме играют на фортепиано Россини, любимую музыку учителя. Приглушенная расстоянием мелодия льется печально, мягко, нежно. Юсте останавливается. Звуки игриво рассыпаются, бегут наперегонки, кротко затихают, поют, смеются, плачут и после бурного каскада успокаиваются.
Юсте продолжает:
— Субстанция едина и вечна. Единственное проявление субстанции — феномены. Феномены — это мои ощущения. А мои ощущения, ограниченные пятью чувствами, столь же обманчивы и относительны, как сами пять чувств.
Учитель опять останавливается. Затем прибавляет:
— Ощущение порождает сознание; сознание порождает вселенную. Нет иной реальности, кроме представления, иной жизни, кроме сознания. И неважно, если внутренняя реальность — при условии, что она ярка, — не совпадает с внешней. Заблуждение и истина равноценны. Представление — это все. Следовательно, кто безумнее всех, тот мудрее всех.
Вдалеке уныло стонут колокола Новой церкви. Близится вечер. В сумеречном воздухе молочно-светлыми пятнами расплываются окна. Наступает краткая пауза, полная мучительного томления. И Асорин, не шевелясь, глядит восторженными зелеными глазами на силуэт учителя, двигающийся в полутьме взад и вперед, отчего тихонько поскрипывает циновка.
IV
Вдалеке, на пологой паперти, красуется на фоне яркой лазури небольшая церковь Санта-Барбара. Улица к ней ведет широкая, дома вдоль улицы низкие. Когда идешь, за маленькими окошками видны розовые, бледные, багровые пятна женских лиц, они смотрят жадными глазами либо усердно склоняются над работой. На тротуаре сидящий на корточках мужчина возится возле клеток с куропатками, аккуратным рядом выставленных вдоль стены дома. Чуть дальше, у входной двери другого дома, прислонены к стене широкие выструганные доски — внутри, в прихожей, среди волн золотистых стружек, столяр ритмично строгает доску. Улица сияет белизною своих домов. Дорога здесь мягко подымается вверх. В конце улицы, на крутой скале, темнеет кроваво-красная ограда церкви, над оградой — пузатая коричневая кровля, на кровле, как раз над входом, балкончик с маленьким колоколом.
Колокол неторопливо бьет. Идут прихожане — на крутом подъеме улочки движутся черные фигуры, это идут женщины в развевающихся шалях. Сгорбленный крестьянин в буром кафтане грубого сукна, дойдя до порога церкви, тянет на себя дверь и неуклюже исчезает в черном проеме: дверь возвращается назад и захлопывается, сильно ударив по раме. Черные пятна накидок и бурые пятна плащей смешиваются, толпятся, теснятся у входа, постепенно толпа проходит внутрь, появляются другие фигуры и тоже исчезают. А дверь неустанно хлопает. Порывистый мартовский ветер метет улицы, солнце с перерывами освещает белые фасады, по небу плывут круглые облака.
В церкви прихожане нетерпеливо переминаются. Церковь простенькая. Пол вымощен красноватым кирпичом, стены голы. На алтарях, на широких белых прямоугольниках скатерок яркими мазками выделяются серебряные, зеленые, красные, желтые букетики искусственных цветов. Святые с невыразительно экстатическими минами раскрывают объятья, Святая Дева в своем конусообразном платье глядит изумленными очами. По углам главного алтаря, в глубине, колонны с канелюрами. Рассеянный свет из высоких окон нежными лучами скользит по потемневшим колоннам, нерешительно мерцает на изгибах волют позолоченных капителей. Против главного алтаря, на другом конце церкви, над невысокой аркой, — хоры. Под аркой красивая резная скамья.
Прихожане ждут. В просветах складчатой занавеси за алтарем временами видно движущееся черное пятно среди клубов дыма. Из ризницы выходит мальчик и начинает зажигать свечи у ретабло. Скачут бледно-золотые блики, на серых стенах дрожат длинные тени. Перед алтарем священник, крестясь, шепчет: «Знамением сим»… И руки прихожан, быстро двигаясь, мелькают перед их лицами. Начинается росарио. В конце каждой мистерии пронзительно звенит колокольчик.
После окончания росарио другой священник в белой пелерине поднимается на кафедру и бормочет слова Евангелия. Задергиваются длинные голубые шторы: церковь погружается в темноту. И проповедник грубоватыми словами красочного местного диалекта повествует о нескончаемых страстях Богочеловека. Время от времени из черных недр какого-нибудь капюшона доносится жалобный стон: «О Господи!» В мертвенном свете лампад поблескивают бритые головы крестьян. Свечи у ретабло горят спокойно. Порою входная дверь открывается, и луч солнца прорезает густую темноту яркой, ослепительной молнией. Рычит ветер на просторах огромной равнины с черными парами и зелеными посевами.
После экзордия проповедник молит Господа о помощи. Пока он стоит на коленях, на хорах запевают «Salve»[10], под аккомпанемент негромкой, приятно звучащей фисгармонии. Прихожане отвечают робким, еле слышным скорбным пеньем. Певчие поют следующую строфу, полную томления, тревоги, мольбы. Прихожане снова отвечают долгой печальной мольбой. Яркий свет из дверей на миг озаряет множество глядящих с надеждою лиц. Снаружи неистово бушует ветер. А старенькая фисгармония стонет, стонет тихо, смиренно, жалобно, как старуха, со слезами повествующая о минувших счастливых днях.
* * *
Пока идет проповедь, в ризнице один из причетников расхаживает и курит, другой сидит. Помещение ризницы небольшое, продолговатое, над шкафом из простых сосновых досок простер изможденные руки распятый Христос, на гвозде висит кадильница, на двух петельках белеют листки церковного календаря. Освещает ризницу узкое, низенькое окошко с запыленными стеклами, забранное густой проволочной сеткой. В противоположной стене невысокая филенчатая дверь ведет в темный коридор. А в конце коридора сияет ярким слепящим светом озаренный солнцем двор.
Тот причетник, который прохаживается, погружен, видимо, в глубокие и печальные размышления. Он высокого роста, сутана его на груди вся в продолговатых пятнах, шея замотана толстым черным шарфом, щеки румянятся от тонкой рыжей щетины, большой нос багрово пылает. Под граненой шапкой, надвинутой на лоб, мутные, блуждающие глаза. Важные заботы его тревожат, он нервно расхаживает взад-вперед по ризнице, яростно затягиваясь сигарой. Вдруг, останавливаясь перед сидящим причетником и оглядев отсутствующим взором пепел на кончике сигары, спрашивает:
— Как ты думаешь, у Хосе Марко самец лучше, чем мой?
Тот не отвечает. И высокий причетник, погрузившись в свои размышления, опять принимается шагать. Затем добавляет:
— Мы охотились в Чизнаре, Хосе Марко и я. Хосе Марко подстрелил семь куропаток, а я две… Мой самец не пел!
В дверях появляется субъект в поношенном плаще. Между двумя бурыми полами мятая сорочка кажется белой. А над высоким, жестким воротом плаща блестит розовой лысиной и выбритыми щечками изящная небольшая голова. Это мистик и плут, чем-то он похож на монаха, чем-то на сатира. Он стоит неподвижно на пороге, слегка расставив ступни, и вопросительно смотрит на обоих причетников. Глазки его дерзко сверкают, губы сокрушенно поджаты. Причетник останавливается перед ним, оба молча смотрят друг на друга, и причетник спрашивает:
— Как ты думаешь, у Хосе Марко самец лучше, чем мой?
Благочестивый плут склоняет голову, округляет брови и улыбается.
— Это как посмотреть…
И, лукаво усмехаясь, глядит на второго причетника, будто высказывая ему взглядом нечто давным-давно известное. Затем спрашивает у хозяина молчаливого самца куропатки:
— Ты с ним охотился?
Неуемно расхаживающий отвечает:
— Мы пошли на охоту, Хосе Маркос и я, он подстрелил семь куропаток, я две, — и со сдерживаемым гневом прибавляет: — Мой самец не пел!
Плут принес свежехонькую новость: Пуче наконец назначен священником Новой церкви.
— Вот как, — говорит сидящий причетник, — это благодаря Редону, — и глухо бормочет: — Тот его и епископом сделает.
Плут округляет брови:
— Это как посмотреть… — И, улыбаясь, открывает ослепительно белые, неровные, редкие, острые зубы.
Заговорив о Пуче, переходят к его племяннице Хустине.
— Идет она замуж за Асорина? — спрашивает сидящий причетник.
Плут отвечает, что нет. Пуче так противится браку, что Хустина скорее станет монахиней, чем женой Асорина.
Проповедь окончена. Входит, тяжело дыша, проповедник. Непоседливый причетник, стоя перед шкафом, натягивает через голову пелерину, надевает на шею орарь, набрасывает на плечи вышитый цветами плащ и выходит.
На пороге он слегка спотыкается.
V
В тихие августовские сумерки Юсте и Асорин прогуливаются по старой извилистой дороге, ведущей в Каудете. Небо постепенно темнеет, кое-где уже мерцают звезды, колокол призывает на «Angelus». И его прерывистым звукам вторит вдали кукушка.
Юсте, остановившись, говорит:
— Все зло в собственности, Асорин. На ней зиждется современное общество. И поскольку собственность в свой черед зиждется на силе и возникла благодаря силе, нет ничего более естественного, более справедливого, более гуманного, чем уничтожение собственности…
Асорин молча слушает учителя. Юсте продолжает:
— Да, все зло в собственности. Напрасно искать иных решений этой так называемой вечной «проблемы». Если не изменить среду, человек не изменится. А среда — это жилье, пища, гигиена, одежда, отдых, труд, развлечения. Изменим среду, сделаем так, чтобы все это — труд и развлечения — было полноценным, приятным, шло от сердца, — и человек изменится. И если ныне — в этой гнусной среде — его страсти разрушительны, в иной, здоровой среде, они станут созидательными. Разговоры о «социальной проблеме» лишены смысла, ее не существует. Есть страдания для одних и наслаждения для других, так как есть среда, которая первым враждебна, а для вторых благоприятна. Эту среду поддерживает сила. А из силы происходит собственность, а из собственности — государство, армия, брак, мораль…
Асорин возражает:
— Среда, обеспечивающая благосостояние всем, предполагает равенство, но ведь равенство…
Юсте его перебивает:
— О да, говорят, что равенство всех невозможно, что не у всех-де одинаковый уровень культуры, не у всех одинаковая тонкость восприятия, эстетическая и эмоциональная…
На минуту умолкнув, учитель затем решительно говорит:
— Но это будет у всех, будет. Сто лет назад Жан Батист Ламарк в своей «Философии зоологии» приводил следующий пример: птица оказалась вынуждена бродить по мелководью, ее потомство делает то же самое, потомки ее потомков делают это все лучше… И таким путем, мало-помалу, на протяжении многих поколений, у этой птицы нарастают между пальцами тонкие пленки, затем они утолщаются, становятся прочными перепонками, которые позволяют ей, потомку существ летающих, свободно бродить по болотам… Так вот, воспользуемся этим примером. Помести самого грубого, самого неотесанного, самого неинтеллектуального человека в гигиеничное, комфортабельное жилище, давай ему хорошее питание, одевай красиво, устрой так, чтобы труд его был необременительным, развлечения здоровыми… И уверяю тебя, через три, восемь, двенадцать или сколько там поколений потомок этого грубого рабочего будет прекрасным экземпляром человека образованного, утонченного, сердечного, интеллектуального.
Асорин замечает:
— Но это же трансформизм.
И Юсте соглашается:
— Да, трансформизм, и он учит: чтобы достичь идентичности, физиологического и психологического равенства, необходимого для абсолютного равенства перед лицом Природы, надо создать идентичную среду. Вот почему я только что сказал, что тут проблемы не существует. Да, не существует, с тех пор как Ламарк, Дарвин и прочие современные натуралисты доказали, что человек — продукт среды и сама среда. И если создать новый человеческий тип невозможно, не изменив его как продукт и не изменив саму среду, стало быть, необходимо радикально уничтожить то, что образует нынешнюю среду и ее продукт.
В вечерней тишине голос учителя страстно вибрирует. Сегодня утром Юсте получил некий журнал. В журнале том напечатана статейка, состряпанная его старым товарищем, взобравшимся ныне на высокий политический пост. И в этой статейке, являющей собою как бы хронику, в которой дефилируют все друзья их обоих, старые их товарищи, Юсте обнаружил, что его имя пропущено — по злобе, из зависти…
Учитель негодующе продолжает:
— Против этой махины нет иного средства, кроме силы. Наши предки тысячелетиями употребляли силу, чтобы создать учреждения, которые ныне стали источником страданий; мы же применим силу, чтобы создать иной общественный строй, который будет источником радостей.
Юсте думает о своем легкомысленном бывшем друге и его легковесных рассуждениях.
— Уж и не знаю, как называется то, чего я требую, на языке профессиональных политиканов, — прибавляет он, — но ясно вижу, что применение силы неизбежно, и с грустью отмечаю, сколько горькой, душераздирающей иронии в праздной болтовне о решении так называемой «проблемы», между тем как рабочий изнемогает на рудниках и заводах.
Из головы у Юсте не выходит болтовня его друга-политикана о гуманности. И он продолжает:
— Законы о несчастных случаях на работе, об охране детей, о суде присяжных, о минимальном жаловании… я считаю их все абсурдными и циничными. Тот, кто издает закон, полагает, будто на его стороне истина и справедливость, но могут ли тираны быть обладателями истины и справедливости? Закон закрепляет некое пожалование, а как можем мы терпеть, чтобы нам милостиво жаловали ничтожнейшую часть того, что у нас незаконно удержали? Пусть сколько угодно толкуют о «социальной проблеме», пусть ссылаются на социологов, экономистов, философов… Мне незачем ссылаться на кого-то, чтобы знать, что у земли нет хозяина и что монарх, министр или крупный промышленник имеют не больше прав, чем я, трудящийся, наслаждаться красотами искусства и природы. Труд — говорят экономисты — источник собственности, дом, дескать, принадлежит мне, потому что я строю его своим трудом или на свои деньги, представляющие мой труд. А кто научил этого собственника, спрошу я, добывать известняк в каменоломне? И кто изобрел огонь, на котором надо обжечь этот известняк, и правила, по которым надо воздвигать стены, и различные ремесла, без которых не завершишь строительство дома? По истинной справедливости, хорошенько все продумав и прочувствовав сердцем, тщеславный владелец дома должен бы вписать его в перечень собственности того первого дикаря, который добыл огонь трением одной палочки об другую. Когда я вожу пером, чтобы написать страницу, могу ли я уверять, что страница эта принадлежит мне, а не тем многим поколениям, которые изобрели алфавит, грамматику, риторику, диалектику?
Учитель умолк. Темнота стала гуще. Мелкие представители фауны поют многоголосым, гудящим, назойливым хором. А с безмолвных полей плывет смутная, гнетущая, гложущая тоска.
Юсте горячо продолжает:
— Считать собственность созданием личности! Это означает включить в мировую телеологию новую, несотворенную силу; это значит предполагать наличие изначальной и абсолютной причины, чего-то, находящегося вне нашего мира и ускользающего от всех его законов! Это столь же абсурдно, как свободная воля! Ничто не создается и ничто не исчезает, и законы, управляющие миром физическим, тождественны законам, что управляют миром моральным — поскольку оба эти мира одно и то же, — вот почему мы, исходя из неумолимой причинно-следственной связи, из слепого детерминизма, желаем уничтожить собственность. И вот каким образом первые атомисты — Эпикур, Лукреций — бесхитростно приходят к нам через века из Древней Греции, из Древнего Рима, чтобы в наше прозаическое время тревожить добропорядочного буржуа, наслаждающегося своими землями, или своими заводами, или своими купонами…
И учитель, успокоенный мирною вечернею тишиной, улыбнулся, удовлетворенный столь красочными ассоциациями. И ему подумалось, что парадоксы человека искреннего стоят больше, нежели депутатские грамоты и министерские портфели его легкомысленного друга.
VI
По случаю прекрасной погоды Юсте и Асорин отправились в послеполуденное время к Источнику. Чтобы добраться до Источника, надо пойти из города по направлению к площади для боя быков, затем свернуть налево. Источник дал название рыжеватой глинистой равнине, которая упирается в чернеющую на горизонте гору Магдалена. У подножья горы был некогда небольшой монастырь, окруженный тенистыми деревьями, и уэрта, орошаемая кристально чистой водой источника. Потом честные братья переселились в Еклу, и старинный монастырь ныне превращен в хуторской дом, возле которого растет могучая смоковница, посаженная еще святым Паскуалем.
Там-то, под легендарной смоковницей, уселись Юсте и Асорин. И с этого места любовались дивной — слегка грустной — панорамой: старинный город в серых и черных тонах с выделяющейся на ярко-синем небе колокольней Старой церкви, зеленые полосы полей и унылые безбрежные оливковые рощи, простирающиеся на равнине.
Постукивая по серебряной табакерке, Юсте задумался о бедах современной Испании.
— Если не изменится все, Асорин, зло не истребить, — сказал он. — И я не знаю, что позорней — несправедливость одних или покорность других. Я не патриот в узком, убогом смысле слова «патриотизм», в римском, так сказать, смысле, в смысле стремления возвеличить «мою» родину за счет других родин. Но я, проживший жизнь в общении с нашей историей, с нашими героями, с нашими классиками, я, испытывающий особое волнение на улицах Толедо или перед каким-нибудь портретом Эль Греко или слушая музыку Виктории, — я грущу, да, я грущу, глядя на этот упадок, на прискорбное измельчание духа прежней Испании. Не знаю, быть может, мое впечатление обманчиво, порой я сам сомневаюсь, однако ведь Сиснерос, Тереса де Хесус, Теотокопули, Берругете, Уртадо де Мендоса больше не появились, не появляются. И старые нации растворяются, утрачивая все, что у них есть живописного, — одежду, обычаи, литературу, искусство, — чтобы образовать огромную человеческую массу, единообразную и однотонную. Сперва происходит нивелирование в одной стране, затем придет нивелирование в мировом масштабе. И это необходимо, это неизбежно и — печально. (Долгая пауза.) Ну что осталось от старой Еклы? Исчезают уже нарядные доски для кухонной посуды в прихожих, старинная «ветка» с лилиями и розами из кованого железа превратилась просто в крюк для фонаря, не имеющий художественной ценности. И этот крюк, изготовленный машиной и заменивший изящное изделие кузнеца, есть символ неумолимого наступления промышленности, которая быстро распространяется, везде проникает, все унифицирует и делает жизнь в разных местах одинаковой. О да, это необходимо — и это печально.
Юсте, помолчав немного, возвращается к первоначальной своей теме:
— Вот все мы говорим о возрождении, все хотим, чтобы Испания была страной народа культурного и трудолюбивого, но ведь мы не идем далее этих платонических желаний. Надо двигаться вперед! А ничто не движется! Старики скептичны, молодые не хотят быть «романтиками». Романтизм был в какой-то мере ненавистью и презрением к деньгам, а теперь, видите ли, надо любой ценой обогащаться, и для этого нет лучшего пути, чем политика, и политика утратила свою «романтику», превратившись в некое ремесло, в нечто, приносящее деньги, подобно производству тканей, шоколада или любого другого продукта. Мы все призываем к возрождению — и все опутаны тенетами биржевых спекуляций и махинаций.
Достав из кармана газету, учитель развертывает ее.
— Сегодня я здесь прочитал, — продолжает он, — заметку одного моего ученика, называется «Протест». Хочу ее прочитать тебе, потому что она изображает период нашей жизни, который, возможно, со временем будет в истории называться «эпохой возрождения».
И под смоковницей, посаженной святым Паскуалем, мистиком, человеком строгой жизни и несгибаемой воли, Юсте прочитал этот образец приятной иронии:
«И в те времена все обитатели благодатной страны Нирвании загорелись огромным и пылким желанием возродить нацию! Возродить нацию! Промышленность и торговля составили партию для борьбы с укоренившимися злоупотреблениями, „Атеней“ открыл обширную рубрику, где политики, художники и литераторы в пространных „мемориалах“ обсуждали касикизм, ораторы на митингах возмущались „безнравственностью администрации“.
И вот однажды трое друзей — Педро, Хуан и Пабло, — прочитав в газете сообщение о каких-то вопиющих безобразиях, сказали себе: „Раз вся страна протестует против биржевых спекуляций, взяток и афер, надо и нам не стоять в стороне, но призвать к протестам конкретным, точным, практическим, и мы постараемся, чтобы красивые теории из толстых томов и речей спустились, наконец, к реальности и воплотились в жизнь“.
И Педро, Пабло и Хуан сочинили протест: „Независимо от всяческих политических споров, — писали они, — мы заявляем о нашем присоединении к кампании, предпринятой доном Антонио Добронравом, против безнравственности администрации и выражаем пожелание, чтобы кампании подобного рода проводились по всей Нирвании“. Затем трое неосторожных морализаторов задумали собрать подписи всех выдающихся людей, всех видных деятелей, всех знаменитостей старинной, благодатной страны Нирвании.
* * *
Начали они с мудрого и почтенного экс-министра. Этот экс-министр был философ, притом философ, любимый молодежью за свою доброту, за многие добродетели, за ясный, проницательный ум. Он прожил долгую жизнь, изведал немилость изменчивой толпы, и эти затаенные в душе обиды наложили на его последовательное и ученое мышление печать мягкого, добродушного скептицизма.
— О нет! — воскликнул философ. — Я снисходителен, я полагаю — и повторял это не раз, — что все мы зависим от объективных условий, и факторы, вызывающие поступки людей, столь различны, многообразны и противоречивы, что милосердное равнодушие тут предпочтительней беспощадного приговора. И главное, поймите, борьба за нравственность, за возрождение, за действенное и полное обновление лишь тогда может иметь успех, лишь тогда успех ей обеспечен, если она будет всеобщей, а не частичной, если охватит все общественные явления, а не ограничится одним из них.
Педро, Хуан и Пабло переглянулись, убежденные его словами. Да, несомненно, юношеская пылкость побудила их ополчиться против отдельных фактов и опасных личностей. Да, надо мыслить в плане всеобщем, а не частном. И они переделали свой протест, придав ему следующий вид: „Независимо от всяческих политических споров мы заявляем о нашем присоединении к любой кампании с целью поднять нравственность администрации и выражаем пожелание, чтобы подобные кампании проводились в Нирвании повсеместно“.
* * *
Затем Педро, Хуан и Пабло отправились к некоему красноречивому оратору, вождю крупной политической партии.
— Я полагаю, господа, — сказал им оратор, — невозможным и вдобавок несправедливым в данный определенный момент зачеркивать все то, что, составляя наследие многих поколений, медленно и постепенно вырабатывалось с течением времени во взаимодействии бесчисленных причин и следствий, создав установления, кои, хотя отчасти и нарушают наши отечественные свободы, но, с другой стороны — и это необходимо признать, — достойны уважения, ибо способствовали возникновению этих самых свобод и укреплению правового государства, которое в известном смысле дозволяет свободное развитие индивидуальной инициативы. Короче, я должен заявить, что хотя я, разумеется, приветствую предпринятую вами благородную кампанию и желаю вам успеха, но, на мой взгляд, надо уважать как бесспорную основу общества то, что составляет главное в социальном механизме, а именно — „приобретенные права“.
И снова трое простодушных обновителей переглянулись, убежденные его речью. Несомненно, знаменитый оратор прав: надо открыть энергичную кампанию за социальное обновление, однако уважая, да, глубоко уважая традиции, древние учреждения, словом, „приобретенные права“. И Педро, Хуан и Пабло снова переписали свой протест таким образом: „Независимо от всяческих политических споров, без намерения покушаться на приобретенные права, заслуживающие, на наш взгляд, уважения, и отнюдь не желая ломать порядок вещей, существование коего оправдано историей, мы заявляем свое пожелание, чтобы граждане Нирвании добивались повышения нравственности администрации“.
* * *
Продолжая свои хождения, трое молодых людей посетили затем ученого социолога. Социолог этот был человеком благоразумным, понимающим, слегка скептичным, который, изучив жизнь и по книгам и по людям, посмеивался и над книгами и над людьми.
— То, чего вы требуете, — сказал он, — кажется мне парадоксальным и несправедливым. Уничтожить касикизм! Общество — это организм, живое тело; когда это тело понимает, что ему грозит гибель, оно прибегает к любым средствам, только бы продлить свою жизнь, и даже создает себе органы вредоносные, но помогающие ему жить дальше. Так испанское общество, при угрозе разложения, создало касика, который хотя и употребляет свою власть на пользу частным интересам, но зато — и этого нельзя отрицать — подчиняет, сдерживает и примиряет эти самые интересы. Понаблюдайте за деятельностью наших касиков и вы увидите, что они примиряют, приводят к гармонии самые противоречивые частные интересы. Уберите касика, и эти интересы вступят в отчаянную борьбу, и выборы, например, превратятся в подлинные кровавые битвы.
В третий раз Педро, Хуан и Пабло переглянулись, убежденные его словами, и решили, что протест надо переделать в таком духе:
„Глубоко уважая и высоко оценивая как в целом, так и в частностях, нынешнее состояние общества, мы позволяем себе, однако, уповать на то, что в будущем участь народа Нирвании улучшится, но без посягательств на традиции или на приобретенные права“.
* * *
И когда Педро, Хуан и Пабло, устав от хождения со своим протестом, разошлись к вечеру по домам, они уснули сном праведников, спокойные, довольные и вполне убежденные в том, что живут в лучшем из миров и что Нирвания, в частности, прекраснейшая из всех стран».
Учитель умолк. Близился вечер, и, поднявшись, чтобы тронуться в обратный путь, он сказал:
— Если не изменится все, Асорин, зло не истребить. Одни — скептики, другие порочны, так мы и бредем, убогие, жалкие, без проблеска света впереди; промышленность в расстройстве, земледельцы отдают свою землю за бесценок. Я вижу здесь, в Екле, какая смертельная тоска их берет, когда надо проститься со своим виноградником, своей повозкой. Ибо если существует любовь глубокая, неизбывная, так это любовь к земле, к клочку земли, на котором ты всю жизнь гнул спину, который дал тебе деньги для твоей свадьбы, для воспитания детей и который в конце концов надо покинуть, покинуть навсегда, когда ты уже стар и не знаешь, что делать, куда податься. (Пауза. Юсте вытаскивает маленькую табакерку.) Потому-то я люблю Еклу, этот славный городок земледельцев. Я вижу их страдания. Я вижу их любовь, любовь к земле. И они наивны и простодушны, как русские мужики, и вера их беспредельна, это вера древних мистиков. Я испытываю волнение, когда слышу, как они по утрам поют росарио. А по субботам иные согбенные старики приходят пешком с полей за шесть — восемь лиг… И потом, после службы, так же пешком возвращаются домой. Вот она, старая Испания, Испания легендарная, героическая…
И взгляд почтенного Юсте устремился на лежащий вдали город, который растворялся в сумеречной полутьме под разноголосый колокольный перезвон.
VII
Сперва идет небольшая комната, за нею комнатка еще меньше, это спальня. Стены ее сияют белизной, той снежною белизной, которую так любят левантинцы; у одной стены большой стол орехового дерева, рядом с ним маленький столик, заваленный книгами, бумагами, тетрадями, рисунками, географическими картами. На стенах фотографии картин из музея Прадо — «Маркиза де Леганес» Ван Дейка, Гойя, Веласкес, рисунок Виллета, изображающий труппу бродячих актеров, которые идут по равнине в ветреный день, а вдали виднеется верхушка Эйфелевой башни; две большие немецкие гравюры XVIII века со святыми в экстазе и эстамп испанского художника XVII века под названием «Tabula regnum caelorum»[11], где показан мир с его пороками и грехами и пути к совершенству с идущими по ним избранными, в верхней же части — окруженная высокими стенами райская обитель со всеми чинами ангельскими и тремя почтенными особами Святейшей Троицы, которые в окружении своего двора удобно восседают на облаках. Еще стоят в комнате черные стулья с плетеными сиденьями и кресло-качалка того же гарнитура. Пол из мелких плиток, квадратных и треугольных, выложен мозаикой красного, черного и желтого цветов.
Здесь Асорин предается глубоким, трансцендентальным размышлениям, читает классиков и современных писателей, отечественных и иностранных. Недалеко от его комнаты библиотека — это большое помещение прямо под низкой, покатой крышей с грубыми, неровными, узловатыми балками. Стены почти полностью закрыты полками, на которых мудро почивают мудрые, ученые книги — огромные, старинные, с желтыми пергаментными страницами, глядящие отечески самодовольно, и рядом с ними, а то и непочтительно втискиваясь между ними, другие, небольшого формата, в желтых и красных обложках, похожие на сильных, дерзких юнцов, посмеивающихся над всеведущей старостью. Между этажерками стоят большие сундуки из белого соснового дерева — в них хранятся семейные запасы постельного белья, — а на сундуках банки, горшки, кувшины, миски, тарелки с цукатами и мармеладом — видимо, самым удобным местом для сушки этих изделий сочли библиотеку, согласно указанию славного Горация, советующего сочетать «приятное с полезным».
Асорин то и дело ходит из своей комнаты в библиотеку и обратно. И это занятие вполне достойное. Асорин читает в живописном беспорядке романы, книги по социологии, политике, истории, театру, книги о путешествиях, а также стихи. И это вдвойне похвально. Твердого критерия у него нет, ему нравится все, он интересуется всем. Ум у него жадный, пытливый, и в уединении провинциальной жизни чтение составляет его страсть, а единственное его общество — учитель. Юсте незаметно формирует этот ум по образцу своего. По сути оба они, без сомнения, люди передовые, прогрессивные, радикально настроенные, но в обоих чувствуется какое-то беспокойство, неудовлетворенность, тайный протест против застывших идей, что ставит в тупик собеседников и вызывает раздражение у поверхностного наблюдателя, досадующего, что он не может определить, не может «ухватить» эти оттенки, эти взлеты, эти внезапные броски мысли, которые ему, человеку цельному, человеку серьезному, несвойственны и непонятны, — раздражение ребенка, который, не понимая скрытого в игрушке механизма, ломает ее.
Посему неудивительно, что почтенные соседи усмехаются — но слегка, ведь они люди воспитанные, — когда какой-нибудь чужак заговаривает об учителе; и также вполне естественно и понятно, что добрые богомольные женщины — эти женщины с бледными лицами, одетые в черное и помнящие, как ты родился, — глядя на Асорина, тихо вздыхают и качают головою, сокрушенно сложив руки с переплетенными пальцами.
Но Асорина эти вздохи не слишком-то беспокоят, и он продолжает беседовать с учителем и читать толстые и тонкие книги.
Теперь Асорин читает Монтеня. Этот человек, который был отшельником и чудаком, как он сам, приводит его в восторг. У Монтеня есть пассажи, будто вчера написанные; очерк о Раймунде Сабундском — образец наблюдательности и тонкости. И потом это постоянное выпячивание своего «я», своих любовных увлечений, своих вкусов, своей манеры пить вино — «добрый глоток после обеда», — своего чтения, своей почечно-каменной болезни… Все это, составляющее личность «нелитературную», но живую, жестикулирующую, непоследовательную, зыбко очерченную, да, все это — восхитительно.
Время от времени Асорин думает о себе самом. Монтень был человеком странным, но он все же стал мэром Бордо; ныне, если ты чуть-чуть оригинален, не бывать тебе даже членом городского совета Еклы. Дело в том, что оригинальность, то есть самое высокое в жизни, самое яркое проявление жизни, это нечто непростительное в глазах черни, которая относится с опаской и недоверием — и правильно делает! — ко всему, что ускользает от ее предвидения, ко всему, что отклоняется от прямой линии, ко всему, что может породить в жизни новые ситуации, перед которыми она, чернь, окажется безоружной, беспомощной, посрамленной. Можно ли вообразить Пио Бароху алькальдом в Мостолесе? Сильверио Ланса — один из самых оригинальных характеров нашей эпохи — пытался стать алькальдом Хетафе. Но подписать его назначение было бы безумием!
«Жизнь в маленьких городах, — думает Асорин, — это жизнь пошлая, это пошлость жизни. Живут здесь проще, дольше и печальней, чем в больших городах. Самое странное в здешней жизни то, что человек ощущает, что он живет, а это ужаснейшая пытка. Отсюда методичность во всех поступках и во всех делах — тот свирепый педантизм, который ненавистен Монтеню, — отсюда предрассудки, которые здесь кристаллизуются до немыслимой прочности, мелкие страстишки. Человеческая энергия нуждается в выходе, в применении, ее нельзя все время подавлять, и она здесь хватается за мелочи, за пустячные дела — других-то нету — и раздувает их, искажает, преувеличивает. Вот секрет того, что можно назвать „гипертрофией событий“, гипертрофией, заметной у писателей, живущих в провинции, — например, у Кларина, — когда они судят о чьих-то успехах и провалах в Мадриде.
Да, ощущение того, что ты живешь, омрачает жизнь. Похоже, что смерть — единственная забота жителей этих городков, особенно здешних, ламанчских, с такими строгими нравами. Похороны, глашатаи похорон, расхаживающие по улицам с колокольчиком, заупокойные мессы, похоронный звон, мужчины в длинных плащах, вздохи, всхлипы, позы скорбного смирения, женщины в трауре с четками и с платочком, который они то и дело подносят к глазам, они навещают нас и со стонами рассказывают о смерти друга или родственника, девятидневные моления, и росарио, и жалобные песнопения по утрам, и процессии — все это образует какую-то тревожную, тягостную атмосферу, которая нас гнетет, внушает нам каждую минуту — о, эти бесконечные минуты в глухомани! — что все усилия напрасны, что единственно прочное в жизни — это страдание, и что бессмысленны наши хлопоты и стремления, раз всё — да, всё, люди и миры! — должно погибнуть, раствориться в небытии, исчезнуть, подобно дыму, славе, красоте, доблести, уму».
И почувствовав, что ему становится грустно и что мягкий скептицизм старика Монтеня, как он там ни мягок и прочее, это беспардонный нигилизм, Асорин отложил книгу и собрался идти к учителю — из огня да в полымя!
VIII
Милейший учитель — что греха таить! — по сути, законченный буржуа. Он методичен, обожает порядок, никогда не спешит: в определенное время встает, в определенное время ест, в определенное время прогуливается; книги у него стоят в образцовом порядке, бумаги все перенумерованы в тетрадях-каталогах. И он страдает, да, ужасно страдает, когда наткнется на какой-то беспорядок или когда что-то выбьет его из колеи. Ну, настоящий буржуа!
И в этот день, когда так приветливо светит солнце и деревья уже зеленеют весенними ветками, было бы жестоко лишить учителя его привычной прогулки. Он и Асорин отправляются к Магдалене. Там они усаживаются под смоковницей, посаженной святым Паскуалем — несомненно для того, чтобы они могли под нею сидеть, — и созерцают издали свой знаменитый — «очень знаменитый» — и любимый город.
В этом отрадном месте, среди тишины весеннего дня, глядя на великолепный пейзаж, невозможно пробудить в себе кровожадность и желать депутатам и членам городского совета провалиться в преисподнюю, и почтенный Юсте, великодушно воздерживаясь от обычных яростных анафем, мягко заговаривает о приятнейшей и самоновейшей — хотя она так стара! — из причуд человеческих, я имею в виду метафизику.
— Метафизика, — говорит учитель, — вечна, она проходит через столетия под различными именами, в различных одеждах. Теперь вот много говорят о социологии. Социология! Никто не знает, что такое социология. Существует ли она? Знали мы богословие, которое обо всем рассуждало, все исследовало: войну, симонию, колонизацию, магию, брак, все как есть… «Nullum argumentum, nulla disputatio, nullus locus alienus videatur a theologica professione et instituto»[12],— говорил падре Виториа, великий богослов. А позднее Монтень, великий философ, сказал: «Les sciences qui reglent les moeurs des hommes comme la théologie et la philosophie, elles se mêlent de tout; il n’est action si privée et secrette qui se desrobent de leur cognaissance et jurisdiction…»[13]
Но проходят годы, века, любознательное богословие стареет, прозябает в семинариях, умирает. Рождается «философия», философия энциклопедистов и новаторов XVIII века, которую оспаривали Альварадо, Себальос, Велес. Что такое философия? Философия тоже рассуждает обо всем — о политике, об экономике, о военном деле, о литературе; она решает все конфликты, вмешивается во все сложные вопросы. И вот в один прекрасный день философия, в свой черед, умирает. Когда? В Испании она, пожалуй, дотянула до Сентябрьской революции, а со времени Славной и доныне царствует «позитивизм». Позитивизм… Что такое позитивизм? Позитивизм тоже занимается всем, перемалывает все. И наконец, утомленный дотошным исследованием, соскучась, пресытясь им, позитивизм тоже погибает. Его сменяет социология, нечто вроде нового ликера Матушки Зайгель или новых пилюль Холлоуэй. Знает ли кто-нибудь, что такое социология? Проекты, трактующие о благоденствии общества, об отношениях между людьми, обо всех проблемах жизни, гипотезы, обобщения, предположения… Словом, метафизика!
Юсте на минуту умолкает, постукивая по серебряной табакерке. Кругом тишина, в воздухе разлито упоительное весеннее тепло. Птицы щебечут, деревья зеленеют, небо сияет дивной лазурью.
— Да, социология — это метафизика, — продолжает Юсте, — подобно позитивизму, подобно богословию. Почему метафизика? Метафизика — это леса для науки. Плотники сколачивают леса и строят дом; когда постройка окончена, леса убирают, и вот перед вами красивый, прочный дом. Так и мыслитель строит гипотезу, иначе говоря, леса; затем жизнь подтверждает гипотезу, тогда мыслитель гипотезу отбрасывает, и вот перед вами мощная, лучезарная истина. Без лесов плотник не может сооружать, без гипотезы, то есть без метафизики, мыслитель не может строить науку. Есть такие леса, которые, думаю, никогда не будут убраны; так, мы до сих пор не избавились от «первопричины». Есть другие, временные, на первый случай, например, те, что мы называем «чудесами». Оскверненная гостия источает кровь, мистик видит сквозь непрозрачные предметы. «Чудо! Чудо!» — кричим мы. И в один прекрасный день обнаруживается красный мучной грибок, открывают рентгеновские лучи — тогда леса убирают.
Учитель, снова умолкнув, глубоко вдыхает здоровый сельский воздух.
— О, это «непознаваемое»! — восклицает он затем. — Философские системы рождаются, стареют, их сменяют другие. Материализм, спиритуализм, скептицизм… Но в чем же истина? Человек забавляется философскими теориями, чтобы избавиться от сознания своего извечного невежества. У детей есть свои игрушки, у взрослых тоже. Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Гегель, Кант, все они — великие мастера игрушек. И метафизика — самая невинная и самая полезная из всех игрушек.
И опять любимый учитель умолкает, погрузившись в меланхолическое раздумье. В безмолвии полей ясно слышно, как бьют вдали колокола, призывая к девятидневному молению. На ярко-синем небе вырисовывается колокольня Старой церкви.
Юсте продолжает:
— Да, самая полезная. Этой ночью я в часы бессонницы придумал сказочку. Послушай ее. Называется она «О пользе метафизики» и говорится в ней следующее:
«Ехали однажды в вагоне два пассажира. Один толстый, с рыжей бородой, другой худощавый, с черной бородой. В обоих чувствовалась тихая покорность судьбе, некая философическая меланхолия. И так как у нас в Испании все путешественники становятся друзьями, оба они вступили в дружескую беседу.
— Я полагаю, — сказал толстый, нежно поглаживая свою бороду, — что жизнь печальна.
— А я полагаю, — сказал худощавый, пряча в ладонь легкий зевок, — что жизнь скучна.
— Человек — однообразное животное, — заметил толстый.
— Человек — животное методичное, — возразил худощавый.
Они подъехали к какой-то станции, один выпил рюмку простой водки, другой — рюмку можжевеловой. И снова потекла меланхолическая, неспешная беседа.
— Действительности мы не знаем, — сказал толстяк, сокрушенно глядя на свой кругленький живот.
— Мы ничего не знаем, — возразил худощавый, грустно рассматривая свои ногти.
— Никто не знает „ноуменов“, — сказал толстый.
— Действительно, — ответил, слегка смущаясь, худощавый, — я не знаю „ноуменов“.
— Только феномены реальны, — сказал один.
— Правда, только феномены реальны, — повторил другой.
— Мы живем только феноменами, — опять сказал первый.
— Мы живем только феноменами, — с глубокой убежденностью опять повторил другой.
И они погрузились в долгое, печальное молчание.
И когда оба приехали на свою станцию, то распрощались с весьма серьезным видом, убежденные, что не знают „ноуменов“ и что лишь феномены реальны.
Один был философом кантианцем, другой — импресарио ярмарочных балаганов».
Близится вечер. И, вставая, чтобы направиться обратно в город, учитель напомнил, что здесь, на склонах Магдалены, сотни веков тому назад жили славные люди, называвшиеся «кельтами», а еще много столетий спустя — другие славные люди, именовавшие себя «сыновьями святого Франциска», и что именно в этих местах и те и другие прогуливались с наивной и творческой верой, меж тем как они, современные люди, люди выродившиеся, прогуливаются, бесплодно иронизируя…
IX
«Понедельники „Эль Импарсиаль“» навеяли нынче на почтенного Юсте легкую философическую грусть. Учитель прочитал изящную «хронику», подписанную молодым человеком, в котором видят надежду нашей литературы. И он подумал: «Вот как теперь пишут, вот как пишут… Я чувствую себя жалким человеком. Оригинальность, идеализм, энергия фразы, непосредственность… Всего этого у меня нет, да никогда и не было. Я чувствую себя жалким человеком. Мое время прошло: да, когда-то я мог считать себя художником — была у меня известная смелость, легкость пера… Но этого скрытого ритма идей, который нас завораживает и волнует, его у меня никогда не было и нет… Вот как теперь пишут!» И учитель с грустью и огорчением взглянул на газету. «Каждые восемь, десять, двадцать лет, — продолжал он размышлять, — появляется новый тип писателя, выражающий стремления и вкусы общества. Достаточно открыть годовые собрания газет, чтобы это увидеть. Синтаксис, прилагательные, сравнения, даже пунктуация — все меняется на протяжении недолгого срока. Автор хроник не может быть „блестящим“ дольше десяти лет… да и того много. Потом он становится устарелым, неуверенным в себе. Приходят другие молодые люди с другими прилагательными, другими метафорами, другими парадоксами, и прежний наш автор умирает окончательно и для настоящего и для будущего. Кто был Сельгас? Кто был Кастро-и-Серрано? Я вижу, что в литературе важны две вещи — новизна и оригинальность. Новизна бывает в форме, в легкости слога, в пылкости, в изяществе фразы. Оригинальность — нечто более глубокое; она заключена в чем-то неуловимом, в тайных чарах мысли, в возбуждающем, таинственном движении идеи… Писатели новаторы — самые популярные; оригинальные же редко удостаиваются популярности при жизни, — зато они неминуемо остаются, да, остаются в потомстве. Дело в том, что популярным может быть только искусственное, вычурное, а у писателей оригинальных все просто, ясно, чуть ли не небрежно… потому что они чувствуют глубоко. Сервантес, Тереса де Хесус, Беккер — неправильны, угловаты, безыскусны. Во времена Сервантеса „блестящими“ хроникерами были братья Архенсола; во времена Беккера — уж и не знаю кто, возможно, этот нудный Лоренсана…» И учитель опять с грустью глядит на газету. «Да, был и я блестящим писателем. А теперь я одинок, забыт, я это понимаю, и мне грустно».
Приходит Асорин. День великолепный. Нежаркое, ласковое солнце заливает широкие улицы. Вдоль тротуаров женщины, сидя на низких стульях, занимаются шитьем. Временами доносится издали хор школьников.
Юсте и Асорин поднимаются на холм Кастильо. Там находится новое кладбище. Широкая дорога, выписывая зигзаги, ведет на самую вершину. Оттуда, сверху, хорошо видны город у подножья холма, и уэрта с бесчисленными зелеными прямоугольниками, и горы Колорадо и Кучильо, чьи голые силуэты замыкают горизонт. По другую сторону Кастильо простирается обширная равнина, местами зеленая, местами желтеющая, окаймленная где-то очень далеко синим профилем сьерры Салинас. А на первом плане, среди серых олив, — большой прямоугольник выбеленной глинобитной ограды, внутри которой множество черных точек.
Юсте усаживается, и его взгляд падает на длинные белые стены. Над ними, каркая, медленно пролетают две вороны. По дороге, ведущей к ограде, движется вереница людей в трауре. А небо такое сияющее, чистое, голубое.
Юсте говорит:
— Литературная слава, Асорин, — это мираж, мимолетная фантасмагория. Была у меня «моя пора», я был известным писателем; теперь меня никто не знает. Открой годовые комплекты какой-нибудь газеты — одно из самых грустных занятий! — да погляди на подписи, поставленные восемь, десять, двадцать лет назад. Ты увидишь имена, имена… писателей, которые жили одно мгновение, а затем исчезли. А ведь они были популярны, их хвалили, любили, превозносили. Кто теперь помнит Роберто Роберта, который был так известен? А Кастро-и-Серрано, который вчера скончался? А Эдуардо де Паласио, которого я так и вижу перед собой? В шестидесятые годы вел в «Лас Новедадес» театральную критику некий сеньор Гонсалес де ла Роса, или Роса Гонсалес… Не сомневаюсь, что его боялись на подмостках, ему льстили в артистических уборных, на другой день после премьеры публика его читала — как теперь Караманчеля, Ласерну, Аримона… Этот господин наверняка верил в бессмертие — как, без сомнения, верит наивный Аримон, — а погляди-ка, бессмертие и не вспоминает о сеньоре Росе Гонсалес. Да, Ласерна, Аримон и Караманчель могут извлечь из этого примера полезный урок.
Учитель, усмехнувшись, умолкает.
— Если ты, Асорин, — продолжает он, — когда-нибудь станешь писателем, относись к этому божественному занятию спокойно. И главное — не полагайся ни на критику, ни на славу в потомстве. Как раз в те годы, когда творил Гойя — около 1788 года, — самый большой литературный авторитет Испании, Ховельянос, сказал при весьма торжественных обстоятельствах, что Менгс — только послушай! — «первый художник на земле»… А кто теперь знает Антона Рафаэля Менгса? Как было со Стендалем, тебе известно — он писал для шести — восьми друзей. А о бедняге Сервантесе и говорить нечего — в его время все литераторы-культисты, все придворные поэты презирали этого человека, который неряшливым слогом писал непристойные вещи… Братья Архенсола, когда их назначили на какой-то дипломатический пост в Италии, грубо отказали его просьбам о месте, и наконец — хорошенько заметь себе, об этом, кажется, не говорил ни один сервантист, — наконец, некий иезуит, также чванившийся своим культизмом и блестящим стилем, сказал, что «Дон Кихот» — это «глупость». Сказал это в «Критиконе»…
— Стало быть, — спрашивает Асорин, — по-вашему, нет безошибочного и надежного критического суждения?
— Нет ничего устойчивого, бесспорного, неподвижного, — парирует Юсте.
И, утешаясь иллюзией, что он самый закоренелый скептик, учитель продолжает:
— Что мы знаем! Моя любимая книга — «Опыты» старого мэра Бордо, и лучшей мне не надо…
Затем, вспомнив о статье в «Эль Импарсиаль», прибавляет:
— Когда мне говорят о людях, которые «выбились», и о людях, которых «постигла неудача», мне смешно. Заметь, теперь публика совершенно изменилась: публики как таковой нет, есть много публик, быстро сменяющихся, преходящих, недолговечных. Публика в старину держалась лет двадцать, тридцать, сорок… она была «живучей». Чтение было не так распространено, не было крупных газет, которые в один день разносят известие о каком-нибудь событии всему народу, книг издавалось меньше, отношения между самими литераторами были менее тесными и постоянными, а уж между литераторами и публикой… Итак, если писателю удавалось снискать своему имени известность, он уже был писателем, который держался на одном и том же уровне популярности на протяжении одного поколения, лет двадцать, тридцать… Представь себе публику какого-нибудь из старинных умственных центров: Саламанка, Алькала-де-Энарес. Эта публика состояла из студентов, из людей молодых, они читали «Сны» Кеведо или десимы Эспинеля и наслаждались ими лет восемь, десять. Затем, закончив учение, они рассеивались по деревням, небольшим селениям и городкам, где у них уже не было иных развлечений, кроме охотничьего ружья да карт, занятий не слишком интеллектуальных… Так вот, разве не логично, что этот лиценциат права, или этот священник, или этот врач, забравшись в глухой угол, где у него уже нет никаких связей с литературой, поскольку он не читает ни газет, ни журналов и почти не видит новых книг, разве не логично, что его восхищение перед Кеведо или Эспинелем, которых он знает наизусть, длится всю жизнь?
Учитель делает небольшую паузу, затем продолжает:
— Пересмотри нашу историю литературы и поищи там тех, кого мы сегодня называем «неудачниками», — ты их не найдешь. Зато теперь долговечность одной публики сократилась, и если прежде «длина» публики шла вровень, — ну, может быть, чуть больше или меньше — с длительностью жизни писателя, ныне на одну жизнь писателя требуется четыре или шесть «длин» публики… Не знаю, понятны ли тебе мои геометрические уподобления… В итоге ныне на протяжении жизни одного писателя сменяется четыре или шесть публик. Отсюда то, что мы называем «неудачниками», отсюда то, что писатель свежий и сильный в 1880 году становится в 1890 году устарелым. И тут не важно, что этот писатель не выпускает пера из рук, то есть не прекращает общаться с публикой, — неуспех придет так или иначе. Этим объясняется, что X, Y, Z, которые из года в год ежедневно печатаются в крупных газетах, утратят авторитет в глазах поколения, от которого их отделяет совсем немного лет, поколения, которое хотя и не имеет «силы» во влиятельных газетах, зато задает тон своей молодостью — а это тоже сила — в интеллектуальных слоях нации.
Тут Юсте умолкает надолго. Солнце спускается к горизонту. И синие тона далеких гор постепенно темнеют.
Но вот учитель заговорил опять:
— И прими во внимание следующее, что весьма существенно: неуспех приносит публика, и только в наш век, когда в умах ее живет не художник, но представление, которое составила себе публика о художнике, возможны писатели-неудачники… Если же художник не живет ради публики и благодаря публике, разве может он потерпеть неудачу? Старые фламандцы Ван Дейк, Мемлинг, Ван дер Вейден, божественный Ван дер Вейден — как могли они потерпеть неудачу, если они не подписывали своих картин? Произведения почти всех наших великих классиков были изданы их наследниками или учениками.
Опять молчание. Юсте и Асорин спускаются с Кастильо широкой змеящейся дорогой. Город погружается в тень. Дым из тысячи труб образует белую туманную пелену на черном фоне крыш. И мощно высится в сумеречной мгле огромный купол Новой церкви.
Учитель достает серебряную табакерку. Взяв понюшку, он медленно произносит:
— Я и все мои товарищи были молодыми, которые «надеялись выбиться», и мы, без сомнения, «выбились». Затем пришла другая публика, пришли другие люди — и мы оказались «неудачниками», как окажетесь неудачниками вы, вернее, как сделают вас «неудачниками» те, кто придет за вами вслед. Вот прекрасное назидание (он улыбается), говорящее не о бессмертии, подобном «бессмертию» Гонсалеса де ла Роса, но об уважении, глубочайшем уважении, даже благоговении, которое нынешние молодые, нынешние «влиятельные», должны оказывать вчерашним молодым, тем, кто трудился так, как теперь трудитесь вы, к тем, у кого тоже была сила, вера, энтузиазм…
X
Вчера состоялись выборы. И, как обычно, депутатом оказался человек легкомысленный, пошлый, неискренний, который вечно улыбается, пожимает руки, дает обещания, произносит речи… Учитель был в бешенстве. Обычное величавое презрение к политическому ремеслу его покинуло, не в силах сдерживать себя, он ходит по кабинету, раздраженный, гневный. Асорин молча за ним наблюдает.
— Уж и не знаю, — восклицает Юсте, — можно ли назвать XIX век иначе, чем «веком надувательства». Во всем надувают, все подделывают, все фальсифицируют: догмы, литературу, искусство… Вот вам Лео Таксиль, грандиозный комедиант, самая колоссальная фигура нашего века, века, который изобрел демократию, всеобщее голосование, суд присяжных, конституции. Лео Таксиль начинал с того, что жил на счет католиков, публикуя против них диатрибу за диатрибой, которые расходились в тысячах экземпляров. Потом тема эта исчерпалась, а заодно доверчивость наивных вольнодумцев, и Таксиль, — он был человеком, пожалуй, не менее гениальным, чем Наполеон, — обратился в католичество вскоре после опубликования энциклики «Humanum genus»[14]. Теперь он принялся эксплуатировать невинных католиков. Он сочинил великолепную историю, почище «Илиады». Самая высокая масонская ложа, — говорит он, — зовется «Палладиум» и находится в Соединенных Штатах Америки в городе Чарльстоне, она была основана 20 сентября 1870 года, в день, когда солдаты Виктора Эммануила вторглись в Рим. Основатель «Палладиума» — Сатана, а один из иерофантов — Воган. У Вогана есть дочь, и эта дочь, будучи женою не кого-нибудь, а самого Асмодея, является верховной жрицей масонов. Вдобавок ее бабушка, по имени Диана, — это сама Венера-Астарта… Все это нелепо, смешно, глупо, однако в церковных кругах слепо этому поверили. Больше того, Лео Таксиль объявляет, что Диана Воган обратилась в католичество, сама же Диана издает свои «Мемуары бывшей жрицы „Палладиума“» — и католики всего мира падают на колени, изумленные милосердием Господа. Кардинал-викарий Парокки шлет Диане поздравление с ее обращением, которое этот простак именует «великолепным триумфом Благодати»; монсеньор Виченцо Серди, апостолический секретарь, также поздравляет ее, равно как епископ Гренобля, монсеньор Фана… И даже сама «Чивильта Католика», осторожный и рассудительный орган иезуитов в Риме…
Юсте нервным жестом достает с полки книгу.
— Вот, изволь, — продолжает он, — сама «Чивильта Католика», во втором сентябрьском номере за 1896 год посвящает большую, восторженную статью этим байкам, принимая их всерьез. Гляди, двадцать страниц! Здесь откровения Таксиля именуются terribile explosione[15]. Здесь говорится, что признания Дианы Воган это revelazioni formidabili[16].
Усмехнувшись с глубочайшей иронией, учитель прибавляет:
— Чего уж больше! В Тренто собрался многолюдный конгресс — тридцать шесть епископов и пятьдесят делегатов от еще стольких же епископов — и на конгрессе этом только разговору было, что о Диане. А Таксиль? Таксиль с олимпийским спокойствием взирал на спектакль, устроенный этими глупцами, как Наполеон на сражение. И в день 19 апреля 1897 года он соизволил оповестить весь мир, что Диана Воган прибудет в Париж и появится в зале Географического общества. И когда настал этот миг, великий Лео поднялся на трибуну и торжественно провозгласил, что Дианы Воган не существует и что Диана Воган — это он сам, Лео Таксиль…
Юсте, на минуту умолкнув, достает свою табакерку.
— Ренан говорил, — продолжает он, — что ни в чем не отражена с таким совершенством идея бесконечности, как в людской доверчивости. И это верно, очень верно. Погляди на Испанию: Сентябрьская революция — величайшая глупость, какой не совершали уже много лет; от нее-то и пошло все нынешнее легкомыслие, она стала чем-то вроде белены, под действием которой народ поверил в силу и правдивость всех этих распрекрасных прогрессивных речей.
Долгая пауза. Взгляд учителя инстинктивно задерживается на одном из длинных рядов книг. И Юсте восклицает:
— Вот почему я ненавижу Кампоамора! Кампоамор, в моих глазах, это астматический господин, который читает роман Гальдоса и похваливает Сентябрьскую революцию. Ибо Кампоамор воплощает целую эпоху, весь цикл нашей Славной с ее вопиющей ложью о демократии, с ее велеречивыми и продажными политиками, с ее пустыми, болтливыми журналистами, с ее ужасающими драматургами, с ее фальшивящими поэтами, с ее безвкусно театральными художниками… И сам он, с его пошлостью, полным отсутствием благородных порывов и трепета идеализма, — некий живучий символ целой эпохи пошлости и безвкусицы в истории Испании.
Юсте снова умолк. Наступал вечер, а вместе с вечером нисходили умиротворительные сумерки, и учитель заключил так:
— В конце-то концов среда — это человек. И наш легкомысленный и изменчивый депутат — как все депутаты, продукт малодушного, серого окружения. Я смотрю на депутатов, членов городских советов, секретарей, губернаторов, министров как энтомолог, изучающий интересную коллекцию. Только его насекомые насажены на соответствующие булавки. А эти не насажены.
Тем временем Асорин думает, что милый учитель с его вспышками гнева, улыбками и иронией, человек чистосердечный и благородный, заслуживающий — подобно Алонсо Кихано Доброму — восхищения, смеха и жалости одновременно.
XI
В это утро Асорин разъярен. При всей своей флегматичности и пассивности Асорин бесспорно питает к Хустине страсть, которую мы могли бы назвать неистовой. И вот нынче, в первом часу дня, после утренней обедни, пришла Илуминада, и от нее влюбленный юноша узнал прискорбную и горестную новость. Илуминада, близкая подруга и соседка Хустины — девушка умная, живая, властная, решительная. Говорит она уверенно, и все ее молодое, крепкое тело прямо-таки излучает энергию всякий раз, когда она берется за какое-то дело. Илуминада — характерный экземпляр стихийной свободной воли, ее замечания безапелляционны, ее желания — приказы. Как это прекрасно, сколько красоты в таком вольном развитии личности в наши времена, когда личностей не встретишь; поэтому Асорин испытывает особое удовольствие от бесед с Илуминадой (скажем это потихоньку, чтобы не дошло до слуха Хустины), и ему приятно смотреть на ее лицо, на ее статную фигуру, твердую, решительную походку и наблюдать, как по ее лицу пробегают выражения живой симпатии, мимолетных капризов, презрения, бурной, беспощадной ненависти.
Любит ли Асорин Хустину по-настоящему? Тут можно ответить утвердительно, но любовь эта какая-то рассудочная, некое смутное, непонятное чувство, то приходящее, то исчезающее влечение. И теперь, когда решение священника Пуче воспрепятствовать его любви обнаружилось со всей определенностью, Асорин при этой помехе — что по законам психологии любви вполне естественно — ощутил бурный прилив страсти.
Итак, печальные вести, принесенные прелестной Илуминадой, сперва ошеломили его, затем привели в ярость — это тоже хорошо известно психологам. И первой мыслью было, что учитель прав — да, изменить нынешнее состояние общества можно только силой, иного средства, кроме силы, нет.
И Асорин немедленно отправился к учителю, спеша выразить свое безусловное согласие. Однако по воле случая день нынче выдался великолепный, к тому же один иностранный журналист уделил учителю несколько абзацев, и в довершение Юсте этим утром получил от одного из самых блестящих писателей молодого поколения письмо, начинающееся словами: «Учитель мой…»
Посему на этот раз Юсте пребывал в лучшем из возможных миров и, сидя у себя в кабинете с пресловутой табакеркой в руках, грелся на солнце, чьи лучи лились в открытые настежь окна; Юсте, видите ли, благоразумно рассудил, что обстоятельства порой диктуют нам известную сдержанность в трудные минуты и что разумная осмотрительность отнюдь не лишняя в делах, решение коих чревато весьма серьезными последствиями.
— Кроме того, — прибавил он, — я полагаю, что применять силу означает прибавлять зло к уже существующему злу, то есть платить злом за зло, желать, чтобы в человечестве воцарилось добро через насилие, которым для этого воспользуется зло. И я спрашиваю…
Юсте дважды постукивает по табакерке. Право же, учитель сегодня ведет себя как на парламентской трибуне.
— И я спрашиваю: дозволено ли исправлять зло злом? За меня ответит Платон. Помнится мне, дорогой Асорин, что возлюбленный наш учитель в своем диалоге под названием «Критон» сказал, что ни в каком случае нельзя совершать несправедливость. Его учение — самое чистое, самое благородное, самое возвышенное из всех, какие знало человечество; в нем дух Будды, Иисуса, всех великих, любивших толпу, и дух этих мужей пронизывает несравненный диалог.
И учитель, взяв с полки книгу, читает:
«Сократ. Значит, ни в коем случае нельзя поступать несправедливо.
Критон. Нет, конечно.
Сократ. И значит, вопреки мнению большинства, нельзя и отвечать несправедливостью на несправедливость, раз уж ни в коем случае нельзя поступать несправедливо.
Критон. Очевидно, нет.
Сократ. Так что же, Критон: делать зло должно или нет?
Критон. Разумеется, не должно, Сократ.
Сократ. Ну, а воздавать злом за зло, как это утверждает большинство, будет справедливо или несправедливо?
Критон. Никоим образом.
Сократ. Потому что делать людям зло или поступать несправедливо — разницы нет никакой.
Критон. Ты прав.
Сократ. Стало быть, не надо ни отвечать на несправедливость несправедливостью, ни делать кому бы то ни было зло, даже если бы пришлось пострадать от кого-нибудь»[17].
Отложив книгу, Юсте продолжает:
— В наши дни апостолом этих учений стал Толстой. И ты сейчас услышишь его письмо испанским революционерам, где в нескольких строках изложен его идеал и которое чрезвычайно интересно сравнить с прочитанным мною текстом Платона.
Речь идет о письме редакторам «Ла Ревиста Бланка»; они просили у Толстого какое-нибудь произведение для своего ежегодного альманаха, и Толстой ответил им так: «Ваше письмо с просьбою написать что-либо для „Альманаха“ будущего года я получил в момент весьма тяжелый для меня как существа смертного, равно как и для вас, граждан Испании.
Не далее как вчера я прочитал об одном из столь частых в Испании мятежей — не знаю, было ли тут виною дурное правление или же нужда, которую терпит испанский труженик, или же — что вполне возможно — и то и другое вместе. Я имею в виду восстание в Севилье, при котором страсти людей, на мой взгляд дурных, опять стали причиною кровопролития.
Нет, не путь насилия приведет нас к желанному миру, но только сам мир, вернее, пассивное сопротивление.
Если бы рабы, все рабы, жертвы современных фарисеев, отравляющих и угнетающих их души, отказались работать, пробил бы час торжества смиренных. Таким простым способом удалось бы повергнуть в прах идолов, тех богов личных, которые пришли на смену безличным богам истинного христианства.
И однако везде продолжает литься кровь, как в разгар варварства. Правящие классы цивилизуют и воспитывают пушечными выстрелами; управляемые защищают свои интересы, вооружаясь всяческими средствами разрушения.
Это ложный путь.
Я умру, не увидев людей обновленными. Но моей вины в этом не будет, что меня утешает.
Прошу меня простить, господа редакторы мадридского журнала „Ла Ревиста Бланка“ за то, что слабое здоровье не позволяет мне удовлетворить вашу просьбу, чего бы я искренне желал, ибо в Испании много трудных проблем, однако я тут не смогу быть вам полезен и полагаю, что мне уже вряд ли удастся когда-нибудь говорить о вашей стране, имеющей так много сходства с той, в которой родился я.
Считайте меня вашим братом.
Лев Толстой».
Немного помолчав, Юсте прибавляет:
— Вот слово человека мудрого и доброго! Именно так, через кротость, смирение, пассивность придет на землю царство Справедливости.
Тут Асорин, внезапно вскочив на ноги, возмущенный, разгневанный, дрожащий от негодования, воскликнул:
— Нет, нет! Это недостойно, это бесчеловечно, это позорно! Царство Справедливости! Царство Справедливости не может прийти благодаря самоубийственному бездействию и пассивности! Бездеятельно взирать на то, как творятся несправедливости, — это величайшая безнравственность. Почему мы должны покорно терпеть насилие и не имеем права уничтожить его другим насилием, которое помешает дальнейшим несправедливостям? Если я вижу разбойника, напавшего на вас с ножом, чтобы вас убить, неужто я должен равнодушно смотреть на совершающееся убийство? Если выбирать между смертью разбойника и вашей смертью, можно ли сомневаться, что лучше пусть умрет разбойник? Можно ли сомневаться, что, видя занесенный нож и имея в кармане револьвер, я должен, я обязан сделать выбор, что мой бесспорный нравственный долг сделать выбор между двумя катастрофами? О нет, нет! Моя пассивность при виде насилия — вот что было бы безнравственно, глубоко безнравственно; в этом случае, подобно многим другим, бесчеловечно было бы только смотреть, сложа руки, как вы желаете, и позволять злу осуществляться. Может ли утверждать сам Толстой, что своими книгами не вооружил для бунта руку какого-нибудь рабочего? Книга, слово, рассуждение — да ведь это тоже действие! И эта книга, это слово, это рассуждение станут реальностью, воплотятся в делах — да, в делах, которые окажутся в противоречии с другими делами, с другим состоянием общества, с другой средой. И это уже действие, это уже насилие! Пассивное сопротивление! Абсурд! Для этого надо уподобиться камню, но даже камень и тот меняется, разрастается, распадается, эволюционирует, живет, борется! Пассивное сопротивление! Мечта факиров! Это недостойно! Это чудовищно! Я протестую!
И Асорин выбежал вон, громко хлопнув дверью. Тогда учитель, слегка сконфуженный, но и слегка польщенный пылкостью своего ученика, с грустью подумал: «Решительно, я жалкий человек, который живет всеми забытый в глухой провинции, жалкий человек — без веры, без воли, без энтузиазма».
И если подле нас — как уверяют многие почтенные люди — всегда находится ангел, то, несомненно, ангел тот, читающий самые потаенные мысли, почувствовал к учителю в этот миг сокрушения сердечного живейшую симпатию.
XII
Буйная зелень винограда карабкается по белым колоннам, обвивает трухлявые балки беседок, осеняет тополевые аллеи пышной кудрявой кровлей, бурными волнами переливается через пузатые, глинобитные ограды садов, ниспадает вниз, царапая водную гладь широкой, обрамленной крапивою канавы. За садами, за городом простирается огромная равнина, живописно разделенная на небольшие прямоугольники — зеленые, светло-зеленые, серые, блестящие, тусклые — и, уже более беспорядочной мозаикой, всползающая по отлогим склонам далеких бурых холмов. Между листвою змеятся, блестят полноводные канавки. Солнце заливает окрестности ослепительным светом, жарким зноем опаляет завитки виноградных лоз, просачивается сквозь могучие кроны орехов и рисует на земле тонкое кружево из света и тени. Время от времени порыв теплого ветра с шумом и шелестом проносится по высоким зарослям кукурузы. Вся природа, разгоряченная, трепещет. Где-то там, вдали, серое пятно города сливается с серыми пятнами голых склонов горы. В туманно темнеющем городе проглядывают то голубой фронтон дома, то белая полоса стоящих в ряд низких домиков, то небольшие зеленые штрихи посаженных рядами смоковниц. Громадный купол Новой церкви ослепительно сверкает играющими по нему лучами. Над Коллегией, на краю уэрты, два стройных тополя, прорезая красную ограду двумя узкими зелеными кинжалами, вздымаются над крышей и устремляют в небо заостренные кроны. Поближе, на первом плане, несколько тенистых миндальных деревьев вносят в темный фон города светлые, радостные мазки. А по правую руку, в глубине равнины, изрезанной блестящими, длинными полосами, над густой купой вековых вязов, чернеет гора Магдалена, выгибая свой гигантский хребет в пронизанном золотистым светом воздухе.
Городок спит. Тишину рассекает серебристо-звонкое пенье петуха. Неустанно трещат на вязах сонные цикады.
* * *
Мало-помалу зной спадает. Тени становятся длиннее, растения, сладострастно набухая влагой, расправляются, прохладные дуновения ветра освежают деревья. Небо у горизонта постепенно окрашивается светлым пурпуром, затем ярким кармином, затем ослепительным багрянцем, который зажигает на равнине настоящий пожар и, поверх редкого частокола темнеющих молодых тополей, обдает алой каймою силуэт горной гряды Салинас.
В мирной тишине близящегося вечера горожане прогуливаются по уэрте. Среди кукурузных полей прохаживается вдоль межи компания из четырех-пяти человек. Затем они садятся. Идет беседа. Говорят об изобретателе Кихано. Два года тому назад, в разгар войны, Кихано заявил, что изобрел новое взрывающее устройство. Крупнейшие газеты опубликовали заметки о Кихано, иллюстрированные журналы напечатали его портрет. Но неудачно прошедшие испытания вернули изобретателя обратно в неизвестность. В своей скромной мастерской в Екле он усовершенствовал изобретение. Должна состояться решающая проба. Успех несомненен, многие неоднократно видели работу таинственного устройства. Кихано верит в свое создание. Екла надеется.
Екла ждет с нетерпением. Кихано восхваляют, Кихано бранят. В ризницах, в задних комнатах аптек, в лавках, в кафе, на полях, на улицах толкуют о прессованном порохе, о динамите, о максимальном заряде, об отклонениях, о траекториях. Город сходит с ума. В казино, среди стука костяшек домино, от столика к столику перелетают бранные словечки, возгласы, насмешки. Заключаются пари, изрекаются патриотические пророчества, изрыгаются яростные проклятия. По белому мрамору столиков ударяют кулаки, и чашки дребезжат.
…В этот алый закатный августовский вечер небо словно бы воспламенилось от пылких страстей горожан. Очень медленно закатное зарево угасает. Солнце зашло, на обширную равнину ложится тень. Различные оттенки зеленого переходят в огромное однотонное пятно мутной синевы; первый план пейзажа сливается с глубинными, одеваются таинственной дымкой светлеющие выступы гор. Прочеркивая бледную синь, летит ласточка. И вдали, в густеющей темноте, залитая водою песчаная отмель, подобно огромному зеркалу, отражает последние лучи.
XIII
Приехал редактор — сотрудник газеты «Эль Импарсиаль», другой — от газеты «Эль Либераль», третий — от «Ла Корреспонденсия», и еще один — от «Эральдо». В состав технической комиссии входят артиллерийский капитан, капитан инженерных войск, преподаватель Школы искусств и ремесел. Прямо с утра комиссия отправляется к Кихано и изучает его токспир. Комиссия высказывает мнение, что токспир не будет действовать. Токспир состоит из двух, четырех, шести набитых порохом трубок, трубки уложены параллельно в ряд на окрашенном черною краской столе; огонь, пробегая по передним отверстиям трубок, приводит токспир в действие. Технические эксперты прежде требовали, чтобы в устройстве было шестьдесят килограммов динамита; Кихано не сумел изготовить соответственные трубки. И комиссия решает, что токспиры заводского производства будут содержать один килограмм шестьсот граммов условного динамита. Пресса покровительствует изобретателю, один знаменитый драматург, один министр и один экс-министр заинтересованы в успехе.
Испытания проводятся после полудня, у железной дороги. Город жаждет ознакомиться с грандиозным изобретением. Кафе переполнены, кругом шумят, спорят, смеются. И с серебристым звоном бубенцов катятся по широким улицам двуколки…
Среди раскинувшихся на равнине виноградников, под жгучим августовским солнцем, толпятся любопытные вокруг деревянных козел. Но вот все отпрянули подальше, сам Кихано отходит в сторону — его подручный поджигает токспир. Токспир взлетает, отчаянно кувыркаясь, и тяжело падает метрах в ста… Газетчики изумленно открывают глаза, артиллерийский капитан возмущен, публика улыбается. Испытания продолжаются, поджигают еще два, четыре, шесть токспиров. Некоторые из них катятся по земле, иные летят назад, иные натужно взлетают, а один взрывается с ужасным треском. И народ пускается врассыпную, петляя меж виноградными кустами, над кудрявой зеленью которых, подобно порхающим бабочкам, мелькают зонтики.
Когда все возвратились в город, вечером, ирония и возмущение излились в насмешках и злословии. За несколько дней до того Асорин отправил в «Ла Корреспонденсия» статейку с пылкой хвалой Кихано; «Ла Корреспонденсия» напечатала статейку на видном месте. Номер был доставлен как раз в день злосчастных испытаний. И в казино его читали вслух перед кружком слушателей, взгромоздившихся ногами на стулья. Автор полагал, что проблема токспира решена окончательно, токспир готов для успешных испытаний: автор видел, как он «смело прорезал воздух». «Со скоростью, регулируемой по желанию, — добавлял он, — можно будет посылать огромные количества динамита на два, четыре, шесть километров против любого препятствия. Ясны ли масштабы революции, которую предвещает новое оружие? Военный флот полностью изменит свой вид, броненосцы станут бесполезными. С берега, с какой-нибудь шлюпки, токспир своим взрывающимся динамитом ударит по броне судна, и броня разлетится вдребезги. Испания вновь обретет могущество, Гибралтар станет нашим, великие державы будут искать союза с нами. И старый двуглавый орел снова величаво воспарит над Европой…» Газетчики совещались, спорили, опять совещались, опять начинали спорить. Им было приказано, если испытания окажутся неудачными, не посылать телеграмм; статья в «Ла Корреспонденсия» поставила их в трудное положение.
В доме Кихано, в гостиной, изобретатель держит речь перед кучкой друзей. Сцену озаряет мертвенно-бледный свет керосиновой лампы. В глубине, полулежа в кресле-качалке, меланхолически глядит на собравшихся женщина. Это жена изобретателя, у нее больное сердце, и ее уверили, что испытания прошли успешно. Кихано, сидя верхом на стуле, прислоненном спинкой к столу, сильно жестикулирует. Рядом с ним Лассо де ла Вега. Лассо де ла Вега — высокий, худощавый идальго, весь в черном; у него удлиненное лицо багрового цвета и жесткие черные усы, говорит он не спеша, звучным голосом. Возле него человечек со спутанной бородой, в грязно-белом мешковатом костюме, время от времени одобрительно кивает. Между гостями снуют две хорошенькие девушки.
Кихано утверждает, что испытания прошли «блестяще». Комиссия утром заявила, что трубки, мол, не полетят, — трубки полетели. Но ведь это опытные экземпляры, у него нет надлежащих инструментов, чтобы сделать их совершенными. Сама идея разумна, подвели средства исполнения.
— Это все равно, как если бы у нас в Екле кузнец сделал паровоз, — добавляет Кихано, — паровоз действовать не будет, но с научной точки зрения он будет вполне хорош.
Человечек кивает, соглашаясь; Лассо восклицает:
— Совершенно верно!
В соседней комнате накрывают стол к ужину. И под стук тарелок и приборов Лассо звучным голосом, с торжественно выдержанными паузами, читает длиннейшую оду, которую некий гранадский каноник прислал Кихано. «Ковадонга, Лепанто… гигантов… Сантьяго, Кавите… мы квиты…» Звенят тарелки, звякают вилки и ножи.
На следующий день утром в кабинете Кихано один из его почитателей озабоченно говорит: «Дон Алонсо, в городе осталось дурное впечатление, комиссия и газетчики считают вчерашние испытания провалом. Вам непременно надо сделать все возможное, чтобы трубки, которые должны взрываться сегодня, показали лучший результат». Вопрос этот обсуждается. Бесспорно, тут просто непонимание. Газетчики полагали, что едут смотреть окончательные испытания; но ведь это не так. Кихано только пригласил кого-нибудь из «Эль Импарсиаль» присутствовать на опытах, а другие газеты сочли долгом также послать своих сотрудников.
— Однако, — возражают ему, — газетчики говорят, что имеется письмо, в котором-де приглашают представителя «Эль Импарсиаль» на завершающие испытания.
Кихано протестует:
— Нет, нет, у меня сохранился черновик письма.
И он нервно дергает ящик стола, вытаскивает кипу бумаг, ищет, роется, ворошит их в поисках письма. Наконец письмо найдено, и он громко читает один абзац.
— Кроме того, — прибавляет он, — в своем докладе я пишу, что предлагаю лишь убедиться в том, что мое устройство вполне научно, что оно создано на основе науки, но я отнюдь не утверждаю, будто уже довел его до совершенства, — тут он читает отрывок из доклада ин-фолио. — Газетчики, — говорит он в заключение, — исходили из ложной предпосылки.
А Лассо де ла Вега сентенциозно прибавляет:
— Не умеют они мыслить аналитически.
Газетчики, однако, намерены телеграфировать о сокрушительном провале, надо пойти втолковать им, как дело обстоит в действительности. Кихано отряжает Лассо и человечка в белом костюме. В дверях Лассо повторяет:
— Не умеют они мыслить аналитически.
Газетчики, народ молодой, провели веселую ночку. В одиннадцать утра они только просыпаются в гостиничном номере. Солнце ярко светит через балконную дверь без штор, на полу валяются раскрытые чемоданы. Газетчики соскакивают с кроватей, потягиваются, одеваются. Сотрудник «Эральдо» чистит щеточкой зубы, представитель «Ла Корреспонденсия» в углу обдает голову водою, третий — из «Эль Либераль» — с философским спокойствием натягивает носки. И Лассо, стоя посреди комнаты, заводит патетическую речь в защиту токспира. Входит и выходит слуга с кувшином воды, хлопает дверь, обсуждается вчерашняя пирушка, раздается смех. Лассо невозмутимо продолжает речь:
— И мы не должны удивляться, что вчера некоторые трубки летели назад, поскольку известно, что морские торпеды нередко возвращаются в пункт запуска.
И указательным пальцем он очерчивает в воздухе круг.
В три часа подают поезд. Его осаждают любопытные. Пройдя два километра, он останавливается. Народ шагает пешком по путям. Кихано, ступая по шпалам, на ходу, под знойным солнцем, читает свой доклад сотруднику «Ла Корреспонденсия». Зрители рассеиваются по винограднику. Минута тишины. И вдруг черный ствол взлетает вверх, подобно летучей мыши. Затем выстреливаются еще девять токспиров. Сегодня в них нет надлежащего количества динамита. Они летят на двести, триста, четыреста метров, отклоняясь на тридцать, сорок. Газетчики скучают, чуть поодаль преподаватель Школы искусств и ремесел, господин в черном костюме и светлых сапогах, легонько ударяет себя по ноге виноградной лозой.
Комиссия и газетчики садятся на поезд и уезжают обратно в Мадрид. Черный султан паровоза движется вдали над зеленью виноградников.
А вечером, у распахнутых настежь балконных дверей, Асорин укладывает на столе стопку листов бумаги. В черном небе сверкает, искрится рой звезд. На первом листке наш хроникер выводит большими буквами «Эпилог одной мечты». Затем пишет: «Старый испанский орел — упомянутый мною в статье „Изобретатель Кихано“ — молча возвратился к своим царственным символам — пучку стрел и символической прялке».
Остановись в нерешительности, он поправляет листки, макает перо раз, еще раз…
XIV
Серый, скучный день. Моросит мелкий дождик, беспрерывный, бесконечный. На улицах пусто. Только изредка услышишь торопливые шаги, пройдет, укутавшись в плащ, крестьянин. Час за часом тянутся как вечность…
В этот день Юсте и Асорин не смогли совершить обычную прогулку. Сидя в кабинете учителя, они ведут неспешную беседу и в долгие паузы слушают, как булькает вода в канавах и извергается с перебоями из водосточных труб. Еле слышные удары колоколов отмечают час дня, раздается протяжный, вибрирующий крик бродячего торговца.
Асорин замечает:
— Удивительно, насколько эти крики напоминают стон, мольбу, у них такая странная мелодия…
И Юсте говорит:
— Обрати внимание: крики торговцев в больших городах, в Мадриде, коротки, отрывисты, в них нет и проблеска духовности. А в провинции они еще художественны, протяжны, жалобны… в них есть нежность, меланхолия… Причина та, что в больших городах все спешат, экономят каждую минуту, живут лихорадочно, а это маленькое произведение искусства, как и всякое произведение искусства, требует времени, время же, которое продавец на него потратит, он может употребить на что-то другое. Эта как будто незначительная деталь — символ целой эпохи в жизни нашего искусства. Как уличный торговец обходится без художественных тонкостей, потому что торопится, точно так же обходятся без них романист и критик. Мы дошли до того, что можем писать роман или критический труд механически, подобно тому, как машина штампует пуговицы или булавки. Оттого и утрачивается добросовестность, тщательность в работе и множатся всякие уловки, жульничества, подделки стиля…
Юсте, умолкнув, берет книгу с полки. Затем продолжает:
— Меру таланта художника можно определить по его чувству природы, пейзажа. Писатель будет тем больше художником, чем лучше он сумеет передать настроение пейзажа. Это чувство полностью — почти полностью — современное. Во Франции оно появляется лишь со времен Руссо и Бернардена де Сен-Пьера. В Испании — если не считать некоторых старинных поэтов — его, думается мне, ощущал только фрай Луис де Леон в своих «Именах Христа». Так вот, для меня пейзаж — наивысшая ступень литературного искусства. И столь немногие ее достигают! Взгляни на эту книгу, я ее выбрал, потому что автора превозносят как мастера описаний. И сейчас ты убедишься воочию, на этом маленьком уроке литературной техники, о каких жульничествах и подделках я говорил. Самое крупное жульничество — это прежде всего сравнение. Сравнивать означает избегать трудностей, тут есть что-то примитивное, ребяческое, это мошенничество, к которому не должен прибегать ни один художник. Вот тебе страница:
«В огромной долине апельсиновые рощи подобны бархатистым волнам морским; полосы и квадраты менее темной растительности разрезают кирпично-красную землю на геометрические фигуры; купы пальм вздымают колышущиеся султаны листьев, словно струящиеся фонтаны, устремленные к небу и падающие в томном бессилии; среди зеленых садов голубые и розовые дома селений; белые хуторские домики, почти скрытые буйной зеленью рощ; высокие трубы поливочных машин, желтые, как свечи с опаленной верхушкой; Альсира с ее домами, теснящимися на острове и переползающими на противоположный берег, — все матово-яичного цвета и испещрено окошками, словно изъедено черными оспинами. Дальше — Каркахенте, город-соперник, окруженный поясом своих пышнолистных садов; ближе к морю — угловатые изломы гор, чьи очертания издали напоминают фантастические замки, придуманные Доре, а в противоположном конце — селения на возвышенностях побережья, плавающие в озерах изумрудных садов, далекие фиолетовые горы, и солнце, начавшее опускаться, подобно золотому ежу, скользя меж клубами газов, образуемых вечно пылающим огнем».
Учитель достает серебряную табакерку и продолжает:
— Это одна страница, одна короткая страница, и автор на ней целых шесть раз применяет жульнический прием сравнения — то есть шесть раз, когда надобно вызвать незнакомое ощущение, прибегает к другому, знакомому. А это все равно как если бы я, не умея что-то рассказать, позвал бы соседа, чтобы он рассказал вместо меня. Заметь — и это самый серьезный недостаток, — что на этой странице, хотя автор старается передать цвет, нет ничего пластичного, осязаемого; вдобавок пейзаж — это ведь не только цвет, но и движение и шумы, автор же стремится только живописать… Да, на этой странице нет ничего пластичного, ни одной из тех маленьких, но ярких подробностей, вызывающих некое особое состояние духа, ни одной из тех подробностей, которые дают — и лишь они и дают — ощущение целого и которые обретаются инстинктивно, только художественным инстинктом, а не трудом, не чтением мастеров или еще чем-то…
Юсте подходит к полкам и берет другую книгу.
— А теперь послушай, — продолжает он, — другую страницу. Это молодой романист и, пожалуй, — нет, лучше без «пожалуй», — среди молодых самый оригинальный и с самым глубоким эстетическим чувством.
И учитель неспешно читает:
«Несколько часов спустя, в комнате дона Лусио. В жаровне догорает огонь, среди темноты в золе сверкает одна искорка, как налитый кровью глаз хищника. Вечереет, и тени заполнили все углы комнаты. Тускло светит стоящая на комоде свеча. Слышно, как раздаются и тонут в безмолвии сумерек колокольные удары „Angelus“.
В окно доносятся издали смутные шумы мирной сельской симфонии — звон бубенцов возвращающегося домой стада, журчанье реки, изливающей Ночи свою вечную, монотонную жалобу, и унылый гортанный звук, сыгранный лягушкою на ее флейте, кристально ясный звук, который прорезает безмолвный воздух и исчезает как блуждающая звезда. В небе густого темно-синего тона сияет белым светом Юпитер».
— А теперь, — прибавляет учитель, — еще несколько стихотворных строк, написанных пять веков тому назад. Они принадлежат самому пластичному, полнокровному и непосредственному из всех испанских поэтов, древних и современных — Протопресвитеру Итскому. У Протопресвитера был необычайный инстинкт свежего, впечатляющего слова. Его автопортрет — чудо. Эти стихи из поразительной сцены, где сводня Тротаконвентос соблазняет донью Эндрину, сцены, которую не превзошел и с которой даже не сравнился Рохас. Тротаконвентос приходит в дом вдовы, предлагает ей кольцо, улещает ее сладкими речами, толкует о том, как жаль, что вдова все в тоске да в одиночестве, что она не снимает траура… когда есть некто, кому она весьма по сердцу. И она говорит:
Из дома ни на шаг, вдовица молодая, Как горлица без друга живешь ты, изнывая, Тебя уж не узнать, вся желтая, худая…И только двумя этими прилагательными «желтая, худая» обрисован беглый портрет скорбящей вдовы — круги под глазами, она бледна, истощена, печальна…
Долгая пауза. Дождь моросит без устали. Вода струится по цинковым желобам, шумит, журчит, булькает. Слюдяные окна постепенно светлеют.
Асорин говорит:
— Позволю себе заметить, учитель, что в современном романе есть нечто еще более фальшивое, чем описания, — это диалоги. Диалог искусствен, условен, литературен, да, чрезмерно литературен.
— Почитай «Цыганочку» Сервантеса, — возражает Юсте. — Цыганочка — пятнадцатилетняя девушка, которая, я полагаю, не училась ни в одном университете и не состоит членом какой-либо Академии… Так вот, обрати внимание, как она отвечает своему возлюбленному на его объяснение в любви. Она отвечает длиннейшей, отработанной, изящной, философической речью… И этот недостаток — красноречие и правильность невыносимо фальшивых диалогов — тянется от Сервантеса вплоть до Гальдоса. А в жизни ведь так не говорят — мы говорим несвязно, с паузами, говорим короткими, неправильными предложениями… зато естественными… Да, роману еще далеко, очень далеко до совершенства. Те же антихудожественные — ибо холодные — связность и правильность, которые нехороши в диалоге, присущи и всей фабуле. Самое главное — фабулы быть не должно, у жизни нет фабулы, жизнь разнообразна, многолика, изменчива, противоречива — все, что угодно, только не симметричные, геометрически жесткие построения, какие нам предлагают в романах… И потому Гонкуры, на мой взгляд, больше всех приблизившиеся к desideratum[18], изображают не чью-то одну жизнь, но фрагменты, отдельные ощущения. Таким образом, в промежутке между двумя фрагментами персонаж будет жить обычной своей жизнью, для художника не имеющей значения, и художнику не придется, как в старомодных романах, рассказывать нам по порядку, с утра до вечера, все дела и подвиги своего протагониста — нелепое занятие, всю-то жизнь никак не втиснешь в одну книгу, вполне достаточно дать десять, двадцать, сорок впечатлений. (Долгая пауза.) В этом главный недостаток театра, и потому театр — искусство механическое, чуждое литературе. В театре ты увидишь четыре, шесть, восемь персонажей, делающих лишь то, что обозначил автор в своей книге, они рабы драматической завязки и озабочены одним — вовремя войти и уйти. А когда уже произошла развязка, когда муж убил свою жену или возлюбленный наконец женился на любимой, что тогда делают эти персонажи? — спрашивает Метерлинк… Когда я хожу в театр и вижу этих людей, которые автоматически движутся к эпилогу, говорят языком, которым никто из нас не говорит, действуют в ненормальной обстановке — ведь нам показывают некое приключение, нечто необычайное, а не нормальное! — когда я смотрю на этих персонажей, мне чудится, что это деревянные куклы и что после представления служитель аккуратно уложит их на полку. И еще заметь — и это самое существенное, — что в театре невозможно заниматься психологией, если же это делается, то лишь самими персонажами… однако изобразить состояние духа, показать сложный анализ чувств невозможно. Пусть выйдет на подмостки Фредерик Амиель — мы сочтем его обманщиком. Да, да, Гамлет, я знаю, Гамлет… Но сколь ничтожную часть этой безгранично широкой души, наверно, составляет то, что мы видим; Шекспиру удалось многое, и все же, мне кажется, что его портрет Гамлета это лишь отблески огромного костра.
Юсте умолкает. И в тишине сумерек по-прежнему слышится однообразный шум дождя.
XV
Вечер Страстного Четверга. В десять часов Асорин с Хустиной отправились обходить праздничные алтари. Стоит мягкая мартовская погода, широкие улицы освещены луною, город почивает. Странное, невыразимое, щемящее чувство испытываешь при этом паломничестве из одной церкви в другую, в этот торжественный день, в этом старинном, сумрачном городке. Какое-то почти сладострастное эстетическое волнение охватывает Асорина, его глубоко трогает проникнутая трагизмом вера, исповедуемая суровою общиной унылого их города. Крестьяне, пришедшие из дальних селений, постепенно разошлись, утомленные после целого дня процессий и молебствий. В час ночи густая черная толпа богомольцев еще ходит из одной церкви в другую, затем постепенно толпа редеет, растворяется, исчезает. И только кое-где перед пасхальным алтарем, на котором мерцают колеблющиеся, удлиненные языки свечей, еще вздыхает и страдальчески постанывает благочестивая прихожанка.
Асорин с Хустиной побывали в церкви Сан-Роке. Хустина и Асорин шли впереди, за ними — Илуминада и мать Хустины. Сан-Роке — это небольшая церковка, вероятно, самая древняя в Екле. Она состоит всего лишь из нефа под низкой двускатной кровлей, которую поддерживает широкий стрельчатый свод. Под кровлей видны почерневшие от времени балки, в глубине нефа — простенький алтарь. И на полу, на ветхом черном сукне, между четырьмя большими восковыми свечами, лежит обескровленный, посиневший Христос. В убогой этой обстановке, в этом Христе, покоящемся просто на полу, без огней и цветов, как бы дышит дух испанского католицизма, исполненного суровости, простоты и скорби, как бы теплится душа наших непреклонных мистиков, вера наивного и пылкого народа. И в какой-то миг взволнованный, молчащий Асорин почувствовал потрясающую красоту этой религии людей простодушных и суровых.
Из Сан-Роке компания отправилась в церковь Коллегии, это в двух шагах. Здесь благочестие, в стремлении к ложной красоте, загромоздило алтарь кричаще пестрыми букетами, подзорами, сборчатыми занавесочками. Асорин размышляет о безвкусице благочестивой бутафории, о прискорбном неумении украшать алтари и статуи святых. Ему приходят на ум гигантские многокрасочные букеты, воронкообразные мантии, унизанные огромными перстнями пальцы и высокие серебряные короны, раскачивающиеся на головах святых дев. И рядом с волнующей простотой распятия в церкви Сан-Роке вся эта безвкусная, суетная пышность кажется ему неким новым мученичеством, которому добрые прихожанки и добрые священники — конечно же, добрые, но отчасти и дерзкие — подвергают своих любимых святых дев и своих любимых святых.
Из церкви Коллегии они направляются в церковь Лас-Монхас. Пока идут по широкой улице, Асорин беседует с Хустиной. Возможно, он говорит с нею в последний раз, возможно, будет разорвана навсегда эта меланхолическая привязанность — нечто большее, чем любовь, — одной души к другой душе.
Алтари в Лас-Монхас и в соседней часовне Приюта также преобильно украшены очаровательными, бесполезными мелочами, которыми женщины — ради вящего нашего счастья — заполняют и алтари и нашу жизнь. Пока его спутницы молятся, Асорин размышляет о монахинях, живущих взаперти, вдали от мира, в покое и тишине. Все существующее только видимость, — думает он, — и поскольку мир это наше представление, тихая жизнь монахини не менее насыщена, чем бурная жизнь крупного североамериканского промышленника. И уж конечно, более эстетична — эти торжественные паузы, медленные, величавые движения, таинственные обряды, белые рясы с красными крестами или черные рясы с белыми покрывалами. Да, их жизнь более эстетична, а следовательно, более нравственна, более истинна и более человечна.
Отсюда они сперва идут в церковь Сан-Кайетано, а затем в Приютскую церковь. Эта церковь тоже бедная, но бедная той постыдной бедностью барочного стиля, который, если только не блещет пышностью, ужаснее всех стилей. Потом идут в Старую церковь с одним лишь нефом под горделиво высоким стрельчатым сводом. Колокольня здесь — блестящий образец Ренессанса, на ней снаружи, под балюстрадой, орнамент из человеческих голов с выражением муки на лицах, а внутри колокольни, на консолях, которыми завершаются нервюры сводов, две головы, мужская и женская, так близко помещены и выражение их лиц такое, что чудится, будто они соединены в вечном поцелуе, полном страсти и страдания… В простом обширном нефе ни души, он погружен в величавое безмолвие. Лишь потрескивают свечи, чьи огоньки выхватывают небольшие, слабо освещенные круги в густом, давящем мраке, скрывающем приделы и высокие своды.
Из Старой церкви пошли в приятную, уютную церковь Санта-Барбара, а из Санта-Барбара — в церковь Младенца Иисуса, недавно построенную и перегруженную кричащей пестротой, шедевр доморощенного архитектора.
Диалог Асорина и Хустины — прерываемый долгими паузами, этими долгими, скорбными паузами всех диалогов в Екле — прекратился. И наступило непоправимое — мягкий, тихий, но полный и окончательный разрыв. И все свершилось без громких фраз, без решительных слов, без надоедливых повторений — отдаленными намеками, чуть ли не догадками, в тайном, безмолвном диалоге двух душ, чувствующих одна другую и почти не нуждающихся в словах, жестах.
Последняя остановка — в Новой церкви. Тишиною наполнены ее просторные, классического стиля нефы. Наши паломники после недолгой молитвы выходят. Луна озаряет пустынные, широкие улицы. На фоне бледного неба рисуется громада храма. Он сооружен из белого известняка, такого хрупкого, что мало-помалу все разрушается, рассыпается. Косяки дверей, карнизы, верхняя часть стен — словом, вся церковь уже имеет плачевный вид развалины. И Асорин думает о том, сколько энергии, веры и энтузиазма вложено за целое столетие, чтобы воздвигнуть эту церковь, которая, едва ее закончили, сразу стала разрушаться, рассыпаясь и обращаясь в Ничто, стала жертвою неумолимого, потаенного течения времени.
XVI
Падре Карлос Ласальде — ректор колледжа. Вот уже несколько дней Юсте и Асорин ходят туда беседовать с падре Ласальде. В остроумной, изящной беседе они учиняют смотр всем делам человеческим и божеским.
Падре Ласальде — ученый археолог, он напечатал труд о древностях, найденных на Холме Святых (первая работа об этих удачливых Святых, которые наделали столько шуму среди археологов Европы); он также написал «Литературную и библиографическую историю иезуитских колледжей» и сочиняет весьма ценные книги по педагогике для издательств Швейцарии и Германии. Падре Ласальде худощав, у него блестящие глаза и крупный нос; в выражении лица видны ум, живость, мягкость и лукавство, но лукавство доброе. Он нервен, до чрезвычайности нервен — порою, когда он чем-то доволен или, напротив, недоволен, руки его дрожат и все тело как бы вибрирует от волнения. Он терпим, покладист, говорит мягко и перемежает речь долгими паузами, во время которых глаза его прикованы к полу, словно его ум внезапно погрузился в созерцание каких-то сверхчеловеческих материй. С детьми падре Ласальде обращается мягко, но в этой мягкости скрыта сила, что внушает детям почтение и делает излишними суровые наказания. Он отвращает детей от дурных наклонностей, беседуя с ними с глазу на глаз, чуть ли не шепотом и так, как если бы говорил о вещах, важных только для них двоих, и не скупится на похвалу, заметив проблески великодушия и благородства. И никогда не кричит, не грозится, не нагоняет страх, ночью бесшумно обходит спальни, в учебном классе зорко следит, как трудится каждый ученик, наблюдает и изучает их игры, когда они резвятся во дворе.
Падре Ласальде — человек достойный и весьма знающий. В комнате, которую он занимает в просторном, светлом здании колледжа, он поставил пять-шесть статуй, откопанных им на Холме Святых. И в погожие дни, когда солнечный свет теплыми волнами струится в распахнутые настежь двери балконов, Юсте и падре Ласальде беседуют как два ученых эллиниста подле этих неподвижных священных статуй, исполненных величавой простоты, которая свойственна скульптуре египтян.
Нынче в комнате ректора находятся падре Ласальде, Юсте и Асорин.
Остановись перед одной из статуй, Юсте внимательно ее рассматривает. Статуя изображает человека с крупным лысым черепом и широким бритым лицом. Миндалевидные глаза глядят с хитрецой, у рта две глубокие полукруглые складки, а уши большие, собачьи, свисают до шеи. Губы его и вся физиономия выражают явную насмешку — этакая веселая ироническая гримаса.
— Про этого, — говорит Юсте, — я могу сказать, кто он; я словно бы с ним знаком… Сейчас, минутку… Он был ученым, был уроженцем Эло… Все мы знаем — или думаем, будто знаем, — что Эло был великолепным городом, расположенным там, где ныне безлюдная пустошь вокруг Холма Святых. Происхождение города теряется «во мраке веков», как мы говорим, полагая, что это выражение очень удачно. В древние времена, по меньшей мере, лет за 1500 до рождества Христова, сюда, вероятно, пришли люди с берегов Ганга и Инда. Затем явились финикийцы, затем греки… И все они сообща создавали постепенно из красочного разнообразия цивилизаций и рас пышный город, окруженный тенистыми рощами, в котором на холме, ныне называющемся Холмом Святых, — это единственное, что осталось, так как уничтожить холм мы не в состоянии, — итак, говорю я, в котором на холме стоял роскошный храм, украшенный статуями, вот этими статуями, и служивший приютом для ученых мужей и целомудренных дев. Кое-кто предполагает, что найденные эти статуи — это портретные изображения прославившихся своими талантами и добродетелями горожан. Я разделяю это мнение и безоговорочно приветствую чувства любви и преклонения у добрых жителей Эло. Но я спрашиваю: вот этот милейший господин с собачьими ушами, да, этот милейший господин, улыбающийся так чистосердечно и с такой живой иронией, — кто он? почему его представили взглядам потомства в подобном виде? О, без сомнения, мы, придумавшие герменевтику и прочие столь же хитроумные вещи, не захотим оскорбить жителей Эло, заявляя, будто нам непонятен символический смысл этой статуи. Статуя изображает скептика! Изображает тогдашнего Сократа! Мне чудится, будто я знал его. Это был милейший господин, который жил, ничего не делая, ни к кому не питая ни ненависти, ни любви: он ходил из дома в дом и, подобно Сократу, развлекался болтовней со всеми встречными. Он ни к кому не питал ненависти, но… он не верил во многое из того, во что верили жители Эло, и постепенно сеял неверие — неверие благочестивое и остроумное, — и оно распространялось с одной улицы на другую, из одного квартала в другой. Наконец почтенные храмовые жрецы встревожились, и весталки, также обитавшие в храме, почувствовали себя оскорбленными. Однако человек этот был так покладист, так тонок, так остроумен, сатира его отличалась таким изяществом, что невозможно было принять какое-либо серьезное решение, не выставив в смешном свете достопочтенных правителей города. И вот однажды провидение — которое тогда отличалось от нашего — устроило так, что этот человек умер, ибо и насмешники умирают. А в Эло был обычай увековечивать образы великих мужей в скульптуре, и жрецы в качестве иронической кары любителю иронии заказали эту статую с огромными собачьими ушами и вечной насмешливой гримасой. И я склонен думать, что это было убедительным уроком для молодежи Эло, уже начинавшей подхихикивать над многими почтенными материями, которые в Эло всеми почитались. Вот вам подлинная картина жизни этого милейшего субъекта. (Он ласково кладет руку на лысую голову статуи и поглаживает ее уши.)
Ласальде
Ну, а теперь поглядите на того достойного мужа. (Он смотрит на статую, изображающую старика, который обеими руками держит небольшой сосуд; длинная туника ниспадает широкими, симметрично расположенными складками, а на лице выражение глубокой печали, даже скорби.)
Юсте
Этот старик — верующий, такой же истовый, наивный и неречистый, как любой из нынешних наших крестьян. А две женщины справа и слева от него, две эти женщины с покрывалами на головах — ни дать ни взять нынешние мантильи — да ведь они прямо из Еклы. Поразительно, как в этих двух статуях, созданных в далекие века, в этих двух столь древних статуях обнаруживаются черты, тип лица, даже решусь сказать, психика современных женщин Еклы, двух нынешних крестьянок! Приглядитесь к выражению унылой покорности на их лицах, к складке рта, к простодушному, чуть неопределенному взгляду с оттенком удивления и страха. Думаю, что эти две женщины, изваянные египетским скульптором, — это две жительницы Еклы, они идут в своих мантильях, совершив девятидневное моление и только что помолясь излюбленному своему святому о том, чтобы в нынешнем году был хороший урожай.
Ласальде
А этот кабальеро? (Указывая на статую другого почтенного мужа.) По-моему, он иерофант, напичканный тайными знаниями кабалистики, в его лице есть что-то от педагога.
Асорин
Верно, вылитый педагог.
Юсте
Выражение лица самодовольное, в наше время мы не колеблясь определили бы, что этот человек — социолог. Возможно, сей господин в свободные от богослужения часы сочинял объемистый ученый трактат об идеальном государстве — как Платон и Томас Мор.
Асорин
И был, как Платон, сторонником сильной власти.
Юсте
Причем вполне искренним. Ныне Ренан и Флобер, также мечтавшие о государстве, управляемом учеными, были бы восхитительными тиранами.
Ласальде
Утопии, утопии! Платон, который был чудесным человеком, человеком, достойным стать христианином, порою доходил до нелепостей, увлекаемый необузданной фантазией.
Юсте
Платон упраздняет собственность, в чем он несколько опередил Прудона, и уравнивает женщин и мужчин в правах и обязанностях, за что ему полагается благодарность от современных феминистов. Почему женщины не могут быть равны с мужчинами, — говорит он, — если известно, что суки так же исправно служат на охоте и для охраны дома, как кобели?
Ласальде
Аргумент не блещет духовностью.
Юсте
Вы правы, этот аргумент вполне можно было бы считать интерполяцией в сочинениях учителя, сделанной тайно каким-нибудь сатириком и женоненавистником, например, Аристофаном, который столько потешался над Платоновым феминизмом.
Ласальде
И однако же Платон, со всеми его столь подробно изложенными фантазиями, в отношении идеализма сильно отстает от Томаса Мора.
Юсте
Да, Мор — это даже не мечтатель, но человек, который видел то, что рисует. Так точны приметы и черты, присущие его волшебному острову Утопии. Остров этот имеет в ширину двести тысяч шагов, но противоположные концы его, наивно говорит Мор, более узкие, почти заостренные, так что можно сказать, не погрешив против истины, что он имеет вид молодого месяца. На острове, разумеется, все очень счастливы, счастливее, чем на любых других островах. Подобно тому, как у всех современных народов есть служба, называемая воинской, в Утопии тоже есть служба, только земледельческая.
Обязательная земледельческая служба! Каждый горожанин трудится на земле два года, затем его сменяет другой, а он возвращается в город. Столица государства называется Амаурот, конституция его очень проста — каждый год избираются правители, именуемые «филархами», числом тысяча двести, а они в свой черед избирают государя. Выборы правителей происходят ежегодно, и можно сказать, что утопийцы проводят жизнь в праведных занятиях — они либо возделывают землю, либо посещают выборные собрания. А если к этому прибавить, что говорят они на чрезвычайно мелодичном языке, на котором кандидаты наверняка произносят великолепные речи перед своими избирателями, то можно положительно утверждать, что Утопия — лучший из выдуманных островов. Мор даже приводит несколько фраз на языке той страны. Например, чтобы сказать, что Утоп — то есть родоначальник этого народа и создатель пролива, благодаря которому образовался остров, — итак, чтобы сказать: «Утоп создал остров там, где острова не было», — употребляются следующие громкозвучные слова: «Утопос ха локкас пенля Чамаполта чамаан»… Представляете, как звучала бы на этом языке речь кого-нибудь из наших членов парламента!
Ласальде
(Улыбаясь.) Я предпочитаю Кампанеллу.
Юсте
Ах, Кампанелла! Кампанелла — прообраз человека страстного, непреклонного, видящего мысленно идеал, который он жаждет осуществить в мельчайших подробностях. Кампанелла — один из тех людей, которые желают сделать нас счастливыми насильно, вроде как детей, которых ради их здоровья заставляют глотать касторку. Кампанелла желает, чтобы в его «Городе Солнца» никто ничем не владел. Все принадлежит всем, все живут как бы в гигантской казарме, и всё там единообразно, геометрически правильно. Город состоит из семи концентрических кругов, верховный правитель называется Хох, его помощники, или министры, — Пон, Син, Мор… Даже имена — короткие, быстрые. Долой все бесполезное, долой искусство, долой наслаждение! Есть там даже врач, именуемый magister generationis[19], чья обязанность следить за точным, наиточнейшим соблюдением библейского завета…
Ласальде
Все это мечты… суетные мечты… Человек тщетно пытается сделать землю раем. Ведь земля — лишь кратковременный приют! Нам никогда не избавиться от страданий!
Юсте
Но человек способен совершенствоваться: Кондорсе прав. А он первый, кто заявил это в решительной и научной форме. Вы так не думаете? Вы полагаете, что современный испанец не отлучается от римлянина эпохи упадка? Но ведь семья, отцовская власть, право собственности эволюционировали. Если бы в Риме патриций, купив статую Фидия, объявил бы, что намерен разбить ее на куски, все вокруг остались бы равнодушны: это было его право — jus utendi et abutendi[20]. А если теперь какой-нибудь миллионер купит «Сдачу Бреды» и разошлет в газеты сообщение, что хочет картину сжечь?.. Вы полагаете, он действительно ее сожжет? Вы полагаете, что он имеет право сжечь эту вещь, которая по закону принадлежит ему и с которой он по закону может делать, что хочет?
Ласальде
Да, думаю, что да… В старинной испанской книге под названием «Критикон» — вы ее читали и знаете, что ее написал иезуит Грасиан, человек чудаковатый, но чрезвычайно живого ума, — так вот, в «Критиконе» есть сказочка или притча, где говорится примерно следующее: однажды наказали преступника, поместив его в пещеру, полную хищных зверей. Звери этому человеку не причиняли вреда, но он кричал, надеясь, что какой-нибудь путник придет ему на помощь. И действительно, проходил мимо странник и, услыхав крики, подошел к пещере и отодвинул камень, закрывавший вход. Тотчас оттуда выбежал лев и, к великому удивлению странника, вместо того, чтобы наброситься на него и растерзать, стал смиренно лизать ему руки. Затем вышел тигр и тоже повел себя подобным же образом; затем вышли остальные звери, и все ластились к путнику. Наконец, последним вышел человек — он набросился на своего спасителя, убил его и ограбил. «Теперь посуди, — так, кажется, заключает Грасиан свой рассказ, — кто более жесток, люди или звери»… (С грустью, неторопливо.) Это означает, любезный Юсте, что как на земле всегда будут богатые и бедные, так будут на ней всегда добрые и злые, и что не здесь наш рай, — о нет, не здесь! — но там, где обитает Тот, кто всех нас любит и прощает… И вот, извольте, эти две скромные жительницы Еклы (указывая на две женские статуи), которые любят, верят и надеются, бедные эти крестьянки, даже не умеющие читать, они, поверьте, кажутся мне более мудрыми — ибо в них живут вера и любовь, — да, более мудрыми, чем этот тщеславный человек (указывая на статую ушастого мужчины), который над всем смеется… (Мягко.) Вы со мной не согласны, милый Юсте?
Юсте
(Горячо и искренне.) Да, да, я тоже так думаю, я тоже так думаю.
Ласальде
Стало быть, надо верить, друг Юсте, надо верить… И будем почитать за великое преступление, когда лишают веры — ведь вера это жизнь! — бедную женщину, крестьянина, ребенка… Они счастливы, ибо веруют, они терпеливо сносят страдания, ибо надеются… И я верую, как они, и считаю себя последним из них… ибо ученость — ничто рядом с искренним смирением…
Падре Ласальде умолк. Медленные, торжественные его слова звучали впечатляюще. И учитель подумал, что его чтение, его книги, его ирония ничто рядом с простодушной верой какой-нибудь убогой старухи. И сердце учителя опечалилось, и ему стало жаль себя.
XVII
Последнее время бедняжка Хустина сильно удручена. Пуче сумел мало-помалу отдалить ее от мирских интересов. Хустина, чистая душа, уже думает, что, возможно, любовь к Асорину ужасный грех. Отцы церкви и ученые доктора положительно утверждают, что плоть прибежище зла, и Хустина готова — почти готова — осуществить великую жертву, заточить свое прелестное тело, шелковистую его кожу, нежные округлости в стенах монастыря. Это ужасно! Но она это сделает: у одних только женщин еще сохранилась эта атавистическая нелепая черта, которую мы называем героизмом…
И все же Хустине тревожно. Почему? На первых порах своей созерцательной религиозной жизни она испытала невыразимую сладость, а также огромный восторг, необычный жар души. Такое явление предусмотрено в руководствах по мистике, это случается со всеми мистиками-новичками. А после этого восторга, также говорится там, наступает состояние весьма мучительного беспокойства, страха, черствости сердечной, уныния. Подобное состояние именуется «сухостью». Диего Мурильо, Феликс де Аламин, Антонио Арбиоль много и пространно пишут о подобных психологических нюансах. Я уверен, что среди современных романистов вряд ли найдутся более проницательные исследователи души, чем эти достойные казуисты. В особенности Арбиолю присуща поразительная тонкость и изощренность, и его книга «Руководство для монахини», в которой он подробнейше рассматривает состояние ума послушниц и монахинь, это великолепный труд по женской психологии, не менее увлекательный, чем романы Бурже или Прево.
Хустина проходит примерно все этапы, описанные авторами этих почтенных трактатов. Теперь она пребывает в тяжком состоянии «сухости». Да, конечно, она намерена покинуть мир: Пуче ее уже не упустит. Но нынешнее беспокойство, эти непокорные мысли, которые то и дело устремляются к Асорину, они огорчают ее, оскорбляют, унижают, показывая — обычная история! — что над нашим холодным рассудком, над нашими стремлениями к бесплодному отказу от жизни стоит любящее сердце наше, переполненное чувствами и нежностью…
Такова, читатель, картина жестоких битв, свершающихся в сердце Хустины в эти дни. Бедняжка так страдает! Добрый ангел, нас хранящий, мягко подталкивает ее на путь совершенства; но сатана — извечный враг рода человеческого! — ставит перед ее взором сильного мужчину, который ее обнимает, гладит руками ее мягкие волосы, шелковистое тело, целует ее в губы долгим-долгим, страстным поцелуем.
И вот Хустина, покоренная, сломленная этой волнующей лаской, всхлипывает, издает протяжный стон, отдаваясь чувству неописуемого наслаждения, между тем как сатана — надобно признать, что он славный малый, если ему удаются такие штучки, — между тем как сатана взирает на нее огненными очами своими и иронически ухмыляется…
XVIII
— Вон там — проповеди Бурдалу, лучшего проповедника XVII века, — Ортуньо указывает на ряд стоящих на полке старинных томиков. — Бурдалу бичевал Людовика XIV и его двор. Тогда это было возможно — теперь же у нас меньше смирения и больше ересей. — И после небольшой паузы добавляет: — Во всех ересях виноваты женщины; не верите, почитайте Лютера, Ардиету, Феррандиса…
Ортуньо — молодой священник, ревностный, стыдливый, наивный. В глубине его кабинета шкаф, где одна полка уставлена книгами религиозного содержания; моралисты Ларрага и Сала; философ Либераторе; Ноннотт, противник Вольтера; «Сборник проповедей» Тронкосо; елейные сочинения Сан-Альфонсо Мариа де Лигорио. На стенах кричаще яркая олеография Зачатия и другая яркая олеография Веласкесова Христа. В углу — алтарный столик; на нем — два пухлых молитвенника, прислоненных к стене, а над ними — распятие. За дверью вешалка, на которой висит широкий плащ и плоская священническая шапочка. В середине комнаты — небольшой стол, покрытый черной клеенкой, на ее черном фоне выделяются соломенно-желтые тетрадки «Апостоладо де ла Пренса», красные, синие, ярко-желтые обложки «Ревиста Экклесиастика», журнала, издающегося в Вальядолиде.
Ортуньо рассуждает на свою излюбленную тему — об изобретении Валя. Валь — искуснейший механик, он изобрел насос для вина и дробилку для оливок, пытался построить автомобиль, а теперь задумал создать торпеду. Ортуньо описывает устройство торпеды.
— Речь идет об электрической торпеде, которую можно посылать с берега. Тот, кто ею управляет, держит в руках два провода, вроде поводьев. Затем, когда торпеда достигает судна, провода соединяются, платиновая пластинка раскаляется докрасна, и торпеда взрывается.
Асорин слушает молча, Риос делает замечания.
— На торпеде, — продолжает Ортуньо, — есть знак, возвышающийся над водой, — на всех торпедах есть такие знаки. По нему видно, как она движется… Знаком может служить флажок, пучок веток, а ночью фонарь, светящий назад по ходу снаряда! — Затем, после недолгого восторженного размышления, он с убежденностью восклицает: — Валь сделает эту штуку, уж я-то его в покое не оставлю!
Одиннадцать часов утра. Вдалеке, в церкви, звучат колокола — басовитые и звонкие, их удары раздаются с мерными промежутками и угасают, долго вибрируя. Солнце дерзко врывается в широкое окно, и в его лучах поблескивают разноцветные надписи на корешках книг.
Риоса, человека практичного, не обольстишь тонкостями механики. У Риоса фабрика кафельных плиток. Плитки эти постепенно приобретают известность. Предприятие процветает, однако портландцемент стоит дорого. Риос видел в Каталонии карьер по добыче портланда. Риос привез образцы из этого карьера. И, не ведая ни сна, ни отдыха, мечтатель в этом городке мечтателей, провидец в этом городке провидцев, Риос бродит по горам в поисках замечательного камня, поднимается на вершины, спускается в овраги, беседует с пастухами, сулит награду лесным сторожам, приносит камни, уносит камни, сравнивает их, прокаливает, дробит, мелет…
* * *
Вечером у себя в мастерской Валь просто и понятно рассказывает о своих работах. В одном конце навеса находится кузнечный горн; в другом — паровая машина, в которой уйма ремней, сцеплений и шестеренок приводит в движение пилы, фрезы, метчики, сверла. Под визгливый скрежет коловоротов и астматическое пыхтенье мехов Валь говорит о своих изобретениях. Его измельчителю олив объявлена война — земледельцы не принимают новый аппарат. А между тем он экономичен, имеет хорошую мощность, прост в обращении, делает ненужными огромные старинные мельницы для оливок и экономит труд. В другой стране такой измельчитель принес бы немалую прибыль; в Екле, с ее обширными оливковыми рощами, тысячами мрачных маслобоен, работающих с декабря до мая, изготовили всего четыре — шесть аппаратов. «Слишком измельченная масса получается», — говорят люди. «Масло из нее выходит плохое». Нет, не в том беда, беда в косности земледельца, враждебного любому, даже выгодному новшеству…
Затем, в ходе беседы об успехах механики, возникает и торпеда.
— Ортуньо, — говорит Валь, благодушно улыбаясь священнику, — преувеличивает важность моего изобретения. Я не собираюсь сотворить какое-то чудо, я простой механик, старающийся добросовестно выполнять порученную ему работу. Вот, например, эта машина, — и он указывает на паровую машину, — я ее сделал, использовав скудные средства своей мастерской. Сконструировать электрическую торпеду, по-моему, никакое не диво, главное — точно направить ее движение. И если когда-нибудь у меня появится желание взяться за такую работу, от этого будет зависеть, получится у меня что-нибудь или не получится…
Тем временем в горне большущий брусок железа раскаляется докрасна. Неутомимо пыхтят меха. Брусок перекладывают на наковальню, подмастерье ставит зубило на красную полосу. И здоровенный парень начинает мощными, мерными взмахами бить молотом по зубилу.
XIX
В символике религиозных монашеских орденов роза — эмблема ордена святого Бенедикта, страстоцвет — ордена святого Бернарда, гиацинт — святого Бруно, тюльпан — святого Августина, жасмин — ордена Милосердия, бессмертник — ордена Виктории, пион — ордена святого Илии, гвоздика — ордена Троицы, лилия — ордена святого Доминика, фиалка — ордена святого Франциска… Из всех этих мистических цветков Хустина избрала фиалку. Она будет смиренной францисканкой. Будет следовать уставу, который был дан святым Франциском его духовной дочери Кларе.
Клара основала монастырь святого Дамиана. В монастыре этом все были очень бедны, ибо Клара, любя Франциска, особенно старалась подражать его праведной жизни. Судя по всему, Клара была женщиной доброй и очень любила своих сестер. Умирая, она оставила завещание, в котором советует им, если когда-нибудь они оставят этот монастырь святого Дамиана, не чураться бедности. «И да будет всегда деятельна и трудолюбива, — говорит она, — сестра, которая окажется в миру, как и прочие сестры, коим вблизи от места, где их поселят, не следует ни приобретать, ни принимать в дар землю, кроме той, каковая требуется крайней необходимостью для небольшого огорода, дабы сажать овощи. И ежели, помимо огорода, понадобится с какой-либо стороны монастыря прибавить земли — ради соблюдения чистоты нравов и вящего уединения, — да не станут они приобретать, ни получать в дар более того, что требуется крайней необходимостью, и ту землю пусть не обрабатывают и не засевают, да останется она нераспаханной и невозделанной».
Францисканки неуклонно следовали завету святой Клары. Они всегда были бедны, очень бедны, и милы, очень милы. В 1687 году монахини в Севилье решили изменить устав своего монастыря и постановили прежде всего не нарушать старинный запрет иметь собственность или ренту. Так они ее и не имеют «и впредь иметь не желают», добавляют они, «ибо желают всем сердцем жить божественным промыслом Господним, как птицы небесные».
Одной из таких милых пташек станет Хустина — пташкой, заточенной в клетку навечно…
XX
Этим вечером, вечером жаркого летнего дня, Юсте и Асорин в наступающих сумерках сидят на берегу пруда среди уэрты.
Берег пруда покрыт зарослями, и на одном из кустиков учитель заметил и стал внимательно разглядывать некое почтенное жесткокрылое существо, медленно и раздумчиво ползущее вверх по стеблю. У этого субъекта шесть лапок, голова у него черная, черен и панцирь, на котором красуются шесть пятнышек — два впереди, четыре сзади. Видимо, существо это серьезное, глубокомысленное, взбирается оно по стеблю не спеша и, добравшись до края листа, принимается махать лапками в воздухе, будто вдруг ослепло. Дойдя до края самого верхнего листка, оно пятится, спускается вниз, переползает на другой стебель. Порой кажется, что жук вот-вот свалится, — тогда он поворачивается к вам иссиня-черным, будто кольчугою покрытым брюшком, и снова начинает спускаться с тем же спокойствием, с каким лез вверх. А то вдруг застынет в неподвижности и глубокой задумчивости на одном из стеблей кустика сурепки или просунет голову в круглую дырочку, прогрызенную гусеницей в листве, и потешно покачает головой с выражением степенного мужа, позволившего себе пристойно пошутить…
Юсте с глубоким восхищением глядит на это жесткокрылое созданье, которое словно бы прочитало — прочитало и превзошло! — «Критику чистого разума».
— Что думает это насекомое? — спрашивает учитель. — Какое у него представление о нашем мире? А я не сомневаюсь, что оно — подлинный философ. Когда спала дневная жара, оно, наверное, выползло из-под камня, потом добралось до этого кустика, проделало свои гимнастические упражнения, поразмышляло, испытало мгновение изящной иронии, высунувшись в дырочку на листке… а теперь, довольное, спокойное, возвращается домой. Если б я мог вступить с ним в общение, сколько бы оно мне нарассказало такого, чего не скажут ни Платон в своих «Диалогах», ни Монтень, ни Шопенгауэр!
Рассуждая таким образом, учитель невзначай приподнял крупный камень. Под камнем, наслаждаясь прохладой, копошилась кучка мокриц. Кажется, сии почтенные твари именуются по-научному «гломериды». Но как бы они ни назывались, зрелище двух-трех десятков розоватых, черных и серых мокриц, которые извивались, съеживались в комочек, беззвучно сновали туда-сюда, произвело на Юсте такое впечатление — ну совершенно такое же, — как если бы он заглянул в тенистый сад, где Эпикур беседовал со своими учениками…
— Положительно, дорогой Асорин, — сказал учитель, — я убежден, что насекомые, то есть вообще членистоногие, — это самые счастливые существа на земле Они, вероятно, думают — и с полным правом, что земля создана для них… Они могут в полной мере наслаждаться Природой, что человеку недоступно. Заметь, что у насекомых зрение множественное, а значит им, чтобы обозревать пейзаж во всех направлениях, не надо двигаться, они могут любоваться тем, что мы назвали бы «целостным» пейзажем. Кроме того, есть насекомые, вроде диктил, которые плавают, летают и ползают. Какое блаженство чувствовать себя как дома в трех стихиях! А в этом пруду есть славные водомерки, они так забавно скользят, бегают по поверхности воды, описывают круги, носятся взад-вперед… Возможна ли более счастливая жизнь? Мир принадлежит им! И почему бы им так не думать? Существует свыше миллиона видов членистоногих, количество огромное сравнительно с позвоночными!.. Как им не быть уверенными, что земля создана для них? Я ими восхищаюсь! Восхищаюсь прячущимися в темноте янтарно-желтыми сколопендрами, пауками-ткачами, такими безжалостными, вполне по-ницшеански; аристократическими, верткими стрекозами; золотистыми бронзовками, похожими на летающие искристые самоцветы; древоточцами, грызущими древесину и не дающими спать по ночам в одинокой нашей спальне своим таинственным «крик-крак»; воспетыми в стихах кузнечиками, неугомонными музыкантами торжественных летних ночей… Я люблю их всех, всех, они видятся мне счастливыми, мудрыми господами природы, проникнутыми неизъяснимо чудесным антропоцентризмом… Да, они счастливее человека!
И учитель минуту помолчал с грустным видом, говорившим о тайном желании быть водомеркой, древоточцем, мелитофилом.
— Особенно восхищают меня мелитофилы, — продолжал он. — Они вроде сомнамбул, ведут ночную жизнь, подобно тем чудакам, что встают вечером, так как поняли, что все нормальное безобразно, и вослед великому поэту Бодлеру полюбили искусственное… Один натуралист рассказывает про них, что они «выходят из своих убежищ, дабы под покровом темноты летать по цветам, травам и ароматическим кустам и кормиться в обществе непоседливых бабочек, проворных мушек и прилежных пчел». Может ли быть более блаженное, более великолепное существование? Этот натуралист добавляет, что мелитофилы «умеют ценить тонкое наслаждение, доставляемое зелеными листьями, гнилыми грибами и субстанциями, прошедшими через тело млекопитающих, кормящихся растениями»… Тонкое наслаждение! Тихие летние ночи рядом с красавицей бабочкой или симпатичной пчелкой! А я-то считаю себя счастливым, потому что читал Ренана и видел картины Эль Греко и слышал музыку Россини!.. Нет, нет, земля не принадлежит нам, жалким людям, у которых лишь пара глаз, когда у насекомых их уйма, нам, несчастным людишкам, у которых всего пять чувств, когда в природе есть столько всякого, о чем мы даже не догадываемся…
Юсте, видимо, и впрямь счел себя стоящим ниже какой-либо водомерки, беззаботно бегающей по воде. И в эти мягкие летние сумерки, когда начинают мерцать звезды и мощным, сладкоголосым хором поют кузнечики, учитель и Асорин возвращаются в город молча, возможно, даже с некоторой обидой, как бы чувствуя себя униженными рядом с надменным счастьем такого множества мелких тварей.
XXI
Монахини стоят в дверях, в руках у них горящие свечи, лица закрыты покрывалами. И когда Хустина подходит к ним, молча, потупив голову и с легкой грустью на лице, монахини запевают длинный гимн:
О gloriosa Domina; excelsa super sydera: qui te creavit providé laclanli sacro ubere…[21]Закончив гимн, они чинной вереницей идут вместе с Хустиной на хоры. Там ее ждет священник. Монахини располагаются вдоль скамей, на середину выходят версикулярии и начинают: «Ога pro еа sancta Dei genitrix»[22]. Хор отвечает: «Ut digna efficiatur provisionibus Christi»[23] Хустина опускается на колени на черное сукно в центре хоров. Священник произносит следующую молитву: «Oremus, Deus, qui excellentissimae Virginis et matris Mariae, titulo humilem ordinem tibi electum singulariter decorasti»[24] Затем, обращаясь к Хустине, мягко спрашивает:
— Дочь моя, чего ты ищешь, входя в сей священный дом?
Хустина отвечает:
— Милосердие господне, бедность ордена, общество сестер.
Священник кратко говорит ей о строгости их устава и прибавляет:
— Дочь моя, желаешь ли ты стать монахиней по собственной воле и приходишь ли ты в дом сей с намерением остаться в ордене?
Хустина отвечает:
— Да.
Священник опять спрашивает:
— Желаешь ли ты соблюдать обет послушания, целомудрия и бедности только из любви к богу?
Хустина опять отвечает:
— Да, в надежде на милость божию и молитвы сестер.
Тогда священник бормочет:
— Deus, qui te incipit in nobis, ipse te perpiciat. Per Christum Dominum nostrum[25].
Монахини хором отвечают: Amen. Тогда Хустина встает, и монахини начинают раздевать ее, читая молитву: «Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis»[26]. И, когда мирские одежды с нее сняты, надевают на нее рясу, накидывают покрывало; ноги обувают в альпаргаты, в руку дают зажженную свечу. В таком виде Хустина снова преклоняет колени на черном сукне. Священник произносит:
— Domine Deus, virtutum converte nos[27].
Монахини отвечают:
— Et ostende faciem tuam et solvi erimus[28].
Священник:
— Dominus vobiscum[29].
Монахини:
— Et cum spirito tuo[30].
Священник:
— Oremus Domine Jesu Christe, aeterni patris unigenite…[31]
Дочитав молитву, он опоясывает Хустину веревкой, надевает на нее наплечник, затем плащ. И, кропя ее святой водой, молится:
— Ad esto supplicationibus nostris omnipotens Deus…[32]
И тут наступает решительный миг: Хустина ложится на сукно, вытягивается, застывает, словно мертвая. А хор поет:
Veni Creator spiritus, mentes tuorum visita…[33]Допев гимн, монахини шепчут: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster…[34] Хустина все лежит неподвижно, сложив на груди тонкие руки, лежит очень бледная, с закрытыми глазами; священник брызгает на нее святой водой.
Церемония завершилась. Хустина поднялась и в группе монахинь идет облобызать алтарь, затем прикладывается к руке аббатисы и целует одну за другой всех монахинь, приговаривая: «Молись за меня богу». Все затягивают псалом «Deus misereatur nostri»[35] и направляются к выходу.
И вот монахини скрылись за дверью, дверь снова заперта, на хорах тишина… Хустина уже монахиня: ее Воля умерла.
XXII
В этот день Юсте и Асорин опять — как в многие прошлые дни — отправились навестить падре Ласальде и побеседовать с ним. Солнце роскошно светит, небо ярко-синее. Длинные коридоры колледжа пустынны. Душа наслаждается покоем, умиротворенным, усыпляющим, мягким теплом первых дней весны. Падре Ласальде сидит за столом в своем кабинете, его тонкие пальцы перебирают стертые монеты, он то и дело наклоняет голову, чтобы разобрать нечеткую надпись, полюбоваться изящным профилем. Лучи солнца льются через настежь открытые балконные двери, канарейки в подвешенных к притолоке клетках изощряются в филигранных трелях. И порою доносятся с площадки выкрики мальчиков или легкий скрип гравия в саду под ногами привратника.
Падре Ласальде вновь и вновь разглядывает свои монеты. Неподвижные угловатые египетские статуи будто смотрят на него своими пустыми, ничего не выражающими глазами. Человек с длинными собачьими ушами усмехается весело, как всегда; рядом с ним две женщины в мантильях все так же печальны, удручены, вот-вот разразятся плачем. В этом веселье и в этой печали, окаменевших тридцать веков тому назад, Юсте — которому нынче чего-то взгрустнулось — видит некий символ, скорбный символ, вечный символ человеческой трагикомедии.
— Всегда одно и то же, вечное однообразие, все меняется лишь внешне, а по сути повторяется из века в век, — говорит учитель, — история человечества — это круг, это ряд повторяющихся, похожих одна на другую катастроф. Наша европейская цивилизация, которою мы так гордимся, исчезнет, как и римская цивилизация, чей символ монеты, которые вы теперь рассматриваете, падре Ласальде… Вчера цивилизованный человек жил в Греции, в Риме; сегодня он живет во Франции, в Германии; завтра будет жить в Азии, между тем как Европа, наша всеразумеющая Европа, станет огромным краем одичавших людей…
Ласальде
(Говорит медленно, с большими паузами.) Земля — не жилье человека… Человек никогда не найдет здесь истинного счастья… Напрасно в поисках его он скитается из края в край… Люди умирают, умирают и народы… Один бог вечен, один бог мудр…
Юсте
Да, в конце концов и наука — величайшая гордость человека — это также величайшая из сует. Верующие правы: один бог мудр… Мы, жители этой планеты, что мы знаем? Наши пять чувств едва позволяют нам догадываться об огромности природы. Возможно, в других мирах живут другие существа, обладающие пятнадцатью, двадцатью, тридцатью чувствами. А у нас, бедных, их всего пять! У нас даже нет «чувства электричества», а оно было бы полезно нам в нынешнее время; нет даже «чувства катодных лучей», которое также могло бы принести немалую пользу… В глубинах морей, там, куда никогда не проникает свет, обитают живые существа, которые, кажется, называются галатоды. Несчастные галатоды слепы, глаза у них есть, но без пигмента. И в глубоких пещерах тоже есть существа, имеющие отросток с глазом, но видящих глаз у них нет. Так вот, можно полагать, что у этих обездоленных живых созданий когда-то было зрение, но на протяжении тысяч веков функция эта исчезла, а с ней и ее орган. И ныне для них мир сильно отличается от того, чем он был для их древних предков… Вообразим, что и у нас на одно-два чувства меньше, и мы поймем, как много аспектов Природы недоступно для нашего познания… Монтень в своем прекрасном эссе о Раймунде Сабундском, — где говорится о чем угодно, только не о Раймунде, — рассматривает этот предмет с присущим ему остроумием. И из рассуждений почтенного мэра Бордо следует, что человек есть жалкое существо, которое ничего не знает и, вероятно, никогда ничего не будет знать…
Ласальде
(Улыбаясь.) Монтень, друг мой Юсте, разумеется, был искренним католиком… И несмотря на скептицизм в нем царило глубокое убеждение, что живем мы только Верой и только благодаря ей можем вынести жизнь в сей юдоли горестей.
Юсте
Я с вами согласен: в конечном счете сама Наука — не более, чем Вера. У великого нашего Бальмеса, в его сочинении о протестантстве, есть посвященные этому предмету страницы, подлинное чудо проницательности и логики… Вера дает нам жизнь, без нее жизнь была бы невыносима… И сколь печально, что Вера исчезает! А с нею исчезает покой, резиньяция, идеальная атараксия духа, видящего вокруг себя неискоренимые, неизбежные страдания!
Ласальде
Страдание всегда будет неразлучно с человеком… Однако верующий сумеет переносить его во все минуты жизни. То, что стоики называли атараксия, мы называем резиньяцией. Они могли достигнуть более или менее искреннего спокойствия, мы умеем достигать такого покоя, такого блаженства и примирения со страданием, каких они никогда не достигали.
Юсте
(После долгой паузы.) Да, страдание вечно. И тщетно человек стремится уничтожить его. Страдание прекрасно, оно сообщает человеку большую остроту сознания, заставляет размышлять, вырывает нас из всегдашней житейской суетности.
Ласальде
(Добросердечно.) Друг мой Юсте, дорогой друг, надобно верить… Эта земля — не наш дом… Мы убогие странники, проходящие по ней с плачем, — как эти добрые женщины (он указывает на статуи), которые также чувствовали, что мир — юдоль горестей.
Юсте с легкой печалью — решительно, наш добрый учитель чрезвычайно чувствителен — обернулся к статуям и увидел весело смеющегося, неизменно смеющегося человека с безобразными ушами.
И ему почудилось, что этот несимпатичный малый, этот противный субъект, не знавший Христа, смеется над ним, жалким европейцем, которого удручают девятнадцать веков христианства.
XXIII
Хустина сидит в своей келье. Келья крохотная, с белыми стенами и с окном во внутренний дворик. В одном углу бедное ложе, состоящее — как велит устав — из двух железных скамеек, трех досок, соломенного матраца, валиков, обтянутых монашеским сукном, белого одеяла, подушки… У другой стены деревянный табурет и сундучок для покрывал, накидок и шитья; рядом с ним тазик, кувшин и стеклянный графин. А на стенах красуются благочестивые эстампы — изображения святых дев и праведников.
Хустина читает книгу, лицо ее бледно, руки прозрачной белизны. То и дело Хустина вздыхает, опуская книгу на колени. И ее взгляд, жаждущий, умоляющий взгляд обращается к большому полотну на стене напротив.
Надпись на раме картины гласит: «Символ монахини, умерщвляющей плоть». Изображена монахиня, чья левая рука пригвождена к кресту, а крест воткнут в земной шар. В правой руке монахиня держит огарок свечи, губы ее сомкнуты висячим замком, босые ноги стоят на земном шаре, словно показывая, что она его попирает, презирает. Вокруг монахини и на самой ее фигуре множество надписей, поясняющих мистическую благочестивую символику. На земном шаре: «Мир и его вожделения для меня умерли». На груди у монахини: «Моя плоть опочиет в Надежде». На левой ступне: «Усовершенствуй шаги мои по путям твоим, да не отклонятся мои стопы». На правой ступне: «Когда ты расширил мое сердце, я устремилась на путь заповедей твоих». На левом ее боку, где из прорехи в тунике высовывается маленький червячок: «Никогда не умрет гложущий червь. Поистине похвален страх, даже тогда, когда нет вины». На правом боку: «Опояшите тело свое; и лишь тогда мы поистине его опояшем, когда обуздаем плоть». На левой руке: «Пронзи плоть мою страхом божьим, ибо я убоялась суда твоего». На правой: «Да сияет ваш свет перед людьми, дабы видели они добрые дела ваши и восславили Отца вашего, который на небесах». На ухе: «Говори, Господи, раба твоя внимает словам твоим, Ты позвал меня, и я отвечу и повинуюсь голосу твоему». На глазах: «Отведи глаза мои, дабы не глядели на суетное и не совращали меня, ибо они пленили мою душу». На устах: «Поставь, Господи, стража у уст моих и повесь замок на губы». На голове: «Моя душа сама избрала сей путь умерщвления плоти. Я накрепко соединена с Иисусом Христом на Кресте, и драгоценное сие бремя дает мне тем больше счастья, чем сильнее умерщвляет меня».
Хустина глядит на монахиню, пригвожденную к столбу, и думает о себе. Она тоже умерщвляет свои глаза, уста, руки, всю плоть; она тоже молит жениха, чтобы ее не оставил; она верит, надеется, любит… И несмотря на это она испытывает глубокую печаль, душевную тревогу. И лицо ее становится день ото дня бледней, а руки прозрачней.
XXIV
Юсте и Асорин отправились на Пульпильо. Пульпильо — одна из больших екланских равнин. Между широкими полосами полей виднеются четырехугольные массивы виноградников, а вдали, на желтых холмах расположились небольшими серыми, симметричными, однообразными прямоугольниками оливковые рощицы. Кое-где, затерянная среди бескрайней равнины, видна крестьянская усадьба — поодаль от нее неторопливо движутся упряжки волов, прорезая параллельными бороздами темную землю. И среди зеленых полей крутыми извивами змеится белесая дорога, то расширяясь, то сужаясь и наконец теряясь где-то у горизонта.
В серые дни осени или в марте, когда зима подходит к концу, на этих безмолвных просторах ощущаешь суровый дух классической Испании, непреклонных ее мистиков, угрюмых полководцев — вроде Альбы, бурных живописцев — вроде Теотокопули, мятущихся, беспокойных сердец — вроде Палафокса, Тересы де Хесус, Ларры… Небо пепельного цвета, земля черная; рыжие холмы, серые холмы и далекие синеватые очертания гор замыкают горизонт. То и дело налетает с шумом ветер. В паузах — торжественная тишина. И эта пустынная, унылая равнина побуждает к грустным раздумьям, к экстазу, к душевным порывам, к бесплодным тратам энергии, к восторгам пылкой веры…
На Пульпильо расположены три-четыре усадебки, одна из них называется «Епископская». К ней-то и пришли Юсте и Асорин. Ветхое строение, побеленное желтоватой известкой, на фасаде дома четыре небольших балкона, перед ним простирается заброшенный сад с рушащейся глинобитной оградой. И в углу сада вздымают к небу темные обрезанные кроны два кипариса.
Учитель любит эту пустынную равнину, здесь можно на день-другой забыть о людях и делах. Дом окружен старой тополевой рощей, на ее опушке журчит источник, наполняющий широкий пруд. И в эти серые, но теплые дни ранней весны Юсте прогуливается среди голых деревьев, присаживается у кристально чистого ручья, слушает ропот струй, стремящихся в покрытый нежно-зеленою тиной пруд. В уединенном этом уголке, среди мирной тишины он читает страничку из Монтеня, стихотворение-другое Леопарди, слушая, как поет вода и как молчит земля — «мать-земля», — молчит, покрытая безграничными зелеными полями и бесчисленными вековыми оливковыми рощами.
В это утро Юсте и Асорин направились к одной из ближайших усадеб: принадлежит она семье Илуминады. В кухне они застали Дедушку. Дедушка — старик, отец арендатора, изрядно поработавший за свою трудную жизнь, а теперь, когда уже не в силах работать в поле, он, сидя у очага, плетет изделия из дрока, нянчит внучку. Юсте и Асорин уселись рядом с Дедушкой.
— Право, не знаю, — сказал учитель, — какое будущее ожидает весь этот класс земледельцев, опору государства, а в прошлом — основу западной цивилизации, двадцати веков христианской цивилизации… Заметь, Асорин, что переселение деревни в город усиливается, город забирает у нас все самое здоровое, сильное, толковое, что есть в сельской местности. Все хотят стать ремесленниками, хотят носить по-городскому усы, нечто вроде символа более тонкого интеллекта… Лет через тридцать, сорок, ну, если угодно, сто, в селе останется только тупая, неинициативная масса, люди, неспособные к работе мысли, неспособные применять к земле новые, хитроумные приемы обработки, которые заставляют ее производить вдвое больше и превращают земледелие в промышленность… Заметь вдобавок, что мелкие хозяйства исчезают: в Екле, например, ростовщичество нередко разоряет мелких крестьян, владеющих маленьким участком. Ростовщики, коммерсанты, крупные землевладельцы присваивают земли и мало-помалу накапливают огромные состояния… Придет ли день, когда мелкое землевладение вовсе исчезнет, то есть когда возникнет монополия на землю, некий земельный trust[36]? Не знаю, возможно, в Испании этот день еще далек, но в других странах, например, во Франции, уже забили тревогу… В некий день — говорят они — абсентеизм, ростовщичество, ипотеки, чрезмерные налоги приведут к тому, что земли крестьян станут собственностью кредитных банков, крупных финансистов, богатых рантье; тогда-то образуется их союз — ибо союз будет способствовать деятельности сообща, — машины совершат триумфальный въезд в сельские местности, и земля, прежде обрабатываемая кое-как, будет щедро и обильно утучнена. Представь себе, чем станут тогда эти екланские поля, где теперь редко увидишь упряжку волов, если на них будут трудиться легионы хорошо одетых и сытых рабочих и машины, быстро исполняющие сложнейшие работы под управлением сельских инженеров!..
— Но чтобы к этому прийти, — замечает Асорин, — нам не миновать ожесточенной борьбы, в которую вступит земледелец, видя, что у него отнимают его землю.
— Нет, нет, — возражает учитель, — эволюция происходит медленно. Кто станет уже теперь отрицать, что мелкая собственность в Испании исчезает? Крестьянин быстро привыкнет к новому положению, тем паче, что его заработки станут выше. А продукты земледелия, разумеется, будут дешевле и лучшего качества. Я не утверждаю, что образуется одна-единственная монополия, но несомненно, что финансовые компании и кредитные банки, которые будут владеть землей и капиталами для ее эксплуатации, выведут на поля машины, применят индустриальные методы и осуществят подлинную революцию, то есть сделают так, что земля, до тех пор остававшаяся почти бесплодной, станет плодородной, плодоносящей во всю свою силу.
Дедушка молчит, руки его безостановочно движутся, переплетая прутья дрока. Время от времени блестящие глаза поглядывают на Юсте и на губах появляется легкая усмешка.
После долгой паузы учитель продолжает:
— Мы быстро движемся, Асорин, к великим социальным преобразованиям. Предчувствую, что многие вещи, бесконечно для меня дорогие, исчезнут. Заметь, то, что мы именуем «гуманизмом», — это некая новая религия, новая догма. Новый человек — это человек, который ждет социальной справедливости, живет ею и для нее, он этим пропитан, он убежден. И все устремлено к этому, мы все этого ждем — одни смутно, другие страстно. Искусство, педагогика, литература — все направлено к этой цели, к улучшению общества, все пронизано этим стремлением. И таким образом формируется догма столь же негибкая и суровая, как старые догмы, и она подчинит, поставит себе на службу все проявления мысли. Уже теперь, например во Франции, в «народных университетах», то есть рабочих школах, нельзя применять свободную педагогику, широкую, без предрассудков, «не утилитарную», а лишь направленную на достижение общественной пользы. Один из их преподавателей, излагая план занятий, говорит, что учителя в своих программах должны стараться показать, что «все науки приходят к социализму»… Что же станется в ближайшем времени с искусством, если так рассуждают о науке? Искусство должно «служить» гуманитарному делу, должно быть «полезно» — то есть оно есть «средство», а не «цель». И мы еще увидим, как возникнет новая критика, сокрушающая творения чистого искусства, не признающая мистиков, смеющаяся над лирикой; увидим, как история, эта столь изысканная и современная наука, погибнет в руках варваров. «Период беспристрастного изучения прошлого человечества, — сказал Ренан, — пожалуй, не будет очень долгим, ибо вкус к истории — это самый аристократический из вкусов»… И меня, видишь ли, одолевает грусть, когда я думаю о таких вещах, о высшем, чего достигло человечество, об этих вещах, которым не поздоровится от грядущего страшного палингенезиса, хотя он, наверно, будет изобиловать другими достижениями, также весьма возвышенными, гуманными и справедливыми.
С наступлением сумерек Юсте и Асорин покинули усадьбу Илуминады и прогулялись по тополевой роще. Небо было серо, равнина безмолвна.
XXV
В большом камине черного мрамора мерцают огоньки. Перед камином на толстой циновке лежит полоса блестящей жести. На каминной доске стоит лампа под ярко-зеленым абажуром. А на стене, над лампой, в мягкой полутьме смутно виднеется в раме полированного ореха большой диплом. «D. О. М. Has juris civilis theses, quos pro ejusdem…»[37] — гласит заглавие, напечатанное крупным шрифтом, а ниже, в трех длинных колонках, идут сорок девять выводов мелкими буковками, и цифры будто муравьи чернеют на розовом шелке. Рядом с дипломом, справа и слева на белых стенах, большие поблекшие фотографии старинных испанских соборов: в Толедо, в Сантьяго, в Сигуэнсе, в Бургосе — этот глядит из-за густых тополей своими сдвоенными окнами и готическими колокольнями; собор Леона, изгибающий изящные аркбутаны своей апсиды над морем ветхих домишек с тревожно поблескивающими окнами.
Огоньки в камине трепещут. Блики мечутся по огромному шкафу, стоящему напротив камина. Шкаф дубовый. В нем две дверцы вверху, два ящика, две дверцы внизу. Лицевая сторона обрамлена красивым резным орнаментом — листья и бутоны. По углам выступают личики пухлых ангелочков, наверху, в центре фриза, — улыбающаяся сирена со змеящимся раздвоенным хвостом, изгибы которого симметрично теряются в листьях орнамента. И за приоткрытой верхней дверцей видно множество ящичков с резными украшениями.
В комнате этой веет духом изящной кастильской простоты. По обе стороны благородного шкафа стоят высокие мрачные кресла. Блестят их выдающиеся вперед подлокотники, на спинках, на черной кожаной обивке выделяются выпуклые шляпки гвоздиков. А на широких планках блестят в темноте золотые бляшки, напоминая лады на грифе гитары.
Время тянется медленно. Где-то вдали часы бьют четыре. Подле камина стоит столик на витых ножках. В свете лампы на черной его столешнице, среди бумаг и книг, поблескивают серебряная табакерка, карманные часы, бесконечная золотая цепь, которая, извиваясь среди книг и сверкая, пересекает крупные буквы заголовка какой-то газеты.
Почтенный Юсте лежит на широкой кровати. Он болен. Бой часов раздается еще дальше. На тротуаре слышатся поспешные шаги…
Юсте приподнимается. Асорин подходит к нему. Юсте говорит:
— Асорин, сын мой, пришел конец моей жизни.
Асорин бормочет слова протеста. Юсте продолжает:
— Нет, нет, я не обманываю себя и не боюсь. Я спокоен. Пожалуй, в юности я иногда испытывал колебания… Я тогда жил в других людях, не в себе самом… Впоследствии же я жил один, и я окреп…
Учитель, помолчав, продолжает:
— Асорин, сын мой, в эти решительные минуты я заявляю, что ничего не могу утверждать о реальности мира… Имманентность или трансцендентность первопричины, движение, форма существ, происхождение жизни — все это тайны, недоступные, вечные тайны…
На улице вдруг раздается пение старинного Братства Росарио. Хор затягивает длинную, однообразную, тоскливую мелодию. Усердно звонят колокольчики, жалобно звучат голоса, они просят, умоляют, горячо призывают:
С милосердием взгляни, Не оставь нас, Матерь наша…Хор смолкает. Юсте говорит дальше:
— Я искал утешения в искусстве… Искусство никчемно. Искусство воплощает тщетное усилие… или страшнейшее разочарование от усилия осуществленного… от желания удовлетворенного.
Пение братства слышится где-то дальше, мольбы хора на расстоянии звучат глухо, робко, неуверенно.
Учитель восклицает:
— Ах, все зло в разуме! Понимать — значит печалиться, наблюдать — значит чувствовать, что ты живешь… А чувствуя, что живешь, ты чувствуешь смерть, чувствуешь неумолимое движение всего нашего естества и того, что нас окружает, к таинственному океану Небытия…
Теперь издалека уже еле долетают слова страстной мольбы крестьян, людей простых, счастливых… Поблизости бьет колокол, на косяк балкона двумя светлыми полосами ложатся лучи занимающейся зари.
XXVI
Во главе процессии, идущей по широкой улице, крестьянин в длинном буром плаще, шагая не спеша, вразвалку, несет в обеих руках крест. За ним плывет гроб — черное, продолговатое пятно. За гробом колышется черная в желтых узорах крышка, движется белая масса пелерин, ярко-алое платье служки… А в хвосте процессии — живописное скопление бритых щек, клочковатых бород, висячих усов под надвинутыми на лоб широкополыми шляпами, над жесткими воротниками плащей, в мешанине черных, серых, синих, бурых одежд. Скончался достопочтенный Юсте. Нестройными, дрожащими, надтреснутыми голосами причт поет псалмы — мелодия то поднимается резкими арпеджиями, то опускается, переходя в смутный ропот. Воздух прорезают прерывисто вибрирующие удары колокола. Скорбное пенье заглушается широким, сильно резонирующим звуком фагота. Голоса смолкают. Наступает минута скорбного молчания. Слышен лишь шорох шаркающих подошв. Мягко, ритмично покачивается гроб. Пунцовым пятном на темном фоне снует взад и вперед служка. И внезапно фагот издает долгий, мелодичный стон, и хор снова затягивает свою жалобную песнь.
Процессия движется по широкой улице, вдоль низких домиков и серых глинобитных оград. Затем, обогнув угол, выходит за околицу. Справа, на буром холме, светится в синей раме окошко белого домика; слева высится холм Де-лас-Транкас — плешивый, темный, прорезанный длинными серыми жилками, весь в желтых ямах. А унылая, бесплодная, мрачная равнина простирается далеко-далеко, до еле различимой синей гряды гор. Процессия движется вперед. Длинная белая ограда замыкает горизонт, на одном ее углу, над кучей камней, продолговатая таблица, черные ленты.
Напротив ворот, в конце узкой аллеи, прорезающей кладбище, стоит часовня. Часовня маленькая. В глубине ее возвышается ничем не украшенный голый помост. На помост ставят гроб. Мало-помалу провожавшие покойника расходятся. И гроб, такой черный на фоне белых стен, остается один в маленькой часовне. Асорин с минуту смотрит на него, затем медленно, в скорбном оцепенении, идет бродить по обширному погосту. Темная, сухая земля без единого дерева, без единого зеленого листка, вся в рытвинах и холмиках. Поблескивают на солнце запыленные стекла, золотые буквы, почерневшие от времени металлические венки. В нише, под стеклом, прислоненная к плите, выцветает раскрашенная фотография. Едва заметными пятнами видны на ней клетчатый ковер, точеные столбики балюстрады, тесьма на широком платье с кринолином.
Асорина томит неотступная печаль. Вдали, по центральной тропе, движется группа крестьян. Между черными одеждами время от времени проглядывает ярко-белое пятно. Группа входит в часовню. Асорин тоже направляется туда. На полу стоит гроб. Через стеклянное оконце в крышке гроба видна пятнадцатилетняя девочка с сильно нарумяненными щеками и сложенными на груди тонкими руками. Мужчины и женщины спокойно переговариваются о том, как ее хоронить; один из присутствующих, глядя на нее, говорит с улыбкой: «Здорово солнышко ее разрумянило!» Так и кажется, что девочка сейчас пробудится ото сна. Постепенно люди расходятся, оставляя ее одну.
Выходит и Асорин. В конце дорожки, пролегающей между могильниками, мужчина в бурой куртке, стоя на коленях, колотит киркой по земляному холмику. Люди, принесшие девчушку в гробу со стеклом, стоят вокруг. Возле Асорина на руках у крестьянки громко сопит спящий ребенок. При каждом ударе кирки кольцо стоящих уплотняется. Черная дыра становится все шире. Наконец тонкая перегородка поддается и взорам открывается жуткое темное нутро могильника. Все жадно глядят, головы нетерпеливо наклоняются, какой-то ребенок подползает на четвереньках, сгорбленная старуха объясняет, кого тут похоронили много лет назад. Могильщик, засунувшись по пояс в могильник, начинает с силой отрывать находящийся там гроб. Какой-то крестьянин весело восклицает: «Да толкани его, пусть там и останется!» И все смеются. Сросшийся из-за сырости с землею, гроб не поддается. Жена могильщика приносит корзину. Тогда могильщик взламывает гнилые доски и принимается пригоршнями выбрасывать темную землю, тряпки, пожелтевшие кости. Стоящая в толпе коренастая молодка замечает: «Глянь-ка, прямо руками хватает!» Могильщик оборачивает тупое, невыразительное лицо, окидывает похотливым взглядом румяное лицо молодки, ее торчащие грудки, широкие манящие бедра и, изобразив шутливое рычанье, выкрикивает: «Вот так и тебя буду хватать, когда помрешь!» Затем, снова нагнувшись, вытаскивает из ямы разбухший сапог и отряхивает его, крепко ударяя о стенку. Сыплется черная земля, стоящие вокруг пятятся, уходят, лениво разбредаются между могилами — и исчезают из виду.
Асорин возвращается один по извилистой дороге. День угасает. Унылую равнину окутывает туман. А в небе медленно плывет похожее на фантастический корабль огромное красное облако.
XXVII
Юсте скончался, падре Ласальде перевели в коллегию в Хетафе, Хустина ушла в монастырь. И Асорин, погруженный в печальные размышления, сидит один в своей комнате, то беря в руки книгу, то откладывая. Из ума у него не идет воспоминание о Хустине, она стоит перед его глазами, он видит ее бледное лицо, большие глаза, черный плащ, развевающийся при ходьбе. И слышит ее волнующий, нежный, почти беззвучный голос. В таком скорбном оцепенении Асорин сидит долгие часы или бродит по уэрте — одинокий, удрученный, похожий на романтического чудака.
Время от времени по утрам, возвращаясь с обедни, является Илуминада — крепкая, сильная, властная, здоровая. И в доме слышится ее смех, она ходит по комнатам, там что-то переставит, здесь поболтает с прислугой, жизнерадостно подчиняя всех своей непререкаемой воле. Асорину приятно видеть ее. Илуминада — это свободная стихия Природы, вроде струящейся и журчащей воды, вроде воздуха. Рядом с нею Асорин чувствует себя беспомощным и думает, что не смог бы противиться ее желаниям, что у него не хватило бы энергии сдержать или хотя бы нейтрализовать ее энергию. «А в конце-то концов, что за беда! — думает Асорин. — В конце-то концов если у меня нет воли, значит, ее воля, которая потянет меня на буксире, окажет мне этим огромную услугу, будет жить половину моей жизни, то есть поможет мне жить… В мире есть люди, которым назначено жить половину, третью часть, четвертую часть жизни; и есть, напротив, другие, которым назначено прожить две, четыре, восемь жизней… Наполеон, верно, прожил их сорок, пятьдесят, сто… Ну и понятно, что излишек жизни, который им достается, то есть то, что превышает одну жизнь, „законную“ долю, они берут из того, чего не доживают люди, живущие меньше, чем одну жизнь… Вот я один из таких, я живу в полжизни, и, возможно, что Илуминада живет в полторы жизни, то есть одну свою и половину, причитающуюся мне… Этим я объясняю влияние, которое она на меня оказывает. И если бы я на ней женился, психологическое единство было бы полное — я продолжал бы жить в полжизни, как до сих пор, а она продолжала бы оказывать мне огромную милость, величайшую из возможных, — помогала бы мне жить, жила бы за меня».
Асорин улыбается. А в прихожей Илуминада, здоровая, уверенная, властная, пышущая жизнью, шумит, спорит, приказывает, жизнерадостно подчиняет всех своей непререкаемой воле.
XXVIII
В одиннадцать часов сестра трапезница звонит в серебряный колокольчик. И в длинной галерее появляются монахини. Одна за другой заходят они в трапезную. Трапезная — просторная зала с белыми стенами. На длинных столах для каждой монахини лежат две салфетки — одна развернутая, другая сложенная, — деревянная ложка и белая кружка талаверского фаянса. Между каждыми двумя приборами — керамическая уксусница и фаянсовая тарелочка для костей.
Стоя на коленях, монахини читают «De profundis»[38]. Затем поднимаются и, чинно засунув руки в рукава, стоят, пока дежурная в эту неделю чтица благословляет пищу. Аббатиса усаживается, вслед за нею, в порядке старшинства, садятся остальные монахини. Нынче суббота. Аббатиса легко ударяет по столу ножом. Входят послушницы. Каждая с назначенной ей епитимьей: у одних завязан рот, у других на глазах повязка из соломы, у третьих висит на шее большой кирпич. Все они опускаются в трапезной на колени, и старшая произносит: «Благослови, мать аббатиса». Аббатиса, благословив, приказывает: «Говори». И послушница начинает: «Признаемся в грехах наших Господу Богу нашему и Пресвятой Марии как главной нашей настоятельнице, а также вашему преподобию и всей святой общине, во многих провинах наших и нарушениях устава и благонравия, коему нас обучают, и особенно в лености и неохоте вставать к заутрене, причине сей епитимьи; почему и молим мы прощения у Господа Бога нашего и у вашего преподобия». Аббатиса мягко их журит и отпускает: «Ступайте с Богом и снимите с себя епитимью». Послушницы целуют ей ноги со словами: «Да будет так ради любви к Господу» — и выходят из трапезной. Затем, сняв повязки и кирпичи, возвращаются.
Помощница аббатисы начинает чтение. И по знаку аббатисы сестры, перекрестив салфетку, усаживаются за стол. Появляется повариха, неся большой поднос с мисками, она ставит перед каждой монахиней ее миску. Монахини принимаются за еду. Время от времени раздается легкий стук по столу, тогда сестра трапезница проворно подает требуемое.
После окончания трапезы четыре послушницы собирают посуду и опорожняют в большие корзины тарелочки с отбросами. Затем аббатиса делает знак, чтение прекращается. Помощница запевает: «Tu aulem Domine miserere nobis»[39]. Монахини отвечают: «Deo gratias»[40]. И, поднявшись и поцеловав стол, выходят.
Из трапезной монахини идут в сад. Сад старый, одичавший. В центре, окруженный гигантскими кипарисами, журчит фонтан в большой мраморной чаше. На фоне буйной зелени движущиеся туда-сюда белые ряски похожи на огромных мотыльков. Над густыми кронами сияет лазурное небо.
Минуты проходят в мирной тишине. Под кипарисом читает книгу монахиня. В ветвях кипариса заводит рулады птица. Монахиня поднимает глаза и отрешенно смотрит на нее. Книга выпадает из ее рук. На первой странице крупными угловатыми буквами она пишет: «В пользовании сестры Хустины от Очищения, да сделает ее Господь праведной и примерной монахиней».
Хустина бледна, она сильно исхудала, кисти рук прозрачны, в глазах неутоленная жажда…
* * *
К вечеру, когда звонят на молитву о душах чистилища, монахини расходятся по своим кельям, а вдоль длинных коридоров ходит сестра, возглашая нараспев: «Помните, матери и сестры, ради любви к Господу Богу нашему, о благословенных душах чистилища и о тех, кто погряз в смертном грехе». Монахини подходят к дверям своих келий. Стоя на пороге, каждая набожно читает в ответ молитву; сестра, стоя на коленях, кропит ее иссопом, затем просит еще помолиться за тех, кто погряз в смертном грехе. Эту молитву монахиня произносит про себя. Сестра шепчет: «Да будет так ради любви к Господу», — и идет дальше.
Стоя неподвижно в дверях, Хустина тоже произносит шепотом молитву за закоснелого в грехе. За какого же грешника в тайниках души своей возносит молитву Хустина?
* * *
В полночь по темным галереям звенит колокольчик. Монахини идут на хоры. У дверей окунают пальцы в святую воду: «Aqua benedicta sit mihi salus»[41]. Хоры просторные, вдоль стен длинные широкие скамьи орехового дерева, посредине высится пюпитр с огромными томами, по четырем углам четыре плошки с негашеной известью для очищения воздуха. Служки начинают «инвитаторий». И среди мирной ночной тишины резкие, визгливые, звенящие голоса летят по обширному нефу, поднимаются к стрельчатым сводам, теряются в боковых капеллах, где мерцают огоньки.
Служба кончается. Монахиня ризничая гасит лампу, на хорах слышится легкий шорох снимаемых одежд. И гибкие ивовые прутья начинают хлестать по незажившим рубцам, и по трепетному мрамору тел струятся красные капли крови.
* * *
Хустина возвратилась в келью. Луна слабо освещает крохотную ее каморку, в саду на бледнеющем тусклом небе чернеют торжественные кипарисы.
Лицо Хустины бледно, зрачки экстатически горят. Она истощена, измучена, задыхается, и вдруг в глазах у нее все поплыло, она падает на пол.
И тогда Хустине открывается озаренное дивным сиянием царство небесное. Наверху в величавом блаженстве восседает Троица, ниже глядит простодушно и любовно святая дева, справа от нее святой Иосиф, слева Иоанн Креститель. Кругами, в иерархическом порядке, располагаются бесчисленные толпы серафимов, херувимов, престолов, господств, сил, властей, начал, архангелов, ангелов — ревностно, со сложенными в молитве руками и радостными ликами окружают они божественных монархов. Могучие стены с высокими башнями охраняют небесный град. Перед вратами в стене — имеющими форму могильной ямы — сходятся девять узких дорог: via martirum, via religiosorum, via virginum, via conjugatorum, via pauperum, via divitum, via castitatis et continentiae, via ecclesiasticorum, via prelatorum[42]. Стоя в воротах на вершине небольшого холма — mons perfectionis[43] — Христос ласково призывает скорбных путников, идущих по этим стезям.
Хустина видит себя на стезе девственниц. На тесной этой стезе толпятся с шумом благочестивые девы. В живописном беспорядке идут в белых одеждах монахини ордена милосердия, в черных — ордена сервиток, с красными крестами — монахини ордена тринитариев, в серых рясах и больших черных пелеринах — цистерцианки из Вальядолида, госпитальерки королевского монастыря в Сихене в рясах с длинным шлейфом и ярко-белым крестом на черном плаще… Хустина видит, как она приближается к вратам града небесного. Иисус взирает на нее с ласковой улыбкой. Хустина поднимается на желанный холмик. Иисус берет ее за руку. Хустина проходит через врата Рая. И в этот самый миг ее земная оболочка издает тихий стон и вздрагивает в смертной судороге.
Вдали на горизонте небо светлеет в неверном сиянии зари, запевает петух…
XXIX
С вершины холма Аталаяс равнина Пульпильо кажется бескрайней. Вдали, в низинах, светло-бурые пары, зеленеют посевы, чернеют недавно вспаханные полосы — унылая, пустынная, хмурая земля. Неровными темными прямоугольниками прорезают нежную зелень раннего овса участки испанского дрока. Симметричными рядами темных пятен уходят вдаль оливковые рощицы, исчезая в тумане, у подножья серых холмов. И рассыпанные по равнине на однообразном ее фоне, белеют стены крошечных домиков.
С правой стороны на голубом небе рисуются волнообразные очертания холмов Моратильяс с впадинами и зубцами, постепенно сливаясь с равниной. Прямо напротив, в недостижимой дали, нежные контуры горной гряды Салинас голубеют поверх длинной белой полосы тумана. И сквозь туман еле-еле мерцает у основания холма крошечный силуэт церковного купола. За ним горы снова смыкаются, причудливо громоздя уступ за уступом.
Длинные рыжие овраги спускаются с вершины Моратильяс по склонам до зарослей испанского дрока. Над волнистой линией Моратильяс виднеется вдали гора, ощетинившаяся соснами. Черными точками они то разбегаются врассыпную, то собираются в темные купы, украшая контуры горы тончайшим зубчатым кружевом.
Воздух свеж и прозрачен. Небо вдали начинает приобретать бледно-зеленый оттенок. Наступает полдень. Серые пятна оливковых рощ светлеют, темно-зеленый цвет полей переходит в светло-зеленый, туман понемногу редеет. И купол в далекой котловине сверкает яркими лучами, будто алмаз…
Окрестности погружены в безмолвие. Из дома, скрытого за темными вязами, поднимается прямо вверх столб белого дыма. Вдали темным пятнышком медленно движется упряжка волов. Солнечные лучи отражаются от белых стен. Временами слышна трель птицы, упоенно порхающей в притихшем воздухе; рядом кружит возле кустика розмарина пчела и жужжит, жужжит, то тише, то громче, жужжит без умолку. Затем исчезает…
Сойдя на Пульпильо, Асорин вглядывается в бескрайние просторы. Вычерчивая крутые зигзаги, идет от дома песчаная дорога. В пасмурные дни земля здесь окрашивается в свинцовые, охряные, синеватые, красноватые, пепельные, белесые тона; холмы становятся темнее, рыжие пятна на Моратильяс кажутся огромными сгустками крови. Стон ветра, далекий звон бубенца, невнятные рулады надрывного пения пробуждают в душе щемящую тоску по Бесконечности. И Асорин сквозь уменьшающие стекла очков смотрит на серое небо и серую равнину.
Вечерами, у очага с большим колпаком и громко стреляющими дровами, Асорин сидит молча в кружке здешних крестьян. Снаружи, в последних отсветах густеющих сумерек, черная бездна неба сливается с черной массой земли. Очертания зубцов Аталаяс размываются, контур Моратильяс исчезает. В бледных отсветах заката проступают на небе громады неподвижных облаков.
После ужина, сидя у очага, Дедушка, с его неспешной, запинающейся речью крестьянина, рассказывает о пережитых бедствиях. Мрачной вереницей проходят сокрушительный град, голод, засуха, эпидемии, давние кончины давних друзей. Дедушке восемьдесят лет. Он невысокого роста, жилистый, сухощавый, зоркие, как у орла, небольшие глаза, всегда изучающие облик равнины, блестят на бритом лице как две стеклянные бусины. Свет подвешенной к потолку масляной лампы отражается от круглого лысого черепа.
Дедушка — типичный ламанчский крестьянин. В сердце ламанчского крестьянина бьет обильный источник веры. Он простодушен, как ребенок, но, доведенный до крайности, становится жесток. Говорит медленно, двигается медленно. Невозмутимый, бесстрастный, молчаливый, бредет он за тяжелым плугом по бесконечной равнине или, в ненастную погоду, неподвижно сидит у очага, меж тем как его костлявые руки машинально переплетают тонкие прутья дрока. У ламанчского крестьянина нет любви к деревьям. Одевается он бедно, ест скудно. Он осторожен, недоверчив к льстивым словам чиновников, к непонятным новшествам. Вот, например, Дедушка, иронически усмехаясь, рассказывает, как пошло ему на пользу неверие в аптечные лекарства. Единственные его лекарства — дикие травы. Недавно, во время болезни, он, из опасения, как бы пища не помешала действию трав, три дня ничего не ел. И Дедушка сентенциозно заключает: «Говорю вам, все как рукой сняло, а лечился я настоем розмарина и истолченными стеблями зеленой виноградной лозы…» Пламя в очаге мечется, лижет его черные стенки, бросает на каменные лица крестьян багряные дрожащие блики.
Асорин удаляется в свою комнату. Это просторное помещение с голыми стенами. Ни картинки, ни кричащей олеографии, ни эстампа — ничто не скрашивает однообразия побеленных стен. Пол вымощен светлым кирпичом. Задумчиво Асорин ходит по комнате. Комнату освещает тусклая лампа. В одном конце стол с книгами — красными, синими, желтыми корешками с белыми прожилками, они оттеняют черный силуэт бутылки. В другом конце комнаты большим красным пятном выступают из темноты занавеси алькова.
Асорин ходит по комнате. Тень от его фигуры, укутанной в длинный плащ, движущейся в полумраке, мечется по стенам, подобно силуэту чудовищной птицы. Вот Асорин остановился у стола, наливает стакан, не спеша пьет. И думает о словах учителя: «Что за беда, если внутренняя реальность не согласуется с внешней?» Затем снова принимается машинально ходить взад-вперед. В ночной тишине его шаги звучат таинственно. Умирающий огонь лампы мерцает то ярче, то слабее. Желтоватые блики скачут вверх и вниз по белым стенам. Красное пятно в глубине комнаты исчезает, снова появляется, опять исчезает. Асорин выпивает еще стакан. «Представление — это все», — думает он. «Действительность — это мое сознание». Затем опять принимается ходить, делает остановку, снова начинает ходить. И с каждой остановкой у стола количество жидкости в бутылке уменьшается. Огонек лампы, съежившись, образовал вокруг тлеющего фитиля маленький фиолетовый нимб. Мебель погружается в мутную полутьму. От стола падает на стену неподвижная продолговатая тень, которая книзу расширяется, сливаясь с полом. Асорин садится, глаза его устремлены на эту тень. Огонь в лампе начинает шипеть. Фитиль искрится, одна искра взлетает вверх и с треском рассыпается на крохотные золотые точечки. Асорин закрывает глаза. Огонь гаснет, в темноте пурпурные крупинки рассыпавшейся искры отражаются на позолоченной лампе. Торопливо тикают неутомимые карманные часы.
Снаружи землю объял покой. На недальних каменистых склонах Моратильяс отчаянно визжат лисы. И в ночной тиши протяжное их тявканье отдается эхом по всей пустынной равнине, напоминая горестные стоны.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
I
После смерти Хустины Асорин уехал из родного города в Мадрид. В Мадриде свойственный ему пессимизм усилился, воля Асорина окончательно разложилась от созерцания суетности и ничтожества столичной жизни. Одно время он был революционным журналистом — и увидел, что революционеры состоят в тайном и выгодном сговоре с эксплуататорами. Потом ему вздумалось стать сотрудником реакционных газет — и он увидел, что эти жалкие реакционеры смертельно страшатся искусства и жизни.
По сути, Асорин ни во что не верит и, пожалуй, никого не уважает, кроме трех-четырех человек среди бесчисленных его знакомых. Наибольшее отвращение вызывают в нем пустота, легкомыслие, непостоянство людей пера. Возможно, что это зло порождено и взращено в литературе политикой. Нет ничего более мерзкого, чем политик: политик — это человек, который делает автоматические жесты, произносит неосмысленные речи, дает обещания, сам того не сознавая, пожимает руки незнакомым людям и улыбается, вечно улыбается глупейшей автоматической улыбкой… В этой улыбке Асорин видит эмблему политического идиотизма. Такую же улыбку он встретил и в журналистике и в литературе. Причиною проникновения этой заразы в литературу была, конечно, журналистика. В общем-то, литература уже почти исчезла. Журналистика создала тип писателя поверхностно энциклопедического, с блестящим стилем, с поразительным самодовольством. Это тип, который был ненавистен Ницше: тип человека, «который по сути ничто, но который представляет почти все». Специалисты перевелись: ныне пишут для газеты, а газета требует, чтобы писали обо всем. Лет через тридцать мы все будем журналистами, то есть никто ничего не будет знать. Обо всех предметах мы будем рассуждать предположительно, что имеет ряд преимуществ — экономит время и избавляет от вгоняющего в меланхолию чтения многих книг.
И подумайте, то, что кажется бедствием, может со временем обернуться благом: ведь избегая размышления и самоанализа, этих убийц Воли, мы придем к тому, что Воля возродится в полном своем могуществе и возвратится к жизни… пусть за счет Разума.
Асорин явился слишком рано, чтобы насладиться этим благом. Дух его мечется по сторонам в исканиях и в смятении; у него нет плана в жизни; он неспособен к длительному усилию; он порхает вокруг всевозможных идей; он стремится изведать всевозможные ощущения. Так, в непрестанном движении, в упорных и тщетных порывах ткется и распускается полотно бытия, неумолимо мчится жизнь, оставляя лишь мимолетные следы — жест, возглас, взрыв негодования, парадокс…
II
По правую руку красноватый массив Арены для боя быков великолепно смотрится на фоне лучистой лазури; слева небольшие особнячки Нового Мадрида, пестрое скопление стен, разукрашенных красными и желтыми каемками, балюстрад с урнами, синих и зеленых стекол, крошечных куполов, безобразных окон, красных и черных крыш… Все там кричащее, мелкое, чванливое, наглое, непрочное, все пронизано воинственным дурным вкусом, хвастливым тщеславием мира лавочников и чиновников.
День теплый, солнечный, чувствуется первое бодрящее дыхание весны. Широкая дорога залита солнцем. И Асорин медленно шагает по ней, направляясь к Вентас. Со стуком и звоном проносятся огромные трамваи, проезжают двуколки, идут вереницы мулов, движутся черные и белые катафалки, коляски, переполненные людьми, едущими на восток, в долину. Вдали, рядом со старым мостом, показываются обшарпанные стены низкого домика: это постоялый двор «Эспириту Санто».
Перед домиком, на солнце, играют в карты за круглым столом четыре крестьянина; над ними неторопливо кружат белые голуби, на зеленой лужайке белеют большие простыни, расстеленные на траве для просушки и закрепленные камнями. Показывается белый катафалк с маленьким белым гробом, на головах у лошадей белые султаны. В воздух взлетают два голубя из ручья, где они тихонько что-то клевали; бежит по тротуару собака, вывесив розовый язык, задрав хвост бубликом; катафалк резко остановился — перед ним стремительно пролетает трамвай. Следом едет другой катафалк, черный, с черным гробом; возле постоялого двора резвятся мальчишки, затем проезжает еще один белый катафалк, над тротуаром кружит тень голубя. И трезвонят колокольчики пролеток, лает собака, играют органчики в харчевнях, мальчишки орут: «Не попал, не попал! По этой бей, по этой, по этой! Попал сюда!»
Асорин медленно идет вперед. Окрашенные в зеленый, желтый, красный цвета, показываются строения Вентас с заборами из нетесаных досок, с большими зазывающими вывесками: «Ресторан де ла Унион», «Вилья де Мадрид», «Ла Глориоса», «Лос Андалусес». Народу на улице много, пестрыми волнами движутся щеголи в широких брюках и с зубочисткой за ухом, студенты, служанки, модистки, садовницы, господа в коричневых шляпах и белых галстуках. Органчики оглушительно играют марши тореадоров и томные вальсы; неистово вертится карусель; мелькают вверх и вниз качели. А в ресторанах звякают тарелки и кружат разгоряченные, потные пары… Проезжает белый катафалк, проезжает черный катафалк, две женщины, сидя на перилах моста, визгливо переругиваются и показывают друг дружке кулаки; большими прыжками передвигается нищий, опираясь на две палки; чуло кричит возчику, который проезжает на двуколке, хлеща своих мулов: «Прощай, Пепито!» И веселые, отрывистые, пронзительные звуки органчиков гремят, резвятся, взвиваются над немолчным гулом толпы, выкриками, звонками трамваев, громыханьем повозок, возгласами торговцев, лаем собак, переборами гитар.
Проезжает черный катафалк, проезжает белый катафалк. По ту сторону моста в ресторане поднимают бокалы, пожирают отбивные, похоронные кареты едут мимо, едва не задевая за столики, и органчики играют без умолку. Асорин идет вперед. На углу в больших сковородках пузырится оливковое масло и шипят куски мяса, их переворачивает длинной ложкой неопрятная женщина со слезящимися глазами; мимо нее, мимо огромных освежеванных говяжьих и свиных туш, подвешенных к стене на крюках, проезжают катафалки. И на какой-то миг среди дыма, идущего от сковород, черные силуэты гробов оказываются рядом с кроваво-алыми пятнами туш.
Асорин шагает по Восточному шоссе. Дойдя до вершины зеленого холма, окруженного широкими изумрудными склонами, он останавливается и смотрит вдаль. Громко гудят телеграфные столбы, поет петух, по шоссе медленно движутся черные катафалки, белые катафалки; быстро едут обратно черные катафалки, белые катафалки, звенят колокольчики пролеток со множеством ездоков в черном, длинная вереница фиакров поблескивает на солнце лакированными боками. Впереди, на зеленом пригорке, стоят красноватые здания, четко вырисовываясь на белесо-голубом небе, среди черного кружева безлистных голых крон. Справа виднеются желтые песчаные откосы и карьеры кирпичных заводов, здесь и там красными пятнами высятся штабеля кирпичей; дальше замыкает горизонт могучая гряда Гвадаррамы с белыми снежными вершинами, с темно-синими утесами и выступами… Тихо расплываются вдали два-три белых столба дыма, по шоссе едут и едут катафалки; возницы кричат: «Эй! Эй!»; сильные порывы ветра доносят звуки органчиков, кукареканье петухов, лай собак. Рядом с шоссе, на лугу, пасется стадо овец, овцы блеют, слышится долгий вибрирующий гудок локомотива, время от времени, упорно повторяясь, доносится дальний гул взрывов.
И Асорин, уставший от десяти лет жизни в Мадриде, пресыщенный газетами и книгами, размышляет об этой лихорадочной, бесплодной пляске живых и мертвых — и медленно поворачивает по шоссе обратно. Едут взад и вперед черные катафалки, белые катафалки, торопливо проходит мужчина с серым гробиком на плече, на крышке слова «Св. Иоанн Божий». Вдали глухо рокочут барабаны, ветер доносит астматическое «пых, пых» локомотива. И на склоне дня, проходя мимо оглушительно шумных ресторанов, где играют органчики и неистово отплясывают пары и официанты снуют с тарелками, где кричит и поет и суетится в смертной судороге похотливая толпа чуло и судомоек, Асорин с волнением и содроганием видит, как проезжает белый катафалк с покрытым цветами белым гробом, и вокруг катафалка идут цепочкой девочки, каждая держит свою ленту, усталые и молчаливые, они идут из далекого города к далекому кладбищу…
* * *
И уже в Мадриде, разбитый, подавленный, изнемогший от глубокого потрясения, испытанного при кошмарном этом зрелище Похоти, Страдания и Смерти, Асорин задумывается над скорбным, бесплодным и безумным движением миров к Небытию…
III
По перрону ходят крестьяне с переметными сумами, женщины с корзинами, парни в синих блузах, парни в вельветовых куртках. Слышится глухое «пых-пых» — медленно приближается паровоз и увозит вагоны первого класса. Затем появляется другой паровоз. Вокруг раздаются свистки вибрирующие, свистки отрывистые, рев громкоговорителей, лязг и скрежет сцеплений, стук тележек. Открытые дверцы входов на перрон образуют ряд желтых пятен. На другом конце перрона, в глубине этого огромного нефа, виднеется серая полоса неба, тянутся в гнетущем однообразии ряды круглых электрических ламп, простер длинное крыло с четырьмя крестами семафор, а дальше — застекленная будка, столбы, провода, силуэты вагонов. Звучат короткие свистки, долгие свистки, выкрики разносчиков газет, грохот цепей. Пассажиры спешат, заходят в вагоны, громко хлопают дверями.
Асорин заходит в вагон третьего класса. Поезд скоро тронется. Двое крестьян разговаривают: «…уже месяцев шесть или восемь, как расстался с казармой, и каждый месяц…» Стоя у входа, женщина с двумя детьми спорит с другой женщиной, стоящей на перроне: «Да ты возьми, голубушка… возьми… возьми… мне хватит…» И она бросает монету в один дуро, которая звеня катится по перрону. Слышится долгий звонок, затем стук дверей. «Не забудьте же, пишите тете!» — кричат детям с перрона. И в вагон входит Гедеон. Гедеон — слепой, который разъезжает в поездах, поет и просит милостыню.
Опять долгий звонок, паровоз издает громогласный вопль, поезд трогается. Вагон заливает светом. Остаются позади кирпичные дома, возникающие на фоне унылого неба. Гедеон пробует голос: «Тириро, тириро, тиро…» Затем, хлопнув в ладоши, издает жалобное «а-а-а» и начинает:
Хотя бы слетели с неба С тобой говорить серафимы…За насыпью справа показываются служебные помещения станции. Вдали, зубчатым кружевом на горизонте, — ряд черных кипарисов. Асорин думает: «Здесь лежит Ларра». Медленно расплывается густой дым из высокой трубы. Мадрид исчезает, сливаясь в огромное серое пятно с белыми крапинками домов, торчащими колокольнями, пепельно-дымчатыми куполами, печными трубами и длинной черной полосой парка Ретиро. А за ним, едва различимая, голубеет и белеет похожая на задник декорации снежная Гвадаррама.
Начинается унылая ламанчская равнина. Рядом с Асорином крестьянин большущим ножом режет хлеб. Гедеон спрашивает: «А кто не поскупится, даст мне сигарету?» Затем шутливо-скорбным тоном восклицает: «Ах, что за жизнь пошла! При такой жизни до старости не доживешь!» Показываются желтые холмы, прямоугольники паров, прямоугольники светло-зеленых полей. И поезд останавливается в Вильяверде.
Вот Вильяверде позади. Мадрид расплылся в туманной дали. Небо пепельное, тучи прорезает длинный зеленовато-синий просвет. На бескрайней равнине пасется стадо овец, у разъезда стоит женщина в черном с флажком в правой руке, левая рука подпирает правый локоть, женщина стоит прямая, торжественная, как египетская статуя, а за нею едет по дороге на белой лошади человек в длинном черном плаще… Поезд опять останавливается — Хетафе. Асорин выходит. Падре Ласальде здесь ректор коллегии. Тоскуя по давним временам, Асорин решил его навестить.
От станции к городу — прямая дорога, обсаженная тополями, справа и слева простирается хмурая равнина. Впереди видна апсида церкви с островерхой колокольней. Вдоль городских улиц низкие домики, широкие порталы с навесами, деревянные балконы, позеленевшие черепичные крыши с красными заплатами подновленных мест. Беспорядочно разбросанный, тихий, унылый ламанчский городок. Асорин шагает по улицам, иногда на звук его шагов за оконным стеклом появляется женское лицо. На пустынной площади играют, покрикивают несколько мальчиков; у фонтана, окруженного рахитичными кустами бересклета, судачат две-три женщины. «По мне-то все хорошие… все мы, знаете, и хорошие и плохие», — говорит одна. Бьет колокол, фонтан брызжет крупными каплями.
Асорин заходит в коллегию. Румяный старичок с белыми моряцкими бакенбардами и в синем шарфе берет его визитную карточку. Вскоре в приемной появляется падре Ласальде. Сравнительно с прежними временами он похудел, лицо стало бледнее, черты заострились, морщины-скобки по углам рта стали глубже. И усилилось дрожание рук.
— Не пойму, что это со мной, — говорит он, — сам не знаю, как держусь, Асорин… Думаю, от усталости… Много работал, да, работал…
Он умолкает, обычные его паузы теперь продолжительнее, чем прежде: порой он молчит долго-долго, будто потеряв нить. А глаза, полные внутреннего огня, устремлены в пол.
— Ты не знаешь, сколько у меня работы… Тяну, сам не знаю как… Надо выполнить требования немецкого издателя и для Ордена трудиться… Вот гляди, «Ревиста Каласансиа» мы уже не издаем; раньше я занимался этим журналом, теперь не в силах.
Он опять умолкает, затем говорит:
— Все суета, Асорин. Все здешнее — только переход, момент… Живи честно, будь добр, смиренен… пренебрегай суетой… да, суетой…
И Асорин, снова выйдя на улицу в этот серый день, в этом хмуром городе ламанчских степей, почувствовал печаль. Он прошелся наугад по нескольким улицам, одна из них, широкая и длинная, называлась улица Мадрида, затем по нескольким извилистым с глинобитными оградами и широкими воротами — улица Сан-Эухенио, улица Магдалены…
Затем зашел в «Кафе-ресторан дель Комерсио». Кафе крохотное, внутри ни души. В зальце тишина. К столику подошла собака с острой мордочкой и блестящими глазками, видно, молодая, неопытная; ее коготки слегка стучат по деревянному полу. Асорин гладит собаку и заказывает рюмку можжевеловой — то и другое отлично совмещаются.
И, потягивая из рюмки, он размышляет:
«Все суета; представление — вот единственная реальность, единственный источник жизни и мудрости. Таким образом, этот молодой, наивный песик, не читавший Трояно, этот песик, не знающий понятия „время“, не думающий об имманентности или трансцендентности первопричины, более мудр, чем Аристотель, Спиноза и Кант, вместе взятые».
Песик, наставив ушки, полизал ему руку — казалось, он благодарил за оказанную ему высшую справедливость.
IV
Почувствовав усталость от однообразия мадридской жизни, Асорин решил съездить ненадолго в Толедо. Толедо, этот мрачный, пустынный, трагический город, влечет его и чарует. Асорин бродит по узким его улочкам, живописным переходам, останавливается на небольших безлюдных площадях, заходит в монастырские церкви и смотрит через решетку на неподвижные тени молящихся монахинь.
Живет Асорин в гостинице. Называется она «Новая». Осматривать исторический город, живя в дорогой гостинице, населенной коммивояжерами, туристами, военными, чиновниками, значит лишить себя самых волнующих впечатлений, которые дает общение с менее космополитической средой в таких заведениях, как постоялые и заезжие дворы, где встречаешь людей из народа… В гостинице «Новая» Асорин наблюдает, как входят и выходят труженики толедской земли, возчики, почтальоны, крепкие молодки, молчаливые старухи, алькальды, являющиеся в восемь утра и ждущие до часу дня, пока губернатор, заядлый мадридский полуночник, не соизволит встать.
Сегодня, после скудного гостиничного завтрака, в темной столовой налево от входа, пока шепелявая, неповоротливая служанка собирала посуду, Асорин услышал речь крестьянина из Сонсеки. Настоящий старинный мистик! Важным, звучным голосом, сдержанно и изящно жестикулируя, этот крепкого сложения старик простодушно рассуждал о христианском смирении, о страдании, об обманчивости и бренности жизни… «Впервые, — думал Асорин, — встречаю мистика в жизни, а не в книгах, и этот мистик — бедный кастильский земледелец, рассуждающий с простотой и изяществом фрая Луиса де Леон, чувствующий глубоко, без умствований и предрассудков. В испанском народе наверняка осталось еще немало от нашего древнего католического духа, не извращенного иезуитской слащавостью и не обесцвеченного поверхностным, наносным либерализмом, который теперь начинает пробиваться в нашем епископате — именно здесь, в Толедо, — и, пожалуй, через несколько лет наделает беды. Широта ума, гибкость, понимание — вот свойства фрая Луиса де Гранада, фрая Луиса де Леон, Мельчора Кано; у Фернандо де Кастро в его трактате об испанской Церкви есть прекрасные страницы, где говорится об особой духовной чистоте испанского католицизма. Нынешний католицизм совсем иной, он находится в открытом разладе с этой привлекательной традицией, которая высшими классами уже полностью утрачена и лишь изредка, кое-где, встречается у простых людей из народа, вроде этого крестьянина из Сонсеки, так чудесно рассуждающего о христианском смирении… О, эти высшие классы! Ныне в Испании не найдешь толкового епископа, я уже много лет читаю их пастырские послания и могу утверждать, что никогда не видал ничего более пошлого, глупого, топорного и отталкивающего. В них совершенно отсутствуют искусство и страсть! Из-под пера епископа никогда не появится изящная и пылкая страница. Даже те из них, кто в некоторых псевдодемократических кругах слывет просвещенным и понимающим, — вроде нашего кардинала Санчи, — неспособны создать что-либо по крайней мере холодно правильное, скромно заурядное. Их слог настолько коряв и убог, что вызывает лишь улыбку жалости. Примером могут служить сочинения самого кардинала Санчи. Редко встретишь что-либо более неуклюжее — это мозаика из тривиальностей, пустословия, выдержек из газет, избитых цитат. Так и вижу облаченного в пурпур величавого господина, со сверкающим крестом на шее, восседающего в резном кресле в украшенном коврами и дорогими обоями покое, вижу, как он берет длинные ножницы и принимается вырезать статью из „Иль Паэзе“, что издается в Перузе, из „Ла Вера Рома“, из „Курье де Брюсель“ или (sic!) из „Таймс“. Вспоминаю, что в книге Санчи, озаглавленной „Режим террора в объединенной Италии“, автор опускается до мелочей, недостойных его пурпура. Он, например, пишет, обращаясь к генералу, упраздняющему какой-то там комитет: „Генерал Вава Бекарис, комиссар Милана, возможно, весьма сведущ в делах военных, однако, без намерения его обидеть, разрешим себе заметить, что в своем вышеупомянутом „Декрете“, распуская комитет епархии сего города, он выказывает полнейшее незнание юридических и социальных наук“. В другом случае, обращаясь к какому-то незначительному правителю Виченцы, он говорит: „Не помешало бы префекту Виченцы, прежде чем издавать декрет о роспуске „Кружков католической молодежи“, походить в коллегию и получить там образование и некоторые сведения по философии, дабы научиться рассуждать“. Потрясающе!»
Асорин встает из-за стола. «Католицизм в Испании — дело проигранное: епископы пошляки да священники невежды прикончат-таки его в недалеком будущем». Асорин выходит на площадь Сокодовер и делает круг по старинным торговым галереям. Вечер стоит теплый. От витрин ложатся на тротуар светлые прямоугольники, в глубине лавок старые торговцы — как на картинах Маринуса — считают деньги, проверяют бухгалтерские книги. Площадь безлюдна, лишь изредка пробегает по ней чья-то тень и, задержавшись на миг перед ломящимися от марципанов витринами, бежит дальше и исчезает в какой-нибудь улочке. «Счастливый здесь народ, — думает Асорин, — у него много священников, много военных, люди ходят к обедне, верят в черта, платят налоги, ложатся спать в восемь часов… Чего им еще желать? Им дано блаженство Веры, вдобавок они, будучи католиками и страшась ада, получают двойное наслаждение от грехов, которые нас, прочих смертных, скептически относящихся к вечному поджариванию, почти не волнуют».
Асорин остановился у входа в лавку. Внутри стоят перед прилавком и разглядывают круглые коробки старуха в черной накидке и молодая особа, тоже в черной накидке. Девушка — миниатюрного сложения, настоящий тип толедской аристократки — лицо бледное, очень живые глаза, быстрые, изящные движения. Исабель Католичка, восхваляя ум толеданок, говаривала, что «только в Толедо чувствовала себя невеждой»; Асорин, пожалуй, невеждой себя не чувствует, но он готов заявить, что толеданка, покупающая марципан, ему милее книг кардинала Санчи.
Поэтому Асорин, задумавшись, застревает у порога. Старуха и молодая осматривают, перебирают все новые и новые коробки. Сделка затягивается — когда женщины не могут решиться на покупку, они ужас как медлительны. Асорин между тем думает, что две эти женщины, наверно, живут в старинном родовом доме с огромным гербом над входом, с мрачной передней, мощенной мелкою плиткой, с небольшими окнами, прикрытыми жалюзи, и что он, Асорин, уставший от литературных дрязг, был бы вполне счастлив, если б женился на этой девушке в черной накидке. «Да, вполне счастлив, — думает он, — жил бы я в их большом особняке, наслаждался бы тихой растительной жизнью в этом живописном, безмолвном городе… Я, возможно, стал бы человеком методичным, который подолгу кашляет, рано встает, ест в определенные часы, содержит все свои дела в порядке, ужасно страдает, если стул ставят чуть дальше от стены, чем обычно, при невралгии томно стонет, вроде голубя, а отправляясь в путешествие, приезжает на вокзал за час раньше, читает политические речи, возмущается порнографическими иллюстрациями, знает цену мяса и гороха, наконец, ходит с толстой палкой, и ее серебряный наконечник глухо стучит по земле. Разве такая жизнь не может быть столь же насыщенной, как жизнь Эрнана Кортеса или Сиснероса? „Представление — это все“, говаривал учитель. Действительность несущественна, существенна наша мечта. И жил бы я счастливо здесь в Толедо, обретя методичность и катар… с этой миленькой девушкой, у которой такие упругие грудки и волнующая застенчивость».
Старуха и девушка выходят наконец из лавки. Асорин следует за ними. Они спускаются по крутым ступеням Кристо-де-ла-Сангре, затем идут по лабиринту кривых улочек и в конце концов исчезают в полумраке, как два привидения. Хлопает дверь… И Асорин застывает на месте, замирает, будто в экстазе, глядя, как рассеивается его мечта. Но вдруг он видит вдали, в мертвенном свете фонаря, движущееся белое пятно, по которому скачут яркие металлические блики. Быстро покачиваясь, пятно приближается. Асорин видит, что это белый гробик, и несет его на спине какой-то мужчина. Глубочайшее потрясение! По пустынным, мрачным улицам Асорин, взволнованный, завороженный, следует за зловещим похоронщиком, чьи шаги громко отдаются в узких переходах. Человек с гробом, миновав церковь Санто-Томе, идет по улице Дель-Анхель и, выйдя на небольшую площадь, стучит молотком в дверь. Раздается глухой звон — это он поставил гроб на землю. Над дверью вспыхивает светящийся прямоугольник, и чей-то голос спрашивает: «Кто там?» Человек говорит: «Это здесь заказывали гробик для девочки?» — «Нет, не здесь». И зловещий разносчик опять берет гробик и идет дальше. Несколько женщин, стоящих в дверях соседнего дома, восклицают: «Это для девочки из дома на Лос-Эскалонес. Красоточка была!» Человек приходит на другую небольшую площадь и стучит в дверь, к которой ведут три ступени. Ему отворяют, говорят с ним, белое пятно скрывается, хлопает дверь… И в безмолвии пустынных улиц Асорин бредет наобум, пока не заходит в безлюдное кафе.
Кафе называется «Ревуэльта». Асорин садится и дважды хлопает в ладоши, чем вызывает сильное волнение у официантов, глядящих на него удивленно. Огромный колокол кафедрального собора бьет десять, удары его торжественно разносятся по уснувшему городу. И Асорин за рюмкой водки — что не помеха для глубоких размышлений — думает об унынии этого испанского города, об унынии этого пейзажа: «Принято говорить об испанской веселости, а между тем нет ничего более гнетущего и печального, чем наша испанская земля. Печален ее пейзаж, печально и искусство. Пейзаж этот с резкими контрастами, внезапными сменами света и тени, с кричащими красками и яркими бликами, ослепительными тонами и давящей серостью придает жесткость людям, наделяет их прямолинейностью, суровостью, несгибаемостью, благоприятными для твердого следования традиции либо прогрессу. В северных краях постоянные туманы, заволакивая горизонт, создают атмосферу эстетической неопределенности, смягчают контуры, вуалируют жесткость линий; на юге же, напротив, яркое солнце оттеняет контуры, придает четкость очертаниям гор, освещает дальние горизонты, отчетливо рисует тени. Образу мышления у нас, подобно пейзажу, свойственны ясность, жесткость, единообразие — один аспект, один цвет. Поглядите на угрюмую и суровую панораму толедских окрестностей, и вы увидите и поймете изогнувшиеся, встревоженные фигуры Эль Греко; равно как увидеть камышовые заросли Авилы значит понять пылкий лирический порыв великой святой, а видеть всю как есть Кастилию с ее бескрайними равнинами и голыми холмами значит постигнуть дух, сформировавший нашу литературу и наше искусство. Франциск Ассизский, приветливый, ласковый, радостный, наивный мистик становится под резцом Кано пугающим, иссохшим, неопрятным, диким аскетом.
В нашем искусстве нечего искать дыхание широкого сладостного гуманизма, вибрацию души, тронутой всеобщим страданием, нежность, тонкость, успокоительное и бодрящее утешение. Самое душевное и бодрящее во всей нашей литературе — это, возможно, чудесное послание Фернандеса де Андрада, и, однако, оно оставляет в душе впечатление самого горького пессимизма. Поэт рисует пустоту придворных интриг, тщетность стараний и стремлений людских, вечный обман, царящий в наших делах и сделках, всегдашнюю несправедливость людского суда: повсюду непорядок и злоба; богатство дается не служением Астрее, как прежде, а лестью владыкам; злодея награждают, отнимая у добродетельного; безупречная, достохвальная добродетель — лишь личина „подлых фигляров“… Все суета и обман. Сама жизнь наша не более, чем „краткий день“, который можно сравнить с сеном — утром оно зеленое, вечером уже сухое. „О смерть! — завершает автор великолепной фразой: — Приди же безмолвно, порази мгновенно, как стрела!“
И, подобно Андраде, все как есть поэты развивали идею отношения человека и вселенной. Разве сладостный певец „Ясной ночи“ с его мрачными мыслями не стоит вровень с самым глубоким пессимистом из современных поэтов? Среди всех них первый — Леопарди, но и тот не внушает вам такую тоску и безутешность. Беспощадный в осуждении людского злосчастья и ничтожества, фрай Луис де Леон в дивных стихах, проникнутых спокойной платонической ясностью духа, постепенно показывает, как „алчное и жестокое время“ все изменяет и всякое величие и страсти наши завершает смертью и небытием. Жизнь — суета сует: если случайно кто-то счастлив, так это человек, который ищет утешения у себя самого, а не у окружающих его людей и вещей:
Блажен, кто сам себя смиря, Фелипе, презирает наслажденья, В умеренности жизнь ведя, В душе источник благ найдя, На мир вокруг глядит без вожделенья.Печаль, присущая нашему искусству, — печаль опустошающая. Открытие Америки было завершением дела Реконкисты: оно окончательно превратило испанца в человека действия, нерефлектирующего, непоэтичного, закрытого для всякого ощущения эстетического сродства, склонного к напыщенной декламации, к громогласному бахвальству. И вот вам два жанра, отражающих наш упадок австрийских времен: театр, плутовской роман. Лопе доконал наивную, сочную, непосредственную драму в прозе Тимонеды и Руэды; его театр открывает варварский период драмы искусственной, многоречивой, без наблюдения жизни, без правды, без поэзии, драмы Кальдеронов, Рохасов, Тельесов, Морето. Ни в одной литературе нет ничего более высокопарного и несносного. Этот театр без матерей и без детей, с однообразными характерами, с абстрактными темпераментами, воплощенными в болтливых дамочках, в гротескных драчунах, в глупых грасиосо, в персонажах, которые на каждом шагу толкуют о своей чести и на каждом шагу совершают тысячи подлостей…
Роман же — кроме „Ласарильо“, произведения юношеского, написанного, когда риторические шаблоны и пружины романа еще не сложились, — этот столь прославленный плутовской роман не что иное, как пестрая и сухая мешанина живописных жестокостей и ужасов, претендующих на комизм. В сухости и свирепости никто не превзошел великого Кеведо. „Жизнь пройдохи Дона Паблоса“, этот полный преувеличений, бестактностей и насилия тягостный, мрачный парад голодных бродяг и шлюх, — вот точный сколок всех плутовских романов. Хитрости и безжалостные проделки, придуманные автором, чтобы помучить своих персонажей, вызывают отвращение. Здесь, как и в прочих испанских книгах, явно и четко проступает дух народа, гипертрофированный эпохой упадка. Между страницей Кеведо, холстом Сурбарана и статуей Алонсо Кано — полное соответствие. И между этими страницами, этими холстами, этими статуями и кастильским пейзажем с резкими его контрастами и бескрайними просторами существует логическое и всестороннее родство».
Асорин выпивает еще рюмку водки.
«Да, — продолжает он думать, — наша литература XVII века неприятна до крайности. Чтобы найти нечто непосредственное, радостное, пластичное, интимное, надо обратиться к старинным авторам; надо углубиться во времена до Берсео, до „Романсеро“ — с образами Инфантины, пажа Верхилиоса, графа Клароса и так далее — до несравненного Протопресвитера Итского, которым восхищался учитель. Он и Рохас — два тончайших мастера в изображении женщины, но какая разница между саламанкским школяром и Протопресвитером Итским! Протопресвитер и школяр рисуют одни и те же сцены, приводят в движение те же типы, создают те же положения; однако Рохас бесцветен, нерельефен, схематичен, а Протопресвитер — это сплошь многозначность, движение, свет, цвет, ассоциация идей. Штука в том, что Рохас изображает субъективное, а Хуан Руис — объективное; предмет одного — дух, предмет другого — мир; у одного реальность внутренняя, у другого — внешняя; один — чтобы, наконец, высказаться сразу и ясно — живописец „характеров“, а другой — „нравов“. Столь же существенное различие и в современном романе, разделенном между Флобером, мастером психологии, и Гонкурами, мастерами пластичного изображения.
Протопресвитеру требуется всего одна фраза, чтобы обрисовать предмет, у него есть чувство движения и цвета, быстрая интуиция, помогающая кратким штрихом передать ощущение во всей полноте и чистоте.
Фигура Тротаконвентос намного превосходит знаменитую Селестину. Тротаконвентос — старуха умная, хитрая, скрытная, знающая уйму тайных уловок, великолепный мастер диалектики, искуснейшая соблазнительница. Переходя из дома в дом, она продает безделушки, сообщает новости, разносит сплетни. Тоскующим холостякам устраивает „свидание с любезными дамами“; для грустящих девушек находит способы утешиться. Так, дону Мелону, сохнущему по донье Эндрине, она обещает помочь своими хитрыми ходами и мало-помалу, с искусной градацией приемов, подчиняет своей воле горюющую вдову. „Зачем, — говорит она, — ты всегда сидишь дома? Здесь, в городе, есть красивые юноши, нарядные, разумные, благородные… Есть здесь некий дон Мелон де ла Уэрта, который без спору всех превзошел учтивостью и знатностью. Зачем тебе сидеть одной, в одиночестве и печали?“
И в конце концов красавица вдовушка смягчается, поддавшись уговорам старухи; вот донья Эндрина уже с нетерпением ждет ее прихода, уже обнимает ее обеими руками, когда та появляется, а когда Тротаконвентос заговаривает о любовнике, на лице у вдовушки меняются цвета „алый и желтый“, и, наконец, пока старуха выкладывает свои новости, она с волнением и трепетом
тихонько пальцы мне рукой своей сжимает.»Асорин выпивает еще рюмку водки.
«Да, — продолжает он думать, — этот радостный и мощный, приятный и плодотворный дух утрачен. Наши мрачные богомольные города создают теперь лишь мужчин, изо дня в день делающих одно и то же, да женщин, одевающихся в черное и редко моющихся. Нет, я не мог бы жить в городе, вроде этого, беспокойный мой ум задохнулся бы в этой угрюмой, однообразной, вечно неизменной среде. Все тут глупо! Кастильская и католическая суровость гнетет этот жалкий, парализованный народ. Кругом бедность, вялость, скудость. Даже те, кого называют демагогами, они по сути несчастные реакционеры. В религиозную догму они не верят, но сохраняют мораль, эстетику, образ жизни отвергаемой ими религии. Нет, надо разбить старые „скрижали моральных ценностей“, как говорил Ницше».
И вскочив на ноги, Асорин выкрикивает: «Да здравствует Представление! Да здравствует Заблуждение! Да здравствует Аморальность!» Официанты, понятное дело, остолбенели. А Асорин горделиво выходит из кафе.
Узнать в точности, сколько рюмок опрокинул Асорин, невозможно. Поистине, чтобы мыслить таким образом, надо хорошенько выпить.
V
Во всех утренних газетах есть отчеты о банкете, которым молодежь отметила выход в свет блестящего романа Олаиса под заглавием «Духовное уединение».
Асорин читает «Эль Импарсиаль», где подробно описано торжество. Первый тост произнес Асорин, зачитав краткую, энергическую речь; затем еще пять или шесть молодых людей, искусно владеющих пером, выступали кто в серьезном регистре, кто в цветистой манере. Хроникер «Эль Импарсиаль» перечислил всех, привел краткие изложения их речей, пишет о них с дружеским уважением.
Затем Асорин берет «Эль Либераль». Заметка в «Эль Либераль» подписана его давним товарищем. И Асорин с удивлением обнаруживает, что тот назвал всех, выступавших на обеде, всех, кроме одного, а именно его самого, Асорина. Автор — давний его друг — прибегнул к искуснейшим, умопомрачительным экивокам, чтобы, упомянув обо всех, не назвать его имени.
«Эта по-женски мелочная неприязнь, — думает Асорин, — это низкое злопыхательство, свойственное умам, чуждым идеализма, возвышенности, величия, — некий символ той молодежи, к которой принадлежу и я, среди которой я живу; той молодежи, у которой — подобно прежней молодежи, нынешним старикам, — не хватает силы духа подняться над житейскими дрязгами. Конечно, это мелочь, цена ей грош, но ведь повседневное наше бытие состоит из таких вот микроскопических мелочей, и история в конечном счете также не что иное, как замысловатая мозаика из подобных ничтожных пустяков. Вспоминаю, как несколько лет тому назад в газете, где всем заправлял считавшийся знаменитостью литератор, перепечатывались краткие обзоры из литературного журнала, причем постоянно пропускали имя одного писателя, сотрудника журнала, который когда-то в своей сатире задел знаменитого литератора. Можно ли зайти дальше в низости душевной! И это еще одна ярчайшая деталь в картине нашей литературной среды; в Мадриде редко встретишь литератора с широкой душой. Мы живем в атмосфере споров и ссоры, мелких обид, льстивых словечек, коварных намеков, лживых улыбок, двусмысленных приветствий…»
Уронив газету на пол, Асорин размышлял дальше:
«Да, подло, глупо… Третьего дня, выходя из кафе, я по рассеянности не попрощался с известным поэтом X, сидевшим за соседним столиком; вчера я встретил его на улице, и он отвернулся, чтобы со мною не здороваться. Вчера же вечером в „Атенео“ я встретил романиста N и попросил у него его последнюю книгу. „Я решил, — сказал он весьма любезно, — никому не дарить свою книгу…“ И тут же, пока мы с ним беседуем, подходит к нам редактор крупной газеты, общий друг нас обоих, и благодарит романиста за присланную книгу. Догадываюсь, в чем причина, — год назад я пообещал написать критическую статью о его предыдущей книге и не сделал этого; догадываюсь также, что этот милейший господин дарил мне свои книги, чтобы я делал им рекламу, — стоят они того или нет. Перечень подобных симптомов времени можно продолжать без конца. Кого ни возьми, обидчивость, гордыня и эгоизм невероятные. Писать в Мадриде искренние критические статьи и не думайте, ни один здешний писатель не сумеет подняться выше мелкой обиды за критику; ни один не сумеет прочитать с идеальным бесстрастием какой-либо эпитет, задевающий его литературную честь; ни один не сумеет говорить со своим критиком спокойно — без предубеждения, без досады, без враждебности. Да, все этим грешат! Среди молодых писателей больше всего бранных отзывов достается мне. Я же ни на кого не держу зла, читаю самые ядовитые выпады с невозмутимым спокойствием, отношусь к моим хулителям одинаково как до их критики, так и после нее. И если бы кто-то из них явился ко мне с просьбой об услуге, я оказал бы ее точно так же, как и хвалящему меня…
И все потому, что я убежденный детерминист. Разумеется, способность ума подняться над житейской грязью — качество врожденное, инстинктивное, наследственное; однако немалую роль играет ваша философская концепция мира. И вот каким образом — хотя это покажется дерзким парадоксом! — Лукреций или Моисей могут побудить вас улыбаться или огорчаться при мелкой литературной пакости любящего друга, вроде вот этого, пропустившего в своей хронике мое имя. Будем же улыбаться! Мир есть бесконечное сцепление причин первичных и вторичных, все неизбежно, все фатально, нет ничего первоначального, спонтанного. Человек, сочиняющий прекрасную поэму или пишущий великолепное полотно, действует столь же автоматически, как земледелец, поднимающий мотыгу и ударяющий ею по земле, или как рабочий, вертящий рукоятку машины… Атомы неумолимы! Соединяясь в непостижимые комбинации, направляют они все сущее к Небытию; они побуждают таинственную силу, которую Шопенгауэр называл „волей“, а Фрошаммер „фантазией“, создавать художественное творение гения или совершать бесплодное злодейство… Есть знаменитая литография Домье, изображающая последний галоп на балу в Парижской опере; пестрая, лихорадочная, неистовая круговерть голов в самых невообразимых масках, скачущих ног, отчаянно вскинутых рук — словом, всяческих фигур в личинах, масок, которые сталкиваются, скачут, жестикулируют, отплясывают в последней судороге дикой оргии. Так вот, мир схож с этим рисунком Домье, где художник — как Гаварни в своих рисунках, а позже Форен в своих видениях Оперы, — сумел возродить мрачный и в то же время комический дух старинных Плясок Смерти. С точки зрения детерминизма, вся эта суета, эти взлеты и падения, эти безотчетные метания неуемного человечества в высшей степени комичны. Да, мир — это колоссальная литография Домье!»
Течение мыслей Асорина на миг приостановилось — видимо, он доволен своей фразой: человек он скромный. Затем он продолжает думать:
«Горько то, что эта пляска будет длиться тысячи веков, миллионы веков, миллионы миллионов веков. Она вечна! Фридрих Ницше, живя в 1881 году в деревенском уединении и предаваясь своим плодотворным размышлениям, был однажды ошеломлен, испуган, устрашен. В его мозгу внезапно сложилась гипотеза „вечного Возвращения“! Вечное Возвращение есть не что иное, как беспредельная, „вечно повторяющаяся“ пляска человечества. Атомы, в их непрестанных соединениях, образуют все новые и новые миры; комбинациям несть числа; но поскольку атомы все те же — ибо ничто не возникает и ничто не исчезает — и поскольку движущая ими сила неизменно и постоянно все та же, логически должен наступить — а может, уже и наступил — момент, когда комбинации повторяются. Стало быть, возможен такой, например, случай — как предполагал почтенный Юсте, — что этот самый мир, в котором мы теперь живем, возникнет снова, а с ним и в таком же виде все существа, ныне в нем обитающие. „Все состояния, которые этот мир может пройти, — говорит Ницше, — он уже прошел, и не один раз, но бессчетное число раз“. То же происходит и с данным моментом: он уже был однажды, много раз; и он снова наступит, когда все силы распределятся точно так, как ныне, и то же самое произойдет с моментом, породившим нынешний, и с моментом, который родится из нынешнего. О человек! Вся твоя жизнь, подобно песочным часам, вечно будет снова и снова перевернута и снова и снова будет иссякать — и каждая из этих жизней будет отделена от прежней всего лишь одним долгим мигом, необходимым для того, чтобы все условия, приведшие к твоему рождению, были воспроизведены во вселенной! И тогда ты снова обретешь каждое страдание и каждую радость, каждого друга и каждого недруга, каждую надежду и каждое заблуждение, каждую былинку и каждый луч солнца и весь порядок всего сущего. Этот цикл, частицей которого ты являешься, возникнет снова. И в каждом цикле человеческого существования всегда есть час, когда — сначала у одного индивидуума, затем у многих, а там у всех — возникает важнейшая мысль, мысль о всеобщем Возвращении всего. И этот час для человечества — всегда его полдень».
Асорин опять погружается в свои думы. Так же, как у почтенного Юсте, его ум заворожен идеей о бесконечных комбинациях атомов. Действительно ли они происходят вечно? Повторяются ли миры? Его атеистический мистицизм находит в этих метафизических проблемах обильный источник загадочно волнующих размышлений. Некий критик сообщает, что, когда Ницше пришел к своей гипотезе — а это было не так уж трудно, пришел же к ней Юсте, не знавший Ницше, после чтения Лукреция или более позднего Толанда, — его объял безумный восторг, смешанный с невыразимым ужасом.
«У меня нет того страха, который испытал Ницше перед вечным Возвращением, — думает Асорин, — но я бы ощутил его, если бы при каждом новом возрождении мы помнили о предыдущем. Тогда бы наш мир был куда ужаснее, чем католический ад, и первым неотложным долгом человека было бы добиваться всех возможных наслаждений любыми средствами, иначе говоря, „быть сильным“… Ницше полагает, что, даже не зная о прошлом состоянии, только к этому мы и должны стремиться. Я тоже так считаю, однако энергия это такая штука, которая не дается человеку по его желанию, она вроде ума или красоты, которые от нас не зависят. Сила обстоятельств фатально гонит нас от одной крайности к другой, мы созданы так, что характер наш формирует среда. Со временем, возможно, отдельные мелкие усилия в сопротивлении индивидуума среде, суммируясь и повторяясь, помогут создать тип человека сильного, полного жизни, сверхчеловека. Но мы этого не увидим, не почувствуем, и пока что для меня на первом месте мое „я“, то „Единственное“, как говорил Макс Штирнер, моя жизнь, которая для меня важнее всех нынешних и будущих жизней…»
Долгое оцепенение. Затем Асорин поднимается, как бы приняв решение. Решение? Какое?
Почтенный Юсте усмехнулся бы иронически, глядя на Асорина, на этого наивного Асорина, который думает, что мадридские литераторы люди слабые, потому что у них, видите ли, обостренная чувствительность, а он-де сильный, потому что равнодушно переносит мелкую царапину, нанесенную коварным другом.
Да, почтенный учитель усмехнулся бы.
VI
Старец сидит в просторном кресле. У него белая борода, румяные щеки, сильные стекла очков рассеивают блеск глаз. Сложения он тщедушного, но голос резкий, пронзительный. Когда говорит, — а говорит он просто, непосредственно, — он потирает руки, как бы смущаясь, и весь лучится улыбкой.
Работает он за столом, заваленным бумагами, книгами, газетами, возле балкона, через который обильными снопами льются солнечные лучи. И так, озаренный светом, среди покоя и тишины, Старец заполняет микроскопическими буквочками четвертушки бумаги для типографии, адвокатские заявления для суда.
Асорин пришел навестить Старца. Старец всех своих гостей принимает запросто. И какое-то время Асорин слушает его высокий голос и смотрит, как его белые руки поглаживают одна другую.
— Новая испанская литература еще не имеет своего историка. Когда-то в молодости я попытался что-то сделать, но ограничился драматургией. Был у меня замысел опубликовать труд о театре с приложением лучшего произведения каждого автора. В Париже было сделано нечто подобное, только о нашем старом театре. Имеется собрание двенадцати комедий великих драматургов, «Двенадцать лучших комедий»… И знаете ли, кто это сделал? Огюст Конт.
На мгновение умолкнув, Старец продолжает:
— Огюст Конт горячо любил нашу литературу. Две книги, которые он рекомендовал для чтения своим ученикам, — это «Дон Кихот» и Фому Кемпийского. Он требовал, чтобы каждый день они читали хоть по одной странице. «Однако, — говорил он им, — там, где в „Подражании Христу“ стоит слово „Бог“, вы подставляйте „Человечество“, и тогда все будет согласоваться с нашей религией…» Конт был прежде всего великий мечтатель, сентиментальный человек. И чтобы узнать, как этот человек понимал социальное возрождение, переход из одного социального состояния в другое и какие для этого видел пути, достаточно прочитать его «Циркуляры». Помнится мне, в «Циркуляре», опубликованном в 1855 году, он говорит, что «болезнь, которой страдает Запад, нуждается больше в лечении чувств, чем интеллекта», и затем добавляет, что, «хотя позитивистам пришлось вначале подняться от веры к любви, впредь им следует предпочесть более быстрое и эффективное движение, нисходящее от любви к вере»… Отсюда видно, что Конт был одним из глубоко чувствующих людей, которым назначено оставить заметный след в человечестве. Он был философом, но сверх того апостолом, вождем масс. К тому же, как вы знаете, он попытался основать религию: позитивизм — не философская школа, каковой можно считать картезианство или гегельянство; он нечто более трансцендентальное, это религия. Подумайте об обстоятельстве, на первый взгляд довольно странном, но, если вспомнить о сентиментальности Конта, вполне оправданном: ведь Конт исповедовал культ святой Девы, культ, который был ревностно продолжен его учениками: Хорхе Лагарриге в своих «Письмах о позитивизме» посвящает немало страниц Богоматери, которая, по его словам, «будучи высочайшим образцом Человечества и неизменной и важнейшей целью наших усилий, должна быть естественным символом нашей религии, основой ее культа, ее догмы и ее строя»… По сути, Конт, особенно в последние свои годы, был католиком и, бесспорно, мистиком. В «Позитивистическом катехизисе» он рекомендует молитву. «Молитва, — говорит он, — превращается для нас в идеал жизни, ибо молиться это значит одновременно любить, мыслить и действовать». В позитивизме были также свои таинства: таинство «Представления» было чем-то вроде крещения… Ученики, упоминая о смерти своего учителя, не говорили «смерть», но «его блаженное преображение». Они также придумали поменять названия месяцев: так, февраль стал «Гомером», апрель — «Цезарем», март — «Аристотелем», сентябрь — «Гутенбергом», декабрь — «Биша»…
Сделав небольшую паузу, Старец продолжает:
— В бытность мою в Париже я прослушал два курса позитивизма. Тогда-то познакомился я с учениками Конта, которые и потом писали мне, спрашивали моего мнения по поводу их разногласий. Когда случилась размолвка между Лаффиттом и Лагарриге, последний прислал мне длинное письмо. Теперь осталось, пожалуй, совсем мало учеников Конта: Лаффитт, Лагарриге, Флорес… Лаффитт — прямой его преемник, к великой досаде Лагарриге, видящего в нем как бы изменника священному делу. У Лаффитта, кажется, есть — если он еще жив — кафедра в Коллеж де Франс, которую Конт выхлопотал у Гизо. Лаффитт — человек суровый, аскет. Живет в строжайшей бедности, и, хотя весь день трудится, читая лекции, не бывает вечера, когда бы он тоже не читал лекций, но бесплатно, «на часовню для Конта»… Эта часовня — дом, в котором жил Конт; ученики купили его ценою больших жертв, чтобы посвятить памяти учителя. А поскольку Лаффитт беден, ему предложили там жить. «Нет, — ответил он, — я не достоин занимать дом учителя». И продолжал жить на каком-то чердаке — когда я посетил его, там не было даже обычных полок для книг, книги валялись на полу.
Старец умолкает. И Асорин думает об этом суровом человеке, ученике и друге таких же суровых людей. В ужасающей неразберихе последнего десятилетия XIX века, один этот испанец возвышается чистотою своей жизни среди толпы речистых дельцов и циников. И его твердость, его непреклонность так велики, что иногда приводили его к отрицанию живого и к содействию бесплодной реакции. Так, в 1873 году, будучи министром внутренних дел, он мог учредить федеральную республику, когда вспыхнули восстания в Севилье, Барселоне и Картахене. И этот человек, который еще с 1854 года призывал к Федерации и посвящал ей всю свою энергию, остался бездеятелен! «Правильно ли я поступил? — спрашивает он в своей статье „Республика 1873 года“. — Теперь я в этом сомневаюсь, если иметь в виду политическую выгоду; но я не колеблясь отвечу „да“, если спрошу у своей совести». Асорин не мог себе объяснить эту нелепую двойственность. Проповедовать Истину и не помочь ей осуществиться, когда настал час, из уважения к закону, чтобы не нарушить закон! И целый народ, который мы надеемся сделать счастливым с помощью наших теорий, должен страдать из-за чрезмерного нашего пуританства! Да в этом случае само уважение к закону, мешающему благоденствию нации, аморально!
Старец провожает Асорина до дверей, тихонько потирая руки и улыбаясь, и произносит своим высоким голоском:
— Прощайте, сеньор Асорин. Прощайте, сеньор Асорин.
И Асорину становится грустно при мысли о таком огромном парадоксе, как Огюст Конт, и таком огромном парадоксе, как его ученик Пи-и-Маргаль, человек ученый и порядочный, который мог уменьшить страдания Испании, но не сделал этого.
VII
«Что говорить, — думает Асорин, идя по толедской улице, — меня одолела усталость, непонятное, неодолимое отвращение ко всему. Десять лет назад, когда я приехал в Мадрид после краха той… злосчастной любви, когда я приехал сюда с моими тетрадками под мышкой, у меня был энтузиазм, была неуемная, неукрощенная пылкость. Какие хроники писал я тогда в „Ла Пенинсула“! Редактор газеты каждый вечер, пыхтя, как старый тюлень, очень строго говорил: „Дружище Асорин, так не может продолжаться, подписчики жалуются, сегодня я получил восемь писем…“ А потом, когда появилась моя статья „Свободная любовь“, — шквал протестов! „Автор, — писал в одном из них некий старый прогрессист, — либо сумасшедший, либо у него нет дочерей…“ И верно, дочерей у меня не было, еще чего! И не было нынешнего отвращения к жизни, после того как я завоевал своему имени некоторую известность — что более ценно, чем широкая известность, — после того как поглотил тысячи книг и измарал тысячи четвертушек бумаги».
Асорин проходит мимо церкви Сан-Исидро.
«И это неизбежно; мысль моя плавает в пустоте, в пустоте, которая есть нигилизм, разложение воли, тихий, скрытый распад моей личности. Да, да, общение с Юсте, несомненно, оказало на меня влияние; теперь, когда миновали годы энтузиазма, его дух овладевает мною окончательно. И потом, образ Хустины, бледной, изнуренной… и вся мрачная атмосфера нашего города… возможно, также наследственность, она, пожалуй, сильнее прочего — все, все подрывает, убивает мою волю, и она улетучивается. Что делать? Что делать? Чувствую, что мне не хватает Веры, у меня нет Веры ни в литературную славу, ни в Прогресс — по-моему, и то и другое две преизрядные нелепицы… Прогресс! Какое нам дело до будущих поколений! Существенна наша жизнь, наше мимолетное, сиюминутное ощущение, наше „я“, эта мгновенная вспышка. Вдобавок прогресс аморален, он — колоссальная аморальность, ибо состоит в благоденствии одних поколений за счет труда и самопожертвования предыдущих поколений».
Асорин выходит на улицу Де-Лос-Эстудиос. По ней идет женщина с двумя детьми. Асорин думает:
«Не пойму, что за глупое тщеславие, что за чудовищная жажда бессмертия побуждает продолжать нашу личность вне нас. Я считаю величайшим преступлением нашу жажду бесконечно продолжить существование человечества, которое обречено постоянно страдать: страдать из-за неисполненного желания, страдать еще более мучительно из-за удовлетворенного желания… Люди, пожалуй, смогут достигнуть высшей степени благоденствия, смогут стать все как есть добрыми, умными, но счастливы они не будут — ведь время, уносящее молодость и красоту, вселяет в нас меланхолическую тоску по минувшим приятным ощущениям. И воспоминание это всегда будет источником грусти. О себе могу сказать, что для меня нет ничего печальней, чем увидеть снова то место — дом, пейзаж, — где я бывал в отрочестве; ничего, что больше наполняло бы горечью мой дух, чем отметить, как постарела, утратила блеск глаз, гибкость, изящество движений женщина, которую я тайно и недолго любил, будучи мальчиком. Все проходит — беспощадно, неумолимо! И рядом с этой подурневшей, медлительной, тусклой женщиной я вижу… жест, взгляд, поворот головы прежней девушки, ее особую манеру улыбаться, щуря искрящиеся глаза, ее гримаску, когда она говорила „нет“, восхитительно серьезное выражение лица, когда она поверяла тайну… И этот невольно возрожденный образ наполняет меня жгучею тоской! И я думаю о Пляске Смерти, исступленной, слепой Смерти, играющей нами и уносящей нас в Небытие… Умирают люди, умирают вещи. И вещи напоминают мне о людях, о различных ощущениях этих людей, об их желаниях, прихотях, страхах, вожделениях, о целом мире, которого больше нет».
Асорин приближается к Растро. Подступы к живописному рынку начинаются уже на улице Де-Лос-Эстудиос. Снуют спешащие люди, расхваливают свой товар торговцы, звенят трамваи. Вдоль тротуара стоят лотки с одеждой, клеенкой, рамками, стеклом, книгами. Возле дверей Института продавщица позументов читает вслух главу из романа с продолжением: «„Ах, я помешаю ему скрыться!“ — сказал герцог голосом…» Затем выкрикивает: «Пять галунов за пять сентимо, пять галунов за пять сентимо!» Со звоном бубенцов, лязгом железа и скрипом рессор проезжает дилижанс. Переливаются разными красками ткани — красные, синие, зеленые, желтые; поблескивают стаканы, чашки, кувшины, бокалы, цветочные вазы; улица полнится гулом голосов, кашлем, шарканьем ног. И внезапно раздаются протяжные, жалобные выкрики торговцев: «Армянская ароматная бумага для окуривания помещения за десять сентимо!», «Бархатные и плюшевые!», «Отдаю за реал вместо четырех и шести реалов!» Продавец фиников расхаживает молча, он в широком буром плаще, на голове меховая шапка; на подоконнике низкого окна сидит слепая нищенка с протянутой рукой. Позументщица читает: «…ребенок, обезумевший от страха…» И тут же: «Пять галунов за пять сентимо, пять галунов за пять сентимо!» К слепой подходит женщина с большим мешком. Они разговаривают: «…сказать тебе, чтобы твой муж пришел в понедельник чинить матрацы…» Проезжают двуколки, коляски, трамваи.
На улице Де-Лос-Эстудиос красуется подвешенная к стенам домов белая некрашеная сосновая мебель; вдоль тротуара все так же тянутся лотки с лентами, салфетками, мылом, книгами. Проходят тряпичники, служанки, господа, чуло, носильщики. А когда минуешь улицу Дель-Куэрво с ее суконными и обувными лавками, ты уже на Кабесера-Дель-Растро. Толчея несусветная, пестрая мешанина бородатых и женских лиц, черных плащей, красных косынок, зеленых платков; снуют взад и вперед спешащие куда-то люди, во весь голос орущие торговцы, скрипучие повозки. На одном углу стоят в кружок женщины, склонясь над лотком, — звенят деньги, продавец зазывает: «Гребни по пятнадцать сентимо и по реалу!» И бродит в толпе парень с огромным зеркалом, отбрасывающим слепящие блики.
Толпа в неустанном движении — торговка свистками несет длинный шест, на который они навешаны, и пронзительно свистит; продавец кружек ударяет их одна о другую, чтоб звенели; в лавках стучат с металлическим отзвуком гири по мрамору. И время от времени доносится возглас возчика или парня, несущего мебель: «Эй, дорогу! Посторонись!»
Затем вы проходите среди лотков зеленщиц мимо улицы Де-Ла-Руда и оказываетесь в Кожевенном ряду. Между двумя рядами белых навесов море черных голов. В дальнем конце нагромождение красных кровель, труба, извергающая густой дым, серая, местами зеленая равнина, уходящая вдаль, окаймленная длинной, тонкой голубой полоской… Прохаживаясь по середине улицы, кричат продавцы, их товар — мыло, чернила, бумага, иголки, мышеловки, ложки, галстуки, пояса, игральные карты, кокосовые орехи, косынки, апельсины. И, сидя перед двумя расстеленными на земле листами курительной бумаги, какой-то человек весело выкрикивает: «Жертвуйте, сеньоры, не скупитесь!»
Мягко колышутся развешанные ткани, блестят на солнце большие круглые золоченые жаровни, белыми и синими пятнами выделяются тарелки и кастрюли, позванивает в колокольчик старьевщик, мальчик с двумя толстыми книгами кричит: «Продаю роман „Жена — мученица“!», поют канарейки в нагроможденных одна на другую клетках, доносится издалека отчаянный визг свиней на бойне. И труба, темнея на фоне ламанчской равнины, бесшумно выбрасывает в голубое небо черный дым.
Слева от «Грандиосас Америкас» идет улочка с лотками, на которых набросано отвратительное старье: кофейники, набрюшники, книги, дверные петли, пистолеты, пояса, дорожные сумки, очки, шила, чернильницы… — все старое, ломаное, рваное. Возле входа в Школу искусств и ремесел кучка людей окружила рулетку. Крупье — классический мошенник с зычным голосом и густыми усами, короткие рукава куртки открывают мощные запястья рук. Он то и дело запускает раскрашенный деревянный круг и выкрикивает: «Делайте вашу ставку, сеньоры! Ставьте на что хотите и сколько хотите! Игра идет на 5, 10, 15, 20 сентимо и по реалу!» Слышно, как постепенно затихает постукиванье шарика. Раздается выкрик: «Номер тринадцатый, белый!» И звенят монеты.
Затем вы пересекаете кольцевую дорогу Толедо и оказываетесь в самой убогой части Растро. Это базар для бедняков — лотки из поломанных досок и драного холста расположились на узких, грязных улицах, выставляя на продажу совершенную дребедень.
Здесь, на задворках Растро, есть лавчонка со старыми книгами, сюда по воскресеньям приходит Асорин посидеть, порыться в истрепанных томиках. Входят и выходят бедные причетники, старики в длинных плащах, крестьяне. Они ворошат книги, спрашивают, торгуются. Букинист расхваливает свой товар: «…продается каждая отдельно по две песеты, а „Отчаяние“ Эспронседы кончилось…» Приходит девушка, желающая продать какой-то роман, старуха спрашивает о другом книготорговце, который покончил с собой; мимо проходит парень с пачкой оконных стекол на плече, звучит астматическая музыка аккордеона.
И утомленного Асорина охватывает смутная печаль на этом огромном, шумном кладбище вещей — которые были когда-то предметом минувших желаний, минувших тревог, минувших вожделений.
VIII
И вот этот самый Энрике Олаис расхаживает сейчас по своему кабинету небольшими шагами — кабинет у него тоже невелик. Несмотря на молодость Олаис плешив. У него рыжая, заостренная бородка, взгляд умный, испытующий, а в выражении лица есть что-то загадочное, непроницаемое, и потому плешь и бородка придают ему вид несколько необычный, вид человека осторожного и себе на уме, чем-то напоминающего торговца с картины Маринуса, или средневекового ювелира, или толедского еврея, который, запершись в своей хибарке, занимается тайным ремеслом превращения металлов в золото.
А в Олаисе и впрямь есть что-то загадочное. Он любит все необычное, парадоксальное, его привлекает утонченная и сложная психология, его чаруют маленькие кастильские селения, такие угрюмые, такие суровые, затерянные среди ламанчской степи. Кажется, это он внушил молодым кастильским интеллигентам любовь к Эль Греко… И подумайте, какой контраст: этот человек, такой сложный и многообразный, в своих писаниях прост, безыскусен. Пишет он бегло, без подготовки, без усилий, и слог у него ясный, чистый, удивительной прозрачности и простоты. Наверно, поэтому книги его не вызывают безоговорочного восторга критики. Это вполне естественно для такой литературной среды, где восторгов удостаивается лишь то, что принято называть «блестящим» стилем и что по сути не более как мимолетная мода на определенные риторические и синтаксические обороты. Олаис не блестящ, но его простота из тех, что не стареют, что хороши во все времена, это простота, а иногда и неправильность — эка беда! — пишущего о том, что глубоко прочувствовано, оригинально, красочно, многозначительно.
И вот Олаис в своем кабинете беседует с Асорином. На шее у него белый платок, на ногах войлочные домашние туфли. Засунув руки в карманы, слегка горбясь, он ходит по комнате, и его фигура как бы расплывается в мутном свете зимнего дня, только мелькают розовое пятно лысины да золотистое пятно бороды, и кажется, будто сейчас он сообщит, что желанные перемены произойдут очень-очень скоро, может быть, сегодня же, а может, завтра.
Кабинет — квадратная комната с окном, выходящим во внутренний дворик, у одной стены стол и шкаф с книгами, возле окна другой стол с зеленой скатертью, кругом стоят легкие креслица и стулья, обитые зеленым репсом. На стенах репродукции картин Эль Греко, фотография «Снятия с креста» Метсю, офорты Гойи, литографии Домье и Гаварни. Время от времени бесцеремонно входит или же выходит из кабинета Йок, кантианский «пес в себе». И звучным тиканьем отмеряют ход беспощадного времени настенные часы.
Энрике Олаис говорит:
— Наше время — время исключительного значения для интеллигенции. Во-первых, всем мыслящим людям стал очевиден тот факт, что демократический принцип ошибочен, что догмы Революции — «Свобода, Равенство и Братство» — содержат противоречие, кощунственное оскорбление вечной природы. Свобода и Равенство несовместимы, ибо Природа создала индивидуумов неравными: следовательно, они, осуществляя свою свободу, непременно придут к восстановлению неравенства. Есть и другая причина: отмена наследственных привилегий не привела даже к тому относительному равенству, которое соответствовало бы природному неравенству людей; напротив, отмена привилегий расчистила путь для новых господ, то есть для буржуазии и для народа. Вопреки мечтам французской Революции жизнь показала, что основанное на демократическом принципе простое освобождение Человечества, пока еще невоспитанного и невежественного, не может породить ничего иного, как новую привилегию, привилегию болтунов из числа наиболее хитрых и душевно наименее щепетильных.
Свобода, доведенная до крайних своих следствий, — отвратительна. Ныне каждый человек, если только он не сектант, считает логичной и необходимой свободу совести и свободу выражения мыслей. Большинство из нас убеждены, что все люди имеют право на поиски истины, своей истины; но свободу, которую мы все признаем для мысли, мы не признаем, например, для торговли. Если бы кто-то попытался продавать на улице яды или абортивные средства, мы все решили бы, что свободу этого торговца надо ограничить. Но хотя нас также коробит от мысли, что мужчина может покупать ласки женщины за деньги, он волен их покупать, а она вольна продавать себя.
Что касается равенства, то нет надобности доводить его до абсурда, чтобы понять, насколько эта идея лишена всякого основания. Братство же — мечта прекрасная, но неосуществимая, по крайней мере на сегодня.
Следствием трех этих догм является Демократия, священная, неприкосновенная Демократия, средство осуществления этих идеалов. Говоря «демократия», я имею в виду именуемую так политико-социальную догму, а не милосердие и заботу о нуждающихся классах, продукт культуры человечества, не имеющий ничего общего с этой догмой. Я говорю о демократии, которая стремится к господству масс, к абсолютизированию количества, и у которой теперь уже меньше сторонников, чем прежде, среди людей свободных и без предрассудков. Количество никогда не может быть доводом; да, могло бы, будь масса просвещенной, но, чтобы ее просветить, кому-то надо быть просветителем, и этот просветитель должен стоять так высоко над ней, чтобы заставить ее усвоить науку, которую, возможно, масса эта будет отвергать. Ныне все мы, не ищущие политических выгод и чуждые политических амбиций, убеждены, что демократия и всеобщее голосование — нелепость и что большое число людей неразвитых не будут мыслить и решать лучше, чем ограниченное число людей интеллигентных. Мы видим, что массу всегда возбуждают дурные страсти, слышим, как рев черни заглушает голос людей великих, героических. Начиная с толпы, осудившей Христа, до толпы, травящей Золя, масса почти всегда одержима злобными инстинктами. И несмотря на успехи культуры, нельзя сказать, что с победой демократии открывается поле деятельности для сильных людей; во всяком случае, пока не видно, чтобы демократия порождала гениев или светочей добродетели. Да, образование становится всеобщим — а этого довольно, чтобы все свободные и отчасти бунтарские умы почувствовали к нему отвращение, — но при таком образовании у человека с талантом или с характером не больше шансов выдвинуться, чем прежде, даже, пожалуй, меньше, чем двести лет назад, потому что корыстолюбие привлекает людей в университеты и специальные учебные заведения, целые полчища загромождают все пути и массой своей сомнут даже самую энергичную личность.
Чтобы установить демократию как средство воплощения в жизнь священного лозунга «Равенство, Свобода, Братство», сперва помышляли о республике; теперь же усматривают более высокие формы в социализме и анархизме. Что такое социализм, уже ясно. Бернштейн в своих прославленных работах «Гипотеза социализма» и «Возможен ли научный социализм?» показал, что утверждения Маркса не обладают той надежностью и достоверностью, какие им приписывались. Бернштейн изучал этот вопрос, изучал добросовестно — в Германии, в Англии, во Франции, и его исследования, сопоставление фактов, статистика дают результат диаметрально противоположный теории Карла Маркса. А именно — идет распыление земельной собственности, увеличение числа предприятий, дробление капиталов. В Англии земельные владения делятся на более мелкие, во Франции небольшие усадьбы составляют, согласно статистике, три четверти сельских владений, в Германии наблюдаются аналогичные явления. Это в том, что касается земли… Что ж до промышленности, Бернштейн на основе точных данных показывает, что крупная фабрика не мешает существовать мелким, часто даже нуждается в них как во вспомогательных. Что касается денежных средств, то, по наблюдению автора, они дробятся, «демократизируются», подобно прочим богатствам, вследствие увеличения числа компаний и невысокой стоимости акций. Критические выводы Бернштейна вызвали настоящую панику среди научных социалистов. Отрицание основных предпосылок марксизма привело всех приверженцев этого учения в глубочайшее замешательство.
Мы приближаемся к débacle[44] доктринерского социализма. Чем более образован рабочий, тем больше он индивидуалист. И это логично. Освобождение рабочего класса может быть великим идеалом для человека робкого, для нищего духом, для того, кто не чувствует в себе ни сил, ни способностей человека выдающегося; но для человека смелого, энергичного собственное его освобождение, которое позволит ему развернуть свою энергию, будет всегда, во всех его действиях важнее, чем освобождение класса. Понимаю, что человек может испытывать чувство солидарности с человечеством, но почему он должен испытывать его по отношению к своему классу? Рабочий с сильным характером и честолюбием сочтет нелепостью отрезать себе путь к благополучию, уничтожив буржуазию. Какую почву может иметь пресловутая классовая борьба, когда в обществе нет сословных различий, а с точки зрения экономики нет антагонизма между рабочим и мелким буржуа, когда переход из одного класса в другой происходит постоянно и без затруднений? Самое большее, может существовать враждебность, какую в армии, где чины получают либо за военные заслуги, либо интригами, питают солдаты к своим командирам. Уж не говорю о том, насколько для всякого свободного ума невыносимо ощущать гнет общественной дисциплины в самых своих приватных поступках — потому что солидарность меж людьми должна порождаться спонтанным чувством любви, а не принудительной дисциплиной.
Олаис на миг умолкает. Он молча прохаживается в полутьме. Часы неутомимо тикают. Йок тихо спит под столом.
Олаис продолжает:
— Здание социализма трещит, скоро оно рухнет — будущее за индивидуализмом. Чем выше, тем больше разнообразия… Мы идем к времени, когда каждый сможет разъезжать в автомобиле, когда благодаря передаче энергии на расстояние каждый сможет превратить свой дом в мастерскую. Мы движемся к максимуму свободы, совместимой с порядком, к минимуму вмешательства государства в интересы индивидуума. И этим мы обязаны науке, а не демократии. Наука более революционна, чем все законы и декреты, уже изданные и грядущие. Работающая машина порождает больше идей, чем все книги социологов…
После социализма, в некотором роде католической догмы Человечества, приходит догматический анархизм, некий атеистический мистицизм. Лишь приняв во внимание, что учение анархизма исходит из предпосылки о врожденной доброте человека, об использовании и приспособлении страстей как сил, направленных на благо и на торжество жизни, и о других распрекрасных вещах, понимаешь несбыточность этой мечты о блаженной Аркадии, о Новом Иерусалиме, людей без дурных страстей, без пороков, без гнусностей, без низостей. Надо считать всю древнюю, новую и даже современную историю сплошной ложью, чтобы воображать себе человеческое существо ягненком, а не свирепым зверем, у которого лишь жизнь в обществе притупила зубы и укоротила когти. И я думаю, что, к сожалению, человек пока еще дурен. Быть может, эволюция и наследственность изменят или изгонят из него дурные инстинкты. Да, да, конечно, это произойдет… в будущем. Нынешняя же действительность прискорбна: ложь, эксплуатация, тирания торжествуют. И надо бороться со злом, быть искренним, быть смелым, не поддаваться, не примиряться, шагать вперед со всей бесцеремонностью человека, чувствующего себя выше остальных!
Олаис умолкает. В его словах — дух и отвага группы молодых энтузиастов, представляющих некий анахронизм при нынешнем засилье предпринимательства в литературе, предпринимательства в политике.
IX
И вот эта группа молодых энтузиастов решила отметить годовщину Ларры — 13 февраля.
— Для меня Ларра, — говорил Олаис утром в своем кабинете, — представляет поколение романтиков 1830-х годов. Он как бы символ целой эпохи. В этих людях я вижу высоту духа, стремление к идеалу… которых теперь у нас нет. И поэтому мы, четыре, шесть или сколько там наберется человек, направляясь почтить память Ларры, будем странным зрелищем, не вяжущимся с окружающею средой.
И Олаис расхаживает взад-вперед по комнате в своих войлочных туфлях, поблескивая ранней лысиной, — на шее белый платок, золотится остроконечная бородка.
— Ты прав, — говорит Асорин. — Пожалуй, Ларра — самый необыкновенный человек своего времени, и, уж конечно, он полнее всего олицетворяет кастильский дух, неуемный, мятущийся, тревожный, трагический… Его жизнь, творчество и смерть — это единый аккорд. Эспронседа, разделяющий с ним честь олицетворять свое время, в последние годы жизни перестал быть поэтом и романтиком. Он стал депутатом — произносил речи о таможенных тарифах на хлопок. Это онто, написавший гимн Тересе!
— Ларре, — возражает Олаис, — не пришлось стать депутатом. Эспронседа был богат.
— Ларру кормило его перо. И если он побывал за границей — в Португалии, в Англии, в Бельгии, во Франции, — так лишь потому, что эти поездки оплачивал его близкий друг, граф де Кампо-Аланхе. В последние годы, начиная с 1835-го, ему удалось обеспечить себе приличный постоянный заработок. Ему платили десять тысяч песет в год за двенадцать статей в месяц.
Долгая пауза. Олаис молча прохаживается. Асорин рассматривает фотографию «Погребения графа де Оргаса», где вереница изможденных, просветленных идальго умоляюще простирает руки и экстатически возносит очи горе.
Асорин продолжает:
— В феврале, в том месяце, когда он покончил с собой, Ларра уже не писал. Он проводил дни в одиночестве — сидел в каком-нибудь тихом кафе или бродил по пустынным улицам. Утром 13 февраля он как будто приободрился и пошел к Месонеро Романову поговорить о своих литературных планах. После полудня гулял на бульваре Реколетос с маркизом де Молинс и, прощаясь, сказал: «Вы же меня знаете — сейчас иду выяснить, любит ли еще меня кое-кто…» В тот день у него было свидание с возлюбленной — последнее свидание.
— Необычный человек, — говорит Олаис.
И после краткого молчания, молчания глубокого, напряженного, почти болезненного, во время которого дух «Фигаро» словно бы витает в воздухе, Асорин восклицает:
— Да, человек необычный… и ставший легендой!
После полудня вся компания отправилась на кладбище Сан-Николас, находящееся за станцией Медиодиа. Все в трауре, в блестящих цилиндрах молча шли по улицам. Каждый нес букетик фиалок. И прохожие с любопытством глазели на странное шествие молодых людей, собиравшихся отметить событие более важное, чем какой-нибудь министерский кризис или бурное заседание Конгресса.
Кладбище Сан-Николас уже много лет как закрыто. Когда минуешь станцию Аточа, в конце убогого предместья, граничащего с унылой ламанчской равниной, над темными кровлями, резко чернея на голубом небе, показываются остроконечные верхушки кипарисов. Затем вы приближаетесь к железной ограде, за которой видны груды сухих листьев заброшенного сада. На звук колокола выходит женщина, отпирает ворота. И группа в трауре углубляется в небольшой одичавший сад. Вот перед ними потрескавшийся портик, в окнах разбитые стекла, на двери надпись:
«Храм истины, о путники! пред вами, Внемлите голосу ее и верьте: Все ложно в этой жизни, кроме смерти».Группа проходит через портик, где сидящая на цепи собака, опустив голову, рычит на них. И вот они на кладбище — большие, ветхие галереи с широкими черными трещинами, прорезающими их сверху донизу, в галереях ниши со стершимися надписями на плитах. В щелях между камнями буйно растет трава, скачут, щебечут птицы на склепах, сверкают на солнце стекла надгробий, в воздухе разлит благостный покой. Лишь время от времени доносится издалека свисток паровоза да кукареканье петуха.
Могильник Ларры находится на первом участке, в четвертой галерее. Невдалеке могила Эспронседы, вровень с землей. Женщина, открывшая ворота, сопровождает посетителей. Перед могилой все обнажают головы. Стоят молча. Женщина восклицает: «О господи! О господи!» И Асорин торжественным тоном читает свою речь:
«Друзья, подумаем о жизни художника, который жил, снедаемый неугасимым стремлением к идеалу; и подумаем о смерти человека, который умер из-за неудовлетворенной жажды любви. Двадцать семь лет прожил он на земле. За такой краткий, ничтожный срок он изведал страдания бурной страсти и радость художественного творчества. Он любил и творил. Он всего себя отдавал жизни и творчеству, и все его колебания, горести, тревоги выразились на его трепетных страницах и в его трагической гибели.
Вот почему мы, молодые писатели, которых снедает то же стремление и воодушевляет такая же жажда, пришли сегодня, в годовщину его гибели, отдать дань памяти тому, кого мы любим как друга и почитаем как учителя.
Ибо Мариано Хосе де Ларра — учитель нынешней молодежи. Искренний, неукротимый, страстный, Ларра больше, чем кто-либо другой, внес в искусство личное восприятие жизни, и вместе с Ларрой, больше, чем с кем-либо другим, вошло в литературу волнующее, художественное личностное начало. Под его пером язык наш целиком обновился; старинный кастильский слог, разработанный и затасканный исследователями и учеными XVIII века, явился полным жизни и блеска, красочности и остроумия на страницах великого сатирика.
Жизнь скорбна и уныла. Гнетущий пессимизм греческого народа, народа, создавшего трагедию, возрождается в наши дни. „Как знать, быть может, жизнь наша есть смерть, а смерть есть жизнь!“ — восклицает Еврипид. И нерешительный, колеблющийся, скептичный Ларра — первое воплощение и первая жертва этих воскресших мучительных сомнений. Неприступная, неодолимая „стена“, о которой говорил Фигаро, — это вечная тайна сущего. Что есть жизнь и что есть смерть?
„Пожалей меня, литератор, — говорит Ларре в одной его статье его слуга, — да, я пьян от вина, зато ты пьян от желаний и от бессилия“. Жаждущий и бессильный, идет Ларра по жизни; измученный постоянным „не знаю“, приходит он к смерти. Смерть для него — освобождение; быть может — жизнь. Бесстрашно переступив порог тайны, он гибнет.
Его смерть волнует не меньше, чем его жизнь. Его смерть — это трагедия, а его жизнь — парадокс. Не будем искать в Ларре человека одностороннего и прямолинейного, столь любезного толпе; он не либерал и не реакционер, не соглашатель и не бунтарь, он — ничто, и он — все. Его произведения столь же разнообразны и противоречивы, как сама жизнь. И если быть свободным значит всем насладиться и отвергнуть все — с радостной непоследовательностью, ужасающей последовательного буржуа, — то Ларра самый свободный, непосредственный и разрушительный ум современности. И за это жадное интеллектуальное порханье с цветка на цветок, алогичное, подобно самому человеку и алогичному миру, за это интеллектуальное порханье, за близкий нам протест против негибкости канона, против чинной дисциплины ума, мы и любим Ларру. И потому что мы его любим и считаем одним из наших литературных родоначальников, мы и пришли нынче, после шестидесяти четырех лет забвения, почтить его память. Так почтим же ее, восславим ее и поклонимся ей в сердцах наших. Мариано Хосе де Ларра был человек и был художник; друзья, пошлем, окруженные тайной жизни, привет тому, кто спокойно шагнул к тайне смерти».
Спускается вечер. Последний сумеречный свет гаснет на стеклах ниш, слышатся далекие свистки паровозов. И Асорин возвращается в Мадрид, потрясенный мыслями об этом человеке, который счел жизнь бессмысленной…
X
В этот день Асорин побывал в Национальной библиотеке. Он в грустном настроении, и вполне естественно его желание еще подбавить грусти. Это некий психологический закон. Но закон или не закон — что в конце концов неважно, — а Асорин попросил старый комплект одной газеты. «Старый» — это за 1890-й год. Учитель говаривал, что нет ничего более удручающего, чем комплекты старых газет. И это верно. Ты словно видишь мумифицированными мимолетные минуты страстей, будто кристаллизовался краткий миг радости или горечи, тот краткий миг, который и есть вся жизнь… Вдобавок, на этих старых страницах видно, как, по сути, нелепо многое, что мы считали возвышенным, как многие наши пылкие восторги смахивают на комическое паясничанье, как постарели за десять — двенадцать лет писатели, художники, кумиры толпы, которых мы считали сильными и вечными.
Асорин листал страницу за страницей со смутным чувством безнадежности. Хроники, которые десять лет тому назад казались блестящими, так пусты и высокопарны! Статьи, которые казались ему сокрушительными, так комически наивны! И потом, какая мрачная процессия людей, живших одно мгновение, журналистов, испытавших одну неделю славы! Все они что-то совершили — поставили пьесу, произнесли речь, опубликовали два десятка хроник; все на минуту появляются на этом кинематографическом экране — размахивают руками, строчат пером, неистово гримасничают… потом фигуры расплываются, исчезают. И когда спустя много лет мы их видим на улице, эти знаменитости кажутся нам призраками, дерзкими привидениями, тенями, у которых достало дурного вкуса являться взорам новых поколений.
Вконец подавленный, Асорин вышел из библиотеки. Да, нечего говорить, зрелище довольно грустное для человека с повышенной чувствительностью, однако надо также признать, что не такая уж это великая катастрофа, если сегодня никто, например, не помнит Сельгаса или если Баларт, этот некогда гремевший критик, кажется нам устарелым.
Чтобы умерить горькое впечатление, Асорин решил развлечься коллекцией портретов, сделанных Лаурентом в годы начиная с 1860-го до 1870-го. Просим читателя обратить внимание, что и тут продолжал действовать сформулированный нами закон. Рассматривать эту бесконечную серию фотоснимков еще грустнее, чем листать комплект газеты «Эль Импарсиаль». Вы видите депутатов, министров, поэтов, журналистов, певиц сопрано, теноров, гимнастов, епископов, музыкантов, живописцев. Жалкие, трагические, смешные, дерзкие, тупые, проходят они перед вами: Риверо в своем огромном цилиндре и смокинге, с тростью в руке, снятый в профиль с округленной бровью; «Прусачка» из театра Буфф, в короткой газовой юбочке, руки сложены на груди, голова слегка наклонена; Аррасола, председатель Совета, с лицом робкого, пугливого человечка, правая рука на доктринерский манер заложена за борт сюртука, поза весьма модная во времена Кузена и Гизо; Пачеко с лицом «морского волка» и расшитым стоячим воротником, и лентой, и медалью, и крестом; дон Модесто Лафуэнте, сосредоточенно строчащий на резном столе свои невыносимые длинные хроники; актер Гарсиа Луна, этот сидит, укутанный в широкий плащ и, глядя в объектив фотоаппарата, указывает на статуэтку Шекспира; Калатрава с книгой в руке; Мантерола с плутоватым выражением лица, облокотившийся на два толстенных ин-фолио и подпирающий голову рукою; Далмау в трико, скрестив руки, надменно глядит на вас у подножья высокой лестницы; генерал Росалес с маленькой седой головой, седыми усиками щеточкой и хитрыми глазками; Педро Мадрасо — пышная шевелюра, усы, остроконечная бородка, клетчатый галстук, шикарный полосатый сюртук; Вильдо́сола с меланхолическим взором и скрещенными руками; Роберто Роберт с прусскими бакенбардами сидит за маленьким столиком с книгами в полосатом сюртуке с атласными отворотами, правая нога подогнута, левая рука висит вдоль туловища; Карлос Рубио с всклокоченной гривой, лохматой бородой, неряшливо одетый, левая рука на спинке стула, в правой окурок сигары; дон Антонио Мариа Сеговия, элегантный, нарядный, стоит, держа в стиле Веласкеса перчатки в руке…
Асорин снова и снова рассматривает эту огромную коллекцию портретов. И волею случая, который мы бы назвали таинственным, но в котором, уверяю вас, на самом деле нет ничего необъяснимого, глаза его останавливаются на четырех фотографиях, представляющих как бы эмблемы самого главного, чего может достигнуть в жизни человек.
Первая фотография символизирует Силу. Крепкий, энергичный, даже грубый человек; большой палец правой руки засунут в карман жилета. Левая нога решительно выдвинута — поза неудержимого движения вперед. И в его голове с широким лбом, вызывающим взглядом, в толстой бычьей шее столько энергии, столько властности, что они убеждают и покоряют. Этого человека звали Антонио Кановас дель Кастильо. Он силою подчинял толпы, заставлял королей слушать себя, заворачивал делами государства, которое жило по его воле… Он был велик, потому что его воля все сокрушала.
Вторая фотография изображает утонченного кабальеро, который чуть опирается левой рукой на спинку легкого стула. Он тщательно причесан, овал лица изящен, над ухом мягко круглятся завитки короткой, красивой прически. Безупречный сюртук, щегольские панталоны… Этот человек — само Изящество; звали его Хулиан Ромеа. Его обожала публика, в особенности женщины.
На третьей фотографии также представлен отлично причесанный господин. У него также короткая шевелюра, она лежит тонкими, словно бы намокшими прядями, с изысканной небрежностью. Рот презрительно искривлен, взгляд величаво надменен. Этого человека звали Хосе де Саламанка. Он символизирует Деньги. Он был велик благодаря деньгам, и тем более велик, что умел их тратить и презирать…
И последний портрет. На этом, в отличие от прочих трех, есть фон. Это пейзаж — далекая гора, пруд с мирно спящими водами, гибкие пальмы, буйно вьющиеся лианы… Пышный, тропический, романтический пейзаж, исполненный чувственного и меланхоличного романтизма, столь любимого нашими незабвенными бабушками. На этом фоне стоит выпрямившись мужчина с густой бородой; в руке он держит цилиндр, на нем панталоны в мелкую полоску, ноги утопают в пышном ковре, наивно изображающем дерн. В глазах этого человека, глазах, глядящих вдаль, в бесконечность, отблеск пленительного, таинственного идеала… Этого человека звали Густаво Адольфо Беккер. Это самый великий наш поэт XIX века. Он — символ Поэзии. Его обожали женщины, а так как мужчины настолько глупы, что посмеиваются над всем, вызывающим восторги женщин, то современники поэта питали к нему некое, втайне насмешливое, уважение, пока не пришли новые поколения, уже не считавшие смешным восхищаться человеком, которым восхищаются наши сестры, наши кузины и наши возлюбленные.
Асорин долго разглядывал эти четыре портрета. И теперь он, в ком бьется сердце артиста, погрустнел окончательно, чувствуя, что не обладает ни Силой, ни Изяществом, ни Деньгами, ни Поэзией.
И он подумал о ждущем его неминуемом крахе, ибо жизнь хотя бы без одного из этих качеств не стоит труда.
XI
В конце концов Асорин решил уехать из Мадрида. Куда он едет? «Географически» Асорин знает, куда направил свои стопы, но что до направления «интеллектуального» и «этического», растерянность его возрастает со дня на день. Асорин — как бы некий символ: его колебания, его мечты, его отчаяние типичны для целого поколения, лишенного воли, лишенного энергии, нерешительного, нестойкого поколения, у которого нет ни отваги поколения романтического, ни твердых убеждений поколения натуралистического. Возможно, что это разложение идеалов есть благо; возможно, для будущего — более или менее отдаленного синтеза необходим такой жестокий анализ всего… Но покамест бесспорно одно: то, что превыше всего — Красоты, Истины и Добра, — то самое главное, что есть Жизнь, переживает беспримерный упадок, неслыханную убыль… а это также убыль Красоты, Истины и Добра, гармония коих образует Жизнь — полноценную Жизнь.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
Эта часть книги состоит из отдельных фрагментов, написанных Асорином в часы досуга. Автор решил их опубликовать, дабы стала яснее сложная психология этого мятущегося человека, о котором человек серьезный, последовательный, один из тех, у кого в голове вмещается не более одной мысли, сказал бы, что он «совершенно свихнулся» и «идет по дурному пути».
Возможно, что путь, по которому идет Асорин, и впрямь дурной, но, во всяком случае, это путь. И все же лучше идти, пусть неверным путем, чем быть вечно неподвижным, вечно неизменным, вечно закоснелым… как эти почтенные господа, сами неспособные двигаться и осуждающие движение других.
I
БЛАНКА
Приехал в пять утра. Совершенно измучен поездкой в четыреста километров! Лег, немного поспал, проснулся. На балконе пролегли широкие полосы слабого света. И глубокая тишина, немыслимая тишина, тишина гнетущая, сокрушительная давит на мой мозг. Открываю балкон. Солнечные блики усеяли улицу, вверху небо раскинулось ярко-синим пологом. Улица безлюдна, время от времени пройдет крестьянин; затем, час спустя, — ребенок; еще через час — старуха в черном, опираясь на палку… Прямо впереди виднеется темный силуэт горы, фруктовые сады в цвету белеют на фоне серых склонов, порхает в лазури голубь, упоенно трепеща крыльями, тихо идет вверх дым из труб. И вдруг раздается протяжный, тоскливый, жалобный крик бродячего торговца.
Что и говорить, я в провинции, отсюда далековато до Пуэрта-дель-Соль, не близко и до актового зала «Атенео». А так как в провинции, когда здешний касик не запрещает, можно выходить на улицу, я и выхожу с соизволения муниципальных властей. Куда направиться? Не знаю. Тут я не могу сесть в трамвай, идущий к Ретиро, не могу купить «Le Figaro»[45], не могу сунуть нос в церковные закрома, ни с кем не могу позлословить насчет последней статьи своего друга… Что делать? Вхожу в казино. Там один старик читает «Эль Импарсиаль», два других — толкуют о политике.
— Такой-то, — говорит один старик, — будет председателем Совета.
— А я думаю, — возражает другой, — что Сякой-то возьмет верх.
— Простите, — замечает первый, — но у Такого-то куда больше смекалки, чем у Сякого-то.
— С вашего позволения, — опять возражает второй, — Сякого-то поддерживает армия.
Что мне делать в этом казино, где толкуют о каком-то экс-министре или вожде партии? Иду в парикмахерскую. В маленьких городках парикмахерские настроены демократически. Демократия пленяет испанских брадобреев! Вот и в этой парикмахерской хозяин, давний поклонник Роке Барсиа, намыливая клиента, рассуждает о всеобщем голосовании.
— Голосование, — говорит хозяин, — основа свободы. Пока правительства будут фальсифицировать выборы, у народа не будет свободы. А фальсифицировать будут, пока не появятся настоящие люди. Теперь их не стало! Вот Роке Барсиа, это был человек!
Не знаю, был ли Роке Барсиа действительно человек, но подозреваю, что в парикмахерской, где восторгаются автором «Этимологического словаря», обслуживают клиентов плохо. И я выхожу на улицу.
Немного прогулявшись, заглядываю в мастерскую плотника. В плотниках есть что-то евангельское. Читатель, конечно, помнит, что святой Иосиф был плотником. Смотреть, как трудятся, всегда поучительно, а смотреть, как трудится плотник, это почти трогательная идиллия. Беда лишь, что этот плотник республиканец.
— Какие были времена! — восклицает он, ударяя молотком по стамеске. — Какие то были времена! Теперь мы уж вовсе в тупике. Что до меня, так с тех пор, как ушел в отставку Льяно-и-Перси, я ни в кого не верю.
Плотник, верующий в Льяно-и-Перси, кажется мне еще более опасным, чем цирюльник, восторгающийся Роке Барсиа. И я ухожу из плотницкой мастерской. Но мне все же хочется с кем-то поболтать, и я подсаживаюсь к старику, греющемуся на солнце у двери.
— Все очень плохо, очень плохо, — говорит мне старик, — вино не имеет сбыта, батраки сидят без работы, без куска ячменного хлеба. Пройдет год-другой, и этот город превратится в сплошное кладбище.
Почтенный старик продолжает беспощадный рассказ о разорении его прекрасного края.
«О да, конечно, — думаю я тем временем, — поглядеть на этот город, диву даешься (как, впрочем, и на все испанские города). Одни толкуют о последней речи Такого-то, другие — о последних заявлениях Сякого-то, третьи — о позиции Этакого, все заняты тем, что делают, что говорят, что думают наши политики. Здешние люди недоедают, ходят в лохмотьях, терпят тысячи лишений, зато они полны глубочайшего восхищения перед всеми красноречивыми ораторами, которые довели их до нищеты.»
II
БЛАНКА
Замечаю в себе спокойствие, умиротворенность, ясность ума, каких прежде не бывало. Влияние опыта? Или разочарования в людях и в жизни? Не знаю, не знаю, одно несомненно — я не чувствую прежнего яростного задора, готовности сражаться из-за всего и против всего, нет и пылкости чувств, заставлявшей меня корчиться от безумного негодования. Теперь я на все смотрю добродушно, снисходительно, иронически… По сути, мне все безразлично. И первое следствие этого безразличия — равнодушие к стилю и презрению к книгам. Полагаю, что когда-то я был «блестящим» писателем; теперь, к счастью, я им уже не являюсь; напротив, придя к простоте формы, я теперь могу сказать все, что хочу, а в этом величайшая победа писателя над языком. При блестящем стиле это невозможно, при нем писатель — раб фразы, раб прилагательного, раб «концовки», и часто ты даже не в состоянии высказать свою мысль полностью. Кроме того — и это самое важное, — проникаешься предубеждением против слов скромных, низких, «прозаических», из-за чего лексика невероятно ограничивается. Вспоминаю, что Гомес Эрмосилья в своей книжонке «Критическое суждение» бранит Ховельяноса за употребление таких плебейских слов, как «бубенцы», «мул», «коренник». В первый раз, когда я встретился с таким пуризмом, я над Эрмосильей посмеялся, но потом я увидел, что кастовый дух продолжает жить и в современной прозе и что «блестящие» писатели ревностно его охраняют.
Другим моим пристрастием были книги. Был я также преизрядным эрудитом: читал все подряд, в самом живописном беспорядке, в упоительной смеси — романы, философские труды, драмы, стихи, критику… Я верил в книги, я накупал груды книг… и мало-помалу убеждался, что, по сути, все они говорят одно и то же, и если прочтешь их с полсотни — да и то, думаю, много, — считай, что прочел все. Разве кто-нибудь сказал что-то новое в философии после Аристотеля и вплоть до Канта? Вдобавок у нас еще укоренилось ложное мнение, будто в иностранных книгах должно содержаться нечто оригинальное, поскольку они написаны на иностранных языках. Когда читаешь пошлость на французском, английском или немецком, что-то на тебя действует, она кажется менее пошлой — видимо, потому, что избитые фразы, общие места, затасканные синтаксические обороты проходят для иностранца незамеченными. Но, по сути, пошлость остается пошлостью, и Санс Эскартин, переведенный на французский и изданный у Алькана, — так же пошл, как и на испанском. А сколько Эскартинов в «Библиотеке современной философии», которая многим заморочила голову!
Теперь не читаю никаких книг; то есть бывают еще приступы прежней мании, и иногда какую-то книгу куплю, какую-то, присланную другом, прочту, однако страсть прошла, и теперь не книги владеют мною, а я — книгами. Когда ты прожил известный срок, к чему читать? Чему такому могут научить нас книги, чего нет в жизни?
Таким манером в своем скептическом отношении к книгам и к стилю я пришел к некоей «атараксии», которая, по-моему, очень приятное состояние. Коль выбирать между негодованием и иронией, выбираю иронию… Нынче взялся за перо, продолжал составлять план моего «главного произведения», произведения юмористического, в котором я намерен посмеяться над всеми философскими системами и всеми прекрасными вещами, воодушевляющими людей. «Палка Иммануила Канта» будет синтезом человеческого безумия, неким итогом глупого фарса, который мы именуем Человечеством.
Поработал два часа. Что мне тут делать, в этом городке, совсем одному, когда не знаешь куда деваться? Завтра поеду в Хумилью и, не задерживаясь там, отправлюсь в монастырь Санта-Ана. Мне надо отдохнуть. Боюсь, что мое спокойствие — это просто усталость, нужен отдых. Два дня тому назад я еще был в Мадриде и внезапно все бросил, уехал. «Литературная жизнь» стала для меня невыносимой — в ней есть что-то фиктивное, нарочитое, однообразное, и это мне противно. Нет, нет, не желаю больше никакой «риторики»…
III
САНТА-АНА
Вот уже два дня, как я живу в монастыре Санта-Ана. Его окружают обширные сосновые леса, монахи ко мне добры, все дышит сладостным покоем. Ничего не делаю, только время от времени строчу четыре — шесть четвертушек.
Сегодня падре Фульхенсио… Да, падре Фульхенсио — человек молодой, высокого роста, с длинной бородою, умными глазами, приятными манерами. Сегодня он зашел в мою келью и протянул мне небольшую книжку, сказав, что это «Страсти». Я взял ее с легкой усмешкой (усмешкой человека, читавшего Штрауса и Ренана). Затем приступил к чтению, и постепенно мною овладевало одно из самых сильных, самых глубоких эстетических волнений за всю мою читательскую жизнь. Речь идет о книге Катарины Эммерих, а это книга невероятной эмоциональной силы и покоряющей яркости. Кроме «Воспитания чувств» Флобера и поэзии Леопарди, более всего созвучных моему темпераменту, не припомню другой книги, которая произвела бы на меня такое впечатление. Писательница очень просто рассказывает о трагедии Голгофы, будто сама при том присутствовала, была одной из Марий. На каждом шагу встречаешь фразы, удостоверяющие ее присутствие. Фразы, полные восхитительной наивности. «Я видела, как два апостола, бредя по оврагу, пришли в Иерусалим, когда в Храме возвестили полдень», «Я видела, как Господь беседовал наедине со своей Матерью», «Когда Иисус говорил эти слова, я видела вокруг него сияние…» И потом, какая боль, какая всепоглощающая страсть, какая точность подробностей, когда она повествует о кульминационной сцене! Есть там одна фраза, от которой у меня мороз пошел по коже, я улыбался и всхлипывал одновременно. Рассказывая о том, как совершилось распятие, писательница говорит:
«Тотчас положили его на крест и, вытянув правую руку вдоль перекладины, крепко ее привязали; один из них уперся коленом в святую его грудь, второй разжал его ладонь, а третий приставил к ней толстый, длинный гвоздь и стал забивать его железным молотком. Тихий, но отчетливо слышный стон исторгся из груди Иисуса, кровь его брызнула на руки палачей. Я считала удары молотка, но потом забыла счет…»
«Но потом забыла счет!» Вот эпическая наивность, вот самый великолепный портрет женщины, какой я когда-либо видел! Эта фраза звучала во мне все утро, и книга несчастной, парализованной женщины, эти «Страсти» Катарины фон Эммерих были для меня сильным, волнующим переживанием. Только Флобер приводил меня когда-то в такое волнение.
Когда падре Фульхенсио снова зашел ко мне, я горячо пожал ему руку, как пожимают ее человеку, способному понять и гимны Пруденция и тонкое изящество Бодлера.
IV
САНТА-АНА
Думаю, что моя ирония — это чепуха. Временами — и даже очень часто — вся моя невозмутимость исчезает от порыва страшного негодования. Решительно, я сам себя не знаю. И при подобных неожиданных взрывах ярости все усилия вернуть состояние душевного спокойствия оказываются тщетными.
Я бунтую против самого себя, во мне живут два человека. Есть «человек-воля», почти мертвый, почти разложившийся после долгих лет учения в колледже, — шесть, восемь, десять лет замкнутой жизни, подавление непосредственности, противодействие всему естественному и плодотворному. Но, кроме того, есть другой человек, «человек-рефлексия», рожденный и вскормленный обильным чтением, долгими периодами одиночества, кропотливым самоанализом. Преобладает, к сожалению, «человек-рефлексия»; живу почти как автомат, кукла без всякой инициативы: среда меня подавляет, обстоятельства, случай бросают то в одну сторону, то в другую. Не раз я со злорадством наблюдал, как среда господствует надо мной: я и мистик, и анархист, скептик, догматик, поклонник Шопенгауэра, приверженец Ницше. Это в том, что касается дел литературных; а в жизни, в повседневных отношениях, пожатие руки, дружеское приветствие, лестный или, напротив, слегка пренебрежительный эпитет, нечаянное умолчание оказывают на мои чувства действие невероятное. Таким образом, я поочередно человек приветливый, человек нелюдимый, энергичный борец, человек отчаявшийся, горячо верующий, скептик… — и все с быстрыми сменами в течение нескольких часов, чуть ли не в один и тот же день. Воля моя ослаблена, я мечтатель. Меня молниеносно осеняет идея произведения, но рефлексия тут же парализует мои силы. В политике я, возможно, был бы человеком мгновенных решений, внезапных чудо-идей, живописных дерзаний… Но, однако, есть во мне что-то такое, что всегда подавляет порыв, обессиливает меня, заставляет от всего отвернуться с горькой досадой. Да, я человек своего времени! Развитие интеллекта за счет воли, героев нет, легендарных подвигов не свершают, нигде не увидишь незаурядного развития личности. Все ровно, однообразно, монотонно, серо. Настанет день, когда крикнуть на улице будет не менее героическим подвигом, чем вызвать на поединок Гарсиа де Паредеса!
(Дойдя до этого места, я услышал удары колокола, призывающего на хор. Пойду послушаю унылые песнопения честных братьев.)
И в конце-то концов, к чему Воля? К чему эти беспрестанные метания, от которых вся наша жизнь как в лихорадке? Почему счастье должно быть непременно в Деятельности, а не в Покое? С точки зрения эстетики, египетская статуя, одна из этих застывших, симметричных статуй, столь же прекрасна, как греческая статуя дискобола, вся движение и мощь.
Что до этической стороны, то она второстепенна. Красота — вот высшая мораль. Любой из этих монахов, на мой взгляд, более морален, чем хозяин фабрики мыла или гребней; иначе говоря, его жизнь, жизнь безвестная и тихая, оставляет более глубокий след в человечестве, чем жизнь фабриканта, производящего тот или иной товар. Монах ничего не делает? Вот оно, несносное присловье черни. Нет, он творит красоту! Красивая женщина тоже ничего не делает, никогда ничего не делала, ее красота — случайное счастливое расположение атомов. И все же Нинон де Ланкло более велика, чем изобретатель наконечника для трости!
Мне симпатичны эти честные братья, потому что в каждом из них я вижу свой портрет: вижу в них людей, презревших волю, ту самую волю, которую я не могу презирать… потому что ее лишен. Но я и не желаю ее иметь. Что я буду делать дальше? Не знаю, буду жить как живется. Литературного честолюбия у меня уже нет. Сегодня пробовал работать над своей «Палкой Иммануила Канта», и эта книжонка вдруг показалась мне нелепой, претенциозной, отвратительной. Ирония! Предоставим каждому мирно идти своим путем. Я пойду своим. А мой путь пролег через этот городок, где я родился, где я учился, где я узнал человека, великого в своих слабостях, где я любил женщину, искреннюю в своем фанатизме, где я проживу свою жизнь как придется, как любой другой из здешних, — буду ходить в казино, приходить из казино, надевать по воскресеньям новый костюм, не буду сердиться, если судья победит меня в споре о праве на дополнительную часть наследства, буду краснеть, что не умею ни стрелять из ружья, ни играть в домино, ни говорить глупые слова глупым девицам…
И вот старый ваш бродяга встает в девять часов, надевает поношенный костюм, ополаскивает неделю не бритое лицо… Служанки посдвигали всю мебель с мест и усердно треплют ее метелками (в маленьких городках не умеют наводить чистоту, не устраивая страшнейший кавардак). Шум — особенность провинции: здесь не говорят, а кричат, ходят, стуча каблуками, чихают громоподобным чихом, кашляют, будто из пушки стреляют, переставляют мебель с оглушительным грохотом. По утрам во всем доме суматоха, облако пыли реет в воздухе как густой газ. Выхожу на прогулку. Пойти в казино? Что ж, пойду в казино. Там я всласть могу поговорить о политике, там спорят о самоочевидных вещах, горячатся и кричат из-за нелепейших пустяков. И некий господин — непременный тип в каждом городке, — разглагольствуя в напыщенном стиле выступающего на суде адвоката, будет убеждать меня в той или иной чепухе, которую будет упрямо размусоливать, только бы посрамить меня, человека, о котором писали мадридские газеты. Проходит час, еще час, еще час; улицы обдает жаром летнее солнце или метет по ним ураганный зимний ветер — мне все равно. Я не знаю, куда податься. Возвращаюсь домой. Служанки перевернули все бумаги на моем столе, настырно плачет ребенок у соседей, кричит какая-то женщина, на улице колют толстые стволы олив гулкими ударами топора… Сажусь обедать. А потом — опять в казино? Да, опять в казино. Снова начинается разговор о политике: меня спрашивают, за кого я — за Гомеса, или за Санчеса, или за Переса, все это местные касики. Я говорю, что мне нравятся все трое. Взрыв возмущения! Да ведь Перес куда способнее, чем Санчес, а если я стану возражать, стало быть, мне неизвестно, что в 1897 году Перес победил на выборах Санчеса и Гомеса, имея поддержку всего двух членов аюнтамьенто. Кроме того, экс-министр Такой-то весьма ценит Переса. «По-вашему, министр Такой-то не имеет влияния?» — спрашивают меня. Я не знаю, очень ли влиятелен Такой-то, но вынужден решительно ответить «да, очень влиятелен», чтобы не огорчить его поклонников. И тогда некий приверженец Гомеса — а Гомес из числа соратников экс-министра Сякого-то — очень серьезно спрашивает меня, действительно ли я полагаю, что Такой-то более влиятелен, чем Сякой-то, потому как Сякой-то замечательный оратор и его поддерживают многие сенаторы и весьма видные депутаты. Я также не знаю, можно ли считать Сякого-то действительно талантливым человеком, но отвечаю, что он, на мой взгляд, политик авторитетный и что я вовсе не имел намерения его оскорбить. Тогда его поклонник спрашивает, читал ли я речь, произнесенную им в 1890 году в Конгрессе по какому-то там поводу. Говорю, что не читал; он глядит на меня с презрением, и мой отрицательный ответ дает ему повод потом насмехаться над «этими писателями, которые уверяют, якобы все знают, все читали, а на деле не слыхали о речи, произнесенной Сяким-то в 90-м году…»
Ах, я изнемогаю! Возвращаюсь домой хмурый, усталый, глубоко презирая себя. А что делать дома? Книги свои я перечитал по три раза, к тому же чтение меня утомляет. Хоть я и не знаю всего, но все предвижу заранее. Нет, читать не буду. Выхожу опять из дому. Иду навестить друга. Он адвокат. Как раз пишет доклад. Читает его мне весь целиком — двадцать страниц ин-фолио! Затем спрашивает меня про «энфитеусис», про «антикресис», про «законные доли» и другие столь же увлекательные предметы. Я в этих тонкостях полный невежда. Он смотрит на меня с некоторой жалостью. Потом, желая показать, что он адвокат, идущий в ногу с временем, кладет передо мной книгу Д’Агуанно. Да еще спрашивает, нравится ли мне Д’Агуанно. Я скромно ответствую, что с ним не знаком. Тогда друг очень серьезно говорит, не считаю ли я, что литераторам можно обойтись без солидной научной базы. Я отвечаю, что отнюдь, что, конечно, у них должна быть таковая база. Он мне замечает, что Д’Агуанно большой ученый, и литераторы должны его знать, и что нельзя быть критиком, не зная его трудов и трудов других, не менее значительных законоведов.
Решительно, я жалкий человек, я самый жалкий из всех жалких людей в Екле. И чтобы хоть немного утешиться наедине с собою, иду прогуляться по уэрте. Домой возвращаюсь уже под вечер. В доме темно. Зову громким голосом — уже заразился! — появляется служанка, велю ей принести лампу. Пытаюсь зажечь лампу — в ней нет керосина. Служанка говорит, что керосин-то она купила, да отдала взаймы другой служанке. Другая служанка говорит, что все так и есть, но керосин она употребила, мол, на протирку мозаик в кабинете. Сейчас, мол, принесут еще керосину. Четверть часа сижу в темноте. Наконец наливают керосин в лампу, но, оказывается, фитиль плохо подрезан, огонь горит с одной стороны, и стекло лопается… Еще полчаса! Крики, споры, темнота!.. И так до ужина — ужинаю поздно, скверно, тарелки мокрые, бокалы треснутые, мясо пахнет дымом, ем, а рядом мяучит кошка и собака тычется мордой в мое бедро…
После ужина — опять идти в казино? Нет, нет, в этот вечер я в казино не пойду, направляюсь в гости к своим приятельницам. Приятельницы эти претендуют на элегантность, однако зубы у них желтые; претендуют на просвещенность, однако приходят в ужас из-за пустяков. В числе гостей молодой человек, готовящийся к конкурсу на должность регистратора, другой юноша готовится к конкурсу на должность нотариуса и еще один юноша готовится к конкурсу в военный юридический корпус. Все готовятся! Дамы и мужчины обсуждают премьеру в «Аполлоне». Один из юношей пересказывает сюжет, девицы вставляют свои замечания. Затем одна из них спрашивает, знаком ли я с Рамосом Каррионом. Я отвечаю, что не имел чести быть знакомым с Рамосом Каррионом. Тогда она в несколько фамильярном тоне, который усвоила со мною, вопрошает, чем же я занимался в Мадриде и как я могу утверждать, будто знаком с литературным миром, если не знаю Рамоса Карриона, автора таких замечательных комедий. Как могу оправдываюсь, и тогда она у меня спрашивает про Арничеса, с которым я уж наверняка знаком. Увы, с Арничесом я тоже не знаком, и это вызывает у молодых людей известное недоумение. Если я не знаком с Арничесом, с таким известным в Мадриде человеком, тогда чего же я стою как литератор? Может, я думаю, что у Арничеса нет блеска? Но разве не поставил он больше двух десятков пьес с огромным успехом?
Не знаю, что отвечать на все это. Молодые люди и девицы утверждаются в мнении, что я ни с кем не знаком, а следовательно, и не пишу ничего стоящего.
И, возвратясь домой, я валюсь на кровать усталый, удрученный, голову будто сжимает железный обруч, — и я погружаюсь в идиотическое забытье.
…Вот вам новая жизнь старого бродяги, поклонника Бодлера, любителя Верлена, влюбленного в Малларме; старого бродяги, ценителя сильных и утонченных ощущений, страстно любящего все изящное, оригинальное, изысканное, все, что есть Ум и Красота.
V
САНТА-АНА
Встал сегодня с чувством тоски, подавленности, тихого отчаяния. Я здесь не нахожу желанного покоя, в душе нет и тени веры. Порой пытаюсь себя обмануть: дескать, то, что я представляю как веру, это чистейшая сентиментальность, впечатления от литургии, от пенья, от тишины монастырей, от скользящих молча теней… В данную минуту у меня едва хватает сил писать, абулия парализует мою волю. Зачем? Зачем делать что-либо? Я убежден, что жизнь — зло и что все наши действия, имеющие целью умножить жизнь, лишь продлевают вечную агонию на этом затерянном в бесконечности атоме… Более человечно, более справедливо было бы прекратить страдание, прекратив существование рода. Вот если бы человечество решилось отказаться от глупого стремления продолжать свой род, тогда оно могло бы прожить хоть один день со всей полнотой, с размахом; оно насладилось бы хоть одним мгновеньем со всей интенсивностью, какая доступна нашему организму. А потом человек доживал бы свои дни, мирно старея, не видя перед глазами ужасного зрелища, с муками входящих в жизнь новых поколений, поколений, которые он невесть зачем породил. Не знаю, осуществится ли когда-нибудь этот идеал, он, конечно, потребовал бы высочайшего уровня сознания. И человек не сможет возвыситься до него, пока полностью и окончательно не отделит идею продолжения рода от чувственного наслаждения… Лишь тогда перестанет существовать то, что Шопенгауэр называет «Воля», по крайней мере, перестанет существовать как некое сознательное состояние, то есть человек. А существует ли в действительности что-либо, кроме нее? Где в конечном счете взять уверенность в том, что объективная реальность существует? Беркли не верил в объективную реальность. Мир — это наши ощущения, а наши ощущения могут быть иллюзией. Кстати, мы даже не знаем размеров нашей вселенной. Как это узнать, не имея с чем сравнивать? Вспоминаю, что в книге «Логика» врача Андреса Пикера я читал, что если бы земной шар был величиной с апельсин и вдруг уменьшился бы до размера булавочной головки, мы, его обитатели, продолжали бы видеть все в прежних пропорциях. Да, вот печальная шутка: возможно, что воспеваемая поэтами «огромная вселенная» не больше, чем горсточка чечевицы или чего-то подобного, которую некое чудовище в какой-то момент встряхивает на своей ладони… В какой-то момент! Потому что время связано с восприимчивостью наших пяти чувств; насекомое, живущее месяц, живет, по его понятию, столько, сколько мы, живущие пятьдесят лет. А эти пятьдесят лет могут быть одной секундой для некоего высшего или отличного от человека существа… Читал я где-то, что, будь мы способны наблюдать в одну секунду десять тысяч событий, а не десять, как в среднем происходит сейчас, и будь в жизни нашей такое же количество впечатлений, она тогда была бы в тысячу раз короче. Мы жили бы меньше месяца, мы не могли бы знать по своему опыту о смене времен года; если бы мы родились зимою, то в существование лета мы верили бы, как теперь верим в жару каменноугольного периода; движения высокоорганизованных существ казались бы нам столь медленными, что мы скорее о них догадывались бы, чем их воспринимали; солнце стояло бы в небе неподвижно, луна едва бы изменялась… Кто может утверждать, что пятьдесят лет нашей жизни — не один лишь месяц и что каменноугольный период для других существ, отличных от нас и не существующих, хотя они могли бы существовать, это то же самое, что для нас лето?
Ах, жизнь наша — сплошной абсурд! Какова конечная цель жизни? Мы этого не знаем; одни люди приходят на смену другим на кусочке материи, который называется земной шар. Затем земля становится необитаемой и люди погибают; затем атомы образуют новые комбинации и возникает другой, новый, мир. И так до бесконечности? Надо полагать, что нет; один немецкий физик — а немцы в этих вещах знают толк — полагает, что материя в конце концов утратит свою потенциальную энергию и станет непригодной для дальнейших преображений. Достойное завершение! Потрясающее зрелище! Материя, истощенная великим множеством миров, останется — где? — на веки вечные в виде преогромной кучи хлама… И эта гипотеза — заслуживающая быть аксиомой, — которую именуют «энтропией вселенной», она по крайнем мере — некое утешение, некое обещание, увы, не очень скорого успокоения всего, гибели всего.
В такие дни, как нынешний, я жажду этой инертности. Мысли мои как бы копошатся в темной пещере. Я встаю, делаю как автомат несколько кругов по комнате, затем снова сажусь, беру книгу, читаю три-четыре строчки, откладываю книгу, беру перо, думаю, тупо уставясь на листки бумаги, пишу шесть — восемь предложений, откладываю перо, снова принимаюсь размышлять… В голове тяжесть, ассоциации идей приходят медленно, неуклюже, туманно, я насилу могу построить выразительную фразу… И бывают минуты, когда мне хочется взбунтоваться, выйти из этого столбняка. Я хватаюсь за перо, пытаюсь написать яркую страницу, что-то сильное, живое… И не могу, не могу! Бросаю перо, я без сил. Хочется заплакать, хочется не быть, раствориться в материи, стать текущей водой, дующим ветром, уносящимся в небо дымом!
VI
ПУЛЬПИЛЬО
Из Хумильи я на повозке доехал до дома Антонио Ибаньеса, первого дома на краю Пульпильо. Там слез с повозки — хотелось походить по земле огромной этой равнины, вдохнуть полной грудью здешний воздух, погреться на нежарком весеннем солнышке, озаряющем поля. И, ступив на землю и окинув взглядом дали, я почувствовал что-то вроде грустного блаженства, какое-то томительное счастье… Зеленеют, сколько видит глаз, поля, колосья высокие, и время от времени по ним пробегают волны от дуновений теплого ветра. Я вижу рыжеватые холмы Моратильяс, вижу Аталаяс, их желтые склоны, симметрично усеянные точками олив, вижу за ними едва различимый голубой силуэт гряды Салинас. Посреди равнины виднеется Дом Епископа, где я был в последний раз с учителем; черная его крыша темнеет меж зелеными кронами вязов; из трубы медленно поднимается белый столб дыма. И неподвижно высятся на голубом небе черные, срезанные кроны кипарисов. Не слышно ни звука, не видно ни души. И, шагая по каменистой дороге, вьющейся крутыми петлями среди полей, я размышляю об ужасающем разорении этого злосчастного края.
— Бедняги наши земледельцы, — говорю я себе, — они были богаты так недолго, пока длился договор с Францией на продажу вин, то есть с 1882 до 1892 года. Поскольку цены на вино были высокими, крестьяне тогда пустили всю свою землю под виноградники. Никаких олив, ни зерновых, ни миндаля, ни фруктов! Гектар зерновых приносил доход 200 песет, гектар виноградника — 1000. И кругом были виноградники! Мелкие рантье превратились в крупных рантье, маленькие городки стали быстро расти, строились удобные, красивые дома, по улицам сновали экипажи и лошади, казино были переполнены жизнерадостными, щедрыми посетителями. Все веселые, пышущие здоровьем! Все процветающие, богатые! Но вот срок договора с Францией кончился, вина обесценились, веселье мало-помалу сошло на нет, городские предместья замерли. Зато неслыханно ширится ростовщичество! Мелкие землевладельцы отдают за бесценок свой урожай, закладывают усадьбы, заколачивают погреба. На Еклу тучей налетают валенсийские ростовщики; в валенсийце есть что-то еврейское — он скрытен, проворен, гибок, хитер на всяческие обмены и контракты. Они опутывают Еклу своими тонкими сетями и искусно выдуривают деньги у запуганных крестьян. Дают в долг за 12, 15, 20 процентов, бывает, что дают взаймы тысячу реалов, а в документе пишут Две тысячи и потом великодушно прощают должнику неуплату процентов…. Я видел, как этот милый городок, прежде такой радостно благополучный, становился все печальней. А нужда растет. И в Екле, и в Хумилье, и в окрестностях Аликанте. В Хумилье вина в этом году изготовили 200 000 гектолитров, хорошее сухое вино продается по 8 — 10 реалов за арробу в пятнадцать с половиной литров; обычное красное вино — а оно составляет основную часть — продают по 3–4 реала за арробу. В этом году продали от силы 100 000 гектолитров, половина изготовленного вина осталась в погребах. Что с ним делать? Что делать с огромными виноградными плантациями? Где взять деньги на то, чтобы засадить земли чем-то другим? Крестьянин смотрит в будущее с унынием, положение из года в год ухудшается, нужда давит, тревога растет. И эта атмосфера уныния, которая чувствуется в домах, на улице, в церкви, на празднествах, все усугубляется, проявляясь в бледных небритых лицах, в потертой одежде, в медлительных движениях, в угрюмом молчании, во вздохах, упреках, угрозах… Будущее поколение будет поколением глубоко меланхолическим. Рожденное в атмосфере тревоги, оно испытает тяжкое бремя наследственности; и эти селения, уже сейчас отмеченные какой-то особой грустью, станут вдвойне мрачными. Лет через пятнадцать — двадцать накопившаяся за сорок лет ненависть, возможно, прорвется стихийным, неодолимым бунтом, столь же неизбежным, как вращение светил. И тогда в Мурсии, в Аликанте, равно как в обеих Кастилиях и в Андалусии, крестьянин подымется со своим серпом и мотыгой, и начнется самая плодотворная из испанских революций. Да, эти хлебопашцы простодушны, наивны, доверчивы, но я не видывал людей более жестоких, безумно жестоких, когда их доводят до отчаяния; они вроде пружины, которая поддается слегка, мало-помалу, еще и еще, пока вдруг не распрямится с неудержимым, яростным напором. Ныне крестьянин уж очень обессилел, и вера пока держит его в смирении. Но через несколько лет — через сколько, не знаю, — когда антирелигиозная пропаганда убьет в нем веру, крестьянин наточит свой серп и пойдет на город. И города, ослабленные алкоголизмом, сифилисом и бездельем, будут уничтожены всесокрушающим нашествием новых варваров.
Размышляя обо всем этом, я подошел к Дому Епископа. Миновав аллею старых тополей, уже одевшихся маленькими листочками, дошел затем до источника, поглядел на широкое зеркало пруда, местами затянутое шелковистой черно-зеленой тиной. Ручеек, журча и пузырясь, течет по расчищенному руслу, небо ярко-синее, равнина безмолвна. А вот стая голубей, очертив огромный круг, шумно хлопая крыльями, садится на какую-то крышу.
Потом я направился к дому Илуминады. Не видно было, чтобы кто-то входил в него или выходил. Наверно, работают где-нибудь далеко в поле, сказал я себе. Чувствуя усталость, снял пальто, шляпу и положил их на край колодца возле входа в дом. Потом сел на скамью, задумался… Вдруг слышу шум на верхнем этаже, хлопает дверь, раздается песня… Я вздрагиваю всем телом. Это Илуминада!.. Поднимаюсь на ноги — в дверях появляется Илуминада. Она залилась румянцем, я бледнею. Она приближается ко мне, горделиво выпрямившись, я стою неподвижно и молча. Я видел, как она, заглянув в дверь, секунду колебалась от неожиданности и робости, но теперь она такая, как всегда, стоит передо мной, по-прежнему сильная, жизнерадостная.
Илуминада пристально смотрит мне в глаза и слегка иронически спрашивает:
— Стало быть, ты приехал, Антонио?
— Да, да, — отвечаю я как законченный идиот, — я уже здесь.
Илуминада окидывает взглядом мой черный костюм, широкую черную тесьму монокля, мой черный галстук фасона 1830 года, несколько раз обвитый вокруг высокого воротничка, и сверкающий на галстуке изумруд. Затем спокойно кладет руку мне на голову и говорит:
— Какие длинные у тебя волосы.
— Да, да, — отвечаю я, — очень длинные.
И минуту мы молчим. Минуту, в течение которой она продолжает изучать мой артистический наряд, и губы ее кривятся в иронической усмешке.
— Ты мне не писал, Антонио, — говорит она, потирая указательным пальцем изумруд на моем галстуке.
— Это правда, — по-дурацки отвечаю я, — я не писал тебе.
Тогда она кладет руки мне на плечи, энергично нажав, усаживает меня на скамью и восклицает:
— Да ты обманщик, Антонио!
И разражается веселым, громким смехом.
VII
ПУЛЬПИЛЬО
Илуминада и ее мать живут здесь, в Пульпильо, уже несколько дней. Приехали ненадолго. Нынче воскресенье. Утром мы вышли из дому чуть свет. Впереди шли Илуминада и я, за нами мать Илуминады и Рамон, сын Дедушки. Вдали, у ближайшего скопления домов, звенел колокольчик. Разумеется, он звенел, призывая крестьян послушать богослужение, которое правит дон Рафаэль Ортуньо. Ортуньо — священник и землевладелец, живет в Екле, а здесь его земли, и он ездит верхом из города на поля. И в городе, и в поле, и повсюду Ортуньо без умолку говорит, суетится, подпрыгивает, отпускает шуточки, то с бычком забавляется, то моментальные снимки делает, то запускает фонограф. Потому что этот человек, этот подвижный, бурно жестикулирующий священник, увлечен всеми достижениями века. Едва Наука изобретет что-нибудь новое и забавное, как Ортуньо, просматривающий все каталоги, сразу выписывает новинку из Парижа. Его дом завален фотопластинками, фотокамерами, фонографическими цилиндрами, электрическими звонками, машинками для изготовления всяческой ерунды, инструментами, приборами, пружинами… И вот поглядите же, как сумел Ортуньо установить между наукой и верой гармонию, о которой столько говорено, установить самым решительным, удобным и практическим образом.
Об этом и о многом другом мы беседуем с Илуминадой. Она, как обычно, полна жизни, и я среди этих широких просторов и весенней природы чувствую себя как бы воскресшим. Мы входим в часовню, Илуминада становится рядом со мной, заставляет меня опускаться на колени, вставать, садиться. Чуть ли не насильно, как будто я кукла. В глубине души я испытываю известное удовольствие от такого автоматического подчинения, позволяю распоряжаться мною как ей заблагорассудится.
Служба закончилась. Мы выходим из часовни и останавливаемся потолковать с крестьянами.
— В этом году, — почесывая затылок, говорит Рамон, — урожай, кажется, будет неплохой.
— В этом году урожай будет хороший, — решительно утверждает Илуминада.
— Конечно, — говорю я, — в этом году урожай будет превосходный.
Выходит Ортуньо, он уже снял облачение и, указывая на меня, говорит матери Илуминады комически-гневным тоном:
— Вот он перед вами, великий безбожник! Еретик! Vade retro![46]
Крестьяне смеются, вынужден засмеяться и я. Илуминада с самым естественным видом, ничего мне не говоря, сует в карман моего пиджака свой молитвенник, и Ортуньо, видя нас, Илуминаду и меня рядом, хитро подмигивает и, притопывая, несколько раз выкрикивает:
— Qui prior tempore, potior jure! Кто раньше пришел, у того больше прав! Qui prior tempore, potior jure!
ЭПИЛОГ
I
Сеньору дону Пио Барохе, в Мадрид
Дорогой Бароха!
Мне надо было ехать в Мурсию, и я вспомнил, что в Екле живет старый наш приятель Антонио Асорин. Я и решил доставить ему и себе удовольствие, сделав ненадолго остановку в Екле.
Вот отчет об этом посещении.
Приехал я в пять утра после трех часов езды в гнуснейшей тартане. Лег поспать, поднялся в девять. Спрашиваю у гостиничного служителя о доне Антонио Асорине. Слуга молча смотрит на меня, снимает шапку, чешет затылок и отвечает вопросом на вопрос:
— Дон Антонио Асорин? Вы сказали — дон Антонио Асорин?
— Да, да, — отвечаю я, — дон Антонио Асорин.
Тут слуга опять чешет затылок, потом подходит к лестнице и зовет:
— Бернардина! Бернардина!
Проходит минута, слышатся тяжелые шаги по ступенькам, к нам спускается дородная женщина.
— Вот этот сеньор, — говорит слуга, — спрашивает дона Антонио Асорина. Не знаете, кто это? Не тот ли, что живет на площади Коллегии?
Толстуха утирает себе губы тыльной стороной руки и, молча поглядев на меня, отвечает:
— Дон Антонио Асорин… дон Антонио Асорин… Вы говорите — его зовут дон Антонио Асорин?
— Да, да, дон Антонио Асорин… такой молодой человек… живет здесь…
— Вы говорите — он молодой? — опять спрашивает дебелая хозяйка.
— Ну да, молодой, должен быть еще молодой, — подтверждаю я.
— А это не дон Патрисио? — говорит женщина.
— Да нет же, нет, — возражаю я, — его зовут Антонио.
— Антонио, Антонио… — бормочет женщина. — Дон Антонио Асорин… Дон Антонио Асорин… — И вдруг вскрикивает: — Ну да! Антоньико! Антоньико, который женат на донье Илуминаде! Что же вы говорили — дон Антонио!
Я ошеломлен. Антонио Асорин женат! Женился здесь, в Екле! Такой заядлый богемный человек!
— Чего там, уже и детей двое! — говорит женщина.
Я ошеломлен вдвойне. Наконец, придя в себя настолько, чтобы не смущать встречных, выхожу на улицу и направляюсь к дому Асорина.
Входная дверь полуоткрыта. Вижу на двери большой позолоченный молоток — наверно, надо постучать. Стучу. После чего полагаю вполне логичным открыть дверь пошире и войти в дом. В передней никого. Стены белые, но их белизна несвежая; мебель — плетеные стулья, канапе, стол, под ним жаровня для обогрева и два холщовых кресла-качалки. Так как никто не появляется, я окликаю: «Есть здесь кто-нибудь?» Вопрос, на мой взгляд, звучит как-то неопределенно. Но все равно никто не появляется, и я повторяю вопрос громче. Откуда-то изнутри мне кричат:
— Кто там?
— Прошу прощенья! — отвечаю я.
Ко мне выходит служанка в черном платье, платок на голове тоже черный.
— Дон Антонио Асорин здесь живет? — спрашиваю я.
— Да, сеньор, здесь. Что вам угодно?
— Я хотел бы его повидать.
— Повидать? Вы говорите — повидать?
— Да, да, именно так: повидать.
Тогда служанка, уступая столь неслыханной настойчивости, кричит:
— Мария Хесуса! Мария Хесуса!
Проходит некоторое время, Мария Хесуса не появляется, служанка зовет снова. Из двери в глубине выбегает с бешеным лаем собака, слышится плач ребенка. Служанка продолжает звать, наконец на лестнице показывается тучная дама. Она спускается к нам, восклицая:
— Господи боже! Да что тут такое? Что стряслось? Почему такой шум?
Собака не умолкает, появляется наконец Мария Хесуса, и к этому моменту тучная дама одолела все ступеньки лестницы.
— Вот этот сеньор, — говорит служанка, — спрашивает дона Антонио.
— Антоньико? Вы хотите видеть Антоньико? — обращается ко мне дама.
— Да, да, я хотел бы с ним поговорить, если это возможно, — отвечаю я.
— Ступай, Мария Хесуса, — говорит ей дама, — ступай спроси у дона Мариано, дома ли Антоньико.
Мария Хесуса исчезает, воцаряется молчание. Дама осматривает меня с ног до головы. А на верху лестницы показывается господин с длинной седой бородой.
— Мариано, — говорит ему дама, — тут хотят видеть Антоньико.
— Антоньико?
— Да, вот этот сеньор.
— Да, — подтверждаю я, — я хотел бы с ним поговорить.
— Так он, наверно, в кабинете, пойду погляжу.
Снова пауза. Пожилая дама, наконец, решается провести меня в кабинет и приглашает подняться по лестнице. Мы останавливаемся перед какой-то дверью.
— Вот сюда, — говорит она, — заходите, пожалуйста.
Захожу. Комната маленькая, в ней небольшой столик и швейная машинка. За машинкой сидит молодая, но уже с изрядно округленными формами женщина, волосы у нее в беспорядке, одета неряшливо. Рядом с нею кормилица пеленает младенца. Младенец плачет, другой ребенок, постарше, которого мать держит на руках, тоже плачет. На стульях, на полу, в большой корзине, на машинке, словом, повсюду — разбросаны пеленки.
За столом сидит молодой мужчина, у него висячие усы, лицо не брито с неделю, костюм засаленный. Это Асорин!
Право, не знаю, дорогой Бароха, как тут передать глубокое волнение, охватившее меня, когда я очутился лицом к лицу с человеком, к которому мы питали такое глубокое и искреннее уважение. Он, видимо, тоже был сильно взволнован. Мы молча обнялись. Я не находил, что сказать. Он представил меня своей жене. Заговорили о погоде. Жена его стала громко звать Марию Хесусу и, когда та пришла, отдала ей ребенка и принялась шить. Вместе с Асорином тут живут мать его жены, брат матери и золовка. У жены есть кое-какое состояние, то ли двадцать, то ли двадцать пять тысяч дуро, вложенных в земельные владения, дохода с которых при нынешнем кризисе едва хватает на то, чтобы относительно прилично прокормиться и одеться. Сам Асорин ничего не делает, не пишет ни строчки, почти не читает, в доме у него я видел только газету, выходящую в главном городе их провинции, и то присылает ее родственник, который там иногда печатает свои стишки. Время от времени Асорин выезжает на поля, живет там дней шесть — восемь, однако работами по хозяйству ему распоряжаться не дозволено, и в отношения с арендаторами он также не вмешивается — все это находится в исключительном ведении жены. Жена распоряжается всем, отдает приказания, проверяет счета, в общем, делает то, что ей вздумается. Асорин держится в стороне и живет, ну, словом, живет, будто мебель какая-то.
При первой нашей встрече я, что было вполне естественно, предложил:
— Не сходить ли нам пройтись чуть позже? Может, покажешь мне город?
— Хорошо, пойдем вечерком, — ответил он.
Тут жена перестает шить и, глянув на Асорина, говорит:
— Сегодня вечером? Но как же, Антонио, тебе ведь надо привести в порядок хоругвь Святейшего Сердца!
— Да, верно, — соглашается Асорин, — мне надо привести в порядок хоругвь Святейшего Сердца.
Пресловутая эта хоругвь — семейная реликвия уже много-много лет; купил ее дедушка Илуминады, и каждый год кто-то из членов семьи несет ее в процессии. Такая процессия должна состояться на днях, посему надо сию хоругвь почистить и насадить на древко.
— Ах, так вы же, наверное, и не видели нашу хоругвь? — спрашивает жена Асорина.
Да, признаюсь, я «хоругвь» не видел. И поскольку она, вероятно, заслуживает внимания, Илуминада велит Асорину показать ее мне. Выйдя из кабинета, мы прошли по целому лабиринту комнат с полами на разных уровнях, с высокими и низкими потолками, со старой мебелью, с разнокалиберными дверями — этакая живописная неразбериха, присущая провинциальным домам. Наконец добрались до комнаты с покатым потолком и белеными стенами, на стенах литографии Сердца Иисусова, Сердца Марии, святого архангела Михаила, Святой девы Кармильской… всюду кричащий красный цвет, режущий глаз зеленый, пронзительный синий. В углу стоит сосновый сундук, на нем большой плоский ящик. Асорин остановился перед ящиком, я глядел на него с грустью; он пожал плечами и глухим голосом сказал:
— Что тут поделаешь!
Затем открыл ящик и вытащил хоругвь, обернутую в множество слоев бумаги, предохраняемую от моли камфорой и зернами перца. Не стану вам описывать эту хоругвь — разумеется, она и хоругвь Лас-Навас равно драгоценны… или никчемны. Асорин показывал ее мне с превеликой осторожностью.
А я между тем думал — не о хоругви, хотя это хоругвь Святейшего Таинства, но об Асорине, о старом нашем друге, человеке такого светлого ума, таких независимых суждений, погребенного ныне в ламанчском захолустье: потертый костюм, небритое лицо, пеленки на письменном столе, растрепанная жена, полагающая, что привести в порядок хоругвь важнее, чем пойти на прогулку с любимым другом.
X. Мартинес РуисЕкла, такого-то числа.
II
Сеньору дону Пио Барохе, в Мадрид
Дорогой Бароха!
Если у вас найдется свободная минутка, будьте так любезны зайти в институт социологии и рассказать тамошним почтенным господам то, о чем я в этом письме сообщаю.
Вот уже пятьдесят лет как в Екле был учрежден колледж. Возможно, что просвещению — которое не совсем то же, что счастье, — это пошло на пользу, но городу школа принесла разорение. До 1860 года все мелкие землевладельцы оставляли своих сыновей трудиться в хозяйстве, после этого года все юноши становятся бакалаврами. Ведь стоит это так дешево! Вернее, ничего не стоит. Добрые наставники, не требуя платы, берут на себя труд снабдить крестьянских сыновей профессией более благородной, чем профессия их родителей…
Пятидесяти лет оказалось достаточно, чтобы создать в городке атмосферу инертности, застоя, отсутствия всякой инициативы и энергии. Возделывание земли осталось в руках самых тупых, тех, кто уж никоим образом не мог одолеть тривиум и квадривиум. А поскольку сельское хозяйство здесь единственное богатство, то, когда наступил кризис, молодежью, полностью отчужденной от труда на земле, овладели неуверенность, растерянность, смятение, они не знали, как справиться с кризисом, не имели сил для борьбы. Я тут имею в виду кризис виноторговли — в 1892 году истек срок договора с Францией. С тех пор минуло десять лет, десять лет беспросветного уныния. И вот поглядите, что произошло за этот промежуток времени. Случай любопытный, извечная история старых и молодых народов… По соседству с Еклой находится селение Пиносо, возникло оно недавно, у его жителей есть отвага, молодость, есть раскованность, свойственная тем, кто не связан традициями, люди там энергичные, решительные. Там и сейчас едва ли найдется барчук с университетским дипломом, все они земледельцы, промышленники, коммерсанты. И жители этого селения так славно орудовали, что за минувшие десять лет, которые жители Еклы провели как бы в столбняке по причине кризиса, жители Пиносо, заключая выгодные и смелые сделки и контракты, завладели третьей частью земельных угодий Еклы. Через тридцать лет вся Екла, весь этот старинный, исторический, одряхлевший город, будет принадлежать им, народцу полнокровному, энергичному! И явление это вполне естественное: рядом с народом старым, усталым, появляется другой, молодой и дерзкий, — и логика подсказывает, что молодой одержит верх над старым! Молодежь Еклы, воспитанная в духе стремления к административным должностям, чахнет над кодексами и оказывается неприспособленной к свободной борьбе за существование; и напротив, молодежь Пиносо ничуть не тревожится о том, что здесь составляет предмет постоянных тревог: о должностях в нотариальных конторах, в городском совете, в суде; зато со временем молодцам из Пиносо будут принадлежать все усадьбы, дома и земли этих злосчастных законоведов.
То, что происходит в Екле, типично для всей Испании и для других наций — это ни больше ни меньше как проблема народного образования.
Две крайности представляют тут Франция и Англия. Франция, страна политики и бюрократии, обучает своих юношей «для экзамена». Практическая, реалистическая Англия обучает своих сыновей «для жизни». Франция с ее педагогической системой создала легионы бюрократических автоматов или хмурых неудачников; Англия, напротив, колонизовала половину планеты и добилась того, что англосакс ныне человек, уверенный в себе, живущий в полной гармонии с действительностью, не теряющий хладнокровия в превратностях, человек отважный, стойкий…
Сегодня пополудни в казино, куда пошли мы с Асорином (в таких городках и пойти-то больше некуда, как в казино), я думал о том, что будущее Еклы — это будущее всей Испании. Есть тут и другой весьма важный момент, который усугубляет разительное подобие. За период в сорок лет — то есть совершенно синхронно с взрослением молодежи — высшие классы Еклы, те, кого здесь именуют «благородным сословием», самым беспечным образом растранжирили свои состояния.
«Если бы встал из гроба дедушка Имярека, вот бы он удивился, увидев своего внука в нищете!» — говорил мне нынче утром старик крестьянин. «Владения дедушки тянулись от границы Пиносо до границ Хумильи, сплошняком, а у внука-то ничегошеньки нет…»
Ныне шесть — восемь аристократических семейств оказались поистине в жестокой нужде. Наследственное достояние они промотали в Мадриде, в Валенсии, в Мурсии, швыряя деньги на нелепые прихоти, не помышляя о будущем, не заботясь о своих землях. Также буржуа в свой черед оторвали сыновей от сельского хозяйства, сделав их вечными искателями бюрократических должностей. Таким манером старинный город быстро движется к упадку: с одной стороны, сходят на нет высшие классы, которые могли бы стать направляющей и движущей силой; с другой, средний класс, удалясь от сельского хозяйства и промышленности, охвачен параличом. Стоит ли удивляться, если и тридцати лет будет довольно, чтобы все владения Еклы перешли в руки жителей Пиносо?
Мне хотелось привести эти данные практической и наглядной социологии, дабы ясно было, в какой среде родился и воспитывался наш друг Асорин и как, в силу этих причин, прямых и косвенных, его зарождавшаяся было воля разложилась. Его случай — это в большей или меньшей степени то, что происходит со всей испанской молодежью.
На этом я буду настаивать. Я приглашен завтра на обед у Асорина. Потом напишу Вам еще.
X. Мартинес РуисЕкла, такого-то числа.
III
Сеньору дону Пио Барохе, в Мадрид
Дорогой Бароха!
Сегодня обедал у Асорина. Трудно себе представить, насколько в испанских захолустных городках не ведают, что такое комфорт, вкус, опрятность. Утром в гостинице меня спросили, «нужна ли мне вода для умывания?» Потом, у Асорина, я сидел в темной столовой с нечистыми стенами, за столом, накрытым липкой клеенчатой скатертью. Ох, эта неизменная клеенка на столах наших нерях — буржуа! Нас потчевали безвкусным косидо, омлетом и жареной корейкой с картофелем. Рядом со мною сидела золовка Асорина; дон Мариано, дядя его жены, рассуждал о том, «какие плохие времена настали». Это любимая тема в маленьких городках: нам плохо, нам очень плохо, но мы ничего не делаем, чтобы улучшить свое положение. Иначе мы не были бы испанцами!
Напротив, обедавший с нами молодой священник как будто тревожится о судьбах Испании. И в самом деле, он оказывает покровительство здешнему кузнецу, который изобрел не что иное, как — сейчас Вас удивлю! — электрическую торпеду. Это и впрямь классический, архииспанский тип: зачем учиться, трудиться, зачем улучшать земледелие, развивать торговлю? Нет! Подавай нам электрическую торпеду, которая разом сделает нас повелителями всех морей и океанов!
Насколько я слышал, случай этот не единственный в городе: порядочно лет тому назад некий сеньор Кихано наделал большого шума, пытаясь сконструировать грозную ракету с динамитом, ракету, которая могла бы забрасывать на три-четыре километра заряды взрывчатого вещества весом в сорок — пятьдесят кило. Поразмыслив обо всем этом, я начал подозревать, что народ в Екле обладает особым складом ума, какой-то архаической психологией, присущей шестнадцатому или семнадцатому веку. Заметьте, что это, пожалуй, единственный город, где в середине девятнадцатого века построили собор так, как строили в средние века: жители всей общиной трудились бесплатно, движимые пылкой верой. И это факт весьма показательный для коллективной психологии. Ибо все большие сооружения Еклы остались незавершенными: колледж, казино, вокзал и т. д. Это свидетельствует, что у здешних жителей есть зачатки воли, есть порывы энергии, но она быстро иссякает и угасает в неодолимой усталости. Их поведение при нынешнем ужасном кризисе виноторговли — пример, подтверждающий мой вывод. Они видят неминуемое разорение, они уже разорены, но не шевелятся, ничего не предпринимают, ничего не придумывают. Ждут всего от государства! Как мистик, который ждет всего от небес. Такова Екла: народ мистиков, народ визионеров, у которых нет недостатка в интуитивном понимании, в быстрой и верной оценке, зато нет способностей к обдуманным, согласованным действиям, к прилежному труду, нет воли.
Посему не мудрено, что наш друг Асорин, который здесь родился и вырос, являет собою прискорбный случай абулии: он — человек, не доводящий ничего до конца, что, как я уже указывал, отнюдь не редкость в этом городке. В другой среде, где-нибудь в Оксфорде, в Нью-Йорке, даже в Барселоне, Асорин стал бы превосходным экземпляром рода человеческого, в котором разум был бы в идеальном согласии с волей; здесь же, напротив, отсутствие воли привело в конце концов к упадку разума. Кроме того, к существенным факторам, действовавшим на характер Асорина, следует добавить еще один, и важнейший: постоянное влияние Антонио Юсте, столь любимого нами учителя, проведшего здесь последние свои годы. Юсте тоже был неудачником; при большом уме, яркой оригинальности ему не хватало упорства и способности к длительному труду — потому-то ему не удалось создать ничего по-настоящему крупного, ничего долговечного…
Как бы там ни было, время идет, и вот наш Асорин в Екле, женатый на здешней распустехе, и сегодня я сидел напротив него, в его доме, и обедал на клеенке рядом со священником, оказывающим покровительство кузнецу, который изобрел электрическую торпеду. Я, естественно, согласился, что счастье народов состоит в обладании электрическими торпедами. Священник был мне за это весьма благодарен и долго объяснял их устройство. Я ничего не понял, к тому же корейка с картофелем показалась мне неудобоваримой.
После обеда, поскольку уже не надо было приводить в порядок хоругвь, мы отправились в казино. Там я увидел нескольких господ, которые, по их уверениям, готовятся к занятию разных должностей: в нотариальных конторах, в городском совете, надеются стать секретарями, государственными адвокатами, устроиться в военном юридическом корпусе и т. д. Это другая своеобразная черта Еклы: здесь все адвокаты, все ходят с портфелями, разбухшими от бумаг, все околачиваются в суде, толкуют о Манресе, о Муции Сцеволе, о Фрейха-и-Рабассо. Мне, право же, очень стыдно, что я не имею ни малейшего понятия о гражданской судебной процедуре! А покамест земля вокруг этого города, живущего в основном за счет земледелия, почти ничего не родит и обрабатывают ее как в первобытные времена, те же приемы, те же устаревшие орудия, однако все здешние молодые люди убеждены, что главное — получить место нотариуса, и я, высоко ценя их ум, соглашаюсь с ними.
В казино мы обсуждали, кто возьмет верх, Сильвела или Маура; городское казино, если в нем не спорят, это не казино, и если вдобавок там не толкуют о политике, то это исключение почти позорное. Должен отметить, что слова в Мадриде и в провинции имеют различный смысл. Мадридец с известной тонкостью ума и культурой, придя в провинциальное казино и вступив в разговор, с удивлением обнаружит, что половину того, что он говорит, его слушатели пропускают мимо ушей. А если у этого мадридца еще и иронический склад ума, тогда он и вовсе ораторствует как бы в пустыне. Тут, в провинции, прилагательные, эпитеты, бранные слова, жесты, отрицания, парадоксы воспринимаются совсем в ином значении, чем в Мадриде. Парадокс — эта игрушка изощренных умов — еще не дошел до провинциальных городишек. Я нынче высказал их два или три — признаюсь! — и все эти молодые адвокаты негодующе воззрились на меня и принялись на полном серьезе со мною спорить. Они подумали, что я и впрямь думаю то, что сказал! И я уверен, что если завтра мне придется попросить о какой-нибудь любезности одного из этих господ, восторгающихся тем или иным политическим деятелем, он любезности этой не окажет или окажет скрепя сердце, так как в беседе об этих политиках я сказал, что никто из них меня не интересует. Хотя я даже готов утверждать, что кое-кто из них не лишен способностей…
Проведя часок-другой в обществе сих юных законоведов, мы пошли прогуляться по уэрте. Вернулись уже затемно и застали все семейство Асорина в сильном волнении. У входа какая-то женщина рыдала, что-то выкрикивала, умоляла; дон Мариано расхаживал взад-вперед, изрыгая яростные угрозы, детишки хныкали, собака лаяла, раздавались визгливые голоса Илуминады, ее матери, служанок.
Дело было вот в чем. Некий бедняк — почтальон из Мурсии — был должен семье Асорина пятьсот песет. Срок уплаты истек несколько месяцев тому назад, несмотря на многие напоминания почтальон не платил. У него просто не было денег, такое часто бывает. И сегодня конфисковали его повозку и мула, на которых он возил почту. Думаю, бедняга плакал с горя, когда альгвасилы уводили его мула, и он, говорят, пригрозил, что «пришлет привет» дону Мариано, который, по словам жены Асорина, и довел это дело до такого конца. Жена почтальона пришла умолять Илуминаду, ее-то мы и встретили в передней. Переполох был знатный!
Мне стало очень грустно. Жизнь в этих городках безжалостна, эгоизм доходит до варварской жестокости. В больших городах, где живут сегодняшним днем и где горести одного — это горести всех, существует некая человечная общительность, альтруистическое бескорыстие, которое, по сути, как бы аванс, обязывающий к взаимной услуге в будущем. Но здесь, в маленьком городке, каждый замыкается в своем доме, укутывается в свой плащ, греется у своего очага, предоставляя соседу подыхать с голоду. А уж если это чужак, и говорить нечего. Много раз случалось мне думать о трагедии русского, немца, англичанина, которому доведется попасть в ламанчскую деревню, не имея денег, да еще захворать… Суровый, жестокий, несгибаемый, не знающий нежности, понимания истинных ценностей характер кастильского народа ощущаешь со всею остротой, пожив тут хотя бы месяц. Эти бледные лица у оконных стекол в старинных ламанчских селениях, следящие за одиноко бредущим чужаком; эти ханжеские улыбки и сочувственное качание головой, когда с кем-то случилась беда; эти вечные глупые фразы: «Ему следовало поступить так-то», «Я же говорил, что, сделай он то-то», «Конечно, таким образом он никак не мог бы…» Все это мелочные, гнусные проявления человеческой жестокости, сколько в них истинно испанского! Как часто доводилось мне встречаться с ними в маленьких городках!
Теперь жена Асорина ради пятисот песет доводит до нищеты несчастного человека; завтра какой-либо сеньор, у которого в шкатулке тысяча дуро, откажется ссудить полсотни приятелю; к другому давний товарищ посылает альгвасила взыскать семьдесят песет. О, беспощадная, низкая борьба за грош в этих одолеваемых жадностью городках! Нет, я не мог бы жить в такой среде, и всякий раз, побывав два дня в родном городе, чувствую себя так, словно очутился в зловонной клоаке, по которой могу идти только скрючившись. Как может жить здесь Асорин? Этим вечером, во время той бурной сцены, я на миг снова увидел его в приливе былой энергии. Он выпрямился, глаза его сверкали, он восклицал: «Это гнусно! Это глупо!»
Неужто Асорин будет здесь жить всегда? Гоню прочь эту мысль, он человек сложный, мы все знаем его вспышки энергии, его непредвиденные смелые поступки, он — живой парадокс. Вот почему этот покой, эта покорность меня изумляют. Правда, я считаю его неспособным к длительному усилию, но и такая пассивность для него неестественна. Асорина можно было бы назвать бунтовщиком против самого себя. Он инстинктивно ненавидит все нормальное, геометрически правильное, начерченное прямыми линиями. О его прошлой жизни можно было бы написать интересную книгу, и я надеюсь, что будет возможно написать еще И другую — под названием «Вторая жизнь Антонио Асорина». Эта вторая жизнь будет похожа на первую: сплошные отдельные порывы, недовершенные начинания, безуспешные дерзания, парадоксы, жесты, вопли… Но что за беда! Идея предложена, движение началось. И в плодотворном, вечном, неумолимом ходе времени ничто не теряется бесследно!
X. Мартинес РуисЕкла, такого-то числа.
ИСПОВЕДЬ ЗАХУДАЛОГО ФИЛОСОФА Перевод Н. Малиновской
НЕ ЗНАЮ, СТОИТ ЛИ ПИСАТЬ…
Я, захудалый философ, владелец серебряной табакерки с ароматным табаком высшего сорта, цилиндра и шелкового зонтика на крепких спицах из китового уса, начинаю эти записки у себя в библиотеке, в Кольядо-де-Салинасе. Я хочу вернуть былое. Близится полночь, тишина державно опускается на поля, стройно и нежно вступают хоры сверчков, на меркнущем небе вспыхивают звезды, виноградники в долине свежи и душисты.
Я сижу за столом, комната погружена в полумрак, и только лампа с зеленым абажуром бросает на стол светлый круг. В книжных шкафах покоятся фолианты; едва различимы в полутьме белые наклейки на полках, по которым я сразу нахожу нужную книгу: Сервантес, Гарсиласо, Грасиан, Монтень, Леопарди, Мариана, Вивес, Тэн, Лафонтен.
Я хочу вернуть былое. И, чудится, здесь, в одиночестве, этой тихой, торжественной летней ночью, среди фолиантов, которым я стольким обязан, передо мной встает вся моя трепетная, тоскующая жизнь — и детство мое, и юность. А отложу листки в сторону, выйду на балкон — и так горестно вдруг отзовется душа погребальному песьему вою, мерцающей в вышине звезде.
И тогда в сомненьях и смятенье я возвращаюсь к столу, едва унимая дрожь, и не знаю, стоит ли браться за перо, надо ли убогому существу, захудалому философу, обитателю песчинки, затерянной во вселенной, запечатлевать на бумаге крохотные событьица своей заурядной жизни…
И ВСЕ-ТАКИ ПОПРОБУЮ…
Не стану описывать свои юные годы шаг за шагом, во всех подробностях. Какой смысл рассказывать о хождениях по редакциям и издательствам, перечислять названия моих первых опусов — ни они, ни список моих едких статеек никому ни о чем не говорят. Не по мне слепо следовать правилам. Я хочу запечатлеть на этих листках свежий и смутный след моей ушедшей юности. И сохраненные памятью несколько нот, несвязных, но еще не смолкших, скажут обо мне лучше и достоверней, чем нудный перечень дат и заглавий.
Ведь у каждого было детство и отрочество, а былые мальчишества — неизбежный пролог к тому большому и достойному, что нам довелось — если довелось! — совершить…
ШКОЛА
Первые школьные годы в моей памяти неотчетливы, размыты, словно это было в другой жизни, на иной планете. Как все это было? Какой дорогой ходил я в школу? Что чувствовал, ежеутренне переступая школьный порог? Что чувствовал, когда, наконец, вырывался из этих жутких четырех стен? Не ошибусь, если скажу, что ежеутренне я горевал, а, вырываясь на свободу, радовался. Хотя бы потому, что учитель, вдалбливавший мне начатки знаний, был крут в обращении и несдержан в речах. Никогда не забуду, как этот костистый, сухопарый человек в порыве особого усердия наклонялся ко мне, тыча пальцем в книжку, и его усы — колкие, как щетка, — царапали мне щеку. Об особом усердии я говорю не случайно: со мною, сыном алькальда, учитель каждый день занимался дополнительно, о чем мне до сих пор горько и обидно вспоминать.
Все расходились, и я один оставался в школе. Школа располагалась на окраине городка; сразу за ней начинались огороды, за ними на фоне синего неба мягко круглились холмы. При школе был маленький садик — несколько желтых акаций и ровный ряд кустов бересклета. Прежде в том здании помещался францисканский монастырь — просторные залы, высокие своды, длинные скамьи, литографии по стенам, изможденный Христос под лиловым балдахином и огромная карта, испещренная таинственными линиями. Точно такие же литографии — кошмар моего детства — висели потом в колледже. Изображали они исключительно библейские сцены, самые разные, всех я не помню, но в потаенном уголке моего сознания застряли два белобородых старца: один, паря в облаках над горой, протягивает другому увесистые, округленные вверху скрижали.
Я оставался в школе один, и учитель вел меня через внутренний дворик и галереи к себе. Там, у него в столовой, я снова раскрывал букварь, и этот зверь в человеческом облике еще целый час остервенело пытал меня, заставляя читать по слогам.
Так и кажется, что он все еще дышит мне в лицо табаком, а колючий ус царапает щеку. Дочитываю до конца, он велит начинать сначала, читаю сначала, он велит повторить, сердится, орет, что я глуп: «Да не так! Не так же!» И я, в конце концов отупев, пав духом и выбившись из сил, долго и горько рыдаю…
И только тогда оставив меня наконец в покое, он в бессильном недоумении качает головой: «Что за ребенок…»
РАДОСТЬ
Когда я играл? В какие игры? Расскажу об одной — других просто не было. Играли мы по вечерам, после ужина; целый день я сидел в школе, томясь над букварем, или дома, взаперти, листая у балконной двери книгу с картинками. Но приближался вечер — оазис в моей жизни: лунная глазурь заливала узкую улочку, из сада тянуло живительной свежестью. И тогда мы с соседским мальчиком играли в ЛУНУ. Игра состоит вот в чем: отыскав освещенное луной место, ты встаешь на него и кричишь своему противнику: «Моя луна, моя!» Он должен спихнуть тебя со света, а ты, лишившись «луны», ищешь новую, снова зовешь его, и так далее…
Соседский мальчик был тих и робок — потом он стал священником, — и вроде бы мы с ним больше ни во что не играли. Хотя случалось у нашей единственной игры такое продолжение, что дух захватывало. Правда, не часто. Соседская служанка — изумительная женщина, лучше которой я не встречал, — выходила к нам в ослепительном и несуразном наряде: с метлой на плече, в длинном, до пят, сюртуке и старом цилиндре. Она являлась как античное божество, и восхищение наше было безмерно. В таком виде она и вела нас на ближнее гумно, и там, тихой левантийской ночью, облитые лунной глазурью, мы кувыркались на теплой, мягкой соломе, и наши души полнились восторгом и нежностью к той удивительной женщине, что учила нас радости — лучше нее никого не было в целом свете.
ОТШЕЛЬНИК
И вот ведь какая поразительная несообразность — эта удивительная женщина прислуживала человеку, совершенно непохожему на нее. Он жил в доме напротив — опрятный, молчаливый, держал двух громадных собак, которые ходили за ним повсюду, любил сажать деревья… Ежедневно в один и тот же час он появлялся в сквере у казино, немного печальный, немного усталый. Усаживался на скамейку, вынимал свистульку и свистел. И происходило нечто удивительное — отовсюду с радостным щебетом к нему слетались птицы. Он выгребал из карманов крошки и кормил их. Дружить он ни с кем не дружил, только с птицами, двумя своими тихими собаками и деревьями. А птиц он отличал друг от друга — пока они копошились в песке, он ласково разговаривал с ними, каждую звал по имени: старую знакомую корил, что давно не прилетала, новую приглашал на завтра. Накормив всех, он вставал и уходил вместе со своими огромными безмолвными борзыми.
Этот человек многим помог, но люди беспамятны и черствы. Удрученный, он покинул город и больше не возвращался и даже не виделся ни с кем. Жил он отшельником в роще, которую сам же и взрастил, но, видно, счел ненадежным убежищем и перебрался на гору, где выстроил себе домик и коротал свой век.
Остается добавить: сердце его отвратилось от людей. Но я-то знаю, что надежда в нем теплилась. Ежедневно он получал из города газеты — то была последняя, слабенькая ниточка привязанности к людям, но она не рвалась, и лишь ею держалось сокрушенное сердце.
«ПОЗДНО…»
Сколько раз за опоздание к ужину — на полчаса, на час, — меня корили: «Опять ты поздно!» Как я, помнится, уже говорил по какому-то поводу, в захолустье столько времени, и такого медленного, что не знаешь, куда себя деть, и все равно чувствуешь — поздно.
Почему поздно? Для чего поздно? Что за призвание заставляет нас вести счет минутам? И что за темная судьба велит нам терять час за часом в этой унылой глуши? Не знаю, но чувствую — поздно. Как ни смешно, но это чувство, поверьте, стало стержнем моей жизни. И, оглядываясь, в нем я вижу истоки моей непонятной тоски, моей вечной погони за чем-то безвестным, моей лихорадочной тревоги и той тягостной завороженности, с какой слежу я за неизменным из века в век обновлением мира.
И еще об одном я должен сказать, хоть сам и не прошел через это. О том, что такое обидеть ребенка. Бойтесь этого, как смертного греха. Если вы накричали на ребенка и он впервые в жизни заплакал от ваших слов, знайте, что вы заронили ему в душу первые зерна злобы, уныния, зависти, мстительности, лицемерия… Знайте, что эти слезы, душераздирающие всхлипы и горестные вопли уже замутили чистую радость бытия — и рвется, все неощутимей и безнадежней, тайная душевная связь с теми, кто дал нам жизнь и вверил свои надежды.
ОТЪЕЗД В КОЛЛЕДЖ
Когда приходило время тусклых осенних сумерек и виноградники начинали желтеть, я впадал в тоску, потому что знал: скоро ехать в колледж. Впервые меня отвезли туда — из Моновара в Еклу — восьмилетним. Ездили мы в повозке, огибая холмы и лощины; в дорогу нам давали по кукурузной лепешке с котлетой и жареную колбасу.
Близился горестный день, и в доме начинались сборы — гладили простыни, наволочки, полотенца, салфетки… Накануне с чердака стаскивали баул из свиной кожи на подкладке, и мать с величайшей аккуратностью укладывала туда мои пожитки. Особо упомяну о серебряном столовом приборе, который служил мне все восемь лет и порядком поистерся; он и сейчас иногда попадается мне в буфете и всякий раз мил моему сердцу.
От Моновара до Еклы не то шесть, не то восемь часов езды; отправлялись мы, едва рассветало, а приезжали на место, когда начинало смеркаться. Повозку сильно трясло на выбоинах; изредка мы останавливались перекусить под оливами. А когда добирались до перевала и большая часть пути оставалась позади, где-то внизу, на самом краю темнеющей равнины, уже можно было различить городок — россыпь белых пятнышек и блистающий купол Новой церкви.
Тогда-то и настигала меня такая невыносимая тоска, будто меня из райского сада волокли в пещерную могильную тьму. Однажды я даже пытался убежать. Наш старый кучер частенько вспоминает об этом и всякий раз хохочет. Я выпрыгнул из повозки и бросился бежать, не разбирая дороги. Он изловил меня и повел назад, приговаривая: «Да не поедем мы в эту Еклу, Антоньито, и не думай!»
И все-таки поехали. Повозка покатилась, и ничего нельзя было сделать: снова я очутился в этом жутком городе, и все пошло своим чередом — снова я брел в веренице учеников по нескончаемым галереям, снова отрешенно высиживал долгие часы в классе.
КОЛЛЕДЖ
С незапамятных времен в Екле стоял францисканский монастырь; к нему примыкали три пристройки, так что получалось одно большое здание — прямоугольник с внутренним двором. По всему неоштукатуренному фасаду грубого красного кирпича лепились балкончики. Был внутри нашего колледжа еще один заброшенный дворик, откуда сквозь желтоватые пластинки оконной слюды свет проникал в помещения под галереями. Какое-то безотчетное любопытство влекло меня туда — во дворик, поросший травой и дикими цветами, к обломанной закраине колодца, облицованного шершавыми черно-белыми плитами.
Галерея шла вдоль всего здания. Спальни занимали верхний этаж — беленые стены, шеренги белых постелей. В каждой спальне — их было две или три на этаже — помещался огромный умывальник с дюжиной кранов. Из окон был виден сквер, разбитый перед колледжем, а вдалеке, за домами, в синеву врезалась голая Замковая гора.
На первом этаже — классы, часовня, кабинет физики и естественной истории и два или три громадных пустых зала с дощатым полом. Как же оглушительно он скрипит при каждом шаге, особенно ночью, когда никого нет и только кенкет тускло светится вдали…
Внизу занимались и младшие, и старшие. Все сказанное, однако, относится только к правому крылу, в левом располагались кельи и разные службы. Границу, разделявшую колледж и монастырь, мы переступали не часто. И всякий раз, когда добирался я шаткими лесенками туда, где гулял ветер по ветхому парадному залу, устланному обломками оконных рам и лепнины, сердце мое замирало, как замирало оно в гулком сумрачном коридоре, где под окном во влажном круге стоял кувшин (вода, наверно, просачивалась), или в духоте чердака среди плетеных корзин с ворохами покоробившихся от жара накаленной крыши пергаментов…
Церковь примыкала к колледжу и сообщалась с ним: одна дверца вела на хоры, другая в притвор. Обычно мы молились в часовне, в своем крыле, но изредка нас водили в церковь на проповедь — тогда мы сидели на хорах, а на Страстную приходилось стоять насмерть, да еще почти у самого алтаря; праздничный канон бесконечен, и час за часом мы переминались с ноги на ногу, стараясь позабыть об усталости.
Окна трапезной выходили в сад, куда нас не пускали. Не часто я нарушал запрет, но все восемь лет этот сад был мне единственной отрадой… Сияющая зелень куртин, виноградная беседка, белокаменная чаша фонтана.
ЖИТЬЕ В КОЛЛЕДЖЕ
Поднимались мы еще затемно, в пять; кровать моя стояла у стены, за которой спал отец-наставник, и всякий раз поутру меня будил его лающий кашель. Вскоре открывалась дверь, полоса света рассекала полумрак, и отец-наставник громко хлопал в ладоши. Мы ненавидели эти хлопки, но вставали немедля (опоздавший лишался чашки шоколада) и, схватив полотенца, бежали к умывальнику. Подставишь теплое заспанное лицо под ледяную струю — и накатит волна щемящего блаженства.
Окно, что выходило на площадь, в этот час бывало открыто: стекла индевели, густой сумрак окутывал сквер и площадь. Вдруг издалека долетал слабый звяк колокольчика, и свет фонаря прорезал темноту. И я, терзаемый печалью, так и впивался взглядом в дилижанс, въезжавший в рассветный город.
Приведя себя в порядок, надо было идти в один из пустых залов для общей молитвы на коленях, затем в часовню — к утренней мессе. Это ежедневное таинство, творимое на заре, должно быть, и пробудило во мне так и неутоленную жажду, заворожило тайной и обратило к вечным вопросам бытия… Вот я стою в темной часовне — из утра в утро, все восемь лет. В глубине чадят свечи — пламя подрагивает, словно бы силясь знаками сказать о затаенной боли; голос, читающий молитву, негромок и внятен; свет зари за окном все мертвенней, все резче.
После мессы — приготовление уроков; через полчаса, по звону колокола спускаемся вниз поесть.
После завтрака возвращаемся к прерванным трудам и, наскоро повторив задание, идем в класс. Три урока подряд — без перемен, по часу каждый. И снова ненавистная комната для занятий. Еще полчаса зубрежки — и вновь по звону колокола парами спускаемся вниз. Обед проходит в молчании под чтение Жюля Верна или «Дон Кихота» (обязанности чтеца мы исполняем по очереди). Затем дозволяется идти во двор и целый час ничего не делать. А после снова эта жуткая комната для занятий — еще полтора часа корпеть над книгой, пока не ударит колокол, а как ударит — в класс. Еще два урока, затем еда, час свободного времени во дворе — и опять вперяться в книгу.
Занятия и на этот раз длились полтора часа, но, казалось, время застыло. Тяжеленной плитой давила на наши младенческие мозги сама вечность — мутный свет замасленного кенкета, обшарпанные стены, сырой холод… Руки уже не держат голову, глаза, уставленные в книгу, не разбирают строчек, а в мозгу все тарахтит бессмысленный набор фраз…
Снова бьет колокол — уже в потемках спускаемся вниз. И продрогши еще и в трапезной, за длинными столами, покрытыми мраморными плитами, наскоро поужинав, поднимаемся на второй этаж. Там, в зале, вновь сообща молимся, преклонив колени, и расходимся по спальням.
ДОЛИНА
И все-таки именно этой безобразной комнате, где мы занимались, я обязан пробуждением души… Располагалась классная комната в самой дальней пристройке, на верхнем этаже, и окна ее выходили прямо на екланскую долину — маленькую, тихую, зеленую. Душистым, свежим ковром она расстилалась до пологих розоватых холмов на горизонте: среди зеленей чернели овощные грядки; огибая межи, вились канавки, по которым, журча, бежала обильная чистая вода; там и сям веселым сочным мазком картину оживляли деревья — то раскидистый старый орех, то миндаль с причудливо перекрученным стволом. По левую сторону густо темнели тополя, справа прямой белой линией тянулась к холмам и пропадала вдалеке дорога.
А прямо напротив окон, там, в долине, за легкой деревянной оградой, среди цветов и деревьев стоял белый домик. Восемь лет, изо дня в день, со своей парты, оперев голову на руку, я глядел на эти беленые стены, впитывая их чистоту, зеленую свежесть сада и тайну этого безмолвного домика, схоронившегося за ветвями. И это неотрывное гляденье как противоядие спасало меня в моих детских бедах; это оно пробудило во мне любовь к Природе, к деревьям, возделанным полям, далеким горам, к воде — и той, что играет в ручье, и той, что ворочает жернова.
ОТЕЦ КАРЛОС
Первым, кого я увидел в колледже, был отец Карлос Ласальде, ученый археолог. Добрая и нежная память о нем до сих пор живет в моем сердце. Он был стар и сух. Точеный профиль, умный проникновенный взгляд, неслышный шаг, и в каждом жесте — сдержанность и удивительная чуткость. И была в его глазах и голосе — я заметил это сразу — какая-то тень то ли грусти, то ли горечи, от которой смущенно притихали бедовые озорники. Не зря, наверное, судьба свела меня в самом начале жизни с этим замкнутым, тихим, отрешенным человеком…
Тогда, увидев меня в вестибюле, отец Карлос Ласальде взял меня за руку, привлек к себе, погладил по голове; не помню, что такое он говорил мне, но и сейчас вижу его склоненную голову, его улыбку, его светлые, печальные глаза. Встречая отца Ласальде, всякий раз с затаенным благоговением я провожал его взглядом: вот он неслышно проходит по галерее в сандалиях на веревочной подошве, всегда молча, не отрывая глаз от книги.
Недолго пробыл отец Ласальде в колледже. А когда уехал, суровые, прямоплечие египетские статуи, которые он раскопал на Холме Святых, затосковали. Ведь страждущая его душа обретала себе приют в тех давних, баснословных временах, а эти печальные каменные люди — жрецы и боги — были ему изначальными братьями и в неверии и в надежде.
УРОК
— Проклятье! — бормочу я. — Так и не выучил, а готовиться уже некогда.
И, спохватившись, вытаскиваю из парты злосчастные «Таблицы натуральных логарифмов». Меня до крайности возмущает эпитет «натуральные». Раз они натуральные, значит есть и другие — противоестественные? Зачем же утаивать от меня их горестное существование? Однако раскрываю книжонку и вперяю взор в натуральные, но не тут-то было — шеренги цифирей наводят такой ужас, что книжка сама собой захлопывается. Да и скажите на милость, мыслимо ли уразуметь ну хотя бы это: «Сумма двух сторон треугольника так относится к их разности, как тангенс полусуммы противолежащих углов относится к тангенсу их же полуразности»? И с какой стати в этих таблицах одни страницы белые, а другие зеленые? Что за дичь! А раз так, достаю потихоньку тетрадку, где наклеены газетные вырезки, одна удивительней другой:
«Смерть слона»
В цирке Барнума трагически погиб слон-гигант по имени Юмбо…
«Без паровоза»
В Кливленде (штат Огайо) открыта первая в мире электрическая железная дорога…
«Велосипедисты в Персии»
На улицах Тебриза появились велосипедисты — их двухколесные машины с огромными передними колесами…
Но стоит мне углубиться в это восхитительное чтение, как звенит колокольчик: динь-дон, динь-дон…
— Проклятье! — снова бормочу я. — Так и не выучил, а время вышло!
И на этот раз твердо решив подготовиться хотя бы к одному уроку, раскрываю учебник, из которого узнаю, что «соединения кремния с металлами называются силицидами, а соли кремниевой кислоты — силикатами». А природные силикаты, оказывается, «относятся к классу поликремниевых соединений». Так и вижу этот класс, а за партами — одни природные силикаты. Зубрю слово в слово. Однако усердие мое недолговечно — как-то вдруг накатывает усталость, голова сама собой поворачивается к окну и клонится на руку, а глаза устремляются к тому домику, что прячется за ветвями.
Тут-то и звенит последний звонок, и ужас леденит мне душу. Идем в класс.
— Начнем с вас, Асорин, — говорит учитель.
Я выхожу к доске и провозглашаю:
— Известны две разновидности кремнезема — кварц и агат. Кварц бывает как прозрачный, так и дымчатый…
Сказать мне больше нечего, и я, трижды повторив, что кварц бывает «как прозрачный, так и дымчатый» (с чем учитель полностью согласен, ибо так оно и есть), умолкаю. В воздухе повисает накаленное, предгрозовое молчание — секунды кажутся десятилетиями.
И, наконец, раздается вопрос:
— Вам больше нечего сказать?
Я с самым дурацким видом смотрю на учителя и слышу жестокий приговор:
— В таком случае, Асорин, вы останетесь без полдника.
А это значит, что сегодня в столовой мне придется скрепя сердце отнести на учительский стол свою порцию: два яблока или апельсин.
ЛУНА
Всякий раз проходя по огромному залу с дощатым полом, где так гулко отдавались шаги, я поднимал голову и не отрываясь смотрел в окно. Там, на другой стороне двора, над башенкой, кружились, не зная устали, маленькие, легкие лопасти ветромера.
Они то чуть подрагивали, тихонько и нежно, то бились отчаянно, безудержно, до головокруженья. И всякий раз я глаз не мог оторвать от этих крохотных, обезумевших лопаточек, неостановимо кружащихся то медленней, то быстрей. Чем-то завораживало меня это вечное вращение, безучастное к суетному городу, где люди творят столько зла…
В упомянутой башенке помещалась обсерватория. Ясными, звездными ночами жестяной купол, выкрашенный черной краской, раздвигался, и в щель просовывалась зловещая таинственная труба. Мы знали, что она зовется телескопом, но никак не могли уразуметь, зачем ученый монах еженощно глядит в трубу, когда бы и одной ночи хватило обследовать небеса со всеми их окрестностями… Но однажды мне самому довелось посмотреть в телескоп. Весенняя ночь была тихой и ясной, бледно светились звезды; на чистом небе безмолвно круглилась луна. На нее мы и направили таинственную трубу, и я увидел разлитое повсюду мягкое сияние, на котором темнели точки — кратеры потухших вулканов, и выделялись белые пятна — заледенелые моря.
Той тихой ночью, вознесенной над спящим городом и нашим садом, душу мою пронзило неведомое дотоле чувство — глубокий и безотчетный порыв вдохновения.
ЕКЛА
«Екла, — заметил один писатель, — кошмарный городишко». Свидетельствую, что так оно и есть — ведь Екла вылепила мою душу. Эти пустынные улицы, эти замызганные стены, эти нескладные вымершие особняки. Часть города расположена на голом каменистом склоне, а нижний квартал спускается в зеленую лощину, от которой бескрайнее серое пятно — кое-где вспаханная пустошь с редкими серыми оливами — кажется еще бесприютнее.
В Екле почти дюжина церквей, и колокольный звон не затихает; не часто встретишь на улице прохожего — крестьянина в суконном плаще или старуху в черной мантилье, а, случается, и печального человека с колокольчиком, который обходит город, оповещая о смерти кого-либо из сограждан.
И вся эта тоска, въевшаяся в плоть и кровь города, выплескивается на Страстную неделю. По городу ходят процессии кающихся в черных, лиловых и желтых балахонах, с надвинутыми капюшонами, по улицам носят помосты со скорбящими мадоннами и Христами, истекающими кровью; повсюду хрипло рыдают горны, звонят колокола, а в церковном полумраке, у алтаря, где над каменными плитами меж четырех свечей раскинул руки распятый, стеная, толпятся богомольцы, припадая к его пригвожденным ступням.
Веками этот злосчастный город, где голодно и промозгло, а зимы суровы, сочился печалью, пока не легла она на душу тяжелым осадком — привычной глухой болью, безропотной покорностью и унылым равнодушием к жарким жизненным битвам.
ТАИНСТВЕННЫЙ ГОРОД ЭЛО
И я все думаю, что же сделало наш город таким непохожим на другие? Откуда этот горький осадок тоски и покорности? Отчего всякий час колокола зовут к обедне, отпеванию, поминанью, заутрене или вечерне — не зря коммивояжеры именуют Еклу «городом колоколов». Почему так нелюдимы бурые лица крестьян; что за темные предчувствия гнетут старух, охающих за каждой дверью…
И мне вдруг отчетливо представляется, что в жилах этих крестьян и старух течет азиатская кровь… Вблизи города, чуть к северу виднеется островерхая синеватая гора — Араби́, за ней расстилается бескрайняя серая пустошь. И на этой самой пустоши, у подножья горы, стоял когда-то таинственный город Эло, а на холме высился храм, обитель жриц и иерофантов. Археологи вели здесь раскопки, но так толком и неизвестно, какие племена и народы в восьмом, девятом или пятнадцатом столетии до рождества Христова вливались сюда и растворялись в этом горделивом загадочном городе. Быть может, те созерцатели и сновидцы пришли с берегов Инда или Ганга, а сменили их, наверное, финикияне — те, кто изваял статуи, раскопанные на холме.
Часами я простаивал перед ними в пустых и холодных музейных залах. И всякий раз вглядываясь в скорбно очерченные рты этих женщин, в миндалины глаз, в складки покрывала, в изгибы рук, протягивающих богам дар — сосуд с мирром, я узнавал в них горемык-екланок, в чьих жилах и сейчас — спустя века — теплится древняя кровь созерцателей и сновидцев.
ПРОБА ПЕРА
Воспоминания мои о том, как я впервые произнес речь, смутны, но прояснять их не хочется. Пусть эта сумятица чувств останется, как есть, вдалеке и в тумане.
Я сочинил небольшую речь, потом переписал ее в тетрадку, причем старался изо всех сил и выводил каждую буковку, как все дети в порыве усердия — сжав губы и низко наклонясь над листом.
И вот при первом удобном случае (каком именно, не помню) я и произнес эту самую речь, стоя со своей тетрадкой перед внемлющим народом. Было это в трапезной — народ сидел за длинными столами с мраморными крышками, а за окнами тянулись заброшенные виноградники и виднелась невдалеке раскидистая темнолистая смоковница. Теперь уж и не вспомнить, сколько ни старайся, о чем я рассуждал, зато когда кончил, добрый монах-наставник, сидевший во главе стола, нарушил всеобщее молчание и, как это ни странно (впрочем, это совсем не странно, а напротив — совершенно естественно), похвалил меня и ласково погладил по голове… Уж это я помню во всех подробностях.
Может статься, этот славный человек угадал мое призвание, кто знает. Может, представилось ему, что когда-нибудь я произнесу обличительную речь в конгрессе или буду вещать с кафедры… Но напрасны оказались его надежды. И теперь, проходя мимо палаты депутатов, я всякий раз печально качаю головой. До чего же несуразно сложилась моя жизнь: произнести первую речь в восемь лет, а депутатом так и не стать.
МОИ БИБЛИОФИЛЬСКИЕ ПОРЫВЫ
Стоит учителю (а человек он злой и держит нас в узде) выйти из класса, как наступает краткая и сладостная передышка. Куда девается наша принужденная скованность, благовоспитанность, чинность — почуяв волю, мы скачем как сумасшедшие; глаза горят. Стихия жизни сметает летаргический сон и царит в залитом солнцем классе все время, пока учитель отсутствует; мы швыряемся тетрадками, влазим на парты, носимся сломя голову, упиваясь беззаконием содеянного.
И только я не ношусь, не кричу, не хлопаю партой, потому что у меня своя — и немалая — забота. Я утыкаюсь в книжечку, с которой никогда не расстаюсь. Не помню уже, ни от кого она мне досталась, ни когда впервые я раскрыл ее, помню одно; книжка эта сильно притягивала меня, а говорилось в ней о ведьмах, о колдовстве, о черной и белой магии. Маленькая такая книжка в желтой обложке. Да, именно в желтой… Я и сейчас помню этот потрепанный переплет.
И вот я раскрываю книгу, начинаю читать, а вокруг все орут, визжат, ходят на голове; никогда больше я не ощущал такого глубокого, такого полного счастья, как в эти минуты… Но моему упоению приходит конец: кто-то вырывает у меня из рук книгу, и только тут я замечаю, что шум стих, а учитель вернулся и завладел моим сокровищем.
Сколько бы ни искал, я все равно не найду слов для того безысходного горя и не сумею рассказать, как глубоко и жестоко — на всю жизнь — ранит детскую душу внезапное крушение счастья. С тех пор я многое пережил и много прочел, но не забуду, как рвалась моя душа к той книге и как горька была утрата.
ОТЕЦ ПЕНЬЯ
— Асорин, можете ответить?
Не знаю, что и сказать, а ответить, естественно, не могу.
В других классах урок уже минут десять как начался, а отец Пенья еще только входит к нам в класс и никак не может отдышаться после пробежки по длинному коридору. Одет он в сутану, пелерина болтается на сутулых плечах, в руке зажата газета.
Отец Пенья входит, закрывает дверь, садится.
— Асорин, вы готовы?
Не знаю, что и сказать, конечно же, я не готов. Отец Пенья вызывает меня в третий раз. Я молчу. Но в конце концов открываю измызганную, истертую по краям книжицу и начинаю читать:
Le lit de fiancée[47].По моим предположениям, речь здесь идет о «брачной кровати», что я и заявляю во всеуслышание. Класс тихо хихикает, но не надо мной, а над отцом Пеньей. И причиной тому густой слой краски, которой он мажет волосы, да так сильно, что черные струйки стекают ему на смуглый лоб и щеки. Грим этот смешон и скорбен. Изредка отец Пенья проводит рукой по лицу, размазывая темные потеки. И зачем только он ваксит волосы? Итак, класс хихикает, а отец Пенья тем временем разворачивает «Новый век» и углубляется в чтение.
Я перевожу:
Oú vas-tu de ce pas, jeune charpentier? Ne sens-tu pas, du poids de ce lourd madrier, Ton épaule affaissée?[48]Сейчас-то мне все понятно, а тогда это была тайна за семью печатями. И когда отец Пенья вызвал меня, я понятия не имел, о чем речь, и городил такую чепуху, что он отложил газету и потрясенно воззрился на меня:
— Побойся бога, дитя! — воскликнул отец Пенья, воздевая руки над напомаженной головой.
Вопль этот, однако, ничуть меня не смутил — все мы знали, что в глубине души отец Пенья ничего кроме чуши от нас и не ждет. А потому он снова погрузился в свой «Новый век», а я продолжал переводить:
…Repose. — Je ne peux; laisse moi, mon ami; Il me faut au plus tôt faire de ces bois-ci Un lit de fiancée[49].Но стоило мне сморозить какую-нибудь чушь, как отец Пенья вновь воздевал руки, восклицая:
— Побойся бога, дитя!
Что, впрочем, не мешало нам обоим тут же возвращаться к прерванным трудам: он утыкался в газету, я переводил.
Когда же раздавался звонок, отец Пенья вскакивал со стула, рывком распахивал дверь и, превозмогая одышку, удалялся быстрой, скачущей походкой; пелерина его болталась по плечам, рука, по обыкновению, сжимала газету.
ОТЕЦ МИРАНДА
Отец Миранда вел у нас всеобщую историю, но, если ему предстояло читать проповедь, урока не было. Он оставлял нас в классе, а сам ходил по коридору и, громко откашливаясь по временам, вполголоса репетировал речь.
Отец Миранда был добродушен, невысок и очень грузен. Когда он, развалясь на стуле, излагал нам деяния героев, которыми история битком набита, случалось, и частенько, что голова отца Миранды клонилась к плечу, а голос становился все глуше — он засыпал, к нашей великой радости! И мы, позабыв об образцах героизма, болтали в свое удовольствие, да чуть ли не в полный голос, и в конце концов будили отца Миранду. С трудом разлепляя глаза, он продолжал изложение исторических деяний.
Года два отец Миранда был ректором колледжа, что нанесло сокрушительный удар нашей голубятне. Помню, как голубиная стая кружилась за окном классной комнаты и день ото дня редела, редела…
— Отец Миранда их ест, — посмеиваясь, сказали нам на кухне.
Свирепость этого добряка так впечатлила нас, как никогда не впечатляли подвиги Цезаря или Ганнибала — восхищение наше было безмерно.
А потом отец Миранда перестал быть ректором и сменил свою просторную — ректорскую — келью на другую, поскромнее. Опустошение голубятни прекратилось. И вот ведь какая странность — теперь, когда свирепость его уже не могла проявиться, мы стали слегка презирать отца Миранду: что взять с этого жалкого человека, смирившегося с несчастьем?
Спустя несколько лет, уже учась в университете, в день всех святых я оказался в Екле. Вечером зашел на кладбище и, бродя среди могил, заметил вдруг эпитафию: «Hic jacet Franciscus Miranda, sacerdos Scholarum Piarum…»[50]
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ СВЯЩЕННО И НЕНАРУШИМО
Почти у всех учеников в колледже были «сундучки». Что же я хранил у себя в сундучке? Должно быть, альбом для переводных картинок, красный карандаш, карманное зеркальце и пластину айвового мармелада, от которой отщипывал понемногу, пока всю не съел, а еще книжицу в желтой обложке, которую жадно читал тайком… Сундучками мы называли деревянные коробки с ручкой на крышке. И как выдавалась свободная минутка, а гулять нельзя было из-за дождя, мы вытаскивали из парт свои сундучки. Помню, как обдавало меня, когда открывалась крышка, запахом айвового мармелада — так же пахло у нас дома, в кладовой. И я принимался упоенно перебирать свои сокровища: карандаш, зеркальце, переводные картинки; красную и зеленую я потом налепил на учебник.
То были блаженные минуты, но однажды пришел им конец: кому-то из наставников, не вспомню кому именно, сундучки опротивели — у нас их отобрали. Тот день, когда нас принудили собственноручно сложить к ногам тирана наши коробки, был одним из самых горестных дней моей жизни. И до сих пор я помню это надругательство над священным и нерушимым правом собственности и преисполняюсь негодования.
КАНОВАС ВЕРНУЛСЯ БЕЗ ЖИЛЕТА!
Невдалеке от колледжа жила женщина — столь будораживший нас сосуд греха. За двором, где мы гуляли, стоял ее маленький, беленый и уже сильно облупленный домик. Внизу никто не жил, а наверх вела пологая узкая лестничка. Там, под самой крышей, распахивалось окошко, с которого мы не сводили глаз, и появлялась она.
— Что-то она сейчас поделывает? — раздумывали мы.
А она, заслышав наши голоса, как видение возникала в окне, притягивая жадные взоры.
Нас влекло к упомянутому сосуду греха. Мы смутно знали, что где-то в городе есть тайное заведение, но эта греховодница жила одна у большой дороги, совсем близко от нас, что само по себе было волнующе и прекрасно.
И влекло нас к ней так сильно, что в итоге мы грехопали. Не именно я — речь не о младших (я был только второй год в колледже). Пал один из старших по фамилии Кановас — да будет ведомо грядущим поколениям славное это имя.
Итак, он звался Кановас. Что же свершил Кановас? А вот что — он отважился. Случилось это вечером — нас вывели на прогулку, а дежурный воспитатель где-то замешкался. Кановас перемахнул через стену. Меня тогда во дворе не было, но зато я видел, как он возвращался — взволнованный, бледный и без жилета.
Почему без жилета? Это любопытная и даже трогательная подробность: мне потом под секретом рассказали, что Кановас отправился к той женщине без гроша в кармане, и пришлось откупаться привычной и в общем-то ненужной деталью туалета.
И с того дня все мы, и младшие и старшие, благоговели перед героем.
ОТЕЦ ХОАКИН
Вспомнишь отца Хоакина (он тоже давно умер), и сразу на ум приходят лисьи чучела, что стояли у него в келье. Ежедневно отец Хоакин читал «Невзирая на лица». Так я впервые в жизни увидел газету и уже за одно это безмерно чтил отца Хоакина.
— Как же так, — удивлялся я, — священник — и вдруг читает крамольный листок?
Этот дерзостный поступок поразил меня до глубины души — мое восхищение не знало границ.
В келье у отца Хоакина всегда было три-четыре бутылки вина, а в шкафчике стояла ликерница — керамическая бутыль с ушками, за которые цеплялись шесть синих рюмочек. На столе он держал большую коробку с удивительно душистым табаком. Келья отца Хоакина с двумя окнами во всю стену помещалась наверху, в самом конце коридора, за спальнями. И зимой, когда в солнечный день ее заливали свет и тепло, канарейки в клетках радостно запевали…
«Ох и форсанёт же в Мадриде наш Асорин!..» — и отец Хоакин довольно чувствительно хлопает меня по плечу. Всякий раз, когда я вспоминаю о нем, в ушах у меня звучит эта веселая фраза: «Ох и форсанёт же в Мадриде наш Асорин!..» Это жаргонное мадридское словечко из модной в те времена сарсуэлы было тогда в большом ходу. Не знаю толком, что оно значит, не говоря уж о том, что вряд ли мне удалось «форсануть», когда я столь бедственно начинал свою литературную карьеру в столице, но знаю одно: в словах этих была и доброта и лукавство…
А сколько разговоров было в классе об отце Хоакине — пресловутых лисиц мы обсуждали чуть не целый месяц. Отец Хоакин вел в колледже всю бухгалтерию и, когда ему нужно было сверить отчет, оставлял нас без присмотра: мы шумели, играли в мяч, иногда тайком покуривали.
Однако за все передышки приходилось расплачиваться оптом, и в конце года мы слово в слово вызубривали все пятнадцать, а то и двадцать ботанических и зоологических классификаций. Пытки равной этой я не знаю, но все равно не держу зла на отца Хоакина, помня его доброту и лукавое пророчество: «Ох и форсанёт же в Мадриде наш Асорин!..»
ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА
— Сеньор Асорин, вы полагаете, что именно так следует сидеть в классе?
Ничего я не полагаю, однако спускаю ногу на пол и замираю, уставясь на воспитателя.
Он же сообщает мне, как именно должен ученик сидеть и стоять. Об этом я до какой-то степени осведомлен, потому что в парте у меня есть книжка под названием «Правила хорошего тона», не то пятая, не то шестая. Терял я их, что ли? Сейчас и не вспомнить.
И все-таки некоторые правила врезались мне в память. Потом среди старых бумаг я нашел эту книжку и даже полистал.
За вопросом: «При каких обстоятельствах дозволяется складывать руки?» следует ответ: «Складывать руки дозволяется при отправлении религиозных обрядов, совершаемых в церкви или в другом месте, а также по особому указанию учителя, выполняя задания по литературе».
Должен признаться, что мне ни разу в жизни не удалось «сложа руки» выполнить задание по литературе. Какие это такие задания? И чем их предполагается выполнять? — раздумывал я… С тех пор много воды утекло, я сделал немало «заданий по литературе», однако приведенное в книге наставление не пошло мне впрок.
Пренебрегал я и другим предписанием — не совать руки в карманы, а это едва ли не самое чудовищное преступление против правил хорошего тона. «Держать руки в карманах брюк, особенно сидя, по меньшей мере недостойно». Однако следующая фраза смягчала приговор: «Держать же руки в карманах пальто не возбраняется…»
Я храню эту книжку в память о детстве.
ДУБИЛЬНЯ
Невдалеке от колледжа, чуть в стороне, была дубильня… Могут ли не манить они, эти старые испанские дубильни, где выделывают оканьские, валенсийские, саламанкские кожи? Ставят дубильни всегда на берегу, и рядом непременно оказывается лачужка — обиталище Селестины.
Меня необычайно занимали все деревенские ремесла; я пробирался и в кузню, и в шорную мастерскую; смотрел, как валяльщик управляется с шерстобитнем, а ткач, сильным ударом опуская педаль старинного станка, меняет нити. А еще помню, что за дубильней, которая привораживала меня, начиналась улочка, именуемая «фабричной». Почему фабричной? А потому что была на этой заброшенной темной улочке мыловарня, за ней — маслобойня, а поодаль на больших закопченных жаровнях стояли медные перегонные кубы…
Улочка была маленькая, домики низкие, почти вдавленные в землю; никто там не жил, и только по корзинам с оливковыми косточками, которые выставляли на солнце на просушку, можно было догадаться, что маслобойня работает; прямо на улицу ручейками стекала темная жидкость из отжатых олив, и редко-редко выходили люди в замасленных передниках.
А в дубильне всегда стоял гомон — перекрикивались кожемяки; ветер сбивал в кучи к порогу щетину и шерсть, а чуть поодаль из низенькой трубы над неказистой мыловарней тянулся дымок, и умиротворенно клокотали на жаровнях перегонные кубы.
ЗАСУХА
В гуще воспоминаний, в том осадке, что годами копится в душе, есть редкие и разрозненные крупицы, осколки мгновения — мимолетного, но для нас навсегда живого и поразительно яркого.
Передо мной широкая длинная улица — я узнаю Еклу. Не то уже рассвело, не то скоро начнет смеркаться, и солнце, высвечивая стены, кладет на них широкие косые тени. На дне ручья густой слой пыли, взметаемой жгучим ветром. Сквозь эти едкие клубы и продирается процессия: мелькают черные сутаны, шитые золотом облаченья, красные платья служек, а высоко над ними отливающий серебром крест, за которым длинной вереницей бредут крестьяне; в мерных рыданиях псалма слышна отчаянная мольба…
И все. Но этого довольно — передо мною живо встают те жгучие недели — засуха: жухнут поля, засыхают деревья, роняя скукоженную листву; пыль стоит над дорогой; старухи в черном, стеная, воздевают руки, а в сумраке комнат, терзая крестьян, прикованных к дому, витает глухая злоба, обрушиваясь по временам, как буря, на детей и потухая в их плаче.
ДЯДЯ АНТОНИО
Добряк и скептик дядя Антонио постоянно носил длинную, тонкой работы золотую цепь, дважды обернутую вокруг шеи; еще он любил надевать шапочку, сшитую на старинный манер — с двумя тесемками сзади, и лишь изредка появлялся в широкополом котелке с низкой тульей. Ежеутренне выходя за покупками, он облачался в поношенное пальто с пелериной и брал маленькую плетеную корзинку, утопавшую в складках его одеянья.
Дядя был человек чувствительный; когда за стеной звучал рояль, он усаживался в качалку и под мерное колыхание кресла тихонько мурлыкал себе под нос итальянскую арию… Помню его круглую, оплывшую голову, щетку усов, скрывавшую верхнюю губу, и пухлый двойной подбородок, подпертый воротничком наглухо застегнутой рубашки… Не знаю, учился ли дядя Антонио когда-нибудь в университете; мне кажется, начинал, а вот кончить не сумел. Однако был он от природы сообразителен, что поважнее диплома, и обладал практической сметкой, не говоря уже о цитадели его доброты, столь могущественной, что всякий раз, как я вспоминаю дядю, меня обдает волной умиления.
Состояние дяди было невелико, что, впрочем, нимало его не угнетало. Владел он пахотной землей и небольшим виноградником, в который вкладывал всю душу. Всякий день он возился с лозами — нагибался и выбирал камешки, борясь с одышкой.
Я сказал «всякий день», а это неправда — бывало, он и не появлялся на винограднике, потому что пристрастился не то к картам, не то к домино, не то к какой-то другой вполне невинной игре и пропадал в казино до поздней ночи.
Почему-то я уверен, что дядя Антонио бывал в Мадриде; не знаю когда и зачем, подолгу или проездом. Помню, как зачарованно я слушал, взобравшись к нему на колени, рассказы о столичной жизни, разбередившие мое детское воображение. В дядиной гостиной, в углу возле шкафа, на кольце качалось чучело попугая; по стенам вместо картин висели вышитые крестиком собачки, на консоли стояли коробочки из ракушек. И когда дядя прерывал свой рассказ, заслушавшись мелодией из «Севильского цирюльника», мне мерещился волшебный город, то есть Мадрид — огни, театры, парки и множество экипажей, с грохотом несущихся мимо.
ТЕТЯ БАРБАРА
Что же до тети Барбары, то скажу сразу, что зову ее тетей не потому, что она мне кровная родственница; кем именно она мне доводится, я просто не знаю. Троюродной, кажется, теткой по отцовской линии. Махонькая такая, согбенная годами старушонка с желтым морщинистым личиком, всегда в черном платье, в черной мантилье. Хотел бы я знать, о чем они вздыхают все время, эти сухонькие старушки в черном… Тетя Барбара вечно теребила в руках четки, не пропускала ни одной мессы, ни одного поминанья. А когда, возвращаясь из церкви, навещала дядю Антонио и заставала меня у него, неизменно кидалась ко мне с причитаниями и поцелуями.
Но я погрешил бы против истины, если бы тетя Барбара заговорила на этих страницах: никогда не слыхал я от нее ни единого слова, а причитания вроде «Господи, боже ты мой!» не в счет. И все-таки мне кажется, что именно она рассказывала мне о том, как в 1808 году Еклу взяли французы.
Так вот и жила в своем крохотном домике эта маленькая, согбенная годами старушонка, всякий день поспешая в церковь, благо в Екле уж где-нибудь да служили мессу, а на обратном пути обходя — никого не пропуская — родственников. Усаживалась на краешек софы и, сочувственно кивая, выслушивала очередную горестную новость и, крестясь, причитала: «Господи, боже ты мой!»
ДЕДУШКА АСОРИН
Когда-то в начале девятнадцатого века в Екле побывал художник и запечатлел моего прадеда по отцовской линии. Имени этого художника я так и не разузнал, однако большой ценитель Эль Греко писатель Пио Бароха не раз останавливался как зачарованный перед этим странным холстом. Писан портрет просто и строго, колорит его сумрачен. Прадед мой изображен замкнутым, задумчивым человеком; длинные пепельные волосы зачесаны назад, лицо гладко выбрито, глаза невелики и прикрыты, словно бы ему предстало виденье (а так оно и было — вечно ему мерещилось что-то далекое и чудесное); рот у деда, пожалуй, великоват; нос нависает клювом.
Голова старика с портрета слегка наклонена, виден узел шейного платка, а над ним, по краям подбородка, два белых треугольника — концы крахмального воротничка; пониже платка еще один белый треугольник — манишка. Дед облачен в черный сюртук, поверх которого накинут плащ, тоже черный, со стоячим воротником. Из складок плаща на уровне груди высовывается желтоватая костистая старческая ручка, со спокойным достоинством указывающая на книжную полку справа — там пять или шесть зеленых и красных переплетов.
Странно — судьба свела их в нашем жалком городишке, и тот таинственный художник на века запечатлел провинциального старика-философа. А дед мой и вправду был философом: то далекое и чудное, что мерещилось ему, было благодатью божьей, видением господа во славе своей, всеведущего и всемогущего. Скажу проще — дед мой был теологом.
Не раз дядя Антонио говаривал мне, что дед дал бы сто очков вперед самому Бальмесу, в чем я не уверен, хотя спорить здесь не о чем, раз дедовы труды не изданы и никому не известны. Я храню его бумаги: есть среди них объемистая рукопись под названием «Философия Символа, или Мои рассуждения о религии и политике» и другие сочинения, касающиеся религиозных догматов и мистики.
Дед мой был так скромен, застенчив и непритязателен, что и не думал о публикации своих книг, и только исключительные обстоятельства вынудили его отдать в печать два своих сочинения. Одно — собрание молитв Святому Исидро Пахарю; это друзья и соседи (те самые старушки с четками, всегда в черном, и старики, что вечерами заходили погреться у очага) упросили его отдать молитвенник в типографию. Напечатать же вторую книжку он счел своим долгом.
Не знаю, как в точности развивались те драматические события, но суть в том, что в далекой Франции некто Талейран, позабывший о своем епископском сане, взял в привычку богохульствовать в своих речах, что до крайности огорчило сухонького старичка, обитавшего в испанском захолустье, а именно в Екле. То был мой прадед. Мыслил он глубоко и четко, писанье было для него делом привычным — и мог ли он, ревностный католик, оставить богохульство без отповеди? Никак не мог! «In communi causa, — полагал он, — omnes homo miles»[51]. И прадед мой написал замечательный по своей учености ответ Талейрану, отдал его алькойскому издателю и вскоре получил книжечку, отпечатанную жирным квадратным шрифтом на шершавой бумаге с неровными краями — не хуже, чем из знаменитой валенсийской печатни Кабрерисо. Я прочитал эту книжечку. Эпиграфом к ней поставлена та самая латинская фраза, которую я привел, а называется дедово сочинение «Ответ князю Талейрану по прочтении его послания Папе Римскому Пию Седьмому, будь оно написано». Я прочитал «Ответ». Конечно, сегодня эта пылкая отповедь звучит архаично, но все же есть в этом сочинении истинного философа, сухонького старичка с портрета, глубокие и трепетные слова о времени и вечности.
ТРАПЕЗА ДЯДИ АНТОНИО
Столовая в дядином доме была невелика; единственное окошко выходило во дворик, уставленный геранями и левкоями в жестянках из-под консервов и треснутых горшках. В углу, на шкафу, мерно тикал будильник; напротив, на буфете, высилась груда тарелок; стены покрывали яркие, цветные обои с приморскими пейзажами — синь, зелень, кармин…
Мы рассаживались, и для дяди наступала минута истинного душевного торжества — вносили рагу. Как я заметил, склонные к скептицизму добряки не чужды наслаждений: ранним утром дядя отправлялся на рынок и, тая от наслаждения, накупал всякой снеди; приценивался, торговался, иногда даже брал вырезку в руки, прикидывая вес. А за обедом, благоговейно пожирая тушеное мясо с бобами и румяные шарики молодой картошки, дядя испытывал прямо-таки чувственный восторг, сравнимый лишь с тем, в который его приводила музыка Россини. Как же он объедал мясо с костей, обсасывал их, выбивал из них мозг, колотя костью о край тарелки…
А в праздник (только по праздникам я и обедал у дяди, а не в колледже), когда на десерт подавали сбитые сливки, он просто млел от блаженства. То был миг высшего счастья, и да простит Россини это невольное отступничество, как я, страстный поклонник великого композитора, прощаю его дяде.
Отложу перо, закрою глаза и передо мной добродушный толстяк во дворике, в час послеобеденного отдыха: раскинувшись в кресле, он берется за кресало, и двойной подбородок его подрагивает в такт легким ударам.
ПОБУДНИКИ
Когда мне приходилось ночевать, обычно в канун праздника, у дяди Антонио, долгими зимними утрами меня еще затемно будило пеньем уличное шествие Братства Богоматери с Четками — «побудников», как звали их в обиходе. Не знаю, что за музыкант дал им эту рыдающую горькую мелодию, но был он, по слухам, слегка не в себе…
Они пели, а я, кутаясь в узловатые простыни сурового полотна, слушал. Спал я в большой комнате; над консолью висела огромная картина, на которой Христа обступали угрюмые изверги: кровать тоже была огромная, деревянная, выкрашенная желтым и зеленым. Еще помню, что в умывальном тазу никогда не было воды.
Поначалу издалека докатывался глухой, как шмелиное гудение, рокот, перебиваемый звоном колокольцев; приближаясь, голоса крепли, и вдруг у самого окна вскипал исступленный, рыдающий вопль:
Не оставь нас, матерь наша, скорбный взор не отводи!..И я впитывал дикую тоску этой нестерпимой мелодии, рожденной помешанным ясновидцем.
А песня уже удалялась, звучала все глуше и глуше, пока не затихала едва уловимым стоном.
И тут же раздавался перезвон в соседней кузне, где ковали решетки для субботней распродажи. И только потом в раскрытой оконной створке начинал брезжить тусклый утренний свет.
ПУГАЛО И СТАРУХА
Я устроился в прихожей у дяди Антонио; на белой стене сияют начищенные сковородки, ковши, кастрюльки. Я устроился в прихожей с книжкой и разглядываю кое-как оттиснутые аляповатые картинки: журавль, сующий нос в кувшин на глазах изумленной лисицы, замершая на ветке ворона с сыром и якобы зеленый виноград.
Я удобно устроился в большом кожаном кресле; за стеной, в кузне, раздается веселый перезвон, в кухне звякает посуда. Испольщик пришел сказать, что в Эрриде град побил виноградники, вина и сотни кувшинов не наберется, да и хлеб тоже пожгло засухой, а сам он извелся, да ничего не поделаешь… В прихожей повисает тишина; в кузне по-прежнему радостно гремят молоточки; крестьянин, глядя в пол, трет ладонью ощетиненный подбородок, потом встает и, обронив «Ну, воля божья!..», медленно идет прочь.
Снова тихо, но вот зазвякал колокольчик, и чужой голос прокричал: «Сегодня в четыре часа пополудни погребение дона Хуана Антонио!»
Когда колокольчик отдалился и стих, в приоткрытую дверь просунулось пожелтелое, морщинистое старушечье личико, а затем проскользнула и сама старушка, как водится, в черном, с корзиной, и завела монотонную, с подвывом молитву за помин душ усопших дома сего, а помянув всех, запричитала: «Люди добрые, подайте Христа ради, век буду бога молить!..» Никто не вышел, в прихожей снова повисла тишина. Нищенка завздыхала: «Ах ты, господи!..»
И тут в старых настенных часах что-то зашуршало, а потом дверца распахнулась, и откуда-то изнутри выскочило жутковатое махонькое пугало: «Ку-ку!»
Старуха постояла и запричитала снова: «Люди добрые, подайте Христа ради, век буду бога молить…» И опять никто не вышел, и нищенка завздыхала: «Ах ты, господи…» И снова, метя монотонное время, символ бездушной вечности, выскочило это кошмарное пугальце и заорало: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..»
ТЕТЯ АГЕДА
С тетей Агедой я познакомился всего за год до ее смерти, когда она вернулась на родину, в Еклу, чтобы окончить здесь свою жизнь, прожитую достойно и благородно… Редкостная проницательность и ясный ум сочетались в ней с врожденной добротой; Монтень заметил, что такие люди «обычно искренни, щедры душой и всегда берут верный тон». Помню ее в просторной, пустынной комнате старого екланского дома — тетя сидела в широком кожаном кресле, подперев голову мягкой белой рукой, и думала о чем-то. В тот год она была уже сильно больна, почти не ходила и целыми днями сидела в этой комнате, увешанной картинами на религиозные сюжеты и портретами предков; я слышал, как она потихоньку вздыхала, предчувствуя скорый конец.
Не часто я бывал у тети, только в отпускные дни. И когда я приходил к ней, когда подбегал к ее креслу, она легонько притягивала меня к себе и целовала в лоб. «Антоньито, — повторяла она со вздохом, — как бы я хотела, Антоньито, чтобы ты стал хорошим человеком». И этот вздох, и слова, в которых было столько скорбной нежности, наполняли мою душу печалью. Я стоял молча, в каком-то оцепенении, не знал, что сказать, и глупо озирался, как дети, когда они чувствуют рядом тень беды и не могут понять, какой.
ТАИТЕ СВОЮ БОЛЬ, ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ В ЖИЗНИ НИ СИЛЫ, НИ КРАСОТЫ
Кажется, я упоминал, что дядя Антонио страдал тем же недугом (каменной болезнью), что и другой скептик — прославленный и милый моему сердцу Монтень. Дядя умер, как умирают добрые и простые люди, сколько мог, он силился скрыть от родных свои муки. «Сколь низко это обыкновение, — говорила Святая Тереса, — жаловаться и стенать, еле ворочая языком, словно бы из последних сил; если силы и впрямь последние, соберите их, ради господа». Немногим дано побороть боль, и дядя Антонио был из таких редких людей. Перед смертью он сильно страдал — и говорил о своих болях так: «Насели шавки и давай грызть!» И по временам, когда нестерпимая боль скручивала его, он шептал, пытаясь улыбнуться: «Добрались-таки, шавки, добрались…»
Потом, уже перед самым концом, боли стихли — «разбежались», дяде полегчало, и он как-то просветленно, с легким сердцем сказал: «Билет в кармане, пора отправляться…» К вечеру он попрощался со всеми и отошел…
Если все же есть иной, лучший мир для тех, кто пронес по земле добрую улыбку, то дядя мой — там: засел, уже навеки, в послеобеденном кресле, взяв кресало, поправив золотую цепочку, и слушает Россини.
ЧЕРНЫЙ ЮМОР
Je partirai! Steamer balancant la mature Leve l’ancre pour une exotique nature. Stephane Mallarmé. «Brise marine»[52]В дорогу! Карета ждет — поедем? Куда? А бог весть… В том-то и прелесть дороги…
Всякий раз меня так и подмывало вскочить в отъезжающий дилижанс, а стоило увидеть готовый к отплытию корабль, как душа рвалась туда, на палубу, в неведомую даль.
Поедем? Куда? А бог весть. В том-то и прелесть дороги… Одна из самых ранних моих реликвий — игрушечный кораблик, найденный среди всякой всячины на чердаке. Много позже меня повезли в Аликанте, и я увидел гавань — сколько же огромных великолепных кораблей держала эта синяя твердь, и как они были похожи на мой крохотный кораблик с чердака.
И все же особую нежность будили во мне не эти громадины, а легкие бриги, шхуны, люгера и всевозможные баркасы, старые, сонные, с облупившейся белой краской, зеленой медью трапа и крохотным камбузом. Что делать им в море? Куда плыть? И посейчас стоит у меня перед глазами старый люгер, перевозивший прежде нефть в баках; вот уже два месяца он на приколе: плита давно потухла, зола не выгребена, а на капитанской постели нет даже матраса. Нас водил туда портовый морячок — смуглый, седой, с подстриженной бородкой и глубоко посаженными блестящими глазами. Мы с ним облазили всю эту заброшенную посудину, а когда добрались до рундука, где в ряд стояли бутылки из-под можжевеловки, я закричал: «Здесь водка!..» Старый моряк покосился, сверкнул на меня глазами и свысока — ни у кого из великих мастеров не встречал я потом такой царственной иронии — договорил за меня: «Была».
МЕНЧИРОН!
За домом — маленький садик, а сам дом большой: целая вереница просторных комнат, длинные коридоры, широкие лестницы с шарами-светильниками на каждой площадке, пристройки для кухонь, конюшни… Вот в каком доме живет Менчиро́н. Я написал это имя (а звучит оно как боевой клич: «Менчирон!») и подумал, что такое имя скорее пристало бы воину былых времен, рыцарю, герою Фландрской войны. Но ведь Менчирон и вправду рыцарь — состарившийся, измученный, сокрушенный воин, избравший наш глухой городок местом своего затворничества. Он так и стоит у меня перед глазами: рослый, грузный, вечно в тех же стоптанных башмаках с цветной отделкой; шляп он не носил, только береты, на улицу выходил, кутаясь в плед и волоча его за собой… Лохмотья, в которые он облачался, никак не вязались с его старинной родословной, и это несоответствие волновало мою детскую фантазию. Потом я узнал о горе, что омрачало его жизнь: была в его родовом доме комната, в которую никто не заходил — там стояла неприбранная кровать, на тумбочке валялись склянки с остатками микстур, а по стульям были раскиданы батистовые девичьи рубашки. Много лет никто не переступал порога комнаты — с тех самых пор, как на той постели умерла девушка, красивей которой не было в городе, дочь старого рыцаря. И он, горюя о дочери, не позволил притронуться к ее вещам, и все в спальне осталось, как в день кончины.
Менчирон! Вот он, передо мною, здесь, на екланских улицах, и я, в тоске и муке, глаз не могу отвесть от его стоптанных башмаков, пледа, волочащегося по камням, от берета, надвинутого на глаза. Спустя много лет я увидал на кладбище его могилу и прочел эпитафию. Надпись оповещала, что покойный — достойнейший и наиславнейший муж — имел такие-то и такие-то титулы и звания (следовал полный список). А я бы написал иначе:
«Здесь покоится дон Хоакин Менчирон, рожденный в 1590 году и умерший в 1650. Он храбро сражался во Фландрии, Италии и Франции, брал со Спинолой Остенде и был при сдаче Бреды. В старости, сокрушенный подагрой, он заперся в своем мадридском доме. И раз, подремывая в кресле, с которого уже давно не вставал, услыхал полковую трубу — уходили на войну. Одним рывком он поднялся — и пал мертвым».
«СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК ЭТОТ АСОРИН»
Хозяйка дома сказала: «Положите шляпу», — и я до крайности смутился. Куда ее класть? И как? Я сижу в кресле, примостившись на самом краю, держу коленями трость, шляпа лежит на коленях. Как я ее положу? Куда? Стены гостиной увешаны натюрмортами с букетами — художеством хозяйской дочки; потолок расписан стайками ласточек в голубых облачках. Пытаясь удержаться на краешке кресла, киваю даме, изволившей заметить, что «лето выдалось жаркое». На том беседа обрывается; я осматриваюсь. И тут, при виде мебели, мне становится уже совершенно непереносимо: гарнитур новехонький, сияет, как медный таз, стулья расставлены симметрично, да нет, вовсе не симметрично, а с продуманной небрежностью, что еще гнуснее. Да ведь не на эту же базарную, непотребную мебель тратить мне свой пыл? Что мне за дело до этих разукрашенных козеток-секреток со спинкой, изогнутой змейкой, без которых теперь и гостиная не гостиная? Что мне до этих вазочек на консолях, до этих фарфоровых пастушек? Хозяин дома, прервав затянувшееся молчание, осведомляется, что я думаю о последнем правительственном кризисе. Я хватаюсь за вопрос, как утопающий за соломинку, надеясь хоть как-то справиться с собой, однако мне совершенно нечего сказать об упомянутом кризисе.
И снова повисает молчание; я принимаюсь разглядывать набалдашник собственной трости. Но, слава богу, опять защебетала хозяйка — я поддакиваю.
Давно уже я не отдаю визитов. Да и зачем? Слишком хорошо я помню ту мучительную скованность, что нападала на меня в юности под потолками, расписанными ласточками и облачками; так я и не научился поддерживать светский разговор.
Если же кто-нибудь обмолвится в одной из таких гостиных, что я «далеко не бездарен» (сам я этого мнения не разделяю), хозяева из вежливости согласятся: «Да, конечно же!», и непременно добавят, покачав головой: «А все-таки странный человек этот Асорин!»
ТРИ ЛАРЦА
Если бы мне понадобилось свести воедино все, чем оттиснулась на моей душе наша провинциальная грязь и глушь, я бы, не колеблясь, выбрал три прописных истины:
«Уже поздно!»,
«Что поделаешь!» и
«Долго не протянет!»
Эти фразы могут показаться странными, но, уверяю вас, ничего странного в них нет, напротив, в этих словах запечатлены главные свойства испанской души: горечь, униженность, безволие, покорность обстоятельствам и судьбе; на них лежит тяжкая тень смерти. Не стану разводить философическую муть — меня воротит от всеобщих закономерностей, и открывать их я не собираюсь, потому что знаю: то, чего я не сумел разглядеть, бросает свой особенный свет на события и вещи и меняет их, и, может быть, другой, более проницательный, сумел бы из тех же пустяков, на которых я строю свою теорию, вывести другие законы. Я не люблю философического тумана — пусть каждый видит свое. Но я убежден, что печаль наша — как замечал Валтасар Грасиан — рождена нашей иссушенной землей, что мысль о смерти придавила и поработила испанцев. В детстве мне не раз приходилось слышать разговоры о болезнях родственников или соседей, и всегда они кончались одинаково: помолчав, кто-нибудь подводил итог:
— Долго не протянет!
Вот она, третья наша ипостась, третий, недосягаемый и несокрушимый ларец, хранящий скрижали испанской души.
НЕПРИМЕТНЫЕ СУДЬБЫ
Мне никогда не хотелось стать генералом или епископом (в детстве часто мечтают об этом); меня терзала неспособность моей души воплотиться в других — обыкновенных, безвестных людей, прожить их жизнь; невозможность ощутить себя тем бедолагой, что в темном закутке торгует каким-то хламом, тем мелким чиновником, что день-деньской переписывает какие-то бумаги, а после отправляется с женой в гости и коротает вечер за пустыми разговорами, тем бродячим циркачом, что странствует по городам и весям; тем незаметным человечком — бог знает, кто он и чем живет, — что как-то повстречался мне то ли в кафе, то ли на перроне, обменялись мы парой фраз и разошлись…
Как притягательны для меня маленькие лавчонки! И как таинственна жизнь этих людей, торгующих витыми свечами, серебряными поделками, каким-то жалким подобием шляпок… В старинных испанских городах есть закоулки, что упираются обычно в церковную абсиду, так вот на них-то и теснятся чаще всего эти лавчонки, и бывает час, единственный, заветный, когда распахивается их потаенная душа.
Наступает этот час, когда смеркнется, после трапезы: улицы пустеют, священники расходятся по домам, церковный колокол долго и гулко бьет девять. Пройдитесь тогда проулком: витрины погасли, иные занавешены, но чувствуется, какой глубокий покой затопил эти норы; монотонное дыхание будней отлетает от полок и прилавков; кое-где спит, уронив голову на доски, парнишка — с рассвета на ногах; откуда-то изнутри пробивается дрожащий свет лампы… И церковный колокол снова гудит долго и гулко.
ОКНА
Вы когда-нибудь вглядывались, стоя на горе, в маленькое оконце? Сейчас я объясню, что я имею в виду: вечером, почти ночью, поднимитесь, минуя овраги, зеленые смоковницы и розоватые холмы, на гору, где, может статься, увидите куст дикого миндаля, вцепившийся в скалу. Вечер тих и покоен; сядьте на камень и осмотритесь: рядом, на фисташковых ветках, растянута паутина, из-под кисейного полога недобро и колюче смотрит паук; издалека доносится звяканье бубенцов — гонят стадо. А теперь вынимайте из потертого кожаного футляра кое-где тронутую патиной подзорную трубу, на которой в рамочке оттиснуто по-английски «London», и смотрите: перед вами нежно зеленеет долина, вдали синий абрис гор скрывает линию горизонта, светлая зелень виноградников выстилает долину, и где-то бесконечно далеко, на крутом склоне над ущельем белеет почти неприметное пятнышко.
Направьте трубу туда, и вы увидите на скале мавританский замок с разрушенной башней, а внизу стайку беленых домиков. Смотрите внимательно — здесь уйма окон, но есть между ними одно маленькое, таинственное оконце, от которого сердце ваше сожмется неясной тоской… Не знаю, что за тайна в этом окне, и если стану рассуждать о горе, слезах и боли, то эта определенность только погубит живое чувство, потому что тайна таких окон смутна, скрыта от глаз и тревожна как предчувствие или память бог весть о чем…
В детстве я любил разглядывать фотографии городов, где никогда не бывал, — улицы, домики, окна; и всякий раз эти маленькие окошки томили меня той же темной тревогой, в которой признавался и поэт Бодлер.
ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ…
Знакомы ли и вам те странные встречи, когда женщина пленяла мгновенно и потом исчезала бесследно? Такие женщины, как падучие звезды непроглядной летней ночью. Мелькнет однажды — на взморье, на перроне, в трамвае, в магазине — и словно пробуждаешься, дивясь, как от ее взгляда нежданно и свежо расцвела душа. Совсем не обязательно ей быть красавицей, да и самый глубокий след оставляют не те, что ослепляют.
Зайдешь в вагон, сядешь где-нибудь на набережной и оглядишься, кто рядом. А рядом светлокосая девушка в черном, ты и не заметил ее поначалу. А если вглядишься… Канет минута, другая, набежит и отхлынет волна, поезд минует поле. Стоит только вглядеться: какие у нее волосы, какая фигура, как тонко очерчены губы и подбородок, и тебе откроется красота, неприметная для других, а в сердце хлынет могучая, неодолимая нежность к той, о чьем существовании ты только что и не подозревал.
А ведь один только миг: вот она встает и уходит — навеки, а ты смотришь ей вслед, и необъяснимая тоска сжимает сердце, отныне хранящее отблеск ее света и доброты. Как это случилось? Что за тайное родство обнаружилось между вами? Отчего затосковала душа? Ты так и не узнаешь, но смутное предощущение — словно ты подошел к границе неведомого мира — останется: ты так никогда и не разгадаешь, чем приворожила тебя эта женщина, что навсегда уносит с собой частицу тебя самого.
В юности меня часто мучила эта невнятная тоска. Летом мы уезжали обычно к морю, в Аликанте, где я часами пропадал на берегу. И сколько раз и тогда, и много позже мимо проходила она, загадочная и томящая, как близость моря, жаждой беспредельности.
ДВЕРИ
Я уже говорил об окнах, а теперь расскажу, что вызывают во мне двери. Я вообще люблю вещи, они делят с нами жизнь, и я всегда хотел докопаться до их сути. Есть ли у них душа? Есть ли она у старых шкафов, у стен, у садов, у дверей и окон? Вот и сегодня, когда я писал у себя в библиотеке, зашел управляющий и сказал мне:
— Ох и натерпелись двери нынче ночью!
Я поразился его словам и подумал, что двери за ночь и вправду натерпелись. Есть ли у них души? Ветер так ломился в дом, что стены ходили ходуном, и все двери — те, что ведут в гостиную, и те, что в кладовку, дверь в сарай и дверь в коридор, и дверца в темную каморку, — словом, все двери, сколько ни есть их в доме, жалобно стонали всю эту зловещую ночь. Нет двух одинаковых дверей; присмотритесь внимательней — у каждой своя жизнь. У каждой свой голос, мягкий или зычный. Они злятся и тогда хлопают со всего размаху, они зябко постанывают и натужно, жалобно кряхтят долгими зимними вечерами в пустынных старых комнатах, а мы не понимаем их языка.
Разве ничего не говорит вашему сердцу эта потайная дверца, ведущая из темной спальни в узкий беленый коридор? Или та узкая дверь в четыре филенки, что ведет в обветшалую каморку с махоньким оконцем, забранным решеткой, где тускло светится на стене расколотое зеркало, а в угол задвинут кувшин со скипидаром? Или эта источенная жучками, покосившаяся, да уже и подгнившая дверь, что ведет в заброшенный садик с виноградной беседкой, заросшей мощеной тропинкой и старым деревом, «по чьей груди замшелой дорогу вьет вьюнок», как в стихах Гарсиласо?
Нет двух одинаковых дверей, и каждая достойна любви. Сам я благоговею перед ними — ведь рано или поздно, но в один высший неповторимый миг нашей жизни мы отворяем дверь себе на счастье, а может, и на горе.
МАРИЯ РОСАРИО
Тебе было тогда пятнадцать лет, Мария Росарио, ты ходила в черном платье с белым передником и в новых — таких маленьких! — башмачках. Помнишь, Мария Росарио, как ты шила под навесом, во дворике, где в больших деревянных кадках росли кусты бересклета, а дворик у вас был замощен красным кирпичом. Так вот, в этом дворике ты и сидела за машинкой, а рядом бледная тетка в черном и здесь же, в уголочке, Тересита. Около тебя целая куча белья и раскроенной материи; отыскав нужный кусок белого батиста, ты начинаешь шить. Твои маленькие ножки ловко управляются с железной педалью; легкий, мерный стук нарушает тишину нашего дворика — это строчит и строчит машинка.
Иногда — сколько же воды утекло с тех пор! — я вспоминаю тебя, Мария Росарио, твои нежные руки, маленькие ножки, чуть заметную грудь. И мне хочется тогда вернуть былое — вновь услышать перестук машинки за кадкой с бересклетом, увидеть твои ясные глаза и обеими руками бережно коснуться твоих длинных кос.
Но тому не бывать, Мария Росарио. Ты живешь теперь в другом, наверное, темном доме; ты замужем, а муж твой служит писцом в суде; может статься, ты растолстела, как нередко бывает с нашими девушками после замужества, и кто знает, может, на кухне у тебя сушатся пеленки… Как же грустно мне вспоминать, Мария Росарио, то единственное мгновение нашей жизни, прекрасное и невозвратимое, когда мы стояли лицом к лицу, глядели глаза в глаза и так ни слова и не сказали друг другу.
Я, ЗАХУДАЛЫЙ ФИЛОСОФ…
Никто меня от боли не избавит.
Гарсиласо. Первая эклогаI
Я, захудалый философ с красным шелковым зонтиком, спустя много лет решил съездить в Еклу, где давно не бывал; я нанял повозку и отправился в путь, памятный мне с детства. И, как тогда, я взял в дорогу кукурузную лепешку с жареной колбасой. И, как тогда, увидел с горы, с перевала, городок — россыпь белых пятнышек внизу, на самом краю дальней равнины, и блистающий купол Новой церкви. И вот я снова в этом сумрачном городе… Здесь все по-старому: те же пустынные улицы, то же скопище церквей, те же огромные заброшенные дома, те же высокие стены и ворота.
За день я обошел весь город и спустился в долину. А когда стемнело, вернулся в дом, где жил дядя Антонио, поставил зонтик в угол и начал эту страницу. Стоят последние осенние дни, сумерки с каждым днем густеют, становится холоднее. В кузне, что была за стеной, теперь тихо; по дороге сюда я заглянул внутрь, но в темном проеме не светился красный глаз горна, пугавший меня прежде. На улицах безлюдно и тихо; лишь ветер по временам рвет с петель незапертое слуховое окошко, да вдалеке у чьих-то дверей перед нишами у ног святых теплятся лампадки. С колокольни доносится скорбное уханье филина. И затхлый этот покой и смиренье отозвались во мне тяжелой, безотчетной тоской.
Сегодня, когда я уговорил старых моих друзей спуститься в долину, мы зашли так далеко, что едва различали в сумерках город, прилепившийся к серой горе, придавленный серым небом. Мы шли молча. И когда совсем стемнело, один из нас стукнул палкой о землю и сказал те самые слова:
— Вернемся, уже поздно.
Услыхав их, я вздрогнул. Поздно. Все мое детство, вся юность, вся жизнь всколыхнулись во мне тогда. И как давнее наваждение вновь я сиротливо и смутно ощутил гибельный водоворот времени.
II
Все-таки я не смог удержаться от искушения и зашел в колледж, где учился. «Не ходи туда, — говорил мне внутренний голос, — рухнет еще одна иллюзия. Никогда не возвращайся туда, где прошло твое детство: в детских воспоминаниях всякий пустяк вырастает до гигантских размеров и обретает особый смысл — не надо его разрушать». Но я не внял целительному совету и сам не заметил, как очутился у дверей колледжа и стал потихоньку подниматься по ветхой лестнице. Все тихо кругом; только издалека доносится заунывное, жалобное пенье учеников.
Какая-то смутная тяжесть легла мне на сердце, когда я вошел в тот самый зал, и половицы скрипнули у меня под ногами — как тогда, в детстве. Я остановился, сдерживая волнение, и поднял голову: там, на другой стороне двора, над башенкой обсерватории кружились маленькие, легкие лопасти ветромера. Так и кружились они над городом, безучастные к людским радостям и печалям, с тех самых пор, не останавливаясь ни на мгновенье.
Я поднялся по тем самым — уже стертым — ступеням; сколько раз я всходил по этой лесенке наверх, в спальню. Тогда на площадке между этажами в высоком оконце за тусклым стеклом зеленела долина, и всякий раз, проходя здесь, я глядел на поля и деревья. Во мне глухо зашевелилось негодование, когда я увидел, что стекло заклеено цветной бумагой и ничего не видно. А после, когда я искал класс, где мы занимались, оказалось, что теперь классы на другом этаже, откуда тоже не видно дивной, милой сердцу долины, что выпестовала мое жадное детское воображение, и не на чем остановиться глазам, иссушенным учебником, — нет за окном обетованной земли, и нельзя омыть душу, прикоснувшись к Природе, выбрав ее в учителя…
И снова меня охватило негодование — не без причины. Правда, вознегодовал я не сильно — не более, чем подобает никудышнему философу. А после, когда зазвонил колокол и вдалеке показалась вереница учеников в длинных накидках, я, заурядный философ, увидев их, вздрогнул, потрясенный внезапным и тяжким прозрением: «Все единственно и тождественно», как говаривал другой философ, не мне чета. И я ощутил, что это я возвращаюсь в монастырские классы, и что это мои мечты, тревоги и беды заводят, горько и нескончаемо, свою старую песню. Я повернулся и пошел прочь, грустный, поникший, опираясь на свой фатальный красный зонтик.
ЭПИЛОГ О СОБАКАХ
И вот теперь, в зрелые годы, я решил изложить суть своей философии в беседе трех собак.
Ясным весенним днем три собаки собрались на выгоне. Вдали синели горы. И первый пес сказал:
— Я, друзья мои, прошу прощения за нескромность, стар и опытен, немало повидал в жизни и вот к какому выводу пришел: нет для пса места лучше, чем вокзал. Собака при железной дороге всегда прокормится. Не поймите превратно, я не о сторожевой собаке говорю и не призываю сесть на цепь. Речь не о службе, а о полной свободе. Беги куда хочешь, вынюхивай где можешь и питайся в свое удовольствие объедками. У вокзалов есть своя прелесть, и еще какая! Один пес — гладкий такой, в первом классе с хозяином ездит как-то сказал мне, будто железная дорога убила поэзию; так, мол, считают поэты (ну, словом, у которых не все дома). Я же, будучи в здравом уме и твердой памяти, заявляю, что с поэтами не согласен. На станции жизнь не стоит на месте: ночью одно, днем другое, скучать некогда — все люди, люди! Правда, и у нас случаются прискорбные недоразумения, но ведь исключительно по собственной глупости или невежеству. Надо только следить за светофором и соблюдать правила движения.
Я, друзья мои, животное общественное и приветствую прогресс! Рев и скорость поезда приводят меня в восторг. И надо ли повторять, что пропитания здесь предостаточно? Колбасные шкурки, куриные косточки, сырные корки, а иногда и мясо, бывает даже жаркое, — вот что случалось мне находить и вкушать при дороге. Остается добавить, что я убежденный сторонник демократии. Когда я только еще начинал кормиться при станции, мое внимание привлекло вот что: ели только во втором и третьем классе — только бедные. В первом классе не ели. Мне это показалось дико. Из окон тесных, неудобных вагонов летела еда, а из первого класса — никогда, ни крошки. Я долго доискивался причин этой досадной несообразности, пока один многоопытный старый пес не просветил меня. Оказывается, те, кто ездит в первом классе, едят не у себя в купе, а в специальном столовом вагоне или на вокзалах, в ресторане. Я знал, конечно, что люди способны на всякие сумасбродства, но предположить, что они потащат за собой столовую в поезд, не мог. И вот с тех пор я и полюбил народ — тех простых людей, что, отправляясь в путь, берут еду с собой, и стал с презрением относиться к богачам, вкушающим пищу в ресторанах, тем самым отвергая старый, добрый и милый обычай.
Скажу в заключение, что счастлив своим жребием и мечтаю лишь об одном — испустить дух на станции, а не где бы то ни было еще. Будучи в вашем городе транзитом — сейчас я как раз перемещаюсь с одной станции на другую, — я имел удовольствие познакомиться с вами, друзья мои. Я — бродячий пес и жаден до новых ощущений. У меня нет никаких обязанностей и нет хозяев. Я живу в полное свое удовольствие.
Затем слово взял второй пес, ухоженный и сытый:
— Что до свободы, то, уверяю вас, это дичь, и не более того. И сколько бы книг ни насочиняли люди, ни одна не сравнится с квинтэссенцией высшей мудрости, выраженной в пословице: «Собака помнит, кто ее кормит». Кормили меня предостаточно, а кто кормит, того я и чту. И не одним хлебом кормит, должен я вам сказать. Все, чего пожелать может собачья душа, есть у меня. Изысканнейшие кушанья, свой угол в столице — хозяева мои люди состоятельные. Хозяйка меня обожает, детишки передо мной на задних лапках ходят. Вы, конечно, скажете — а свобода? А я знать не знаю, что она такое, и знать не хочу. Питаюсь прекрасно, со мной носятся, в кабриолете возят, чего еще надо?
По правде сказать, всякий дурно одетый человек мне просто претит. Я как увижу оборванца, так обязательно облаю. Платье — первейшее свидетельство благонадежности. У оборванца не может не быть дурных намерений. И, следовательно, я должен лаять, а если оборванец вздумает приблизиться, кусаться. Раза три в жизни мне пришлось пустить в ход зубы, и обошлось! Я выполнил свой долг (а лаять на всякую подозрительную личность в отрепьях — долг каждой порядочной собаки), и тем горжусь.
В ваших краях я оказался потому, что хозяину было угодно посетить свое имение. Вскоре мы намерены отбыть в Мадрид, где вы можете рассчитывать на мое содействие и связи.
А третий пес сказал так:
— Пусть всякий живет, как бог ему на душу положит. Вам моя жизнь покажется такой унылой и однообразной, что хуже и придумать нельзя, а мне она по сердцу. Я — крестьянский пес, мужицкий. Идет хозяин на поле, и я с ним. Он работает, а я себе полеживаю, узелок его сторожу. Вот и все мои дела. Так день и пройдет, с боку на бок. А до чего ж хорошо зимой на солнышке или летом в тенечке. И небо у меня синее, и горы у меня голубые, и сеном пахнет — трава в горах душистая, воздух целебный, вода чистейшая. Я до новизны не охотник, до городской роскоши тоже, земли ни на что не променяю. Может, я и скучновато живу, да зато без обид и забот. Ну, сторожу ночью курятник, так волки у нас давно перевелись, разве что лиса иной раз потревожит, да филин ухнет, а их-то чего бояться — не звери.
Так что нет ничего лучше мира, покоя, здоровья, а их в городе не сыскать.
На том и завершилась беседа. Расстались они, так и не придя к согласию, что естественно, ибо каждый пес — это целый мир. Так говорят обычно о людях, но разве не больше оснований отнести сказанное к собакам?
ПУТЬ ДОН КИХОТА Перевод Н. Бутыриной
Великому идальго дону Сильверио, жителю разрушенного, но прославленного города Тобосо; поэту, автору жестокой сатиры на монахов; обладателю улья с застекленным окошком, через которое видно, как трудятся пчелы.
АсоринОТЪЕЗД
Я подхожу к двери и кричу:
— Донья Исабель! Донья Исабель!
Затем снова возвращаюсь в комнату и сажусь, исполненный усталости, печали и смирения. Неужели наша жизнь всего лишь однообразное, неумолимое повторение одного и того же, но лишь в разных обличиях? Я у себя в комнате; комната маленькая, квадратная; три-четыре шага от стены до стены; в ней — небольшой стол, умывальник, комод, кровать. Я сижу возле широкого окна, выходящего во внутренний двор, белый, чистый, тихий. Сквозь тонкую ткань занавесок падает мягкий, успокаивающий свет и озаряет четвертушки белой бумаги, лежащие на столе.
Я вновь подхожу к двери и кричу:
— Донья Исабель! Донья Исабель!
И опять сажусь, по-прежнему исполненный усталости, печали и смирения. Чистые четвертушки ждут, чтобы по ним заскользило перо; посреди комнаты зияет раскрытый чемодан. Куда в очередной раз, неотвратимо, как всегда, устремляюсь я с этим чемоданом и этими четвертушками? Тут из длинного коридора доносится звук легких, неторопливых шагов. В дверях возникает старая женщина, вся в черном, опрятная, бледная.
— Добрый день, Асорин!
— Добрый день, донья Исабель!
Некоторое время мы молчим. Я ни о чем не думаю; я во власти глубокой тоски. Старушка замерла на пороге и уставилась на чемодан.
— Вы уезжаете, Асорин?
Я отвечаю:
— Уезжаю, донья Исабель.
Она откликается:
— И куда же вы едете, Асорин?
Я отвечаю:
— Не знаю, донья Исабель.
И снова ненадолго наступает полная, глубокая тишина. Старушка, которая стоит слегка склонив голову, вдруг быстро вскидывает ее, как человек, наконец сообразивший, в чем дело, и говорит:
— Вы отправляетесь в местечки, Асорин?
— Да, да, донья Исабель, — отвечаю я, — у меня только один выход — отправиться в местечки.
Местечки — это городки и городишки Ламанчи и кастильских степей; я их люблю; донья Исабель уже меня изучила; она бросает взгляд на книги и четвертушки бумаги на столе. И говорит:
— По-моему, Асорин, эти книги и бумаги, которые вы пишете, убивают вас. Меня частенько подмывало, — добавляет она с улыбкой, — взять и сжечь их, пока вы в отъезде.
Я тоже улыбаюсь.
— Господи, боже мой, донья Исабель! — восклицаю я с притворным ужасом. — Вы не верите, что я призван в этот мир, дабы свершить свою миссию!
— Все в руках божьих, — отвечает старушка; она в этой миссии ничего не понимает.
И я, погрустневший, отрекшийся от всего ради этого беспокойного пера, которое вынужден все время приводить в движение, ради этих четвертушек, которые вынужден заполнять до конца моих дней, отвечаю:
— Да, все в руках божьих, донья Исабель.
Тогда она страдальчески сжимает руки, поднимает брови и вздыхает:
— Господи Иисусе!
И уже один этот вздох, который я столько, столько раз слышал в дряхлых домах древних городков от добрых, одетых в черное старух, уже один этот вздох тотчас же вызывает у меня четкий и глубокий образ исконной Испании. О чем вздыхает донья Исабель? Вспоминает дни детства, дни юности, проведенные в одном из таких мертвых, мрачных городков? Вспоминает узенькие, извилистые улочки: безлюдные, тихие? Широкие площади с обветшалыми, полуразрушенными колоннадами, где время от времени пробегает собака или останавливается, и нарушает своим криком тишину торговец-разносчик? Или вспоминает она старые фонтаны, гранитные фонтаны с огромными гербами, где большими буквами высечены имена Карлоса V или Карлоса III? Красноватые церкви со стрельчатыми сводами, с позолотой, со всеми этими часовнями Скорбящих, Страждущих, Гроба господня, в которых молилось и вздыхало столько наших матерей? Узкие, темные лавчонки торговцев галантереей, восковыми свечами, портупеями и поясами, сукном и яркими шалями, развевающимися на ветру? Столяров — наших добрых друзей — с их звучными деревянными молотками? И кузницы — любимые кузницы, — которые с утра до вечера наполняют тихий городок своими чистыми и ликующими звонами? Сады и огороды, раскинувшиеся вокруг города, у изгородей которых возвышается одинокий темный лавр или безмолвный столетний кипарис, снисходительный свидетель наших детских проказ? А может, она вспоминает дальние виноградники, куда мы отправлялись полдничать весенними вечерами, виноградники, посаженные, быть может, каким-нибудь патриархом, который вряд ли успевал когда-нибудь снять с них первый урожай? Аллеи старых вязов, тополей, платанов, где мы прогуливались в юности с Лолитой, Хуаной, Карменситой или Розаритой? Кукареканье петухов, распевавших мягкими, ясными осенними утрами? Медленный, звучный, долгий бой старинных часов, который доносился к нам через широкие дымоходы каминов в зимние ночи?
Наконец я говорю донье Исабель:
— Донья Исабель, мне очень нужно поехать.
Она отвечает:
— Да, Асорин, конечно, если очень нужно, езжайте. Потом я остаюсь один со своими четвертушками; сижу возле стола у широкого окна, за которым вижу тихий, белый двор. Что я чувствую? Недовольство? Пресыщение? Тягу к чему-то лучшему, а к чему — и сам не знаю? Придет ли когда-нибудь для нас, скромных журналистов, освобождение от этого нескончаемого потока разнообразных дел? Неужели нам уже не суждено услышать с тем же простодушием, как в наши ранние годы, с теми же радостью и безмятежностью, не омраченными ни тоской, ни горьким воспоминанием о жизненных баталиях, кукареканьем знакомых петухов, ликующий звон кузниц, бой почтенных часов, которые мы слышали тогда? Чем отличается наша жизнь от жизни странствующего рыцаря, который родился в одном из этих ламанчских городков? Пожалуй, наше существование, как существование дона Алонсо Кихано Доброго, — это бесконечное сражение, борьба без награды, за идеалы, воплощения которых мы не увидим… Я люблю этот великий скорбный образ — наш символ и наше зеркало. Я отправляюсь — с моим картонным чемоданом и с плащом — в недолгое путешествие по местам, где побывал Дон Кихот.
Читатель, прости меня; я желал бы тебе понравиться; я уже много написал за свою жизнь; с грустью вижу, что должен написать еще столько же. Читатель, прости меня, я жалкий человек, который в порыве тщеславия хочет сделать вид, что знает что-то, а на самом деле ничего не знает.
В ПУТИ
Я сижу в старом и приятном доме, который называют гостиницей Ксантипы; я только что прибыл — снимите шапки! — в прославленный город Аргамасилья-де-Альба. Этим утром в дверь моей каморки, там, в Мадриде, тихонько постучали; я тут же вскочил; открыл окно; небо было еще черным, и над спящим городом сверкали звезды. Я оделся. Вышел на улицу; с ритмичным гулким шумом неторопливо проехал экипаж. В такой час большие современные города являют нам все, что в них есть странного, ненормального, пожалуй даже, бесчеловечного. Улицы пустынны, безмолвны; кажется, что в какой-то момент после полуночного возбуждения, сменившего тяжкие дневные труды, дома сосредоточиваются на самих себе и на этот короткий миг затишья перед неизбежным наступлением нового хлопотливого дня предстают нам во всем равнодушии, бесстрастности их высоких, симметричных фасадов, верениц балконов с закрытыми дверями, их углов и выступов, которые выделяются на фоне неба, начинающего понемногу, незаметно светлеть в вышине…
Экипаж, что везет меня, быстро едет к далекому вокзалу. На горизонте уже возникает матовое, тусклое сияние; вырисовываются жесткие линии металлических вышек для телеграфных проводов; из фабричной трубы поднимается плотный черный дым и закрывает, словно густая вуаль, рождающийся на востоке свет. Я приезжаю на вокзал. А вы любите вокзалы? В больших городах вокзалы — это первое, что пробуждается каждое утро к неизбежной, повседневной жизни. И самое первое — фонари носильщиков; они мелькают, встречаются, вращаются, поворачиваются, передвигаются из стороны в сторону над самой землей, таинственные, усердные, загадочные. А потом начинают скрипеть и визжать ручные тележки и тачки. Затем слышится глухой, далекий стук катящихся вагонов. Потом людская волна вливается в широкие двери и растекается во все стороны по огромному залу. Круглые электрические прожекторы, которые мигали всю ночь, наконец погасли; звучат резкие свистки паровозов; на горизонте загорается алым, перламутровым, фиолетовым, золотистым утренняя заря. Я наблюдаю это хождение взад-вперед, эти шумные перевозки, это пробуждение человеческой энергии. Наступает время купить билет. Как завязал я прочную и — уж поверьте мне — искреннюю дружбу с этим простым, скромным и приветливым человеком, оказавшимся рядом со мной у окошка кассы?
— Вы едете, — спросил я, — в Аргамасилью-де-Альба?
— Да, — ответил он, — еду в Синко-Касас.
Я был несколько удивлен. Если этот простой и чистосердечный человек — подумал я — едет в Синко-Касас, как может он ехать в то же время в Аргамасилью? Вслух же вежливо спросил:
— Простите, пожалуйста, как это возможно ехать в Аргамасилью и в то же самое время ехать в Синко-Касас?
Он молча уставился на меня; вне всякого сомнения я показался ему человеком не от мира сего. Наконец он сказал:
— Аргамасилья и есть Синко-Касас; мы все зовем ее Синко-Касас.
Все, сказал мой новый друг. Вы слышали? Кто эти все? Вы можете быть министром, губернатором провинции, стоять во главе крупного департамента, редактировать газеты, сочинять книги, произносить речи, писать картины, ваять статуй, и в один прекрасный день вы поднимаетесь в поезд, садитесь на жесткие сиденья вагона третьего класса и обнаруживаете — с глубоким удивлением, — что все это не вы (раз вы не знаете, что Синко-Касас и Аргамасилья одно и то же), а Хуан, Рикардо, Педро, Роке, Альберто, Луис, Антонио, Рафаэль. Томас, то есть — кузнец, торговец, фабрикант, ремесленник. В этот день — запомните! — вы познали великую, вечную истину.
Но поезд уже трогается: вагон переполнен. Я вижу рыдающую женщину и плачущих детей (они отправляются в средиземноморский порт, чтобы сесть на судно и уехать в Америку); вижу студентов, которые поют и галдят в соседнем отделении; вижу скорчившегося в уголке возле меня маленького и таинственного человека, закутанного в поношенный плащ, глаза его сверкают — как у некоторых фигур Гойи — из-под широких, тенистых полей шляпы. Мой новый друг общительнее меня; очень скоро между ним и маленьким, загадочным пассажиром завязывается оживленный диалог. И первое, что я узнаю, это что закутанному человеку холодно, а другу моему, напротив, ничуть. До вас доходит антагонизм нашей жизни? Закутанный пассажир — андалусец; мой свежеиспеченный друг — коренной ламанчец.
— Да, в Мадриде не жарко, — говорит андалусец.
— Я не мерз, — возражает ламанчец.
«Вот, — думаете вы, если вы хоть немного склонны к философским размышлениям, — вот объяснение многообразия и полярности всех этических учений, всех правовых норм, всех эстетических взглядов, существующих на нашей планете». А потом вы принимаетесь разглядывать пейзаж; уже совсем рассвело; ясный, чистый, прозрачный свет озаряет необъятную, желтоватую равнину; невозделанные земли простираются вдаль мягкими волнами и возвышенностями. Время от времени можно заметить ослепительно белые стены какого-нибудь дома; видно, как исчезают вдали прямые, бесконечные дороги. Грубо вытесанный из камня крест среди этой пустынной, однообразной, бесплодной, приводящей в отчаяние равнины, возможно, напомнит вам о чьей-то смерти, о каком-то несчастье. Поезд движется медленно, с натугой, лязгая старым железом. Станция сменяет станцию; пейзаж, который мы видим сейчас, такой же, как тот, что остался позади; любой из промелькнувших пейзажей ничем не отличается от того, который мы увидим через пару часов. В сияющих далях вырисовываются синие холмы; иной раз смутно обозначится черный шпиль колокольни; над красноватыми и желтыми полями летает сойка; по необъятной равнине медленно-медленно движутся упряжки мулов, волоча за собой плуги. Вскоре на горизонте вырастает мельница, бешено вращающая четверку своих крыльев. А потом мы проезжаем Алькасар, и другие мельницы — древние, из эпоса — крутятся и крутятся за окном. Уже наступает вечер; тело сковано усталостью. Но тут раздается крик:
— Аргамасилья, стоянка две минуты!
Нас охватывает нервное волнение. Мы у цели нашего путешествия. На станции я созерцаю огромный дилижанс — такие восхищают французских путешественников, — возле него стоит почтенный, симпатичный экипаж, в таких все мы — без всякого сомнения — катались в детстве. Я спрашиваю одного мальчугана, кому принадлежит экипаж?
— Пачеке, — отвечает он.
Изящная, элегантная, величественная дама в трауре выходит на площадь и садится в экипаж. Кажется, что все это нам снится. А у вас не разыгралась фантазия при виде этой стройной, молчаливой дамы, исконной испанки, кастильянки, которую так по-испански только что назвали на старинный манер Пачекой?
И что только не приходит вам в голову! А когда, после долгого путешествия в дилижансе по равнине, вы въезжаете в прославленный город, когда вы поселяетесь в старой и приятной гостинице Ксантипы, когда вы, уже поздно вечером, быстро исписав несколько четвертушек, поднимаетесь из-за стола с чувством жестокого голода, вы говорите милым женщинам, которые снуют по комнатам и коридорам:
— Дорогие сеньоры, послушайте! Я был бы премного обязан, если бы ваши милости дали мне чуточку рубленого мяса с луком, кусочек яичницы с салом, что-нибудь вроде простенькой ольи, и чтобы в ней было больше говядины, чем баранины.
ХАРАКТЕР АРГАМАСИЛЬИ
Войдемте в скромную комнату; приблизься, читатель; подави свое волнение; не споткнись о порог; не вырони из рук палку, на которую ты опираешься; пусть глаза твои, открытые во всю ширь, внимательные, пытливые, уловят и передадут в мозг все мелочи, все оттенки, самые незначительные жесты, самые неприметные движения. Дон Алонсо Кихано Добрый сидит за грубым столом из темного орехового дерева; его острые, костлявые локти энергично уперты в твердую столешницу, его алчный взгляд прикован к белым листам необъятного тома, покрытым мелкими буквами. Время от времени тощая грудь дона Алонсо вздымается; рыцарь глубоко вздыхает; беспокойно и тяжело ворочается в своем широком кресле. И внезапно переводит пылающий взор с белых страниц на старую, заржавленную шпагу, которая висит на стене. Мы находимся, читатель, в Аргамасилье-де-Альба в 1570, 1572 или 1575 году. Каков он, этот город, столь прославленный сегодня в истории испанской литературы? Кто живет в его домах? Как зовут этих благородных идальго, волочащих свои рапиры по его светлым и длинным улицам? И почему добрый дон Алонсо, только что на наших глазах вздыхавший над своими злополучными книгами, от неопределенных, страстных устремлений впал в это возбужденное состояние? Что в атмосфере городка сделало возможным рождение и развитие именно здесь этого странного, любимого нами, горестного образа? Какими судьбами именно Аргамасилья-де-Альба, а не какой-нибудь другой ламанчский город смогла стать колыбелью самого прославленного, самого великого из странствующих рыцарей?
Все сущее предопределено, логично, необходимо; все сущее имеет свой резон. Глубокий и могущественный. И Дон Кихот Ламанчский неизбежно должен был родиться в Аргамасилье-де-Альба. Слушайте внимательно; никогда не забывайте этого: всю Аргамасилью, по сути, можно назвать странствующим городом. Сейчас я вам объясню. Когда жил дон Алонсо? Разве не в те годы, что мы упомянули выше? Сервантес писал не быстро; его воображение работало медленно; роман вышел в свет в 1605-м; но к этому времени изображенный на его страницах рыцарь уже скончался, и мы вынуждены предположить, что автор должен был замыслить свою книгу спустя много времени после этого прискорбного события; то есть мы можем смело утверждать, что дон Алонсо жил в середине XVI века, должно быть в 1560 году, или же в 1570-м, возможно в 1575-м. Так вот: как раз в этом году наш король Фелипе II запросил у жителей Аргамасильи точные, подробные, достоверные сведения о городе и его границах. Не выполнить приказ Фелипе II? Такое было невозможно. «Я, — сообщает городской нотариус Хуан Мартинес Патиньо, — уведомил о желании короля наших алькальдов и господ городских советников». Алькальдов зовут Кристобаль де Меркадильо и Франсиско Гарсиа де Темблеке; имена советников — Андрес де Пероалонсо и Алонсо де ла Оса. И вот все эти сеньоры, алькальды и советники, собираются, совещаются, вновь совещаются и в заключение поручают нескольким сведущим горожанам составить требуемое донесение. Это Франсиско Лопес де Толедо, Старый Луис де Кордова и Андрес де Анайа. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на всю эту суету и хитросплетения, на административное беспокойство, в которых уже начинает обрисовываться характер Аргамасильи. Комиссия, долженствующая составить требуемую справку, уже назначена; недостает только того, кто сообщит ее членам об их назначении. Нотариус, сеньор Мартинес де Патиньо, надевает шляпу, берет бумаги и отправляется к назначенным лицам; сеньор Лопес де Толедо и сеньор Анайа изъявляют свое согласие, возможно, после нескольких слабых отговорок; но Старый дон Луис де Кордова — человек, склонный к скепсису, человек, который много повидал на своем веку — «пережиток прошлого», говорят о нем знающие люди, — встречает нотариуса в высшей степени любезно, улыбается, выдерживает короткую паузу, а затем, устремив на сеньора Патиньо слегка иронический взгляд, заявляет, что не может принять назначение, потому что он, Старый дон Луис де Кордова, слаб здоровьем, подвержен некоторым досадным недугам и, кроме того, по их причине, и это главный довод, «не может находиться в сидячем положении и четверти часа». Да способен ли такой человек пребывать в лоне комиссии? Да способен ли Старый дон Луис де Кордова сидеть словно приклеенный в кресле час, два, три часа, выслушивая сообщения или обсуждая данные и цифры? Это исключено; нотариус Мартинес де Патиньо удаляется, несколько раздосадованный; прощаясь с ним, Старый дон Луис де Кордова вновь улыбается; алькальды назначают вместо него Диего де Оропеса.
И комиссия, теперь уже без всяких промедлений и обращений в другие инстанции, начинает действовать. По ее докладу, все еще не опубликованному и входящему в состав «Топографических реляций», подготовленных по приказу Фелипе II, мы знакомы с Аргамасильей-де-Альба времен Дон Кихота. Прежде всего — кто основал этот город? Основал его дон Диего де Толедо, настоятель монастыря святого Иоанна; место, на котором вырос город, называлось Аргамасилья; основатель принадлежал к роду Альбы. Отсюда и наименование — Аргамасилья-де-Альба.
Первоначально город — и тут мы вступаем в другую стадию развития его характера — первоначально город был основан в местности, называвшейся Ла-Моралеха; это случилось в 1555 году. Но вдруг вспыхивает моровая болезнь; население бежит из города и, охваченное ужасом, не зная, что делать, бросается толпой на холм по названию Боньигаль, и там вновь закладывает город. А через несколько лет на новый поселок обрушивается другая эпидемия, и опять жители, потрясенные, испуганные, доведенные до отчаяния, бросаются со всех ног, бегут кто куда и, наконец, собираются в местности под названием Аргамасилья, и здесь основывают еще один город, тот самый, который сохранился до наших дней и где появился на свет великий ламанчец. Теперь вы видите, как за несколько лет, между 1555-м и 1575-м, сложился образ мыслей нового поколения, среди которого окажется дон Алонсо Кихано? Видите, как паника, нервное потрясение, отчаяние, тревоги, которые пережили матери этих новых людей, сообщились им и создали в новом городе атмосферу повышенной чувствительности, беспокойства, упорного, горячего стремления к чему-то далекому и неизвестному. Поняли вы, почему вся Аргамасилья является странствующим городом и почему именно здесь должен был родиться самый главный из странствующих рыцарей? А теперь добавьте к этому, что кроме эпидемии, о которой мы говорили, на город обрушиваются еще полчища саранчи, подчистую съедают весь урожай и добавляют новые заботы и страдания к уже испытанным. И, если вам всего этого показалось мало, чтобы определить и создать совершенно особый характер, примите еще в расчет, что само расположение, сама топография нового города должны были способствовать возникновению необычного, исключительного состояния болезненности и отчаяния. «Это больной город, — пишут о нем составители доклада, — потому что река Гвадиана часто выходит из берегов, ее воды заболачивают местность возле города и ветер заносит в него испарения от стоячей воды». Этого достаточно, чтобы завершить наше представление о городе; но если мы продолжим исследовать доклад комиссии, мы найдем в нем еще, пусть на первый взгляд и незначительные, детали, факты, которые являются дополнительным подтверждением только что изложенному нами.
Аргамасилья — нездоровый город, основанный поколением с повышенной нервной чувствительностью. Кто потомки этого поколения? Чем они занимаются? В сообщениях, на которые мы ссылались, перечислены наиболее знатные жители города — дон Родриго Пачеко, два сына дона Педро Прието де Ба́рсена, сеньор Рубиа́н, племянник Пачеко, братья Бальдоливиас, сеньор Сепеда и дон Гонсало Патиньо. И относительно каждой из этих особ составители доклада мимоходом уведомляют нас: сыновья Педро Прието де Барсена вели тяжбу в защиту своих прав на дворянство; сеньор Сепеда тоже судится; сеньон Рубиан затеял судебный процесс с самим городом; братья Бальдоливиас также не избегают судебных схваток, и, наконец, племянники Пачеко занесены в книгу налогоплательщиков, наверно, потому, что несмотря на все хитрости и мошенничества «не сумели подтвердить свое благородное происхождение»…
Таков город Аргамасилья-де-Альба, ныне самый прославленный из городов Ламанчи. Разве не естественно, что все эти главные и побочные причины безумия, отчаяния, насыщающие атмосферу города, в один из великих моментов истории слились воедино и создали образ неповторимого идальго, которого мы, приблизившись с опаской, видим в этой комнате, где он то углубляется в чтение, то бросает быстрые, пламенные взгляды на старую, изъеденную ржавчиной шпагу?
АТМОСФЕРА АРГАМАСИЛЬИ
Сколько времени я уже нахожусь в Аргамасилье-де-Альба? Два, три, четыре года, шесть лет? Я потерял представление о времени и пространстве; со мной больше ничего не случается, я даже писать разучился. Утром, едва засветает, по широкому двору принимается прыгать, скакать туда-сюда, заливаясь отчаянным чириканьем, стая воробьев; под моим окном раздается звучное кукареканье петуха. Надо вставать. Снаружи, из кухни, доносится стук упавших на каменные плиты щипцов, скрежет передвигаемых треножников и потрескивание занявшейся огнем виноградной лозы. В доме начинается обычная ежедневная жизнь: Ксантипа ходит взад-вперед, опираясь на палочку; Мерседес выбивает пыль из мягкой мебели; Габриэль берет тяжелые портновские ножницы и собирается кроить что-то из грубого сукна. Я распахиваю окно: в нем нет стекол, рама затянута белым полотном; через это полотно в комнату проникает матовый свет. Комната большая, вытянутая в длину; в ней кровать, четыре стула и сосновый стол; стены побелены известкой, а нижняя их половина покрашена в серый цвет; пол покрыт грубой циновкой из белого дрока. Я отправляюсь в кухню; кухня напротив моей комнаты — над очагом большой вытяжной колпак, на одной из стен висят ковши, сковороды, кастрюли; яркие языки пламени вздымаются в очаге и лижут его каменную плиту.
— Добрый день, сеньора Ксантипа; добрый день, Мерседес.
И я присаживаюсь к огню; мой друг петух продолжает петь; кот — тоже из моих друзей — трется о мои брюки. Церковные колокола уже сзывают на большую мессу; день ясный, солнечный; надо сделать то, что делает из века в век каждый порядочный испанец: выйти погреться на солнышке. Из кухни этого дома попадаешь во внутренний дворик, вымощенный галькой; половину дворика занимает галерея, другая половина — открыта. Продолжая наше путешествие, мы обнаруживаем небольшие сени, за ними дверь, затем вторые сени и, наконец, — выход на улицу. Пол повсюду земляной, неровный, в буграх и выбоинах; стены беленые и до половины покрашены серой или голубой краской. И на всем в доме: на дверях, потолках, закоулках — лежит отпечаток дряхлости, неподвижности, глубокого покоя, векового смирения (таких исконных, таких испанских), который заметен во всех ламанчских домах и делает их столь непохожими на шумные и оживленные жилища Леванта.
Очутившись на улице, мы замечаем, что широкие, светлые улицы идеально соответствуют внутреннему устройству жилищ. Это вам не мавританские городки Леванта, уединенные, обособленные; это обширные, просторные, вольные поселения старого кастильского народа. Кажется, что здесь любое воображение может идти своим собственным путем, независимое, не обремененное никакими оковами и путами; здесь нет атмосферы, связывающей все умы в нечто вроде невидимого снопа; улицы необычайно просторны; дома низкие и широкие; местами огромный портал какого-нибудь внутреннего двора нарушает то, что мы назвали бы духовным единением домов; там, в конце улицы, виднеется необъятная, бесконечная равнина, а над нами, в каждый ясный час, словно притягивая к себе все наши устремления, открывается тоже необъятный, сияющий свод. Разве не в этой среде родились и сформировались великие личности искателей приключений, мореходов, конкистадоров, могучие, страшные, но одинокие и анархичные. Достанет ли здесь, в этих городках, молчаливого внутреннего согласия воль и умов, необходимого для прочного, долговременного процветания нации? Я брожу по улицам этого города. Рассматриваю низкие, широкие, белые дома. Время от времени по широкой улице проходит какой-нибудь земледелец. Нет ни суеты, ни движения, ни шума. В 1575-м Аргамасилья насчитывала 700 жителей; в 1905-м в ней живут 850. В 1575-м в Аргамасилье было 600 домов; в 1905-м их 711. За три столетия она мало преуспела. С 1900 года до сегодняшнего дня, как мне сказали, здесь выстроено не больше восьми домов.
Всюду глубокий покой. Солнечный свет отражается от белых стен; двери затворены; окна закрыты. Иной раз быстро пробежит безразличный ко всему пес, черный, серый, а то и рыжий. Равнина, там, в конце улицы, у далекого горизонта, неприметно сливается с голубой безбрежностью неба. И каждый час раздается медленный, важный бой старинных часов. Что делают в это время дон Хуан, дон Педро, дон Франсиско, дон Луис, дон Антонио, дон Алехандро?
Часы только что пробили полдень. Я возвращаюсь домой.
— Как дела? Как насчет яичницы с салом, сеньора Ксантипа? — спрашиваю я.
Стол уже накрыт. Габриэль отложил ненадолго портновские ножницы; Мерседес водружает на белую скатерть дымящуюся миску. И я ем — попросту, как все едят, — этот красноватый, заправленный шафраном суп. А потом и разные другие блюда, совсем простые, совсем современные. После завтрака надо зайти в казино. Казино находится на этой же площади; вы переступаете порог старинного здания; спускаетесь по очень крутой лесенке; потом сворачиваете направо и входите наконец в обширный зал со светло-голубыми стенами и деревянным полом. В этом зале сидят вокруг жаровни несколько неподвижных, молчаливых фигур.
— Вам не предлагали за вино по шесть реалов? — спрашивает дон Хуан после долгой паузы.
— Нет, — говорит дон Антонио, — до сих пор мне никто об этом и не заикался.
В молчании проходят шесть, восемь, десять минут.
— Думаете отправиться сегодня в поле? — обращается дон Томас к дону Луису.
— Да, — произносит дон Луис, — хочу побыть там до субботы.
За стенами — пустынная, безлюдная площадь; слышен далекий крик; легкий ветер гонит по небу белые облака. Я выхожу из казино; снова шагаю по широким улицам; на окраине города, за низкими, бурыми крышами виднеются черные, голые ветви растущих по берегам реки вязов. Медленно текут минуты, торопливо пробегает безразличный ко всему пес, серый, черный, а то и рыжий. На что мне убить бесконечные часы этого дня? Двери затворены; окна закрыты. И снова моему взору предстает вдали равнина, огромная, заброшенная, беспредельная.
Когда начинает смеркаться, колокола глухими и звонкими ударами отбивают Ave Maria; небо темнеет; там и сям загораются слабые электрические лампочки. Это час, когда на площади раздаются крики играющих мальчишек; из широких дворов выводят упряжки мулов и ведут их к реке; в воздухе разливается легкий запах горящей лозы. И после этого небольшого перерыва город погружается на всю ночь в еще более глубокую, еще более мертвую тишину.
Я возвращаюсь домой.
— Как дела, сеньора Ксантипа? Как насчет яичницы с салом и мяса с луком?
Я ужинаю возле огня на маленьком низком столе; мой приятель петух уже почивает; кот, мой второй приятель, мурлыча трется о брюки.
— Господи Иисусе! — восклицает Ксантипа.
Габриэль молчит; Мерседес молчит; в тишине трепещут и пляшут языки яркого пламени. Ужин кончен; надо возвращаться в казино. Там вокруг жаровни сидит несколько фигур.
— Как вы думаете, вино в нынешнем году будет продаваться лучше, чем в прошлом? — спрашивает дон Луис.
— Не знаю, — отвечает дон Рафаэль, — возможно, нет.
В молчании проходят шесть, восемь, десять минут.
— Если холода продержатся, виноградники померзнут, — говорит дон Томас.
— Вот этого я и боюсь, — подает голос дон Франсиско.
Часы звучно отбивают девять ударов. А в самом ли деле сейчас девять? Может быть, одиннадцать или двенадцать? Как поразительно медленно идут часы, правда?
Бледные лампочки едва освещают зал; фигуры людей застыли в полумраке, неподвижные и молчаливые. В атмосфере городских казино в первые часы вечера есть что-то, вызывающее ощущение нереальности, какого-то сна. В городе все отдыхает; улицы пусты и темны; в домах затих пульс дневной жизни. И кажется, что вся эта тишина, весь покой, вся эта замечательная неподвижность сосредоточиваются в эти минуты в зале казино и давят на фантастические, призрачные фигуры, которые, молча и медленно, приходят и уходят.
Я выхожу на улицу; в вышине таинственно мерцают звезды; слышен протяжный вой собаки; парень поет песню, похожую на жалобу, на мольбу… Скажите: разве не в подобной среде расцветают одинокие, вольные личности, такие, как личность Алонсо Кихано Доброго — исполненные идеализма, но погруженные в себя, склонные к мечтаниям, не способные в конечном счете на обыденные, простые, требующие терпения действия, которые необходимы для поступательного движения народов?
АКАДЕМИКИ АРГАМАСИЛЬИ
…con tutta gente che si lava in Guadiana…[53]
Ариосто. «Неистовый Роланд», песнь XIV.Мне никогда не приходилось видеть людей скромнее, любезнее, проще, чем славные идальго дон Ка́ндидо, дон Луис, дон Франсиско, дон Хуан Альфонсо и дон Карлос. В конце первой части своей книги Сервантес рассказывает об академиках из Аргамасильи; дон Кандидо, дон Луис, дон Франсиско, дон Хуан Альфонсо и дон Карлос могут считаться современными академиками из Аргамасильи. Десять часов утра; я отправляюсь в дом дона Кандидо; дон Кандидо — духовное лицо. Дом у него новый, просторный, светлый и чистый; в центре находится внутренний двор, стены которого отделаны сверкающими изразцами; вокруг него — галерея. Поднявшись по лестнице, не раз и не два отполированной суконкой, я вхожу в столовую.
— Добрый день, дон Кандидо!
— Добрый с благословения божьего, сеньор Асорин.
Через четыре окна в комнату вливается мягкое, вселяющее радость солнечное сияние; по стенам развешаны копии картин Веласкеса и великолепные старинные блюда; напротив приземистого дубового буфета камин из черного мрамора, где мечется красное пламя; над камином светлое зеркало в богатой раме, украшенной покрытыми патиной скульптурами; перед зеркалом возвышается изящная, прекрасной работы статуэтка Девы Марии. На полу, закрывая его целиком, простерся замечательный старинной работы желтый ковер, ярко-желтый в ярко-алых цветах и ярко-зеленых листьях.
— Присаживайтесь поближе к огню, сеньор Асорин, — говорит мне почтеннейший дон Кандидо.
Я присаживаюсь к огню.
— Сеньор Асорин, вы уже видели памятники древности нашего города?
Я уже видел памятники древности Аргамасильи-де-Альба.
— Дон Кандидо, — отваживаюсь я произнести, — этим утром я посетил дом, где держали в заточении Сервантеса; но…
Тут я на мгновение умолкаю; дон Кандидо — такой опрятный, такой приветливый священнослужитель — смотрит на меня с каким-то непонятным беспокойством. Я продолжаю:
— Но по поводу этой тюрьмы ученые теперь считают, что…
Я снова ненадолго останавливаюсь; взгляд дона Кандидо становится еще более беспокойным, даже тревожным. Я возобновляю свою речь:
— Ученые теперь считают, что Сервантес не был заточен в этом доме.
Я не совсем уверен в том, что ученые считают именно так; но на лице дона Кандидо появляется выражение удивления, изумления, ошеломления.
— Господи Иисусе! Господи Иисусе! — восклицает возмущенно дон Кандидо, хватаясь за голову. — Как вы можете говорить подобное, сеньор Асорин! Ах, боже мой, боже мой, и подумать только, что приходится выслушивать такие чудовищные вещи! Что же еще, сеньор Асорин? Да, Сервантеса уже объявили галисийцем! Вам доводилось слышать что-либо более поразительное?
Я и в самом деле не слыхал ничего более поразительного; и честно признаюсь в этом дону Кандидо. Нет, разумеется, я совершенно уверен в том, что Сервантес был из Ламанчи и сидел в тюрьме в Аргамасилье, но, однако, — простите мне мою недоверчивость, — я не могу согласиться с утверждением, что в этом ламанчском городе жил Дон Кихот. И когда я робко и со всей возможной вежливостью высказываю это свое суждение, дон Кандидо обращает на меня взор, в котором читается безмерный ужас и глубокое потрясение, и восклицает, простирая ко мне руки:
— Нет, нет, во имя господа бога! Нет, нет, сеньор Асорин! Забирайте себе Сервантеса, забирайте, в добрый час, но оставьте нам Дон Кихота!
Дон Кандидо даже подскочил от волнения; я понял, что допустил страшную бестактность.
— Мне известно, сеньор Асорин, откуда все это идет, — говорит дон Кандидо, — мне известно, что сейчас имеется течение, направленное против Аргамасильи; но для меня не секрет, что эти идеи восходят к временам, когда Кановас отправлялся в Томельосо и там ему забивали голову всякой вредной для нас всячиной. Вы знаете, какую ненависть питают эти из Томельосо к Аргамасилье? Так вот, я говорю вам, что Дон Кихот был отсюда; Дон Кихот — это Родриго де Пачеко, его портрет есть в нашей церкви, и никто, никто, каким бы ученым он ни был, не сможет разрушить нашу веру в это предание, которая всегда была такой крепкой и неизменной…
Что мне ответить дону Кандидо, достойному служителю бога, образцу любезности и скромности, живущему в таком уютном доме, облаченному в такие опрятные одежды. Я и сам обеими ногами стою на том, что дон Алонсо Кихано Добрый был из этого прославленного ламанчского городка.
— Сеньор Асорин, — говорит мне с улыбкой дон Кандидо, — не хотели бы вы пойти со мною ненадолго в нашу «Академию»?
— Пойдемте, дон Кандидо, — отвечаю я, — пойдемте в вашу «Академию».
«Академия» — это задняя комната аптеки сеньора лиценциата дона Карлоса Гомеса; по дороге туда мы встретили дона Луиса. Вы, возможно, не знакомы с доном Луисом де Монтальбан. Дон Луис — исконный тип старого кастильского идальго, который ни с чем не спутаешь. Дон Луис невелик ростом, нервный, подвижный, гибкий, крепкий, как сталь, аристократичный; движения и манеры его полны совершенного, прирожденного благородства; глаза горят, пламенеют, и, если бы на шею ему надеть гофрированный воротник, дон Луис походил бы на одного из тех изящных, просвещенных кабальеро, которых запечатлел на своей знаменитой картине «Погребение» Эль Греко.
— Луис, — обращается к своему брату дон Кандидо, — знаешь, что говорит сеньор Асорин? Что Дон Кихот никогда не жил в Аргамасилье.
Дон Луис мгновение молча смотрит на меня; потом слегка кланяется и говорит, стараясь с изысканной вежливостью подавить свое удивление:
— Сеньор Асорин, я уважаю все мнения; но я был бы огорчен до глубины души, безмерно огорчен, если бы у Аргамасильи похитили ее славу. Я полагаю, — добавляет он с милой улыбкой, — что вы просто пошутили.
— И в самом деле, — признаюсь я со всей откровенностью, — и в самом деле это всего лишь невинная шутка.
Тут мы переступаем порог аптеки, а затем проходим в маленькую комнату, которая виднеется в глубине. Там сидят дон Карлос, дон Франсиско и дон Хуан Альфонсо. На полках стоят белые банки; из окна через широкую решетку падает яркий, бодрящий солнечный свет; в воздухе пахнет эфиром, спиртом, хлороформом. За окном неподалеку виднеется река — зеленая, чистая, спокойная; возле моста она образует широкую заводь.
— Сеньоры, — говорит дон Луис, когда у нас уже завязалась дружеская, мирная беседа, исполненная вежливой иронии, — сеньоры, отгадайте, что сказал сеньор Асорин.
Я, улыбаясь, гляжу на дона Луиса; взгляды всех заинтересованно устремляются на мою особу.
— Сеньор Асорин, — продолжает дон Луис и глядит на меня, словно прося прощения за свою тонкую шутку, — сеньор Асорин сказал, что Дон Кихота в Аргамасилье никогда не было; то есть что Сервантес написал образ своего Дон Кихота не с нашего согражданина дона Родриго де Пачеко.
— Проклятие! — восклицает дон Хуан Альфонсо.
— Ну и ну! — произносит дон Франсиско.
— Черт возьми! — громко восклицает дон Карлос, сдвигая назад свой картуз.
Я молчу, не зная, что сказать и как оправдать свою дерзость; но дон Луис вовремя добавляет: теперь я уже считаю, что Дон Кихот жил в Аргамасилье; и тут все смотрят на меня с глубокой благодарностью и горячей признательностью. И мы беседуем как старые друзья. Вас это обрадовало? Дон Карлос постоянно читает и перечитывает «Дон Кихота»; дон Хуан Альфонсо — сдержанный, осмотрительный, человек основательных суждений — исследовал в поисках сведений о Сервантесе весь архив до последней бумажки; дон Луис перечисляет с мельчайшими деталями все самые незначительные места, в которых побывал прославленный рыцарь. А дон Кандидо и дон Франсиско то и дело приводят в подтверждение длинные цитаты из великой книги. Дух искусства, любви к родине парит в этой комнате в этот час над этими старыми испанскими идальго. А снаружи, совсем рядом, в двух шагах от окна, струится вровень с берегами благородная Гвадиана, могучая, тихая, прозрачная.
СИЛУЭТЫ АРГАМАСИЛЬИ
Ксантипа
У Ксантипы большие глаза, толстые губы и острый подбородок, клинообразный; Ксантипа всегда одета в черное и, согнувшись в три погибели, опирается на белую палочку с огромным набалдашником. Потолки в доме низкие, двери маленькие, комнаты вытянуты в длину. Ксантипа медленно бредет из комнаты в комнату, из одного внутреннего двора в другой, волоча ноги, сгорбившись над своей палкой. Время от времени она ненадолго останавливается в сенях, на кухне, в зале; тогда она прислоняет свою палку к стене, складывает вместе бледные руки, возводит глаза к небу и произносит с глубоким вздохом:
— Господи Иисусе!
А потом, если вы оказываетесь поблизости, если вы уже успели поговорить с ней пару раз, она сообщит вам, что у нее много забот.
— Сеньора Ксантипа, — сочувственно спрашиваете вы, — какие же у вас заботы?
После чего она, вздохнув еще разок, начинает рассказывать вам свою историю. Речь идет о каком-то старом нотариальном акте: об огороде, о винном погребе, о завещании. Вы совсем запутываетесь в этом лабиринте.
— И тогда, — говорит Ксантипа, — я пошла к нотариусу, понимаете? А нотариус мне сказал: «Этот огород, который у вас был, теперь уже не ваш». Я ему не поверила, но он показал мне нотариальный акт на продажу, который я подписала; а я-то никакого акта не подписывала. Понимаете?
Хотя я ничего не понимаю, я говорю, что понимаю все. Ксантипа снова возводит глаза к небу и опять вздыхает. Она собиралась продать этот огород, чтобы покрыть расходы на погребение мужа и заплатить за введение в права наследования. Мы сидим возле горящего очага; Габриэль молча протягивает к огню руки; Мерседес зачарованно уставилась на извивающиеся языки пламени.
— И тогда, — говорит Ксантипа, — так как я все не могла продать этот огород, я вынуждена была продать угловой дом, он принадлежал мне и был оценен…
Наступает короткая пауза.
— Во сколько он был оценен, Габриэль? — спрашивает Ксантипа.
— В восемь тысяч песет, — отвечает Габриэль.
— Да, да, в восемь тысяч, — говорит Ксантипа. — И кроме того я вынуждена была продать мельницу, которая была оценена…
Новая небольшая пауза.
— Во сколько она была оценена, Габриэль? — снова вопрошает Ксантипа.
— В шесть тысяч песет, — откликается Габриэль.
— Да, да, в шесть тысяч, — подтверждает Ксантипа. Она говорит еще долго, вновь пересказывает мне запутанную историю о нотариальном акте, нотариусе, свидетелях, а потом встает, опирается на палку и, согнувшись, волоча ноги, бредет мелкими шажками, открывает дверь в комнату, роется в ящике, достает толстую тетрадь с листами гербовой бумаги, потом выходит из комнаты, проверяет, хорошо ли закрыта дверь на улицу, возвращается в кухню и, в завершение всего, с величайшей торжественностью и величайшей таинственностью вручает мне этот солидный том. Я молча беру его, не зная, что должен с ним делать; Ксантипа взволнованно глядит на меня; Габриэль тоже глядит на меня; Мерседес тоже глядит на меня.
— Я хочу, — говорит Ксантипа, — чтобы вы прочитали нотариальный акт.
Я открываю первый лист, пробегаю глазами черные строчки. Я не читаю, не вникаю в судейскую прозу, но чувствую, как в доме, над этими одетыми в черное фигурами, с беспокойством взирающими на чужого человека, который, может быть, подаст им надежду, повеяло в это мгновение дыханием трагедии.
Хуана Мария
Хуана Мария вошла и на минутку присела в кухне; Хуана Мария тонкая, стройная; у нее голубые глаза, овальное лицо, красные губы. Ламанчийка она? И откуда: из Аргамасильи? Из Томельосо? Из Ущелья Лаписе? Из Эренсии? Хуана Мария исконная ламанчийка. А когда женщина исконная ламанчийка, как Хуана Мария, она наделена самым тонким, самым проницательным, самым находчивым умом и самой нежной душой, которые только может иметь женщина. Вы входите в чью-то гостиную; подаете руку той или другой даме; беседуете с ними; наблюдаете за выражением их лиц; изучаете их движения; видите, как они усаживаются, как встают, как открывают дверь, как прикасаются к мебели. И когда вы расстаетесь с этими дамами, когда покидаете гостиную, вы приходите к выводу, что, пожалуй, несмотря на всю их любезность, скромность, всю их элегантность, в памяти не осталось о них ничего определенного, яркого, чисто испанского. Какое-то время спустя вы оказываетесь в деревенской гостинице, на крестьянском хуторе, на улочке старого города. И тогда — если вы в деревенской гостинице — вы увидите, что в уголке, почти скрытая тенью, сидит девушка. Вы берете каминные щипцы и начинаете помешивать угли; возле огня сидит также несколько кумушек. Все болтают; все рассказывают — вы знаете о чем: о несчастьях, смертях, разорениях, обнищании; девушка в углу молчит; вы не обращаете на нее особого внимания. Но вот на какое-то мгновение кумушки смолкают; и в этой короткой паузе раздается, словно подводя итог, делая заключение, голос, который произносит:
— Э! Все идет, как на роду написано.
Вы удивленно поднимаете голову от огня, над которым склонились. «Чей это голос? — думаете вы. — У кого это такая приятная, мягкая, ласкающая интонация? Как может короткая фраза звучать и очень естественно и в высшей степени артистично?» И вы уже не отрываете глаз от девушки с голубыми глазами и яркими губами. Она сидит неподвижно; руки скрещены на груди; время от времени она наклоняется немного вперед, легким кивком выражает свое согласие с услышанным или роняет несколько слов, обдуманных, вежливых, иной раз оттеняя их милой иронической улыбкой.
Как, каким чудом эти аристократические свойства ума и души являются перед вами в наряде и облике простой крестьянки? Как, каким чудом из дворца эпохи Возрождения, где они взросли три столетия тому назад, перенеслись они в наши времена и очутились в скромном крестьянском доме? Читатель, я прислушиваюсь, зачарованный, к приятной, благозвучной речи Хуаны Марии, к выразительным, исполненным значения, назидательным, иной раз слегка лукавым словам. Вот настоящая испанская женщина.
Дон Рафаэль
Я не упомянул о доне Рафаэле раньше, потому что, по правде сказать, дон Рафаэль живет в своем, отдельном мире.
— Как поживаете, дон Рафаэль? — спрашиваю я его.
Дон Рафаэль призадумывается, опускает голову, разглядывает носки своих башмаков, приподнимает плечи, поджимает губы и наконец отвечает:
— Как вы хотите, чтобы я жил, сеньор Асорин? Гибну потихоньку.
Итак, дон Рафаэль гибнет потихоньку. Он живет в старом доме, живет один, спать ложится засветло; встает поздно. Что делает дон Рафаэль? Чем занимается? Что думает? Не спрашивайте, я не знаю. Позади его обветшалого жилища простирается сад, сад этот немного запущен; все сады в Аргамасилье немного запущены. В них растут высокие, белые тополи, низкорослые айвовые деревья, длинные, перекрученные виноградные лозы. За садом течет тихая прозрачная река, и ветви кустарников касаются ее струй. Ясными утрами, поднявшись с постели, дон Рафаэль совершает небольшую прогулку по саду. Затем отправляется в казино, то и дело покашливая и вытягивая при этом толстую шею из ворота куртки. Не знаю, известно ли вам, что во всех городских казино имеется таинственная, маленькая полутемная комната, где служитель приготовляет свои микстуры; в эту комнату заходят как бы украдкой, как бы исподтишка, словно жрецы, идущие совершать тайный обряд, кое-кто из посетителей казино — они появляются здесь только с одной целью — торопливые и загадочные. Дон Рафаэль тоже входит в эту комнату. Выйдя, он делает несколько кругов под солнышком на широкой площади. День уже в разгаре, часы ползут медленно, ничего не происходит в городе, ничего не произошло вчера, ничего не произойдет завтра. Почему дон Рафаэль уже двадцать лет живет в этом городе, прогуливаясь по площади, шагая по запущенному саду, один в запертом доме, проводя возле камина нескончаемые часы суровых зимних дней, слушая, как потрескивает горящая лоза, глядя, как пляшут языки пламени?
— Раньше, сеньор Асорин, — говорит мне дон Рафаэль, — я был очень деятельным.
И добавляет с выражением высокомерного пренебрежения:
— А теперь я — ничто.
Теперь дон Рафаэль, действительно, ничто; когда-то он играл важную роль в сфере политики, вращался в высших административных кругах и учреждениях провинции; а потом неожиданно очутился в одном из домов Аргамасильи. Разве у вас не вызывают глубокого интереса подобные люди, которые внезапно потерпели крах, подобные жизни, которые вдруг останавливаются, подобные души, которые не смогли — как призывал философ Ницше — «победить самих себя»? Три века тому назад в Аргамасилье начали возводить церковь; в один прекрасный день энергия обитателей города вдруг иссякла; просторная, великолепная церковь осталась незавершенной; лишь половина ее была подведена под крышу, вторая половина превратилась в развалины. В другой раз, уже в XVIII веке, на землях этого округа собрались проложить канал; сил, точно так же, не хватало, великое сооружение не пошло дальше проекта. А в XIX веке было решено, что по этим равнинам пройдет железная дорога, произвели земляные работы, вырыли широкий канал, чтобы отвести реку, заложили фундамент вокзала, но поезд тут так и не появился. Позднее, по прошествии многих лет, ламанчское воображение породило идею другого канала; все умы были охвачены воодушевлением, наехали иностранцы, заиграли оркестры, захлопали шутихи; состоялся пышный банкет, было торжественно отпраздновано начало работ, но потом воодушевление мало-помалу угасло, рассеялось, растворилось в бездействии и забвении. Что же губит здесь, на родине славного Рыцаря Печального Образа, самые высокие устремления на вершине их развития?
Дон Рафаэль прохаживается по саду; одинокий и молчаливый, гуляет по площади; навещает комнатушку казино, ничего не читает, возможно, даже не думает.
— Я, — говорит он, — гибну потихоньку.
В словах его нет печали; в них — безразличие, смирение, беспомощность…
Мартин
Мартин сидит во внутреннем дворике своего дома; Мартин крестьянин. Дома ламанчских земледельцев маленькие, побеленые, с небольшим скотным двором перед ними, с беседкой из виноградных лоз, листва которых летом придает чистым стенам светло-зеленый оттенок.
— Мартин, — говорят ему, — этот сеньор — журналист.
Мартин, который, сидя на низеньком стуле, плел циновки, встает, глядит на меня плутоватыми, бегающими глазами и говорит с улыбкой:
— Так, так, значит, сеньор из тех, что сочиняет истории.
— Сеньор, — говорят ему, — может пропечатать тебя в газетах.
— Так, так, — откликается он добродушно и лукаво. — Значит, сеньор может сделать так, что Мартин, не выходя из дому, отправится за тридевять земель?
И улыбается почти неуловимой улыбкой; но улыбка эта разрастается, превращается в гримасу чувственного наслаждения, когда в ходе нашей беседы мы затрагиваем вопросы, относящиеся к еде. Имеете ли вы какое-нибудь представление о том, что значит магическое слово «галианос»? Галианос — маленькие кусочки теста, которые варят в крепком бульоне и тушат с кусочками зайчатины или цыпленка. Это кушанье — великая любовь Мартина; он не представляет себе, что на земном шаре можно найти человека, который готовит галианос лучше, чем он, даже мысль об этом кажется ему чудовищной.
— Галианос, — говорит поучающим тоном Мартин, — надо готовить в котелке; приготовленные на сковороде никуда не годятся.
А затем, потолковав еще немало времени о различных памятных случаях, когда его приглашали готовить это блюдо, он заявляет, что всякий раз, когда ест галианос, самыми удачными кажутся ему именно те, которые он ест.
— Самым вкусным всегда бывает то, что ешь сейчас! — говорит он.
Вот великая, превосходная философия; нет прошлого, не существует будущего, только настоящее реально и важно. Какое значение имеют наши воспоминания о прошлом, что стоят наши упования на будущее? Есть только эти сочные, благоухающие в своем котелке галианос, которые сейчас перед нами; рядом с ними и прошлое и будущее — просто вымысел. И Мартин, толстый, чисто выбритый, спокойный, жизнерадостный Мартин, у которого двенадцать детей и тридцать внуков, из года в год так и продолжает сидеть в беседке своего дворика и плести циновки.
ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД
Мне думается, я должен рассказывать читателю точно, без умолчаний, не гоняясь за эффектами, не впадая в лирический восторг, обо всем, что я делаю и вижу. Сегодня утром, в шесть часов, к дверям моей гостиницы в Аргамасилье подъехал в своей маленькой повозке Мигель. В это время достославный ламанчский город еще наполовину погружен в сон; но я люблю эти часы — здоровые, ясные, свежие, плодотворные, когда небо чисто, воздух прозрачен, когда кажется, что все вокруг насыщено радостью, негой, силой, свойственными только этой поре.
— Ну что, Мигель, — спросил я, — поехали?
— Поехали, если не возражаете, — ответил Мигель.
Я уселся в маленькую, старую двуколку; лошадка-пони — крохотная, шустрая и нервная — пустилась рысью. И вот уже город кончился и перед нашими взорами распростерлась необъятная, бесконечная, приводящая в отчаяние равнина. В глубине ее, на далекой линии горизонта виднелся длинный синий мазок — светлого, слабого, мягкого синего цвета; там и сям сияли под солнцем белые, чистые стены разбросанных по полям домов; узкая, желтоватая дорога бежала перед нами, теряясь вдали, а по одну и другую ее сторону, справа и слева, шли сотни и сотни борозд, прямых, нескончаемых, симметричных.
— Мигель, — спросил я, — что это за горы там вдали?
— Это, — ответил Мигель, — горы Вильярубия.
Отчаянная лошадка торопливо бежит вперед; обширные поля сменяют одно другое, одинаковые, однообразные; все вокруг — гладкая, серая плоскость, без единого холма, без малейшего возвышения. Быстро промелькнули и остались позади засеянные пашни, на бороздах которых уже начинают зеленеть первые всходы ранней пшеницы или ячменя; теперь вся земля вокруг нас пустынная, темно-серая, черная.
— Это пустоши, — говорит Мигель, — один год их подержат под паром, а на другой — засеют.
Пустошь — то же, что невозделанная земля; один год землю засеивают; другой — оставляют невозделанной; на следующий год — вспахивают, и это называется оставлять под паром — а еще через год снова засеивают. При таком способе на огромных пространствах Ламанчи используется лишь третья часть земли. Я обвожу взглядом однообразную равнину; ни одного дерева на ней, нигде ни одной тени; временами, среди широченных засеянных участков, то поблизости, то вдали, виднеются пирамидки из камней — межевые знаки; издали, когда взор едва различает их на далеком горизонте, вам, уже потерявшему всякое терпение, изнывающему, исполненному отчаяния кажется, что вы видите город. Но время идет; одни поля сменяются другими; и то, что мы приняли за городок, превращается в пирамидки из серых камней, с которых на нас взирает своими большими желтыми глазами неподвижная, таинственная, пожалуй, даже насмешливая кукушка — одна из бесчисленных кукушек Ламанчи…
Мы едем уже четыре часа; сейчас одиннадцать; выехали мы в семь утра. Позади, уже почти не видная, осталась Аргамасилья; единственное, что различают наши глаза на плоскости равнины — это изящные, тонкие и легкие черные ветви рощи, которая украшает речной берег; перед нами неизменно маячит синева далекого горного хребта; теперь уже более глубокая, более темная. По этой дороге, через эти равнины, именно в эти часы ехал однажды жарким июльским утром великий Рыцарь Печального Образа; только увидев эти равнины, проникшись их тишиной, насладившись созерцанием сурового пейзажа, начинаешь глубоко, всей душой любить этого страдальца. О чем думал дон Алонсо Кихано Добрый, блуждая по этим полям верхом на Росинанте, выронив из рук поводья, опустив благородную, задумчивую, мечтательную голову на грудь? Какие планы, какие мечты вынашивал? Какие бессмертные, благородные дела замышлял?
Однако, пока мы поддались — как ламанчский идальго — власти нашего воображения, пейзаж вокруг значительно изменился. Не обнадеживайте себя, не спешите радоваться; равнина все та же; горизонт такой же; небо сияет по-прежнему, на горизонте все те же синие горы; но на равнине появились отдельные каменные дубы, низкорослые, коренастые, темные, они выступают густыми круглыми пятнами на этой суровой земле. Уже полдень, равнина стала каменистой, теплый воздух нарождающейся весны наполнился приятным запахом розмарина, тимьяна и шалфея; наш путь пересекает дорога на Мансанарес. Не в этом ли месте возле этой дороги встретился Дон Кихоту Хуан Альдудо, житель Кинтанара? Не здесь ли совершен один из самых великих подвигов рыцаря? Не к одному ли из этих дубов был привязан Андресильо, которого злобно сек его хозяин? Дон Кихот к этому времени уже был посвящен в рыцари, он уже мог с головой погрузиться в разные приключения, был доволен, удовлетворен, чувствовал себя сильным, отважным. И именно тогда, возвращаясь в Аргамасилью, он пресек эту чудовищную несправедливость. «Наконец-то, — думал он, — я совершил великое дело». А между тем Хуан Альдудо вновь привязал мальчишку к дубу и продолжал его безжалостно стегать. Эта глубокая, повергающая в отчаяние ирония присуща всему в нашей жизни…
Но продолжим наше путешествие, читатель: не будем впадать в печаль. На далеком горном хребте уже можно различить ущелья; его синие склоны и вершины приобретают серый оттенок. Над нами медленно, неторопливо пролетает дрофа; стая соек, сидевшая на борозде, поднимается в воздух и с криком исчезает вдали, воздух так необыкновенно, чудесно чист, прозрачен, что в отдалении уже видны маленькие белые дома; равнина все тянется, однообразная, пустынная. После долгих часов езды мы чувствуем себя подавленными, удрученными однообразием этих полей, бесконечным, чистым небом, недосягаемыми далями. И только теперь мы понимаем, почему Алонсо Кихано должен был родиться именно на этой земле и почему его вольный, необузданный дух должен был, охваченный безумием, метаться в мире вымыслов и химер. Как можно не почувствовать себя здесь отъединенным от всего? Как можно не почувствовать, что нечто таинственное, некое страстное, необъяснимое стремление, неопределенная, невыразимая тревога рождаются в нашей душе? Эта тревога, это стремление — во всем. И в отливающей золотом красной равнине без единого холма, простирающейся под небом, лишенным облаков, до соприкосновения в бесконечной дали с синим задником горы. И в глубокой, торжественной тишине пустынных, безлюдных полей. И в дрофе, которая пролетела над нами, размеренно взмахивая крыльями. И в оставшихся позади пирамидках из камня, с которых, ироничные, таинственные, смотрят нам вслед кукушки…
Но время идет; два часа дня; мы быстро проехали городок Вильярту; это белый город, слепяще белый, матово-белый, с голубыми дверьми. Равнина утрачивает свое приводящее в отчаяние однообразие; почва начинает приобретать слегка волнистые очертания; земля темно-красного цвета; горы уже совсем близко; склоны их засажены пепельно-серыми оливковыми деревьями. Мы уже добрались до знаменитого Ущелья Лаписе. Это ущелье — широкий проход, образованный провалом в горе; наша повозка быстро поднимается по пологому склону; день догорает; вскоре показываются белые дома. Мы въезжаем, уже пять часов. Завтра нам предстоит отправиться к небезызвестному постоялому двору, где Дон Кихот был посвящен в рыцари.
А сейчас я вхожу в маленькую каморку без окон в гостинице почтенного Ихинио Маскараке и сажусь заполнять при свете свечи свои четвертушки.
ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР УЩЕЛЬЯ ЛАПИСЕ
Я выхожу из своего закутка в гостинице Ихинио Маскараке, расположенной в Ущелье Лаписе, в шесть часов утра. Андреа старая служанка — подметает кухню веником.
— Как жизнь, Андреа? — говорю я, уже считая себя старым жителем Ущелья Лаписе. — Как денек? Чем занимаетесь?
— Вы же видите, — отвечает она, — кручусь как белка в колесе.
Затем я спрашиваю, знает ли она дона Хосе Антонио; Андреа смотрит на меня, словно удивляется, как это мне взбрело в голову, что она может не знать дона Хосе Антонио.
— Дон Хосе Антонио! — восклицает она наконец. — Да это такой хороший человек!
Я решаю встретиться с доном Хосе Антонио. Торговцы и кучера, ночевавшие в гостинице, уже на ногах, со двора то и дело выезжают повозки. Паскаль отправляется в Сеговию с грузом лука и урожаем целой грядки белой свеклы, Сесарео везет насос для вина на ферму Брочеро, Рамон едет с повозкой глазурованной керамики в Мансанарес. Местечко начинает просыпаться; на небе перистые облака, которые постепенно исчезают; слышно, как звякают своими колокольчиками козы, проходит свинопас, издавая громкие, жуткие вопли. Ущелье Лаписе состоит всего из одной широкой улицы с высокими и низкими домами, одни выдаются на улицу, другие отступают от нее, образуя выступы, углы, закоулки. Между домами лежит широкая, белая дорога. По расположению местечка, находящегося высоко в горах в обширной впадине между крутых скал, видно, что это поселение образовывалось постепенно, с развитием постоянной торговли и как следствие непрестанного потока путешественников.
Уже семь часов. Двери у дона Хосе Антонио распахнуты настежь. Я вхожу и спрашиваю громким голосом:
— Есть тут кто-нибудь?
В глубине длинного, темного коридора появляется какой-то господин. Это дон Хосе Антонио, иначе говоря, единственный врач Ущелья Лаписе. Он снимает шляпу, и я вижу розоватую, блестящую лысину; вижу, что глаза у него большие, выразительные; он носит седые усики без заостренных концов, курносый и улыбается, улыбается одной из тех улыбок, которые ни с чем не спутаешь, — исполненных доброты, света, исполненных напряженной внутренней жизни, быть может, смирения, быть может, глубокой скорби.
— Дон Хосе Антонио, — говорю я, после того, как мы обменялись обязательными первыми фразами, — дон Хосе Антонио, это правда, что в Ущелье Лаписе существует тот знаменитый постоялый двор, где Дон Кихот был посвящен в рыцари?
Дон Хосе Антонио усмехается.
— Этот постоялый двор — моя слабость, — говорит он, — да, он существует; вернее, существовал; я спрашивал о нем всех самых старых жителей нашего местечка; собрал все сведения, какие только сумел… и, — добавляет он, глядя на меня так, словно просит извинения, — написал кое-что; после покажу вам.
Дон Хосе Антонио находится в небольшой белой и пустой гостиной; в углу — печка; немного подальше — буфет; в другом углу виднеется швейная машинка. На ней в беспорядке лежат какие-то большие листы бумаги. Супруга дона Хосе Антонио сидит у окна.
— Мария, — обращается к ней дон Хосе Антонио, — дай мне те бумаги, что на машинке!
Донья Мария встает и собирает бумаги. Мне глубоко симпатичны эти женщины из местечек; боязнь уронить свое достоинство делает их немного застенчивыми, иной раз одеты они в поношенные платья; иной раз, когда в их скромные жилища приходит неожиданно гость, они смущаются и краснеют за свою грубую фаянсовую посуду или простую мебель; но зато им свойственны доброта, простодушие, наивность, горячее желание быть приятными, которые зачаровывают вас и заставляют мгновенно примириться и с клеенкой на столе, и с отбитыми краями тарелок, и с оплошностями служанки, и с лобызаниями, что расточает вашим брюкам ужасный пес, вы никогда его не видели, но теперь он ни на шаг от вас не отходит. Донья Мария вручила бумаги дону Хосе Антонио.
— Сеньор Асорин, — говорит милый доктор, протягивая мне объемистую тетрадь, — поглядите, чем я занимаюсь.
Я беру тетрадь в руки.
— Это, — поясняет дон Хосе Антонио, — газета, которую я выпускаю; всю неделю я собственноручно ее пишу, а в воскресенье несу в казино; там ее читают мои сотоварищи, и потом я снова приношу ее домой, чтобы не разрознивать свою коллекцию.
В этой газете дон Хосе Антонио пишет статьи о гигиене, о воспитании и сообщает местные новости.
— Вот в этой газете, — говорит дон Хосе Антонио, — я писал те статьи, о которых вам говорил. Но вы все лучше поймете не по статьям, а когда посетите место, где был прославленный постоялый двор. Хотите пойдем туда?
— Пойдемте, — отвечаю я.
Мы отправляемся. Постоялый двор расположен у выхода из городка; почти у самых последних домов. Но я говорю так, словно постоялый двор действительно существует, а двора этого, друг читатель, нет. Есть большая поляна, поросшая дикими травами. Когда мы появляемся здесь, солнце уже заливает своим золотым светом окрестности. Я осматриваю место, на котором находился постоялый двор; кое-где еще сохранились замощенные галькой участки — тут был внутренний двор; узкая дыра свидетельствует, что здесь когда-то был колодец, другая — более широкая — отмечает вход в погреб или подвал для вина. На заднем плане возвышаются, все в трещинах, полуразрушенные, четыре красноватые стены, образуя большой прямоугольник без крыши — остатки старого омета. Постоялый двор был обширным, огромным; по сегодняшним измерениям он занимает участок больше, чем в сто шестьдесят квадратных метров. Из-за того, что он находился на самом перевале, возле широкой дороги, дворы его, комнаты, сени, кухня, вероятно, в любое время были заполнены путниками всех классов и сословий; с одного конца Ущелья взору открываются земли Толедо; с другого — область Ламанчи. Широкий путь шел прямо от Аргамасильи к постоялому двору. Город Аргамасилью тоже все время посещали путешественники, направлявшиеся то в одни края, то в другие. «Это проходной город, — сообщают в 1557-м его жители в своем докладе Фелипе II, — он находится на главной дороге, которая проходит через Валенсию, Мурсию, Альмансу и Еклу». Понимаете вы, как Дон Кихот, живший уединенно в маленьком скромном городке, никуда не выезжая, смог собрать в таком изобилии свои рыцарские романы? Не могли ли доставлять эти книги доброму идальго проездом из Мадрида или Валенсии веселые люди, которые, возможно, находили отдых от тягот пути в увлекательной беседе с рыцарем-фантазером? И не оставляли ли они ему в благодарность, на память, в обмен на его странные рассуждения, книгу об Амадисе или «Тиранта Белого»? Какие живописные и разнообразные люди, ничтожные и значительные, должны были встречаться Сервантесу на постоялом дворе Ущелья Лаписе, где он останавливался несчетное количество раз! Разве он не отправлялся при каждом удобном случае из своей любимой Ламанчи в земли Толедо? Разве в толедском городе Эскивиас не жила его любовь? Конечно, он не раз и не два отдыхал на этом постоялом дворе среди пройдох, потаскух, главарей воровских шаек, цыган, королевских судей, солдат, священнослужителей, торговцев, акробатов, перегонщиков скота, актеров!
Я думаю обо всем этом, пока иду, углубившись в свои мысли, по широкой площадке, где был постоялый двор; здесь одной лунной ночью совершал бдение над своим оружием Дон Кихот.
— Ну как вы это находите, сеньор Асорин? — спрашивает дон Хосе Антонио.
— Очень интересно, дон Хосе Антонио, — отвечаю я.
Туман, закрывавший далекую равнину, рассеялся. В двух шагах перед постоялым двором возвышается гора, темная, с рядами оливковых деревьев на склонах; позади него виднеется другая гора. Это две стены Ущелья. Пора возвращаться. Дон Хосе Антонио некоторое время идет вместе со мной по дороге; он болен; у него тяжелое и упорное недомогание; он знает, что неизлечим; жестокие страдания мало-помалу очистили его душу от всего мелкого, наносного; сейчас вся она — в его глазах и улыбке. Мы распрощались; быть может, я больше не вернусь в эти места. И я смотрел, как вдали, на белой дороге исчезает этот добрый друг на час, с которым мне не суждено увидеться вновь…
ПУТЬ В РУИДЕРУ
Возможно, что наступит день, когда похождения, неудачи, бедствия и злоключения этого летописца будут прославлены историей. После двадцати часов езды в повозке, которые занимает путь в Ущелье Лаписе и обратно, в Аргамасилью, я уже здесь, в деревне Руидера — известной близлежащими лагунами, — сижу в харчевне Хуана и пишу эти строки, едва успев ступить на землю после восьми часов тряски по дорожным ухабам и камням, сопровождаемой чудовищным тарахтением. Мы выехали из Аргамасильи в восемь часов; пустынная, бурая, печальная равнина — та же, по которой мы ехали к Ущелью Лаписе; но в этой части, как бы оживляя ее время от времени, смутно просвечивают то там то здесь сквозь утреннюю дымку массивы стройных серебристых и больших черных тополей. По этой самой дороге отправлялся некогда в свои странствия Рыцарь Печального Образа; его дом — сегодня здесь большой трактир — находился рядом с садом; красивые, густые деревья отбрасывали приятную тень; в их листве пели птицы; несколько легких, элегантных сорок прыгали — как сейчас — с ветки на ветку, и блики света озаряли их белоснежные или густо-черные крылья. А славный рыцарь, устав от бесконечного чтения в комнате, может быть, медленно прогуливался под кронами, с книгой в руке, погруженный в свои фантазии, углубившись в свои сновидения. Вы уже знаете, что, как говорят, доном Алонсо Кихано Добрым был идальго дон Родриго Пачеко. Что таинственное и ужасное было в жизни этого Пачеко? Какие муки и бредовые замыслы терзали его душу? Сегодня в церкви Аргамасильи можно увидеть заплесневелый, облупившийся холст; на нем, при свете свечи, озаряющем темную часовню, можно разглядеть впалые глаза, одухотворенные и скорбные, широкий, умный лоб, красивый, чувственный рот и рыжую густую бороду, заостренную на конце. А внизу на холсте читаем, что этот портрет поднесен доном Пачеко, по обету, Деве Марии за то, что она избавила его от «великого холода, который заморозил ему мозги и заставлял его издавать громкие вопли днем и ночью»…
Но равнина постепенно приходит к концу; далекий синий, сероватый, фиолетовый задник горы уже ближе; между изгибами низких, мягко округленных холмов виднеются тополиные рощи. При нашем появлении сороки взлетают с посевов, кружатся некоторое время, нервно подергивая тонкими хвостами, а потом стремительно и мягко вновь опускаются на борозды. Хлебные поля сменяются виноградниками; еще немного, и мы — в горах, среди скал и ущелий. Небо чистое, прозрачное; на высоком, беспредельном бледно-голубом своде нет ни малейшего облачка. В одном из виноградников несколько крестьян подрезают лозу; с ними работает девушка в подобранной юбке и мужских брюках.
— Подрезают, — говорит старый Мигель, мой возница, — девушке восемнадцать, это моя соседка.
А потом, наклонившись в сторону виноградарей, кричит:
— Поглядим, скоро ли вы тут кончите и на мой виноградник придете!
Повозка катится по каменистой дороге, углубляющейся в горы; равнина осталась позади; мы все едем вперед — то у края обрыва, то спускаясь в овраги, то снова поднимаясь на взгорья и холмы. Мы уже въехали в пойму, как называют ее местные обитатели; пойма — это тесное, глубокое и пустынное ущелье, посредине которого течет, заключенная в каменное русло, Гвадиана. Половина одиннадцатого; перед нами появляется старинный и замечательный замок Пеньярройя. Поднимаемся к нему. Он расположен на крутом склоне горы; от этой древней крепости еще сохранилась большая квадратная башня, прочная, приземистая, неразрушимая, и толстые, с бойницами, стены, окружавшие крепость. Сохранился также большой зал, где сейчас часовня. Охраняет вековой замок и заправляет маслом лампаду в церкви маленькая старушка, крепкая и красная, как эти стены. Я поднялся вместе с нею на башню; лесенка узкая, скользкая, темная; две обширные комнаты, расположенные одна над другой — в два этажа. А сверху — с крыши — взору открывается суровая, залитая светом панорама. Ущелье широкими извивами уходит вдаль; образующие его невысокие горы черного цвета; оно покрыто мастиковыми деревьями цвета позеленевшей меди, кое-где в эту зеленую симфонию вносят свою мрачную, пепельную ноту каменные дубы. А внизу у широкого ложа реки, между этими суровыми, угрюмыми стенами — желтая, золотистая мелодия обширных зарослей осоки. Наверху простирается бесконечное голубое небо без облаков.
— Англичане, — рассказывает хранительница замка, — как приедут сюда, все тут избегают, прямо как козы: на все стены взбираются. («У англичан, — говорил мне Хосе Антонио на постоялом дворе в Ущелье Лаписе, — карманы набиты камнями». «Англичане, — рассказывал мне в Аргамасилье один местный житель о тюрьме Сервантеса, — заходят сюда и долго думают, один даже встал на колени, кричал и поцеловал землю».
Разве вы не усматриваете в этом преклонения, которое самый идеалистичный в мире народ испытывает по отношению к самому прославленному и великому из всех идеалистов?)
В замке Пеньярройя не сохранилось никаких воспоминаний, связанных с Дон Кихотом; но сколько раз должен был приходить сюда, влекомый своими грезами, великий дон Алонсо Кихано! Однако следует продолжить наше путешествие; оставим фантазии. Уже полдень; дорога ни на мгновение не отклоняется от глубокого русла Гвадианы. Мы видим те же черные склоны, те же золотые осоки; вот разве что вдали величественно парит в воздухе орел; еще дальше реет другой, так же ритмично, размеренно; а где-то за ними поднимается в прозрачном воздухе столб голубого дыма, рассеивается и исчезает. В этом пункте нашего непрерывного движения мы открываем самое удивительное, самое необыкновенное, самое приятное и величественное из всего, что видели. Низкий, вытянутый в длину домишко, с бурой крышей из разбитых черепиц, спрятанный, укрытый тонкой сеткой из ветвей вязов и черных тополей; это сукновальня, умолкнувшая, обветшалая, развалившаяся. В нескольких шагах отсюда виднеются в темной роще другие стены, глинобитные, черные. Перед ними лежат недвижимо в больших грубых ящиках несколько крепких огромных молотов из дерева. Пенистый поток воды с шумом и грохотом низвергается в глубокую яму, где безмолвствует огромное колесо, приводящее в движение сукновальные машины. Воздух как-то необычайно ясен и прозрачен; небо голубое; осока возле реки слегка колышется; тонкие ветви вязов красиво вырисовываются в воздухе; все кружат и кружат размеренно орлы; прыгают сороки, задирая свои черные хвосты. И глухой, грохочущий, непрестанный шум воды отдается в узком ущелье…
Читатель, это знаменитые сукновальни, которые памятной ночью повергли в такое волнение, в такой глубокий ужас души Дон Кихота и Санчо Пансы. Сумерки спустились на землю, два героя ощупью пробирались по роще; вскоре их обрадовал мерный шум воды; спустя немного ужасный звон кандалов, цепей, пронзительные крики, звуки ударов привели их в ужас и вынудили остановиться. Санчо дрожал; Дон Кихот через мгновение почувствовал, как в нем пробуждается обычное его бесстрашие; он вскочил на славного Росинанта, а затем сообщил оруженосцу о твердом намерении совершить подвиг. Санчо плакал; Дон Кихот стоял на своем; шум становился все оглушительней. Они долго спорили, пререкались и осыпали друг друга ядовитыми насмешками, а тем временем взошло солнце. И тут пораженные господин и слуга увидели шесть неутомимых, мокрых и очень обыкновенных валяльных молотов, толкущихся в своих грубых ящиках. Дон Кихот задумался. «Санчо поглядел на него, — пишет Сервантес, — и увидел, что рыцарь пристыженно опустил голову…»
Именно здесь, перед этими все еще существующими молотами, испытал славный ламанчец глубокое и горькое унижение; в другом месте у реки еще видна густая роща; это из нее, без сомнения, испуганные Дон Кихот и его оруженосец услышали ужасный грохот молотов. В наши дни сукновальные машины большую часть года бездействуют; до недавнего времени их в ущелье работало четырнадцать или шестнадцать. «Сейчас, — говорит мне хозяин тех, которые еще работают, — хватает и двух». К нему доставляют сырье из Даймьеля, Вильяробледо, Соланы, Альгамбры, Инфантеса, Аргамасильи; самая усиленная работа приходится на время стрижки овец в отарах; а после, весь остаток года, машины пребывают в глубоком покое, и, пока вода бесполезно стекает в яму, сороки и орлы кружат над ними в вышине…
А я продолжаю мое путешествие, скоро оно придет к концу. Уже начинают показываться между черными склонами ущелья ясные, голубые, спокойные и чистые зеркала лагун Руидеры. Дорога делает поворот, по обочинам ее цветет дикий миндаль — красными и розовыми цветами. Высоко наверху появляются белые дома деревни; и, возвышаясь над ними, защищая их, вырисовывается на индиго неба большой старинный дом…
О, сельский покой, друг мой, ты, который даруешь утешение усталому путнику, снизойди в мою душу!
ПЕЩЕРА МОНТЕСИНОСА
Летописец уже чувствует себя подавленным, впадает в отчаяние, раздражение, безнадежность, в галлюцинаторное состояние из-за неизменного, упорного созерцания полей под паром, полей невозделанных, полей, покрытых слабым, едва заметным зеленым налетом. В Руидере, после двадцати восьми часов, проведенных в повозке, я немного перевел дух; потом, ранним утром, когда небо было еще покрыто редкими облачками восхода, мы отправились в пещеру Монтесиноса. Сервантес утверждает, что от деревни до пещеры — две лиги; цифра эта точная. И когда мы выехали из деревни по крутой, извилистой улочке между низких домов, крытых осокой; когда мы достигли уже вершины склона, оставив позади деревню, нашим взорам открылась новая панорама, необыкновенная, непривычная для этой классической земли равнин; однако не менее монотонная, не менее однообразная, не менее удручающая, чем гладкая равнина. Это уже не пустынные поля, не необъятные дали, заканчивающиеся синим мазком горы. Нет, это пейзаж с холмами, волнообразными изгибами, возвышенностями, склонами, глубокими красноватыми оврагами, с ущельями, которые извиваются между склонами гор. Небо полно света и сияния; воздух чист и прозрачен; земля серовато-черного цвета. Темные, угрюмые холмы заросли крепкой, как сталь, прямой растительностью: розмарином, тимьяном, мастиковым деревом; смутными пятнами простирается дубовая поросль; каменные дубы вздымают на крепких, прямых стволах свои вековые кроны, которые выделяются, круглые, сильные, на ярком индиго неба…
Мы уже целый час едем верхом на порядком заезженных клячах; холмы, возвышенности и склоны сменяют друг друга — всегда одинаковые, всегда такие же самые, словно волны бесконечного прибоя; царит глубокая тишина; там, вдали, среди густой, темной листвы, сверкают, блестят, излучают сияние белые стены одинокого дома; над нами мягко парит орел; время от времени раздается внезапное и шумное хлопанье крыльев вспорхнувшей куропатки. А тропинка, неясно обозначенная тропинка, по которой мы едем, исчезает, появляется снова, опять пропадает. Мы едем медленно, останавливаясь, вновь двигаясь вперед в поисках скрывшейся дорожки, затерявшейся среди мастиковых деревьев, дубовых рощ и зарослей дрока.
— Это исчезающие тропинки, — говорит мне мой проводник, — и приходится находить их наугад.
Прошло еще немало времени. Пейзаж становится просторнее, открытее, превращается в бесконечное, свинцово-серое волнистое пространство. В этой дикой, первозданной, ничем не прерываемой равнине — мощь, мрачность, суровость, неукротимая сила, которые наводят нас на мысли о конкистадорах, о воинах, о фанатиках веры — об одиноких, впавших в заблуждение страшных душах далеких времен. Справа от нас местность внезапно снижается и круто идет вниз, мы оказываемся на дне ущелья. Уж вы мне поверьте: эти тихие, пустынные ущелья, в которые падаешь после долгих странствий, обладают не поддающимся описанию очарованием. Иногда дно их покрыто песком; стены — красноватые, изборожденные дождями; на одном склоне растет одинокое деревцо дикого миндаля; все дышит глубокой, умиротворяющей тишиной. А если где-нибудь в укромном уголке среди тростников бьет родничок, то вода его течет с приятным, ласкающим слух журчанием, а в ее прозрачном зеркале отражается иной раз на мгновение белое облачко, медленно плывущее по необъятному небосводу. На дне этого ущелья мы обнаружили один из таких ключей; долго стояли, глядя на его воду; а затем, с неясным сожалением, выбрались из ущелья, и снова нашим взорам предстал угрюмый простор уже виденного пейзажа. Мы все едем, едем, едем. Наши лошади сворачивают то направо, то налево, пробираются между старыми и молодыми дубами, поднимаются на темные холмы. Звенят колокольчики стада; там и сям встречаются нам козы — черные, рыжие, белые, они взирают на нас блестящими глазами, удивленно и с любопытством.
— Добрались, — раздается внезапно крик проводника.
В Ламанче, говоря «неподалеку», подразумевают шесть или восемь километров; «поблизости» — значит в двух километрах; сказать «очень близко» — все равно что сказать — нам осталось пройти еще километр. Мы уже поблизости от знаменитой пещеры; надо перевалить через большой холм, который возвышается перед нами, затем спуститься по склону, потом пересечь низину. И, совершив все это, мы наконец обнаруживаем на одном из склонов зияющее в красной скале отверстие.
«О госпожа моих деяний и чувств, достославнейшая и бесподобная Дульсинея Тобосская!» — взывал в один памятный день несравненный рыцарь на коленях перед этой красной расщелиной, возводя мечтательные взоры к небу.
Деяние, которое ему предстояло свершить, было из ряда вон выходящим, возможно, самым большим подвигом из всех подвигов рыцаря. Дон Алонсо Кихано Добрый неподвижно и мужественно стоит перед пещерой; если в его душе и есть тень страха в эту минуту, мы ее не видим.
Дон Алонсо Кихано Добрый сейчас спустится в эту бездонную глубь. Почему бы нам не войти за ним? Почему не ступить через три столетия после него туда, где ступала его дерзкая нога? Надо сказать, что снаружи пещера изменилась; в былые времена, — когда писал Сервантес, — у широкого ее входа густо росли ежевика, терновник, дикая смоква; сейчас по голой скале извивается одинокая безлистная виноградная лоза. Крепкие, высокие стены обширной пещеры серого и красного цвета в пятнах, в подтеках из зеленых и желтых лишайников. Люди, в разные времена посещавшие пещеру, выцарапали здесь острием ножа неровные и нетвердые буквы своих имен — на вечную память: «Мигель Яньес, 1854», «Энрике Алькасар, 1861» — читаем мы в одном месте. «Доминго Карранса, 1870», «Мариано Мерло, 1883» — видим мы немного дальше. Несколько больших камней, обвалившихся со свода, преграждают нам путь, мы вынуждены пробираться между ними, чтобы спуститься в глубь пещеры.
«О госпожа моих деяний и чувств, достославнейшая и бесподобная Дульсинея Тобосская! Если просьбы и мольбы твоего счастливого поклонника достигнут твоего слуха, заклинаю тебя твоей беспримерной красотой, выслушай их и не откажи мне в своей благосклонности и защите сейчас, когда они мне столь необходимы».
Уже запылали факелы; мы вступаем в темноту расщелины; нет необходимости обвязывать нас крепкими веревками, мы не испытываем неудобств — как добрый дон Алонсо — от того, что не захватили с собой колокольчик и не можем подавать сигналы из глубины; при нашем продвижении вперед не взлетают ни стаи зловещих ворон и галок, ни полчища коварных и жутких летучих мышей. Свет дня постепенно исчезает, превращаясь в слабое сияние там, наверху; пол скользкий, выпуклый, под легким уклоном спускается вниз; над нашими головами простирается обширный, высокий, вогнутый, сочащийся влагой каменный свод. И так как мы спускаемся медленно и по дороге разжигаем костерки из щепок и палых листьев, за нами остается вдали вереница огней. Они рассеивают своим красным светом темноту, озаряя плотную, белую, стелющуюся пелену дыма, который уже заполняет пещеру. Воздух густой, тяжелый, порою в тишине слышится размеренный, медленный стук падающих с потолка водяных капель. А в глубине, внизу, между изборожденных трещинами стен, в обширной впадине виднеется спокойная черная вода, глубокая, неподвижная, таинственная, тысячелетняя вода, подземная вода, которая издает глухой, не поддающийся определению шум — угрожающий и жалобный, — когда мы бросаем в нее камни. И здесь, в этих водах, лежащих в вечном покое, в темноте, вдали от голубого неба, вдали от облаков, водящих дружбу с прудами, вдали от покрытых белыми камнями русел, вдали от тростников, вдали от тщеславных тополей, которые любуются своим отражением в реках, здесь, в этих зловещих, проклятых водах заключена вся притягательная сила, вся волнующая поэзия пещеры Монтесиноса.
Выйдя обратно на дневной свет, мы вздохнули полной грудью. Небо затянулось свинцовыми тучами; дул яростный ветер, от которого стонали дубы на горе; то и дело припускал упорный, холодный дождь. Мы снова тронулись в путь, в путь через черные возвышенности, черные холмы, черные склоны. Стаи ворон пролетают над нами, горизонт, прежде такой сияющий, закрыт занавесом из серых туч; душа впадает в состояние какого-то оцепенения, уныния, небытия.
«Да простит вам бог, друзья мои, что вы лишили меня такой сладостной жизни и такого приятного зрелища, которыми еще не был удостоен ни один смертный», — сказал Дон Кихот, когда его вытащили из пещеры.
Добрый рыцарь увидел в ней прекрасные луга и чудесные замки. Воскресни сегодня Дон Кихот, он спустился бы не в эту пещеру; он спустился бы в другие, более глубокие и страшные подземелья. И перед тем, что увидел там, он, возможно, испытал бы те же удивление, ужас и возмущение, которые почувствовал, заслышав шум сукновальных машин, при встрече с мельницами и лицемерными торгашами, поставившими под сомнение реальность существования его принцессы. Ибо не отречение от Дульсинеи услышал в их словах великий идеалист, а отречение от вечной справедливости и вечной любви к людям.
Эти печальные воспоминания — урок, который мы получили в пещере Монтесиноса.
ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
Мельницы Криптаны все вертятся и вертятся.
— Сакраменто! Трансито! Мария Хесус!
Я кричу во весь голос, призывая Сакраменто, Трансито и Марию Хесус. Только что я читал «Дон Кихота», но свеча в подсвечнике вдруг погасла, оставив меня в темноте. А я хочу исписать несколько четвертушек.
— Сакраменто! Трансито! Мария Хесус!
Куда подевались эти девушки? Я приехал в Криптану два часа тому назад; еще издали, из окошка поезда, я увидел огромный белый город на косогоре, освещенный алым, кровавым светом вечерней зари. Мельницы на вершине холма медленно вращали свои крылья; внизу расстилалась красная, однообразная, гладкая равнина. По прибытии на вокзал я увидел за оградой несколько старых экипажей — из тех городских экипажей, в которых прогуливаются идальго, из тех облинялых, пыльных, грохочущих экипажей, что каждый вечер катятся по дороге, украшенной двумя рядами низкорослых, чахлых, иссохших деревьев. Изнутри к стеклам окошек прижимаются лица дам, — я отношусь к ним с глубоким почтением, — изучающих жесты, движения, шаги этого единственного в своем роде, необычайного, таинственного пассажира, который ехал в первом классе в рваных башмаках и засаленной шляпе. Наступал вечер; экипажи уехали, стуча всеми своими деревянными и металлическими частями; я направился пешком по дороге к далекому городу. Экипажи свернули в сторону; лица этих милых сеньор — доньи Хуаны, доньи Ангустиас, или доньи Консуэло — не отрывались от стекол. Я шагал, завернувшись в плащ, медленно, как странник, сгибающийся под тяжестью своих несчастий. По одну и по другую сторону дороги стали появляться обширные ламанчские загоны для скота; потом показались беленые дома с голубыми дверями; еще дальше виднелись неуклюжие большие строения с широкими, выступающими оконными решетками с крестами. Небо постепенно темнеет; вдали едут по дороге затушеванные вечерними сумерками старые, почтенные, утомленные экипажи. По улицам идут старухи в траурных одеждах; раздаются протяжные удары колокола.
— Далеко отсюда до гостиницы? — спрашиваю я.
— Вот она, — говорят мне и указывают на дом.
Дом старинный, с гербом, косяки и притолоки у дверей — из камня; на окнах маленькие решетки; глубокие сени, вымощенные гравием. Через заднюю их дверь вы попадаете во внутренний двор, окруженный галереей с дорическими колоннами. По левую сторону — столовая. Я поднялся по ступенькам, которые ведут к ней; вошел в темную комнату.
— Кто там? — окликнул голос из мрака.
— Это я, — ответил я громко. И тут же добавил: — Приезжий.
В тишине я услышал звук часов: тик-так, тик-так; затем возник легкий шорох, — вроде прошелестело платье — и, наконец, кто-то крикнул:
— Сакраменто! Трансито! Мария Хесус!
А потом присовокупил:
— Садитесь, пожалуйста.
Куда мне садиться? Кто говорит со мной? В какое заколдованное жилище я попал?
Я робко спросил:
— Что, нет света?..
— Да, теперь его дают очень поздно.
Но тут вошла девушка со свечой в руке. Кто это? Сакраменто? Трансито? Мария Хесус? Я увидел, что сияние свечи — словно на портрете кисти Рембрандта — озаряет овальное личико с мягкой, нежной линией подбородка, с большими глазами и маленьким ртом.
— Этому сеньору, — говорит старая женщина, сидящая в углу, — нужна комната; отведи его во внутреннюю.
Внутренняя комната находится очень и очень внутри; мы проходим через дворик; проникаем в загадочную дверцу; поворачиваем направо; поворачиваем налево; проходим по узенькому коридорчику; поднимаемся по лестнице, спускаемся по другой. И наконец, вступаем в небольшую комнату с кроватью. А потом в другую узкую комнатушку с потолком, до которого можно дотянуться рукой, с застекленной дверью в стене метровой толщины и малюсеньким открытым окошком в другой стене, такой же массивной.
— Вот эта комната, — говорит девушка, ставя подсвечник на стол.
А я спрашиваю:
— Вас зовут Сакраменто?
Она слегка краснеет.
— Нет, — отвечает она, — я Трансито.
Следовало бы добавить: «Какая вы хорошенькая, Трансито!» Но я не сказал этого, а раскрыл «Дон Кихота» и погрузился в чтение. «Вдруг, — читал я при свете свечи, — они увидели перед собой в поле тридцать или сорок ветряных мельниц…» Свеча постепенно гаснет, я кричу. Приходит Трансито с новой свечой и говорит:
— Сеньор, если вам будет угодно, пожалуйте ужинать.
Поужинав, я вышел прогуляться по улицам; бледная луна заливала своим светом белые фасады и отбрасывала зубчатые тени от карнизов крыш в глубину канавы; неясные, таинственные, выступали очертания широких, старых балконов, гербов, оконных решеток с чугунной листвой и филигранью, крепких дверей, украшенных гвоздями и замечательными дверными молотками. Испытываешь глубокое душевное наслаждение, когда идешь вот так по незнакомому городу, окруженный тенями; двери, балконы, углы, апсиды церквей, башни, освещенные окна, звуки далеких шагов, жалобный лай собак, лампадки алтарей — все это постепенно пробуждает наши мысли, взвинчивает нервы, развязывает фантазию, увлекая в область грез…
Мельницы Криптаны все вертятся и вертятся.
— Сакраменто, что мне делать сегодня?
Я спросил об этом у Сакраменто, покончив с завтраком; Сакраменто такая же хорошенькая, как Трансито. Ночь уже прошла. Может быть, пора пойти поглядеть на ветряные мельницы? Я иду по улицам. Днем они совсем другие, чем ночью. Куда девались таинственность, очарование, гипноз ушедшей ночи? Я поднимаюсь с доном Хасинто по крутым, извилистым улочкам; вверху, на холме над городом, открываются взору древние мельницы; внизу простирается вдаль, до соединения с красным морем равнины, серовато-черное пространство крыш, перемещающееся белыми пятнами фасадов.
Возле двери одной из мельниц мы остановились.
— Хавьер, — спросил дон Хасинто мельника, — она скоро будет работать?
— Сейчас будет, — ответил Хавьер.
Вам кажется странным, что дон Алонсо Кихано Добрый принял мельницы за великанов? Ветряные мельницы, как раз во времена Дон Кихота, являлись необычайным новшеством; в Ламанче их ввели в употребление в 1575-м, на это указывает Ричард Форд в своем «Handbook for travellers in Spain»[54]. «Должен сказать, — писал Джироламо Кардано в книге „De rerum varietate“[55] в 1580-м относительно этих мельниц, — это такое чудо, что, если бы я в него поверил до того, как увидел своими глазами, меня бы сочли простаком». Нет ничего удивительного в том, что воображение славного ламанчца воспламенилось при виде этих неслыханных, удивительных машин.
Однако Хавьер уже вскарабкался по перекладинам крыльев своей мельницы и начал натягивать на крылья паруса; бушует яростный ветер, четыре паруса уже натянуты. Вот крылья уже вращаются: сначала медленно, потом все быстрее. Внутри башенка мельницы состоит из трех сужающихся этажей; в нижнем помещаются мешки с зерном; средний — это то место, куда по широкому желобу ссыпается мука; на верхнем — крутятся два жернова, размалывая зерно. На этом последнем этаже есть маленькие окошки, откуда, как с дозорной вышки, просматривается вся округа. Дряхлая машина работает с глухим шумом. Я разглядываю через одно из окошек необъятную, бесконечную, красную, с участками зеленоватого цвета, равнину; желтые дороги длинными, извивающимися полосами теряются вдали; сверкают на солнце далекие белые стены; небо заволоклось серыми облаками; ревет ураганный ветер. А по тропинке на косогоре движутся муравьиной цепочкой одетые в траур, подняв, защищаясь от холода, верхние юбки на головы, женщины, которые ходили этим утром, в пятницу великого поста, к дальней церкви облобызать ноги вильяхосского Христа и возвращаются теперь медленно, черные, задумчивые, печальные, по пустынной, красной равнине…
— Мария Хесус, — спрашиваю я, придя вечером домой, — свет будет еще не скоро?
— Да придется еще подождать немножко, — говорит она.
Я усаживаюсь в погруженной в сумерки комнате; слушаю тиканье часов; колокола звонят Angelus.
Мельницы Криптаны все вертятся и вертятся.
САНЧО ПАНСЫ ИЗ КРИПТАНЫ
Как зовут этих милых, этих симпатичных, этих любезных, этих остроумнейших друзей из Криптаны? Не дон ли Педро, дон Викториано, дон Бернардо, дон Антонио, дон Херонимо, дон Франсиско, дон Леон, дон Луис, дон Доминго, дон Сантьяго, дон Фелипе, дон Анхель, дон Энрике, дон Мигель, дон Грегорио и дон Хосе? В четыре часа утра я услышал сквозь сладкий сон неясный шум, похожий на эхо далекого урагана, на гул огромного водопада. Я в испуге проснулся; снаружи доносятся хриплые звуки труб, стук в двери, торопливые шаги. «В чем дело? Что происходит?» — спрашиваю я себя в ужасе. Шум возрастает; я ощупью одеваюсь, смущенный, оробевший. Несколько сильных ударов сотрясают дверь. И чей-то голос кричит:
— Сеньор Асорин! Сеньор Асорин!
Я открываю дверь и при свете ночника, свечей, факелов вижу изрядную толпу мужчин, которые кричат, смеются, прыгают, машут руками и трубят в огромные морские раковины, заполняющие весь дом своим громким гудением.
— Сеньоры! — восклицаю я со все возрастающим страхом и недоумением.
Один из этих сердечных, этих остроумных сеньоров выходит вперед и собирается говорить; тут же все умолкают; наступает глубокая тишина.
— Сеньор Асорин, — говорит идальго, — мы — Санчо Пансы из Криптаны, мы явились, чтобы похитить вас.
Я все еще ничего не понимаю. Что означают эти слова, кто они, эти сеньоры — Санчо Пансы из Криптаны? Куда они хотят увести меня? Однако вскоре эта жуткая тайна разъясняется: в Криптане нет Дон Кихотов. Аргамасилья гордится тем, что она родина Рыцаря Печального образа. Криптана желает быть представительницей и истолковательницей практического, острого и доброго ума несравненного Санчо Пансы. Сеньор, только что кончивший говорить, — дон Бернардо, другие — дон Педро, дон Викториано, дон Антонио, дон Херонимо, дон Франсиско, дон Леон, дон Луис, дон Доминго, дон Сантьяго, дон Фелипе, дон Анхель, дон Энрике, дон Мигель, дон Грегорио и дон Хосе.
— Мы Санчо Пансы из Криптаны, — повторяет дон Бернардо.
— Да, — говорит дон Викториано, — в других местах Ламанчи пусть считают себя Дон Кихотами, если им так нравится, здесь мы все чувствуем себя духовными братьями и товарищами Санчо Пансы.
— Поживете здесь два-три дня, — добавляет дон Леон, — сами увидите, как мы от всех от них отличаемся.
— И чтоб поскорее убедить вас в этом, — заключает дон Мигель, — мы решили сейчас же похитить вас.
— Сеньоры, — восклицаю я, намереваясь произнести короткую речь; но мои ораторские таланты весьма ограничены. И я удовлетворяюсь тем, что молча пожимаю руки дона Бернардо, дона Педро, дона Викториано, дона Антонио, дона Херонимо, дона Франсиско, дона Леона, дона Луиса, дона Доминго, дона Сантьяго, дона Фелипе, дона Анхеля, дона Энрике, дона Мигеля, дона Грегорио и дона Хосе. И все мы трогаемся в путь; морские раковины вновь трубят; гремят шаги по камням внутреннего дворика. Заря угасает. На улице стоит длинная вереница колясок, кабриолетов, повозок, ослов, груженных дровами для костра, сковородами и огромными сосудами из рога, полными оливкового масла. И вот тут, когда мы рассаживаемся по повозкам, среди громких криков и суеты, постепенно начинает исчезать холодность, принужденность, налет сдержанности и церемонности первых минут. Я уже коренной Санчо Панса из этой благородной Криптаны. Я еду в коляске между доном Бернардо и доном Леоном.
— Как все это на ваш взгляд, сеньор Асорин? — спрашивает дон Бернардо.
— На мой взгляд, чудесно, дон Бернардо, — отвечаю я.
Вы уже знакомы с доном Бернардо, у него серо-бело-желтая борода, он носит большие очки и с цепочки его часов свисает маленький стальной камертон. Этот камертон означает, что дон Бернардо музыкант, считаю необходимым добавить, — даже если вам это уже известно, — что дон Бернардо, к тому же, фармацевт. По дороге, когда мы едем в нашей коляске, дон Бернардо делает мне одно интересное признание.
— Сеньор Асорин, — говорит он, — я сочинил гимн Сервантесу, к юбилею.
— Замечательно, дон Бернардо, — отвечаю я.
— Желаете послушать, сеньор Асорин? — спрашивает он.
— С превеликим удовольствием, дон Бернардо, — отвечаю я.
Дон Бернардо слегка откашливается, откашливается еще раз и, пока повозка страшно встряхивает нас на ухабах, тихо запевает:
Слава Сервантесу, слава, слава творцу «Дон Кихота»…Ясный свет дня озаряет обширную плоскую равнину, горизонт чист, на нем не видно деревьев, и ярко-голубой мазок замыкает даль.
Коляска все едет и едет по узкой дороге. Сколько времени прошло с нашего отъезда? Сколько времени должно минуть еще? Два часа, три, четыре, пять? Не знаю, я утратил представление о времени в моих скитаниях по Ламанче.
— Сеньор Асорин, — говорит мне дон Леон, — сейчас приедем, осталась одна лига.
Некоторое время мы молчим. Дон Бернардо наклоняется ко мне и тихонечко шепчет:
— Я сочинил этот гимн, чтобы исполнить его во время юбилея «Дон Кихота». Вы обратили внимание на текст? Не могли бы вы сказать мне пару слов о моем гимне, сеньор Асорин?
— Разумеется, дон Бернардо! — восклицаю я. — Нет необходимости просить меня об этом; я патриот, и мой долг высказаться о вашем гимне.
— Прекрасно, дон Асорин, прекрасно, — отвечает удовлетворенный дон Бернардо.
Проходит полчаса, час, два, три. Коляска подпрыгивает и подскакивает, равнина все та же, серая, желтоватая, красноватая.
— Сейчас приедем, — то и дело говорит дон Леон.
— А когда приедем, — добавляет дон Бернардо, — сыграем гимн на фисгармонии в часовне.
— Сейчас приедем, — повторяет дон Леон.
Проходит час, может быть полтора, а то и два часа. Я снова заверяю вас, что среди этих равнин я утрачиваю всякое представление о времени. Но вот, наконец-то, на голом холме мы видим дом. Это церковь вильяхосского Христа. Вот мы подъезжаем. Ступаем ногами на землю. Притопываем по ней, чтобы размяться. Вот уже дон Бернардо — этот ужасный и любезный человек — ведет нас всех в часовню, открывает фисгармонию, извлекает из нее несколько жалобных арпеджио и принимается вопить:
Слава Сервантесу, слава, слава творцу «Дон Кихота»…У меня есть нелепая, безумная мысль, что все гимны немного похожи между собой; я хочу сказать, что по существу все они одно и то же. Однако гимн дона Бернардо не лишен некоторой оригинальности; в этом я и признаюсь дону Бернардо.
— О! Еще бы, сеньор Асорин, еще бы! — восклицает он, вскакивая из-за фисгармонии.
Затем он протягивает мне руку и добавляет:
— Вы мой лучший друг, сеньор Асорин.
И я думаю где-то в самой глубине души: «Однако этот, такой приветливый, такой милый дон Бернардо, действительно ли он Санчо Панса, как заверяет каждую минуту, или в нем, скорее, есть нечто от Дон Кихота?» Но пока я оставляю этот вопрос без ответа; надо идти в поле, гулять, бегать, греться на солнце, взирать с вершины холма на уже сто раз виденный пейзаж; в этих приятных занятиях нас застает полдень. Описать вам во всех подробностях наш вкусный, плотный, сочный, истинно санчопансовский завтрак? Бурдючок с вином, которому позавидовал бы сам добрый оруженосец, переходил из рук в руки, вливая в наши пищеводы отменный ламанчский нектар; взоры воспламеняются, языки развязываются. Вот уже и десерт; это самое время для откровенных признаний. Дон Бернардо склоняется ко мне, без сомнения, намереваясь сказать нечто важное. Не знаю почему, у меня возникает смутное предчувствие, о чем он собирается говорить, но я всегда готов с удовольствием выслушать все, что соблаговолит сказать мне дон Бернардо.
— Сеньор Асорин, — говорит мне дон Бернардо, — как вы думаете, этот гимн может иметь успех?
— Никакого сомнения, дон Бернардо! — восклицаю я с глубоким убеждением. — Этому гимну сужден верный успех.
— Вы его хорошо слышали? — снова вопрошает меня дон Бернардо.
— Да, сеньор, — говорю я, — я слышал его прекрасно.
— Нет, нет, — возражает он недоверчиво. — Нет, нет, сеньор Асорин, вы его слышали плохо. Как только кончим есть, мы тотчас его опять исполним.
Дон Мигель, дон Энрике, дон Леон, дон Грегорио и дон Хосе, которые сидят поблизости от нас и слышат слова дона Бернардо, слегка улыбаются. Я заверяю, что с глубоким удовлетворением выслушаю еще раз гимн моего замечательного друга.
Покончив с едой, мы снова входим в часовню. Дон Бернардо садится за фисгармонию и извлекает из нее несколько арпеджио, затем вопит:
Слава Сервантесу, слава, Слава творцу «Дон Кихота»…— Прекрасно, прекрасно! — восклицаю я.
— Браво, браво! — кричат все хором.
И мы вновь взбираемся на холмы, греемся на солнце, созерцаем однообразную равнину, виденную уже тысячу раз. День клонится к вечеру, настало время возвращаться. Протрубили раковины; коляски наши пришли в движение; мы снова едем по длинной, бесконечной, извилистой дороге. Сколько часов прошло? Два, три, четыре, шесть, восемь, десять?
— Сеньоры! — восклицаю я уже в Криптане, у дверей гостиницы, перед толпой благородных идальго. Но мои ораторские таланты весьма ограничены, и я удовлетворился тем, что горячо, с искренней сердечностью пожал в последний раз руки этим милым, любезным, остроумнейшим друзьям — дону Бернардо, дону Педро, дону Викториано, дону Антонио, дону Херонимо, дону Франсиско, дону Леону, дону Луису, дону Доминго, дону Сантьяго, дону Фелипе, дону Анхелю, дону Энрике, дону Мигелю, дону Грегорио и дону Хосе.
В ТОБОСО
Тобосо поразительный город, единственный в своем роде. Вы уже покинули Криптану; равнина становится волнистой, там, где пустоши, она — красная, желтоватая, серая, а на засеянных участках — едва уловимого зеленого цвета. Вы едете час, полтора часа; не видите ни одного дерева, ни одной лужи, ни островка сочной зелени. Посреди дороги попрыгали суетливые сороки, нервно дергая длинными хвостами, и снова взлетели в воздух; по широким полям тянутся одна за другой пирамидки из серых камней. И время от времени по обширному пространству земли, где едва проглядывают всходы ячменя, шагает пара мулов, и батрак направляет плуг вдоль нескончаемых борозд.
— Что тут делают? — спрашиваете вы, немного удивленные тем, что землю вспахивают уже после посева.
— Пропашку, — отвечают вам спокойно.
Делать пропашку означает проходить с плугом по пространству между бороздами, чтобы вырвать с корнем сорняки.
— А посевы не повредят? — снова спрашиваете вы. — Не затопчут нежные ростки, не раздавят?
Возница, с которым вы едете, усмехается вашей наивности; может быть, вы из тех бедняг, кто, подобно летописцу, никогда не вылезает из своих книг.
— Какой там! — восклицает он — крестьянин. — Посевы в это время, чем больше на них жмешь, тем лучше.
Участки земли, сероватые, красноватые, желтоватые, все одного размера, открываются взору с вызывающим отчаяние однообразием. Прошел час, как мы выехали из Криптаны. И вот, обогнув холм, мы в первый раз увидели в далекой дали, у самого горизонта маленькую башню и черноватое пятно, едва различимое на свинцовом единообразии пейзажа. Это городок Тобосо. Должна пройти еще пара часов, прежде чем мы въедем на его улицы. Панорама не меняется; вы видите все те же поля под паром, те же мрачные пустоши, те же нежные всходы ячменя. Быть может, на далеком косогоре вам повезет обнаружить одинокий участок, засаженный симметричными рядами светло-серых олив. И больше вы не увидите на всей необъятной равнине даже следа деревьев. Дубы вблизи Тобосо, под которыми Дон Кихот ждал возвращения Санчо, исчезли. Небо, по мере того как день идет вперед, покрывается плотным свинцовым пологом. Повозка трясется по дороге, вспугивая куропаток, проваливаясь в глубокие ухабы. Мы недалеко от места. Уже видна четырехугольная, массивная, желтоватая колокольня церкви и черные крыши домов. Глубокая тишина царит на равнине; по сторонам дороги показываются толстые разрушенные стены. В глубине, направо, виднеется черная развалившаяся часовня среди хилых черных деревьев, торчащих за длинными повалившимися заборами. Вы замечаете, как вами овладевает чувство глубокого одиночества и заброшенности. Кажется, что в окрестностях этого места словно бы сосредоточилась, соединилась вся печаль Ламанчи. А повозка едет и едет. Мы уже в Тобосо. Все больше развалин — стен, домов, загонов для скота; вы видите широкое, ровное поле, покрытое серыми камнями, разбитыми стенами, остатками фундаментов. Глубокая тишина; нет ни одного живого существа; кажется, что все застыло в покое. А дальше, за этими руинами, выделяясь на пепельном, мертвенно-бледном, мрачном, угрюмом, трагическом небе, виднеется кучка домов, бурых, землистых, черных, со стенами, покрытыми трещинами, с обвалившимися углами, дырявыми крышами, покосившимися трубами, прогнившими, готовыми рухнуть, навесами, выщербленными стенами внутренних дворов.
Вы не слышите ни малейшего шума; ни стука колес, ни лая собаки, ни далекого звонкого кукареканья петуха. Вы углубляетесь в улицы города. И видите все те же покрытые трещинами разваливающиеся стены; впечатление запустения, смерти, которое овладело вами вначале, усиливается до болезненного чувства, по мере того как вы едете по этим улицам и дышите этим воздухом.
Большие просторные богатые дома разрушились, и остатки их стен покрыты низкими, бурыми черепичными крышами; взгляду предстают старинные круглые порталы, заваленные нетесаным камнем; кое-где между глиняными заборчиками, среди низеньких домишек и груды строительного мусора обнаруживается вдруг крепкий, достойный уважения кусок стены седельной мастерской… Вы медленно движетесь по улицам; никого на них нет; ничто не нарушает тишины. Так вы попадаете на площадь. Площадь — это широкое, пустынное пространство, по одну ее сторону возвышается среди безлюдных руин церковь, прочная, непоколебимая, слева от нее видны остатки стен большого старинного дома; справа находятся покрытая трещинами древняя часовня и длинная облупленная стена. День склоняется к вечеру. Вы задерживаетесь ненадолго на площади. В свинцовом небе открылась широкая расселина; сквозь нее льется сумеречный свет. Неподвижные, углубленные в себя, вы созерцаете руины этого древнего, мертвого города, озаренные зловещим, красноватым сиянием. И видите — это завершает ваше впечатление — видите окруженную глубокой тишиной острую вершину черного, прямого кипариса над разрушенной стеной возле часовни, а перед его темным пятном — нежную, серебристую листву дикой оливы, которая, временами, слегка трепещет и дрожит в тишине…
«Как мог Тобосо прийти в такой упадок?» — думаете вы, покидая площадь. «Тобосо, — говорят вам, — был раньше богатым городом, сейчас в нем и намека не осталось на то, чем он был в прежние времена». Дома, которые разваливаются, не отстраивают вновь, жители переселяются в соседние города, старые дворянские семьи — уже на протяжении жизни нескольких поколений вступавшие в близкокровные браки — вымирают, оставшись без потомства. Вы все едете и едете по улицам. И вновь видите разрушенные стены, заколоченные двери, развалившиеся арки. Где находился дом Дульсинеи? Действительно ли Дульсинеей была эта Альдонса Сарко де Моралес, о которой толкуют историки? Тобосо изобилует фамилиями Сарко, дом несравненной принцессы возвышается на одной из окраин города, по соседству с полями; еще сохранились его развалины. Спуститесь по улице, которая начинается на одном из углов пустынной площади; в глубине этой улицы видны облезлые стены седельной мастерской, поверните затем направо, потом пройдите несколько шагов и наконец остановитесь. Вы находитесь перед обширным зданием, ветхим, изборожденным трещинами, некогда этот дом, должно быть, состоял из двух этажей, но вся верхняя часть обвалилась, и сегодня старый дом почти на уровне двери, покрыт скромной низкой крышей, а неровности и трещины на стенах из благородного камня заделаны глиной.
Это и есть жилище самой восхитительной из всех ламанчских принцесс. В настоящее время здесь прозаическая маслобойня. И, чтобы довершить унижение, в знак полного разгрома, во внутреннем дворе, в углу, под вязанками из ветвей оливы, разбитые, поруганные, лежат два замечательных герба, которые прежде украшали фасад. Длинный забор идет от дома к полю и замыкает улицу…
«— Санчо, друг мой, направляйся ко Дворцу Дульсинеи, кто знает, может быть, она еще не спит, — говорил своему оруженосцу дон Алонсо, въезжая в Тобосо в полночь.
— В какой еще дворец мне направляться, ваша светлость? — отвечал Санчо. — Эта благороднейшая дама живет не во дворце, а в небольшом домике, я сам видел».
Дом предполагаемой Дульсинеи, сеньоры доньи Альдонсы Сарко де Моралес, был большим и богатым. Бросим последний взгляд на его останки; уже сгущаются ночные тени, колокола высокой массивной колокольни роняют на мертвый город свои звоны. По Чертовой улице, главной улице, возвращаются с поля несколько упряжек мулов, с глухим громыханием влача за собой плуги. И какие волнующие представления рождаются в вашей душе, когда среди этого глубокого покоя, этой атмосферы запустения и упадка вы вдруг замечаете в тени сумерек фигуру старого идальго в плаще, медленно скользящую мимо заколоченной двери, разбитых каменных плит дома, разрушенной стены, из-за которой выглядывают дикий миндаль в цвету или кипарисы…
ТОБОССКИЕ МИГЕЛИСТЫ
Почему бы не сообщить вам удивительную, неслыханную новость? Повсюду на нашей планете автор «Дон Кихота» — Мигель де Сервантес Сааведра; в Тобосо он просто — Мигель. Все относятся к нему с предельной сердечностью; все любят воображать, что были знакомы с его семьей.
— Я, сеньор Асорин, — говорит нам Сильверио, — дошел до того, что верю, будто знал отца Мигеля, его деда, братьев и дядей.
Вы представляете себе дона Сильверио? А дона Висенте? А дона Эмилио? А дона Хесуса? А дона Диего? Мы все сидим за столом, покрытым камчатой скатертью в красивых узорах; на нем расставлены чашки из фарфора, тонкого фарфора, который так приятно встретить здесь, в провинции. Донья Пилар — очень скромная и любезная дама — с превеликой учтивостью разливает нам ароматный напиток. И, посмаковав первый глоток, дон Сильверио говорит, словно вдохновленный этим нектаром, подвигнутый им к сердечным излияниям:
— Сеньор Асорин, пусть считается, что Мигель был из Алькасара, пусть; что Блас тоже из Алькасара, не возражаю; но дед, дед Мигеля, вне всякого сомнения, сеньор Асорин, дед Мигеля был отсюда.
И на мгновение взор дона Сильверио загорается. Я повторяю: вы представляете себе дона Сильверио? Это самый классический тип идальго, который когда-либо встречался на землях Ламанчи: существует тайное родство, глубинная, предопределенная связь между обликом дона Сильверио и разрушенными стенами Тобосо, заколоченными дверями, дырявыми крышами, длинными, обвалившимися заборами. Лицо у дона Сильверио зеленовато-желтое, оливковое, с лиловатым, опаловым отливом, лоб немного выступающий; ниже, в области рта, замечается легкое западание, затем снова выступ — подбородок, гладкий, острый, и на нем седая узенькая бородка, в совершенстве гармонирующая с длинными серыми усами, небрежно и прямо свисающими по углам рта. Глаза у дона Сильверио исключительно выразительные: глаза, которые сияют и говорят. Руки у него большие, костистые, узловатые; они то и дело поднимаются, опускаются, — красноречивые и быстрые, — когда изо рта старого идальго фонтаном бьют слова, горячие, живые, стремительные, красочные. Дон Сильверио мне очень нравится; этот человек уже тридцать три года обучает тобосских детей. Он любезно и вежливо беседует с вами. А почувствовав, что уже завоевал немного ваше доверие, почтенный кабальеро извлекает из внутреннего кармана пиджака толстую, засаленную пачку бумаг и читает вам цветистый сонет, посвященный Дульсинее. Если расположение ваше к нему значительно увеличилось, тогда он, иронически улыбаясь, читает вам еще и сатиру, страшно антиклерикальную, такую, о которой мечтал бы Торрес Наарро для своей «Propalladia»[56]. А когда степень расположения возрастает еще на несколько делений, тогда он ведет вас поглядеть на свой улей с окошечком из стекла, позволяющим наблюдать за работой пчел.
Все мы сидим вокруг стола; живописный круг из старых, исконно испанских лиц.
У дона Диего впалые глаза, широкий лоб и каштановая бородка; он задумчив, мечтателен, молчалив; время от времени улыбается — не произнося ни слова — легкой, умной и проницательной улыбкой. У дона Висенте — как у Гарсиласо на портретах — коротко остриженная голова и густая борода. Дон Хесус низенький, толстый и непоседливый. А у дона Эмилио костлявое, угловатое лицо, едва заметные усики и бородка клинышком.
— Сеньор Асорин, — повторяет дон Сильверио, — Мигель был не отсюда; и Блас тоже. Но как можно сомневаться в том, что дед Мигеля здешний?
— И не сомневайтесь, — добавляет донья Пилар с любезной улыбкой, — дон Сильверио прав.
— Да, да, — говорит дон Сильверио, — я видел генеалогическое древо этого рода. Я видел древо, сеньор Асорин! И знаете, откуда идут его корни?
По правде говоря, мне неведомо, откуда идут корни генеалогического древа рода Сервантесов.
— Не знаю, дон Сильверио, — немного смущенный признаюсь я.
— Корни этого древа, — провозглашает дон Сильверио, — идут из рода Мадридехос. И еще, сеньор Асорин, во всех городках поблизости встречаются Сервантесы, они есть или были в Аргамасилье, в Алькасаре, в Криптане и в Тобосо. Как можем мы сомневаться в том, что Мигель был из Алькасара? Разве не свидетельствуют о том, что он был ламанчцем, все названия населенных пунктов и земель, которые он приводит в «Дон Кихоте» и которые не может знать тот, кто не жил здесь долгое время, кто не отсюда.
— Да, Мигель был ламанчцем! — присовокупляет дон Висенте, проводя рукой по бороде.
— Да, ламанчцем, — говорит дон Хесус.
— Ламанчцем, — подтверждает дон Эмилио.
— Еще бы не ламанчцем! — восклицает дон Диего, вскидывая голову и расставаясь с далеким миром грез.
А дон Сильверио добавляет сурово:
— Но попробуйте сказать это академикам!
Вот оно произнесено, это великое слово! Академики! Вы слышали? Вы почувствовали все его значение? По всей Ламанче, во всех местечках, городах и деревнях в которых побывал, я слышал эту фразу, произносимую всегда особым тоном. Академики много лет тому назад, не знаю когда, решили, что Сервантес был из Алькалы, а не из Алькасара, с тех пор постепенно у старых идальго Ламанчи скапливались раздражение, злоба, гнев против академиков. И сегодня в Аргамасилье, Алькасаре, Тобосо, Криптане чувствуется великая, страшная ненависть к академикам. Не знаю точно, что подразумевается под «академиками»; для мужчин, женщин, детей — для всех «академики» что-то вроде потусторонней силы, могущественной и ужасной, нечто вроде грозного и злобного божества, которое навлекло на Ламанчу величайшее из несчастий своим безапелляционным и чудовищным решением о том, что Мигель де Сервантес Сааведра родился не в Алькасаре.
— Академики, — говорит дон Эмилио с глубоким отчаянием, — никогда от этого не откажутся, потому что не захотят признаться в своей ошибке.
— Академики сказали, — добавляет дон Висенте с иронией, — и значит, это нерушимая истина.
— Как можем мы оспаривать, — добавляет дон Хесус, — то, что сказали академики!
А дон Диего, облокотившийся о стол, вскидывает свою голову задумчивого мечтателя и шепчет еле слышно:
— Подумаешь, академики!
И тут вдруг дон Сильверио энергично взмахивает руками и громко провозглашает:
— Но не будет так, как говорят академики, сеньор Асорин! Не будет! Мигель был из Алькасара, пусть хоть весь мир говорит другое. И Блас — оттуда же; а дед был из Тобосо.
И затем:
— Здесь, в доме дона Кайетано, есть кое-какие документы той эпохи; я сейчас их изучаю и могу заверить вас, что не только дед, но также несколько дядей Мигеля родились и жили в Тобосо.
Что могу я возразить дону Сильверио? Станет ли кто-нибудь утверждать, что человеку не подобает верить, будто дед Сервантеса был из города Тобосо?
— И мало того, — продолжает достойный идальго, — в Тобосо существует и всегда существовало предание, что в городе жили родственники Мигеля, здесь до сих пор есть дом, который все мы называем «домом Сервантеса». А дон Антонио Кано, наш земляк, разве его вторая фамилия не Сервантес?
Дон Сильверио на мгновение умолк; мы с нетерпением ждали продолжения. Потом он сказал:
— Сеньор Асорин, мне вы можете верить, глаза, которые перед вами, видели подлинный герб рода Мигеля.
Я изобразил легкое удивление.
— Как, — воскликнул я, — вы видели герб, дон Сильверио?
А дон Сильверио энергично и с выражением:
— Да, да, я его видел! На щите были изображены две оленихи, а девиз был такой:
С двумя оленихами гербовый щит: одна пасется, другая спит; та, что пасется, мир возвещает; та, что уснула, его утверждает.И дон Сильверио, который произнес эти слова торжественным и громким голосом, смолк, воздев правую руку вверх и глядя мне прямо в глаза, а затем обвел торжествующим взглядом остальных присутствующих.
Мне очень нравится дон Сильверио; моя симпатия распространяется на дона Висенте, дона Диего — мечтательного кабальеро, на дона Хесуса, на дона Эмилио — с его бородкой клинышком. Когда мы расстались, было ровно двенадцать часов ночи, не лаяли собаки, не хрюкали свиньи, не ревели ослы, не мяукали кошки, как это было в памятную ночь, когда Дон Кихот и Санчо явились в Тобосо; царила глубокая тишина; мягкий, ласкающий свет луны омывал улицы, вливался в трещины на разрушенных стенах, целовал кипарисы и дикую оливу, которые растут на площади…
ИСПАНСКАЯ ЭКЗАЛЬТИРОВАННОСТЬ
В Алькасаре-де-Сан-Хуан
Я хочу положить конец моим путешествиям в географической столице Ламанчи. Найдется ли еще другой город столь типичный, столь ламанчский, где столь глубоко чувствовались бы и становились понятными завораживающее воздействие этих гладких равнин, тяжелая, полная самоотречения жизнь этих достойных земледельцев, приводящее в отчаяние однообразие часов, которые все проходят и проходят, неторопливые, бесконечные, в атмосфере грусти, одиночества и бездействия? Улицы широкие, чрезмерно просторные, дома низкие, сероватого, свинцового, землистого цвета; сейчас, когда я пишу эти строки, небо затянуто темными тучами, дует, завывает, ревет ледяной, яростный ветер, гонит по пустынным дорогам облака пыли; издали до меня доносятся бессвязные, жалобные удары колоколов; изредка пробежит по улицам крестьянин, укутанный в свой темный плащ, или женщина, вся в черном, с закинутыми на голову юбками, из складок которых выглядывает ее посиневшее лицо; в глубине широкой, безлюдной площади виднеются свинцово-серые шпили и красные стены ветхой церкви… Вы все идете, идете против ветра по широкой, бесконечной дороге, и пыльные вихри хлещут вас, пока вы не доберетесь до большого казино. И тогда, если дело происходит утром, вы входите в пустые залы с деревянным полом, по которому стучат ваши ботинки. Никого здесь нет, вы тщетно звоните, снова и снова, во все звонки, печи не топятся, холод начинает сковывать ваши члены. И тогда вы опять выходите на улицу, опять шагаете по нескончаемой пустынной дороге, бичуемый ветром, ослепляемый пылью, вы возвращаетесь в гостиницу, где тоже не топятся печи, входите в свою комнату, садитесь, погружаетесь в печаль и чувствуете, как на ваш череп тяжелым грузом давит вся скука, все одиночество, все безмолвие, вся тоска города и окрестных полей.
Скажите, не становятся ли вам понятными на этой земле бредовые мечты, безудержные порывы воображения великого безумца? На этих равнинах ваше воображение начинает лихорадочно метаться, в мозгу рождаются видения, призраки, мучительные, безрассудные фантазии. В Мансанаресе — в пяти лигах от Аргамасильи — ходят тысячи рассказов о ворожбе, чарах, приворотных зельях и отравленных кушаньях, которыми разгневанные покинутые девушки кормят своих неверных возлюбленных; в Руидере — тоже поблизости от Аргамасильи — шесть дней тому назад умер парень; за два месяца до этого он, будучи в полном здравии, увидел в зеркале какую-то фигуру с косой в руках и с того дня начал худеть и чахнуть и в конце концов умер. Но все это отдельные, индивидуальные случаи, а вот в Аргамасилье, на родине Дон Кихота, галлюцинации имеют коллективный, эпический, общенародный характер. Расскажу вам об одном таком случае, с тех пор не прошло еще и полгода. Как-то раз служанка в одном из домов Аргамасильи выбегает из гостиной и кричит, что там горит, все бросаются на пожар, и вскоре пламя погашено, сам по себе факт этот не представляет никакого интереса, но вот проходит два дня, служанка заявляет — по ночам ей является какой-то старик. Сначала это сообщение вызывает улыбки, но некоторое время спустя в доме вспыхивает второй пожар. Этому событию тоже не придают значения, но оно возбуждает какие-то неопределенные подозрения. А на следующий день — новый пожар, третий. Как это могло случиться? Какая тайна скрывается за этими повторяющимися бедствиями? Уже пробудились интерес и любопытство. Уже на смену безразличию пришло подозрение. И страх проникает в души. Служанка клянется, что поджоги устраивает старик, который ей является, обитатели дома ошарашены, напуганы; соседи настораживаются; весть о странных происшествиях постепенно распространяется по всему городу. А тут снова пожар. После чего все, озадаченные и перетрусившие, начинают кричать, что этот призрак, очевидно, добивается заупокойной мессы; священник, к которому идут за советом, соглашается с таким решением; месса отслужена, пожары больше не вспыхивают, и успокоившийся, удовлетворенный городок может наконец отдохнуть от всех кошмаров…
Но это умиротворение длится очень недолго. Дней через пять-шесть, в то время как жители города прогуливаются, греются на солнышке, женщины сидят за шитьем в кухнях, вдруг раздается тревожный набат. Что такое? Где горит? Все вскакивают, в одно мгновение утрачивают свою безмятежность, мечутся, кричат. Горит городская школа, в этом, как и в предыдущих случаях, нет ничего особенного, но жители Аргамасильи, охваченные подозрениями, возбужденные, вновь возвращаются мыслями к колдовским козням виновника предыдущих пожаров. Школа находится напротив дома, где загоралось в прошлые разы; колдун всего лишь сделал большой скачок и перепрыгнул в другое помещение. Огонь погашен; довольные горожане расходятся по домам. Но, однако, мир оказывается недолговечным; на следующий день вновь раздается набатный звон; горожане поспешно выбегают на улицы; вопят, строят тысячи предположений; нервы возбуждаются; умы во власти безумных идей. В течение четырех, шести, восьми, десяти дней, и утром, и вечером снова звучит тревожный набат, и все население города, испуганное, впавшее в отчаяние, изнуренное, обезумевшее, мечется, размахивает руками, вопит, волнуется, думая о домовых, о колдовстве, о страшных сверхъестественных силах. Что делать в такой критический момент? «Все! Хватит! — восклицает наконец алькальд. — Хоть весь город сгори, в колокола пусть больше не бьют!» И эти слова, словно кабалистическое заклятие, уничтожают чары — колокола больше не звонят; пожары больше не загораются.
Ну, что вы скажете об этих ламанчских страстях? Город погружается в глубокий покой; никто ничего не делает. Земли едва потревожены допотопной сохой; сады и огороды запущены; Томельосо остался без орошения, почти без воды, кроме нескольких колодцев, и закупает фрукты и овощи в Аргамасилье, где через город и сады течет полноводная Гвадиана, томельосским батракам платят на два реала меньше, чем их собратьям из соседних городков. Простите меня, мои добрые и благородные друзья из Аргамасильи; вы сами дали мне эти сведения. Время влачится медленно в этом состоянии паралича, ум дремлет; и однажды вдруг старуха заговорит о привидениях, какой-нибудь озорник устроит несколько поджогов, и вот уже до тех пор пребывавшее в покое воображение людей бешено заработало и увлекает их в мир фантазий. Разве не здесь родина великого фантазера дона Алонсо Кихано? Разве не в этом городке задумана бессмертная книга испанской земли? Разве это не то же безумное, безрассудное и бурное воображение, которое внезапно нарушает свое бездействие, чтобы затем снова бесплодно впасть в паралич?
Именно эту безумную, парализующую экзальтированность и осудил Сервантес в своем «Дон Кихоте», а не любовь к идеалу, не мечту, не простодушие, не отвагу, не веру в самих себя, не могучий взлет воображения, который так восхищает английский народ в нашем Идальго, — все эти качества совершенно необходимы, чтобы осуществить любое из великих и благородных деяний человечества, без них и народы и отдельные личности неизбежно идут к упадку…
Краткий путеводитель для иностранцев, которые приезжают к нам по случаю Юбилея
The time they lose in Spain[57].
Среди нас находится доктор Деккер. Доктор Деккер, прежде всего, F.R.C.S., то есть Fellow of the Royal College of Surgeons;[58] затем доктор Деккер — филолог, философ, географ, психолог, ботаник, нумизмат, археолог. Простое рекомендательное письмо доктора Пауля Шмицта — известного испанской литературной молодежи по дружбе с ней в былые годы, — помогло мне завязать знакомство с прославленным членом Лондонского королевского общества хирургов. Доктор Деккер не остановился ни в одном из знаменитых отелей столицы; ни сеньор Кандевелье, ни сеньор Баена, ни сеньор Ибарра не удостоились чести занести его имя в свои книги. Разве доктор Деккер смог бы написать этот великий труд, если бы он жил в отеле Пас, или в отеле Парис, или в отеле Инглес? Нет, доктор Деккер обитает в скромнейшем частном доме нашего среднего класса; стол в столовой покрыт клеенкой — беловатой; спинки кресел в гостиной засалены. «The best in the world!»[59] — воскликнул с восторгом доктор Деккер при виде этого зрелища, имея в виду, что это она, Испания, лучшая в мире.
А затем доктор Деккер извлек из кармана карандаш. И, настороженно расхаживая с ним туда и сюда, словно rifle-man[60] с ружьем, тут же начал собирать материал для своей ужасной книги. Что это за книга? Я уже назвал ее: «The time they lose in Spain». Почтенный доктор объяснил мне в двух словах свой замысел, план, метод; я сразу все понял. Доктор Деккер очарован Испанией; доктор Деккер без ума от Мадрида. «The best in the world!» — восклицает он каждую минуту, исполненный восторга.
А это приводит в такой восторг уважаемого доктора Деккера. «Ах! — говорит он, — Испания — это страна, где только и делаешь, что ждешь». Утром доктор Деккер поднимается и доверчиво идет к умывальнику; однако прославленный член Лондонского королевского общества хирургов испытывает легкое разочарование: в умывальнике нет ни капли воды. Доктор Деккер кличет служанку; как раз в эту минуту служанка куда-то вышла; ну что ж, его обслужит хозяйка дома; но хозяйка дома как раз причесывается, и, так или иначе, придется подождать минут семь. Доктор Деккер достает записную книжку и карандаш и пишет: «Семь минут». Знают ли в этом доме, когда иностранцы завтракают? Конечно, они не завтракают в тот же час, что местные жители; когда доктор Деккер просит чашку горячего шоколада, его предупреждают, что надо еще этот шоколад сварить. И присовокупляют еще одно небольшое замечание: все, что делаешь в Испании, надо делать в положенное время. Прославленный доктор опять ждет — пятнадцать минут, и записывает в своей книжечке: «Пятнадцать минут».
Почтенный доктор выходит из дому.
Само собой разумеется, ни один трамвай не появляется тогда, когда нам хочется, существует какой-то тайный и неумолимый рок, придающий всему, в том числе и трамваям, непостижимые для нас свойства и направления. Но доктор Деккер философ и знает, что, когда нам надо ехать направо, проходит семь трамваев в левую сторону, а когда мы намереваемся отправиться налево, все семь появляющихся трамваев катят направо. Но эти философские умозаключения доктора Деккера не мешают ему извлечь свою книжечку и записать: «Восемнадцать минут».
Найдется ли такой иностранец, которому посчастливилось бы не иметь дело с нашими канцеляриями, министерствами или другими государственными учреждениями? Доктор Деккер отправляется в одно из министерств; чиновники министерств — это уже вошло в традицию, читайте Ларру, — никогда ни о чем не знают. Знай они что-нибудь, разве они были бы чиновниками министерства? Доктор Деккер шествует по длинным коридорам, сворачивает, проходит через внутренние дворы, открывает и закрывает двери, задает вопросы привратникам, снимает шляпу перед чиновниками первого, второго, третьего, четвертого и пятого ранга, которые, отложив в сторону «Эль Импарсиаль» или «Эль Либераль», смотрят на него с глубоким изумлением. В одном месте ему говорят, что обращаться следует не к ним; в другом, что не в курсе этого вопроса; в третьем, что, возможно, это знают в таком-то отделе; в четвертом, что «сегодня, так сразу, они ничего не могут ответить». Все эти хождения туда и сюда, приветствия, вопросы, удивления, восклицания, отсрочки, отговорки, уловки, оттяжки, как потайная тропинка, приводят доктора Деккера к открытию высшей истины, нашей национальной черты, которая вся выражена в словах «отложим на завтра». И тут прославленный доктор восклицает с еще большим восторгом, чем всегда: «The best in the world!»; а затем берет в руки свою книжечку и записывает: «Два часа».
Может ли иностранец, который является философом, филологом, нумизматом, археологом, побывав в Мадриде, не посетить нашу Национальную библиотеку?
Доктор Деккер получает из рук привратника таинственный и странный жетон; потом записывает на бланке название нужной книги, язык, на котором она ему необходима, номер тома, номер жетона, свои имя и фамилию, адрес; затем он долго ждет возле небольшой стойки. Уверен ли почтенный доктор, что книга, которую он просит, называется так, как он написал? Может быть, речь идет о другой, вот об этой, чье название библиотекарь читает на бумажке, которую держит в руке? А возможно, книга, которая ему нужна, находится в переплетной и еще не поставлена на место? Или же случилось так, что перепутали бланки, или надо искать по фамилии переводчика, вместо того чтобы пытаться найти по фамилии автора? У библиотекаря, который все ищет и ищет местонахождение книги, есть одна мысль… У доктора Деккера есть другая мысль, и он записывает: «Тридцать минут».
Однако у почтенного доктора назначена встреча с другом, он не может заниматься дальнейшими изысканиями и поспешно отбывает к месту свидания. Славный член Лондонского королевского общества хирургов не ведает основной истины нашей жизни, не знает еще одной национальной черты: дело в том, что в Мадриде порядочный человек никогда не должен являться ни на какое свидание, и, более того, должен упрекать в несоблюдении уговора человека, назначившего ему свидание, будучи твердо уверен, что этот человек принесет ему свои любезные извинения, ибо сам тоже не явится. Сделав это важное открытие, доктор Деккер вновь воскликнул, задыхаясь от восторга: «The best in the world!» И тут же пометил в книжечке: «Сорок минут». Надо ли говорить, что когда знаменитый доктор возвратился домой пообедать, он вынужден был ждать, пока ему подали суп, и также записал в книжечку: «Пятнадцать минут».
Нет ничего естественнее, чем отправиться после обеда в кафе. Перейти через площадь Пуэрта-дель-Соль дело нелегкое. Надо проложить себе дорогу через плотно сбившиеся группы, где толкуют о социальной революции, искусно обойти неторопливых гуляк, которые слоняются туда-сюда, выписывая зигзаги; отскочить налево, отстраниться направо, избежать столкновения, долго ждать, прежде чем найдешь лазейку, куда тебе можно проскользнуть…
«Человек, настигающий и обходящий меня, вынуждает шарахаться в сторону; другой, пересекая мой путь в противоположном направлении, вдруг толкает меня обратно на то место, с которого сшиб первый; не успею я пройти и сотни шагов, как уже чувствую себя таким разбитым, словно прошел миль десять».
Монтескье не знал нашей Пуэрта-дель-Соль; но почтенный доктор Деккер неоднократно переходил ее. Раньше, когда переход был свободным, вы, чтобы пройти от угла Пресьядос до начала улицы Алькала, идя спокойным шагом, затрачивали две минуты; теперь на это уходит шесть. Доктор Деккер с трудом пробирается через толпу безработных, прожектеров, жуликов, демагогов, священников, сутенеров, полицейских, продавцов и пишет в книжечку: «Четыре минуты». А потом, когда он уже сидит в кафе за белым столиком, ему приходится ждать несколько минут, пока официант подойдет и примет заказ; еще несколько минут проходят, прежде чем этот официант принесет кувшин с питьем, и еще много-много минут протекает, прежде чем другой официант, разливающий кофе, не догадается, что пора бы ему уже приступить к исполнению роли, в которой он красуется. Доктор Деккер взволнован: «Двенадцать минут», — отмечает он в книжечке и выходит на улицу.
Надо ли рассказывать подробно обо всем, с чем ему приходится столкнуться? В одной из лавок, где он, расплачиваясь за покупку, дает бумажку в пять дуро, ему возвращают сдачи только через десять минут, потому что мальчик — обычное дело — должен был сбегать разменять купюру.
В театре, чтобы увидеть представление, назначенное ровно на восемь с половиной часов, приходится ждать до четверти десятого; если он, между тем, берется за газету, чтобы прочесть в ней об интересующем его деле, ему приходится затрачивать на это массу времени из-за того, что газеты у нас делаются кое-как, и беспорядочно забиты самыми разными материалами. Доктор Деккер преисполнен глубокого внутреннего удовлетворения. Вы способны представить себе радость астронома, который видит подтверждение своим давним догадкам, или палеонтолога, который только что закончил, всего по одной кости, реконструкцию строения одного из допотопных чудовищ, или же восторг эпиграфиста, разрешившего страшную загадку, высеченную на камне, наполовину разрушенном веками? Доктор Деккер, наконец, подтвердил, сияя от радости, расчеты, которые он сделал чисто умозрительным путем в своем кабинете на Fish-street-Hill[61].
И когда он, уже на рассвете, возвращается в свое скромное мадридское жилище и ночной сторож заставляет его ждать полчаса, прежде чем открыть ему дверь, достойный член Лондонского королевского общества хирургов доходит до высшей точки в своем восторге, думая об этой, не имеющей себе равных на планете, стране, и восклицает в последний раз, громко и радостно: «The best in the world!»
Известный экономист Новиков исследовал в своей книге «Разные виды расточительства в современном обществе» бесконечные отрезки времени, которые мы в нашу эпоху изводим на грамматические формулы, бесполезные слова, напечатанные и написанные (автор утверждает, что эти слова обходятся англичанам и французам в 195 миллионов франков ежегодно), на формулы вежливости, на обременительное усложнение мер, весов и монет. Доктор Деккер, своеобразный юморист и в то же время глубокий социолог, собирается, применив этот метод к конкретным случаям повседневной жизни, положить начало целой серии интереснейших исследований. С этой целью он и прибыл в Испанию и бродит весь день то туда, то сюда, держа наготове свое боевое копье — карандаш. Скоро мы сможем прочесть первую из задуманных им книг. Она называется «The time they lose in Spain», что означает: «Как в Испании теряешь время».
ТРАГИЧЕСКАЯ АНДАЛУСИЯ Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
В СЕВИЛЬЕ
Случалось ли вам очнуться в поезде на рассвете, после ночи, проведенной в пути, еще помня суровые пейзажи Ламанчи, на остановке, название которой — Лора-дель-Рио — заунывно и протяжно прокричал дежурный по станции? Вы высовываетесь из окна вагона; перед вами распаханное поле, кругом ясно, тихо, все исполнено неизъяснимой прелести и спокойствия. Остались позади безлюдные серые, красные, желтые степи внутренней Испании; небо уже не кажется однообразно синим, безнадежным; дали уже не так неприступны. День только начинается; слабый, печальный свет льется на поля; горизонт жемчужно-фиолетов; туман еще не разошелся. На этом спокойном, просторном фоне виднеются белые дома, возносится силуэт тонкой, легкой колокольни, здесь и там вырисовываются одинокие пальмы с выгнутыми дугой листьями. Что в этом пейзаже пленяет и заставляет задуматься? Еле различимое вдалеке селение, залитое утренним светом? Белые стены, сияющие в лучах рассветного солнца? Покой, растворенный в воздухе, который вдыхаешь с каждым глотком? Но вот снова послышался на платформе прежний заунывный голос; поезд трогается; постепенно исчезает, тает вдали селение, только белеют крошечные фасады. Перед нами раскинулись зеленые луга, дороги, расходящиеся широкими дугами, квадраты оливковых рощ, грядки бобов, желтеющие нивы. И в глубине, обрамляя пейзаж, оттеняя все переливы зелени от темного до салатного, вздымается необъятный занавес — сине-голубой, сероватый, свинцовый, отливающий черным. А на его фоне на мгновение возникают белые дома хуторов, селения с резными колокольнями, длинными рядами тополей, обширными участками молодого ячменя. Поезд мчится с головокружительной скоростью. Вот промелькнула глубокая излучина реки, поросшая склонившимися к воде кустарниками, вот огород со старой водокачкой и цветущий сад кругом, появились и исчезли огромные поля пшеницы, расцвеченные красными, желтыми и голубыми цветами. Поезд идет, идет быстро. И вот перед нами уже другое селенье — Кантильяна. Внизу, параллельно дороге идет ряд тускло-зеленых агав, дальше — ряд тополей, сквозь просветы в листве видны белые дома селения; а еще дальше, за последними домами, высятся синие мрачные горы. А по их склонам, смягчая угрюмость темной синевы, здесь и там разбросаны прямоугольники нежной зелени.
Утро в разгаре. Небо, бледное, бархатистое, над горизонтом рассечено длинными полосами белых облаков. Путешествие приближается к концу; вдали, сквозь кроны деревьев виднеется еще одно селенье, это Бренес. Затем снова мелькает река — тихие заводи, желтоватая вода, за ней другая дорога, теряющаяся в горах, затем в сотый раз мелькает широкий луг, ровный, мягкий, по которому медленно движутся быки, при виде поезда они разом поднимают головы…
Поезд продолжает свой бег. Вот на горизонте, едва различимый сквозь дымку, возникает силуэт башни. Вскоре мы оказываемся на шумной станции. Приходилось ли вам видеть спешащих в разных направлениях по перрону обитателей севильской земли? Приходилось ли вам наблюдать своеобразные жесты, мимику, движения, присущие здешним людям? Разве вам не запомнилась их манера пускаться в путь не спеша, время от времени взглядывая на носки обуви? А привычка при быстрой ходьбе помахивать опущенными вдоль тела руками, ритмично, изящно, не резко? Или поза севильца, прислонившегося к стене или к дереву, воплощающая покорность высшим силам и житейской суете? А щегольская небрежность, с которой земледелец или рабочий набрасывает куртку на одно плечо? И быстрый оценивающий взгляд, которым вас окидывают с ног до головы? И пожатие плеч, которое сопровождает всякий выпитый стакан? Люди снуют взад и вперед по перронам, восклицают, жестикулируют; «Мануэль! Рафаэль! Мигель!» — раздаются голоса; хлопают двери, свисток — и поезд трогается. И тогда далекий силуэт стройной башни начинает быстро расти, его чистый и тонкий абрис становится все заметнее сквозь гущу деревьев, между черными кипарисами на фоне нежного, чудесного лилового неба. Вереницей проносятся склады, фабрики, мастерские — предместье большого города. Вот мы в Севилье. Поезд останавливается. На вокзале толпа носильщиков, посредников, слуг бросается искать вам экипаж; на вас обрушивается лавина названий гостиниц. Но вам известно, что они мало чем различаются; вас томит желание поскорее очутиться в любой старенькой гостинице или на постоялом дворе и перезнакомиться со всеми севильянками, которым поэт Мюссе собирался петь необыкновенные серенады, «которые взбесят всех алькальдов, от Толосы до Гуадалете»:
A faire damner les alcaldes de Tolose au Guadeleté[62].А эти недотепы слуги и возницы не понимают вас; возможно, правда, времена классических постоялых дворов и гостиниц в Севилье прошли. И вот вас быстро, без раздумий везут в гостиницу с чистым белым внутренним двориком, в котором есть и кресла-качалки, и пианино. Без сомнения, это приятно; но вы недолго пробудете в этом дворике, у качалок и пианино, и поторопитесь вскочить в первый проходящий мимо трамвай. Улицы узкие, мощеные, чистые, звонкие; кажется, на них зарождается радость, счастье, свободная и яркая жизнь. Сквозь застекленные двери и решетчатые калитки видны тихие уютные дворики. На фасадах старинных зданий — геральдическая неразбериха; стремительно, ритмично движутся севильянки с желтыми и красными цветами в волосах; на углах кривых улочек вы читаете знакомые звучные имена Маньяры, Андуэса, Родригеса Сапаты; балконы заставлены цветочными ящиками, буйная зелень свешивается через край. Трамвай пересекает узкие улицы, бежит через площади, вдоль широких проспектов, обсаженных деревьями.
— Как здоровье? — с тротуара кричит кондуктору женщина.
Кондуктор невысок, хорош собой, с королевским изяществом носит на плече сумку.
— Сегодня лучше! — звонко отвечает он.
Мы едем мимо собора; остается позади стройная квадратная Хиральда; мы проезжаем рядом с порталом Сан-Бернардо; в двух шагах отсюда бойня. Не об этих ли парнях с бойни, что разговаривают, стоя группами, о внушающих страх знаменитых севильских мясниках рассказывает Сервантес в «Собаках Маудеса»?
Затем на окраине мы проходим вдоль старых выщербленных городских стен и вновь возвращаемся на извилистые улочки; продавцы бесконечно и печально нахваливают свой товар; на рынке у старика в руках картонные фигурки снуют вверх и вниз по длинным тростинкам. Не кажется ли вам, что вы повстречались с истинным философом? Разве вам не доставит удовольствия занимательная беседа с этим жителем Севильи?
Но в Севилье обитают еще и не такие философы; вспомните всезнающих парикмахеров, расхаживающих перед своими заведениями; вспомните замечательных птицеловов, которые вытворяют чудеса со своими питомцами всех цветов и размеров. Не создает ли этот город у вас ощущения, что жизнь безумна, абсурдна, иронична, шутлива, легка? Не эта ли легкость, полная энергии и ритма, придает севильцам их непревзойденное изящество? Одна мысль сменяет другую; жизнь идет под ярким солнцем; двери домов распахнуты, балконы настежь; заливаются канарейки, играют шарманки; молодые люди словно танцуя прохаживаются по тротуарам; улочки уходят то вверх, то вниз; слышны протяжные мелодичные восклицания; легко движутся мышцы, овеваемые теплым ласковым ветром; невесомые одежды прикрывают тело. Эта изнеженность порождает изящные барственные манеры и беззаботность и позволяет не видеть сложностей, забыть жуткие сновидения и несбыточные мечтания северных народов…[63]
Но наша прогулка окончена; пришло время покинуть Севилью. Есть и другие обитатели андалусской земли, чья жизнь полна тревог. Этой трагической Андалусии вскоре понадобится репортер. Так оставим нашу мимолетную мечту о всех красавицах-севильянках, идущих по узким улицам с алым цветком в черных как смоль волосах.
3 апреля 1905 г.
В ЛЕБРИХЕ
Вот я в Лебрихе. Не стану обманывать читателя: я не социолог, не известный журналист, не дотошный репортер; я обыкновенный человек, с которым ничего не происходит. «То, что со мной случается, — говорил Монтень, — и есть вся моя физика и вся моя метафизика». Я даже не могу применить к себе этих слов писателя.
Итак, я в Лебрихе.
— Как ваше имя? — спрашиваю я паренька.
— Бенито Лопес Кано, — отвечает он.
И я продолжаю:
— Ну, Бенито Лопес Кано, вот вам моя благодарность и два реала в придачу.
Этот обитатель Лебрихи, босой, загорелый, с живыми глазами, тащит со станции на плечах мой старенький потрепанный багаж. Поезд пришел в Лебриху в одиннадцать; со станции виден в отдалении поселок; на фоне белых фасадов и темных черепичных крыш заметна изящная тонкая башня. Небо светло-голубое, выцветшее; жаркий, слепящий свет льется на вспаханное поле. И хлеба, которые колышутся рядами на равнине, между квадратами серых олив, тут и там желтеют, поникшие, почти высохшие, почти сожженные. А мы идем по широкой пыльной дороге, вдоль которой в два ряда протянулись алоэ.
— Много ли постоялых дворов в Лебрихе, Бенито? — спрашиваю я своего нового приятеля. Он на секунду останавливается, поворачивается и, вытаращив глаза, отвечает:
— Ну уж нет, всего один!
Значит, надо идти на этот единственный постоялый двор. Мы шагаем по улицам Лебрихи. Дома белые, просторные, двухэтажные; балконы и двери домов закрыты. Иногда среди современных построек попадается старинное здание с гербом, почти незаметным под слоями побелки. И ограды, старые лебрихские ограды, широкие, благородных пропорций, великолепные ограды, высоко взнесенные над тротуаром, образуют как бы оконные переплеты. И во всем селении не слышно ни шороха, ни голоса, ни мелодии; время от времени по пустынным улицам бредет крестьянин в широкополой белой засаленной шляпе, приостанавливается, внимательно разглядывает нас и снова продолжает свой путь, лениво, покорно и, скорее всего, бесцельно.
Вот мы дошли до площади; несколько пальм склоняют до земли неподвижные глянцевитые ветви, сквозь них просвечивает тусклая листва апельсиновых деревьев. А в центре, на гранитном пьедестале, возвышается бюст безбородого длинноволосого Небрихи. Солнце ярко играет на беленых стенах; душно; но край площади в глубокой тени, и там с тоскливыми, тупыми лицами сидят десятка два крестьян в надвинутых на лоб шляпах. Над ними, по светлому прозрачному небу медленно, громко хлопая крыльями, пролетают голуби; долгие, звучные удары колокола только что стихли.
— Бенито, — спрашиваю я своего провожатого, — в какой стороне постоялый двор?
— Да мы пришли! — отвечает он, указывая на дом.
Оказывается, постоялый двор на углу широкой площади.
— Мир дому сему! — говорю я входя.
Никто не отвечает. Я повышаю голос:
— Есть здесь кто-нибудь?
— Консоласьон, Консоласьон! — слышится в ответ из дальней комнаты.
Я прохожу дальше; вижу крепкую дверь и решаюсь войти; и в конце концов попадаю в чистенький тихий внутренний дворик, где на солнышке дремлет дымчатый кот и поет-заливается канарейка. На стенах развешаны незатейливые аляповатые пейзажи; есть там и портрет Кастеляра в рамке из собственной речи, произнесенной перед Учредительными кортесами, а также гравюра, рассылаемая подписчикам «Политического образования», на которой изображены Серрано, Прим, Мендес Нуньес, Эспартеро и Лопес Домингес. Дворик выложен красной плиткой, в углах горшки с бирючиной и бересклетом; наверху виднеются перила верхнего этажа, выкрашенные зеленым…
А Консоласьон не появляется. Я снова принимаюсь звать ее и хлопать в ладоши. Кругом тихо; вскоре раздается легкий стук каблучков, и вот передо мной в тени дверного проема высокая статная девушка с огромными черными глазами и красным цветком, горящим надо лбом. Это, без сомнения, и есть Консоласьон.
— Простите, Консоласьон, — говорю я, — я пришел поискать здесь себе комнату.
Какая красавица Консоласьон! Отчего не упомянуть об этом? Наверняка здесь есть комната.
— Вы уже завтракали? — спрашивает девушка.
— Нет, Консоласьон, — отвечаю я, улыбаясь ей, — я еще не завтракал.
И Консоласьон ведет меня в столовую; если бы я не боялся оказаться докучлив, я бы сказал еще, что движения Консоласьон легки, изящны; когда она накрывает на стол или убирает тарелку, то поворачивается так быстро и ладно, что юбка ее разлетается и мелькает нога — маленькая, легкая, приподнятая прямым каблучком. Я ем и любуюсь Консоласьон; завтрак пролетает мгновенно. И поскольку с едой покончено, я замышляю то, что проделывал уже тысячу раз и проделаю столько же. Вы, наверное, догадались, что я говорю о посещении казино. Казино на площади; там все так же пусто, тихо; в глубокой тени продолжают сидеть крестьяне, застыв, опустив головы, надвинув на лоб шляпы.
— Ваше имя Антонио? — спрашиваю я парня из казино.
— Нет, — отвечает он. — Меня зовут Хуан.
— Хуан, — снова обращаюсь я к нему, — как тут идут дела?
Хуан глубоко вздыхает, хмурится, сжимает губы и наконец говорит:
— Плохо, очень плохо; тут нечего…
И он правою рукою делает около рта движение, показывая, как едят. Я один в казино; никогда прежде мне не приходилось видеть более располагающего, спокойного, уютного казино. Это просторная квадратная зала старого дома; солнце щедро льется сквозь четыре больших окна; когда опущены шторы, мягкий зеленый свет разливается по старинной комнате, оставляя в полутени две кушетки, которые так и тянут к себе, и два старых, обитых черной тканью дивана, не менее располагающих. Потолок опирается на каменный столб; на полу расстелена чистая циновка…
В казино никого нет; сейчас два часа.
— Что, Хуан, никто не бывает в казино? — спрашиваю я.
— Нет, сеньор, никто, — грустно отвечает Хуан.
— А здешние сеньоры? — вновь задаю я вопрос.
— Никто, никто не приходит, — так же печально отвечает он.
Сеньоры не выходят из своих домов, ноги их не бывает на улице. «На днях, — говорил мне в Севилье один известный журналист, — на днях мне надо было поехать в провинциальный городок повидаться с приятелем, и он уверял меня, что уж месяца два как не выходил на улицу». Крестьяне не злы, они попросту голодны. Засуха погубила посевы; виноградники поражены филлоксерой. Как разрешится неизбежное страшное столкновение землевладельцев и крестьян? Лебриха насчитывает четырнадцать тысяч душ населения, из них три тысячи поденщиков. Из этих трех тысяч примерно половина — мелкие землевладельцы; у них есть участок, есть осел. Другим же не на что надеяться, кроме своего заработка; но положение и тех и других вызывает тревогу. Прежде для этих наемных рабочих находился выход: почти всем хватало работы на виноградниках в окрестностях Хереса. Но Херес теперь в глубоком кризисе; там нет работы; поденщики из Лебрихи и не едут в эти края. Все они без работы. «Смотреть больно, — говорили мне помещики, — как эти работяги приходят к нам и говорят, что им нечего есть, что их жены и дети голодают». С 18 февраля помещики оказывают крестьянам помощь, муниципалитет определяет величину расходов. Но этих средств не хватает, то, что достается каждому крестьянину, едва дает ему возможность продержаться; кризис углубляется день ото дня, терпению приходит конец; несколько дней назад обозленная толпа разграбила продуктовую лавку. Что случится через восемь, десять, двадцать дней? Неужели нет никакого выхода?
Читатель, возможность предотвратить столкновение существует; но не следует забывать, что мы находимся в Испании.
Все эти лебрихские рабочие в прошлом году примерно в таких же обстоятельствах — только менее жестких — нашли работу на прокладке проселочной дороги в Монтельяно; сейчас можно было бы смягчить кризис строительством шоссе до Требухены. Строительство уже решено, но никак не придет приказ начинать работы. По каким учреждениям нужно ходить, чтобы добиться этого приказа? Сколько подписей надо набрать? Какие толстенные портфели надо будет открыть и закрыть? Сколько посыльных в галунах должны будут перемерить шагами мрачные коридоры министерств? Сколько заседаний должен отбыть начальник соответствующего ведомства, руководитель данной отрасли, чиновник из одного и чиновник из другого отдела?
Тем временем эти работяги-крестьяне печально, угрюмо бродят по улицам Лебрихи; уныло сидят на площади; потом встают, идут домой; слышат плач жен и детей; опять уходят; снова, в который раз, бредут в отчаянии и гневе по улицам.
Есть две Испании. И те люди, что всю жизнь работают на заводах или в полях, винят вас, заседающих в палатах и министерствах, во всех своих бедах…
5 апреля 1905 г.
РАБОЧИЕ ЛЕБРИХИ
В предыдущей главе мы попытались вчерне наметить фон, сейчас набросаем фигуры. Все мы собрались за широким столом казино, сидим в отдельной комнате, друг напротив друга, рука об руку, намереваясь поговорить не спеша.
— Давайте начинать, — говорю я, обращаясь к Педро, — он слева от меня. — Давайте, мне хотелось бы, чтобы вы сказали откровенно, что думаете о теперешнем положении.
Педро обменивается быстрым взглядом с остальными, остальные — это Хуан, Пепе Луис, Мануэль, Хинес и Антонио. Все они одеты в легкие белые парусиновые куртки; у всех худые обветренные лица с запавшими глазами; все сидят в несколько принужденных позах, положив шляпы на колени. И Педро — старик с ясными, живыми, выразительными глазами — оборачивается ко мне, вертит в руках шляпу и говорит:
— Ну, вы уж видели, хуже некуда…
— Видел, — отвечаю я, — видел, но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, как вы теперь живете; у вас жены, дети. Как вы справляетесь с хозяйством в тяжелые времена?
Педро некоторое время молчит.
— Мы теперь, — говорит он в ответ, — остались без работы; рабочие Лебрихи распределены между помещиками; помещик дает ежедневно каждому поденщику шестьдесят сантимов. Как вы понимаете, на шестьдесят сантимов не проживешь, на шестьдесят сантимов мы покупаем хлеба и завариваем его водою, и вот это едим.
— Да, — замечаю я, — так продолжаться не может. Вам необходим заработок. Сколько обычно зарабатывают в день в этих местах?
— Прежде, — отвечает Пепе Луис, — мы зарабатывали три реала и ковригу хлеба.
— Ковригу хлеба? — переспрашиваю я. — А сколько это — коврига?
— В ковриге, — говорит Мануэль, — три фунта.
— А кроме того, — добавляет Педро, — нам дают полпанильи оливкового масла и немного уксуса.
— А панилья, это сколько? — снова спрашиваю я.
— Панилья, — говорит Педро, — это сотая часть арробы.
— А сколько фунтов в здешней арробе?
— У нас в арробе двадцать пять фунтов.
— Так вот, — говорю я, — мне думается, что, имея три реала, ковригу хлеба, полпанильи масла и немного уксуса, не проживешь.
— И не забудьте, — добавляет Педро, — поденщик не весь год работает; если из двенадцати месяцев шесть работаешь — можно считать, повезло.
— А если так, — говорю я, — то каков, по-вашему, должен быть минимальный дневной заработок? Педро, Хуан, Пепе Луис, Мануэль, Хинес, Антонио, давайте подробно посчитаем, сколько вам нужно на еду?
Все слегка улыбаются.
— Давайте! — восклицает Педро.
— Сейчас вы убедитесь! — кричат Хуан, Пепе Луис, Хинес, Мануэль и Антонио.
— Прежде всего, — говорю я, — предположим, что ваша семья, Педро, состоит из вас, вашей жены и троих детей.
— Да у меня как раз такая семья! — восклицает Педро.
— Значит, — отвечаю я, — предполагать ничего не нужно. Вы, Педро, покупаете хлеб. Сколько хлеба вы покупаете ежедневно?
— Мне нужно будет три кило. Думаете, много?
Я спешу возразить.
— Нет, нет, Педро, никоим образом; мне кажется, в самый раз.
— Три кило по тридцать шесть сантимов за килограмм.
— И лучше черного, чтобы много не съесть! — вставляет Пепе Луис.
— Сколько масла?
— Две панильи, это реал.
— Сколько фасоли?
— Килограмм, по тридцать шесть сантимов.
— Картошки?
— На картошку положим десять сантимов.
— А мяса?
Педро на мгновенье замирает; на лицах Хуана, Пепе Луиса, Мануэля, Хинеса и Антонио появляются улыбки.
— Мяса, — наконец медленно произносит Педро, — мяса мы и не видим.
— А вино?
Снова молчание и снова улыбки.
— Стаканчик, — говорит Пепе Луис, — раз месяца в три.
— Теперь плата за жилье, — предлагаю я.
— Плата за жилье поднялась до четырнадцати, шестнадцати и восемнадцати реалов в месяц, — продолжает Педро. — На жилье положим пятнадцать сантимов в день.
— Тогда посмотрим, что с одеждой. Какую одежду вы носите?
— Вы же видите.
Я вижу изношенные легонькие куртки, обтрепанные брюки, разваливающиеся ботинки, засаленные дырявые шляпы.
— Сколько же вы предлагаете положить на одежду?
— Кладем, — говорит Педро, — тридцать сантимов в день.
— А на табак?
— На табак десять сантимов в день.
— Ничего мы не забыли? А траты на парикмахерскую и стирку одежды?
— На парикмахерскую не надо: мы бреемся сами. А для стирки возьмем пять сантимов на мыло да еще добавим десять на дрова, чтобы греть воду, так?
— Прекрасно, — отвечаю я, — теперь подсчитаем.
Вся сумма составляет две песеты сорок девять сантимов.
— Ну, Педро, Хуан, Пепе Луис, Мануэль, Хинес, Антонио, — обращаюсь я к своим друзьям, — расчеты, которые мы с вами произвели, никого не должны возмутить, они предельно скромны. А теперь скажите: если вы зарабатываете в день три реала, а вам нужно расходовать по меньшей мере девять реалов и двадцать четыре сантима, что делать? Как разрешить противоречие? Что вы думаете по этому поводу? Я рад, что вы разговариваете со мной откровенно, как с товарищем. Работы по строительству шоссе, начала которых мы все ждем, только отсрочат сегодняшние заботы; вопрос надо будет решать заново. Вы много думали над этим: как по-вашему, что нужно делать?
Педро, Хуан, Антонио, Хинес, Мануэль и Пепе Луис молча переглядываются. Может быть, им не хочется высказывать малознакомому человеку свои сокровенные мысли? И вдруг Антонио, который до сих пор не сказал ни слова, поднимает голову и начинает говорить. Антонио — один из тех робких, застенчивых людей, которые терпеливо, безучастно сносят все, что ни выпадает им на долю, но, когда меньше всего ждешь, начинают действовать, обнаруживая в словах и поступках удивительную смелость и силу. Я хочу, чтобы вы боялись и уважали этих людей, которые проходят по жизни незамеченными, которые в ваших глазах мелки и ничтожны. Это они вершат великие деяния, повергают в трепет, это они возглавляют и вдохновляют толпы во времена революций.
В Лебрихе, — сказал Антонио, — много невозделанных земель; эти земли, так мы полагаем, правительство должно отобрать у владельцев и продать нам в долгосрочный кредит. Сейчас в селении крестьяне арендуют мелкие участки; но эта аренда лишь служит обогащению посредников. Я, например, арендую участок; я плачу за него тридцать одну песету и двадцать пять сантимов. Человек, которому я плачу эти деньги, не хозяин участка; он, в свою очередь, снимает его и платит настоящему хозяину всего одиннадцать песет. И вот эту разницу между тем, что плачу я и платит он, я считаю, с меня берут несправедливо. Мой случай самый обычный; я хочу сказать вам, что в Лебрихе такая система распространена, что помещики отдают землю в аренду нескольким перекупщикам, а те, в свою очередь, сдают ее мелким землевладельцам. А самое худшее не это, хуже всего, когда — слушайте внимательно — распахивают целину и сдают участок поденщику, и он обрабатывает землю со всем усердием, заботливо расчищает ее, добивается больших урожаев, и тут-то хозяин отказывает поденщику, чтобы сдать участок другому за большую цену; выходит, что крестьянин бился несколько лет, возделывая землю, а все его труды пошли на обогащение хозяина участка.
Антонио на минуту умолкает.
— Но, Антонио, — обращаюсь я к нему, — даже когда эти невозделанные земли отберут и разделят, что вы станете делать с ними? Разве вам не нужны будут средства, чтобы начать возделывать новые участки?
— Это известно, — отвечает Антонио, — мы знаем, что государство не может провести такую реформу, не содействуя в то же время земельному кредиту. Не существует банков и касс, которые ссужали бы крестьян деньгами за небольшие проценты. Сейчас в Лебрихе, например, не найдется помещика, который одолжил бы поденщику хоть дуро, поверив ему на слово; прямого кредита не существует; за работягу должен поручиться человек с деньгами; чтобы взять ссуду в двадцать пять песет, нужно иметь имущество стоимостью по крайней мере в пятьсот раз больше. Кроме того, проценты за ссуду взлетели до двадцати пяти, а еще надо платить посреднику и угощать его, да и на вексель надо потратить двадцать пять сантимов.
Я внимательно слушаю Антонио; товарищи подтверждают его слова.
— То, что вы сказали сейчас, — спрашиваю я наконец, — вы когда-нибудь говорили публично?
— Сотни раз, сотни раз! — восклицают все.
И Антонио, в еще большем возбуждении:
— Когда мы говорим это, когда обращаемся за разрешением провести собрание, нам присылают полсотни жандармов. Правительство не знает иного средства решать социальные проблемы. Наших рассуждений никто не слушает; никто на них не отвечает; нами распоряжаются при помощи ружей; и таким образом министры считают выполненным свой долг перед обществом.
И затем тише, спокойнее:
— Мы уже устали.
Устали крестьяне Лебрихи; устали крестьяне по всей Андалусии; устали крестьяне, рабочие, торговцы, промышленники по всей Испании. Устали и мы, те, кто берется за перо, чтобы добиться хоть немного искренности, доверия, любви, наконец, мысли от людей, которые правят нами. Чем сменится эта усталость?
Разве это не вопрос вопросов?
7 апреля 1905 г.
ОПОРА СТРАНЫ
Сегодня в восемь утра дон Луис зашел за мной. Вы не знакомы с доном Луисом? Вы не знакомы с этим умным, деликатным, добрым, самоотверженным, милым человеком? Дон Луис высок, худощав, несколько бледен; чуть припадает на одну ногу; время от времени покашливает. Когда дон Луис, прервав свое стремительное движение по улицам селения, останавливается перед кучкой своих земляков, он откашливается, проводит рукой по лбу, слегка приглаживает челку и начинает говорить повелительно, мощно, живо, но голос его понемногу гаснет, и дон Луис внезапно умолкает, хватается за грудь, легонько вздыхает:
— Понятно, сеньор Асорин?
— Понятно, сеньор дон Луис.
И мы идем по широким улицам поселка; выступы фасадов, широкие зеленые ограды заходят на тротуар.
Затем мы оказываемся на улицах рабочих кварталов. И входим в беленький мощеный дворик, где раздается эхо наших шагов.
— Люди! — кричит дон Луис. — Доктор пришел!
Шесть или восемь дверей одна за другой открываются по всему внутреннему дворику. Мы приподнимаем занавеску, прикрывающую вход в одну из них. И в этот момент из всех остальных дверей выходят жильцы дома. Я вижу морщинистые, безжизненные, печальные лица крестьян. И истощенных девочек, которые робко прячутся в угол, иногда с поникшим цветком в кудрявых волосах. И старушек, высохших, сморщенных; андалусских старушек, которые никогда-никогда ничего не едят, старушек, которые складывают узловатые, как лоза, руки и вздыхают: «Пречистая Дева! Пречистая Дева!» Быстро, ласково дон Луис осматривает всех; он входит в одну каморку; выходит из другой; похлопывает по плечу молодого парня; треплет малыша за подбородок. А потом, когда мы выходим из этого дома и оказываемся на улице, добрый доктор снимает шляпу, проводит рукой по лбу, хватается за грудь и глубоко вздыхает.
— Сеньор доктор, — говорю я ему, — это действительно ужасно.
— Друг Асорин, — отвечает он, глядя на меня широко расставленными печальными глазами, — это невыносимо.
И мы направляемся в другой белый вымощенный дворик.
— Люди! — кричит дон Луис. — Доктор пришел!
И снова мы видим удрученные, трагические лица, чувствуем затрудненное дыхание и слышим глухие стоны, видим съежившихся в углу старушек, восклицающих: «Пречистая Дева! Пречистая Дева!» Заметно, какого труда стоят дону Луису его усилия, можно сказать, что он излучает свет; он разговаривает ласково, доброжелательно; он обходит всех; улыбается, обнадеживает. Но постепенно, опять уже по выходе, его энергия внезапно истощается, взгляд гаснет; речь замедляется, голос становится печальным. В этом прекрасном, деликатном человеке есть что-то, что заставляет думать о напрасных, не достигших цели усилиях, приводит на ум судьбы, не исполнившие высоких предначертаний, жизни, прожитые среди мелочных забот, вероятно, в чужом окружении.
— Дон Луис, — повторяю я, — это ужасно.
— Сеньор Асорин, — отвечает дон Луис, — я больше не могу. Я не в силах превозмогать себя каждый раз, когда надо войти в один из этих домов.
И продолжает, помолчав:
— Все эти люди, эти больные, которых вы видели, бедны: им необходимо мясо, бульон, молоко. Какая чудовищная ирония рекомендовать это тем, у кого не хватает на самый дешевый черный хлеб! И так каждый день, везде, неукоснительно, неизбежно… Нищета усиливается, распространяется вширь, захватывая все: города, деревни, селения. Почти у всех больных, которых мы только что видели, туберкулез; это бич Андалусии. Есть нечего. Недоедание ведет к малокровию, малокровие влечет за собой чахотку. В Мадриде из ста больных умирает тридцать четыре; в Севилье больше; в селении, где я практикую, в Лебрихе, смертность превышает сорок процентов.
Продолжая прогулку, мы выходим за пределы города; перед нами расстилается засеянное поле, тускло-зеленое, безжизненное, местами пожелтевшее; на горизонте к сияющему небу над Гвадалквивиром поднимается туман.
— Я не знаю, — продолжает добрый доктор, — как, в конце концов, может быть решена эта проблема; ясно только, что так жить невозможно. Мы не живем, мы умираем. Я назвал вам среднюю цифру смертности в этом селении, а теперь расскажу об этом подробнее.
В 1899 году здесь умер 461 человек. Знаете, сколько из них от туберкулеза? 46, а более 161 от болезней пищеварительных органов, то есть из-за недостаточного или неправильного питания. В 1900 году на 450 смертей приходилось 44 от туберкулеза и 164 от других названных болезней.
В 1901 году цифры были 355, 38 и 82. 1902-й был самый ужасный год, потому что из 341 смерти 60 было от чахотки и 219 от истощения. И в 1903 году умерло 384 человека, из них 55 от туберкулеза и 133 от других уже названных болезней.
— Сеньор доктор, — обращаюсь я к дону Луису, — это чудовищно.
— Сеньор Асорин, — отвечает мне доктор, — такова действительность, которую мне приходится наблюдать каждый день. И к этой боли, нищете и смертям добавьте антагонизм рабочего и хозяина, который день ото дня растет, становится все ужаснее. Глубокая пропасть разделяет их: хозяин скупится и сбавляет поденную плату, рабочий трудится с неохотой, затягивая, насколько возможно, перерывы в работе. Часть земель обработана. Но огромные пространства остаются невозделанными, в то время как множество рабочих рук свободно. Помещики безвылазно сидят дома; они и знать не желают о работниках, не имеют с ними никаких отношений, не поддерживают связей. Ненависть этих затравленных, доведенных до отчаяния крестьян все нарастает. В 1903 году во время знаменитой забастовки в Лебрихе вся прислуга городка встала на сторону забастовщиков. Горничные, подстрекаемые и запуганные своими женихами, покинули хозяев; ушли также старухи, прослужившие здесь пятнадцать — двадцать лет; ушли и мамки, выкармливавшие хозяйских детей…
— То, что вы рассказываете, сеньор доктор, невероятно.
— Тем не менее чистая правда, сеньор Асорин. В этой жесточайшей борьбе нет ни снисхождения, ни передышки. Андалусский рабочий кроток, простодушен, добр; но в его голове сейчас всего две мысли, они и определяют всю его психологию. Мысли эти таковы: первая — «хозяин — враг», вторая — «законы пишутся для богатых». Сколько ни ищите, других мыслей вы у него не найдете. И это не книжная, не заемная демагогия, подкрепленная доказательствами: это стихийный, природный, неосознанный нигилизм. Их нигилизм порожден неприязнью помещиков, беспомощностью правительства, истощением, медленной и мучительной смертью, которую несет чахотка этим обессиленным телам…
— Доктор, когда вы подробно описываете эту действительность, исчезают все надежды, какие можно было бы питать относительно возможности близких перемен в Испании. Я родился не в здешних местах; мне хорошо знакомы светлые и веселые селения Леванта. И в левантийских селениях я слышал от ваших коллег те же жалобы на туберкулез, истребляющий крестьян.
Доктор поворачивается и смотрит на меня печальными задумчивыми глазами. Потом говорит, коснувшись меня рукой:
— Вот неутешительный вывод из нашей беседы: Испания — земледельческая страна, большая часть населения живет в сельской местности, можно сказать, по всей Испании, это касается и самых богатых испанских земель, южных и левантийских. И опору страны, крестьян этих областей, голодных, изможденных, косит чахотка.
Мне нечего было сказать доброму доктору, а он, высокий, худощавый, чуть согнувшись, стремительно удалялся, кашляя, подволакивая ногу, как бы гонимый какой-то тревогой…
17 апреля 1905 г.
АРКОС И ЕГО ФИЛОСОФ
Что сильнее трогает ваше эстетическое чувство — простор равнин или обрывистость гор? Какие города вам больше по душе — лежащие на залитой солнцем равнине или разбросанные по горным склонам? Аркос-де-ла-Фронтера принадлежит к последним: вообразите узкое, длинное горное неровное плато, рассыпьте по нему беленькие домики и потемневшие от времени постройки; срежьте склоны горы отвесно, наподобие крепостных стен, поместите под горой медленную тихую реку с глинистой водой, которая лижет желтоватый камень и исподтишка подмывает его, а свершив свое разрушительное дело, течет вдаль по равнине, извиваясь между зеленых холмов и низин, окаймленная цветущим шиповником и ковром резеды… Как только вы представите себе все это, у вас получится бледное подобие Аркоса.
Это самый живописный городок в здешних местах. По горному склону лепятся мавританские домики, растянувшись длинной, километра в четыре, вереницей. Городок начинается на пологом склоне, спускается в ложбину; затем снова взбирается на гору; потом еще раз сбегает вниз, некоторое время идет по ровному месту и в конце концов теряется в складках следующего холма. А высоко, в сердцевине города, в самой старой его части, тесные улочки, мощенные блестящим скользким булыжником, переплетаются, внезапно ломаются под прямым углом; идя по городу, вдруг видишь внизу, у ног, клочок зеленого луга или реки, в которой отражается солнце. Время от времени мягким эхом звучат шаги прохожего. Вы идете мимо старинного дома: сквозь полуоткрытую дверь виден просторный тенистый внутренний дворик и растущее в нем апельсиновое дерево с украшенной золотистыми плодами кроной.
В воздухе стоит легкий запах апельсинового цвета; вдоль дороги над двумя рядами домов широкой лентой тянется синее небо. Вы продолжаете путь: улочки переплелись и запутались; они идут то вверх, то вниз по склонам, с которых вот-вот упадешь. Сейчас слева от вас длинная стена; в ней на большом расстоянии один от другого видны узкие проемы ворот. Подойдите к одному из них; обопритесь на перила, чтобы дать телу роздых; панорама, никогда прежде не виданная, откроется вашим глазам. Мы на высоте более двухсот метров; зеленая равнина вся покрыта мягкими волнами; в светлые краски ковра вплетают свой мрачный узор кроны сереющих олив; на горизонте синяя линия гор, среди которых одна вершина возносится выше всех, почти растворяясь в светло-лиловом небе. А внизу, у подножия стены, трагический, многострадальный Гуадалете течет так близко, что лижет скалу, изгибаясь широкой дугой, и бежит дальше, безмолвный и исполненный коварства. На выступах скал и в проломах растет крапива и тянет свои ветви лесная смоковница; в воздухе кружат и кружат ястребы и стервятники в пестрых перьях; с мельницы, где вода падает с плотины, клокоча и пенясь, доносится непрестанный шум.
Минуты, а может быть, часы пролетают быстро, незаметно. Покоем, благородством, величием веет от этой панорамы. Позади, в тесных улочках то слышится веселый перестук из кузницы, то вдруг раздается крик неусыпного петуха. Стоит продолжить прогулку, чтобы увидеть город целиком. Скажите, разве вас как бытописателя не привлекают благородные старинные ремесла? Разве я не рассказывал тысячу раз и не обещал рассказать еще столько же о кузнецах, столярах, лудильщиках, хранящих мавританские секреты гончарах, о мастерах-шорниках? В Аркосе, бродя по улицам и площадям, вы то и дело принимаетесь разглядывать внутренность лавок и мастерских. Возможно, в конце концов ноги сами приведут вас сюда, в кривой пустынный переулочек; по левой стороне обрыв, огражденный перилами, справа начинается поросший дикими травами склон, увенчанный белыми домами. В конце улочки, на углу вы остановитесь у калитки. Перед вами дом самого замечательного из жителей Аркоса — не вздрагивайте, не ройтесь в воспоминаниях, вы не знакомы с этим человеком. Однако он, видя, как вы рассматриваете вьючные седла, недоуздки, наспинные и подгрудные ремни, развешанные по его крошечной лавочке, пригласит вас войти. И — можно ли сомневаться в андалусце? — расскажет вам всю свою жизнь, год за годом, день за днем, час за часом. Предчувствие не обмануло вас — этого славного человека действительно зовут дядюшкой Хоакином, просто и сердечно.
Дядюшка Хоакин невысок, толст, у него большой выразительный, классический рот и круглый нос. Он безвылазно сидит в своей мастерской, он философ, он видит всех соседей, проходящих мимо поверху или понизу; в его лавчонке собраны старые железяки, сломанные часы, позеленевшие от времени огромные пистолеты, ключи без замков и замки без ключей, таганы, силки для птиц; он не шлифует линзы наподобие Спинозы, но длинной острой иглой шьет большие верховые седла, время от времени отрываясь, чтобы сходить в соседнюю комнатушку, откуда возвращается, попахивая винцом…
— Дядюшка Хоакин, — говорите вы, зачарованные его речью, обращаясь к нему, как к давнему приятелю, — дядюшка Хоакин, плохие настали времена.
Дядюшка Хоакин похлопывает по седлу и говорит:
— Да, хуже некуда…
И потом, коснувшись большим и указательным пальцами уголков губ:
— Вот вы умный человек; я на мельнице родился, оттого у меня и голова белая. Я много повидал, много. Вы знаете, чем мы похожи на Господа нашего Иисуса Христа?
Вы в некотором изумлении не сводите глаз с великого философа. Он продолжает:
— Мы, испанцы, терпим крестную муку, как Господь наш Христос. Три гвоздя — это три квартальных платы за жилье, а удар копьем — четвертая; терновый венец — патент, а бичевание, которому нас подвергают, — это расходы.
Потом дядюшка Хоакин снова слегка похлопывает кожу седла, вздыхает и подводит итог:
— Но Господь наш Иисус Христос быстро отбыл повинность и отправился на небо, а мы остаемся здесь и страдаем от правительства, которое нас бичует…
Таковы, думается вам, мысли всей Испании, их вы найдете и в передовой статье серьезной газеты, и в речи на митинге, и в словах философа-шорника из горного селения. Но вам пора возвращаться в путаницу кривых улочек. Напоследок вы снова подойдете к узкому проему в стене: река, многострадальная, трагическая[64], бесшумно течет внизу; пестрые ястребы бесшумно и медленно описывают круги в высоком небе.
Апрель 1905 г.
ИСПАНИЯ Перевод Н. Малиновской
ЧАСЫ В КОРДОВЕ
Я встал и подошел к окну взглянуть на небо и на улицу. Рассветало; легкий ветерок нес прохладу, ясное небо наливалось синевой. Я вышел из дому и пустился блуждать по узким извилистым переулкам. Кордова — молчаливый, печальный город. Нигде больше в Испании не найдешь таких завораживающих улочек. Почти никто не встретился мне в этот ранний утренний час. Длинные, узкие проулки вились, петляли, сплетались в запутанный лабиринт; у дверей были выложены широкие плиты, а дальше неровно круглился булыжник. Город безмолвствовал, лишь изредка гулко отдавались шаги прохожего. Стены домов сияли свежей побелкой.
Я долго бродил по городскому лабиринту, останавливался то у одного, то у другого дома и вглядывался внутрь — во дворик. В Кордове дворик — душа дома. Он невелик, но почти всегда с фонтаном или водоемом, хотя бы крохотным; часто дворик обнесен галереей, но есть при низеньких, неприметных домах и совсем простые, бедные дворики — они-то и притягивают меня. Сколько раз, блуждая по сонным улочкам, я вглядывался в эти дворики, укрытые белыми стенами. Тишь, покой, белизна — и только куст бересклета или лавра темнеет на фоне светлой стены или синего неба. А есть дворики, построенные, как картина, — с перспективой, с дальним планом, как на полотнах старых итальянцев. Один такой мне запомнился: плитчатый пол, сужаясь, полого уходил вверх, к простой белой арке, над которой черная стрела кипариса врезалась в небо, и за ней виднелся еще один, совсем крохотный дворик, а под аркой отрешенно стоял ослик в красно-желтой сбруе. Ни шороха не доносилось ни снаружи, ни изнутри. Казалось, все замерло и затихло. И все, что составляло эту картину — безмолвие, беленые стены, кипарис, небесная синева и ослик, замерший под аркой, — было прекрасно и соразмерно. Где он, тот художник, которому дано запечатлеть истинную, потаенную Андалусию, явленную здесь, в Кордове, в этом дворике, в этот рассветный час? Чиста, глубока и печальна мелодия этой Андалусии, не похожей на тот безалаберный, шумный и развязный юг, каким представляют ее драматурги и живописцы.
Я двинулся дальше. Лабиринт улочек за Собором — наверно, самое примечательное место в городе, самое тихое, самое печальное, самое затаенное. Лишь изредка проведут ослика, груженного корзиной с углем, или появится старушка — пройдет немного, остановится, отдохнет и снова пустится в путь, и робко дрогнут вслед редкому прохожему занавески в окне. Гулко, медленно, мерно бьет церковный колокол, и звон его, нарушив безмолвие, реющее над городом, затихает вдали.
Вот и Собор. Я переступил порог и оказался в Апельсиновом дворике. Пять-шесть нищих греются на солнышке. Дворик просторен и весь засажен апельсиновыми деревьями; проходы вымощены булыжником. За деревьями высится ладная, крепкая колокольня. Людей в этот час немного, и все идут к Собору. В нише — источник, струйка воды стекает в чашу. Проходит около получаса, и вот у источника возникает девушка с кувшином, струйка звонко плещет о глиняные стенки. Девушка, словно окаменев, ждет. Чирикают воробьи, вспархивая с веток. Нищий кутается в плащ. И снова над городом неспешно плывут гулкие и мерные удары церковного колокола.
В этот час все в Кордове пронизано отрешенностью, и, постигая душу города, тоскуешь, о чем-то смутном, о чем никогда прежде не печалился и даже не подозревал. А спустишься от Собора к реке, и там, на другом берегу, — огромное вспаханное поле. Ни тополиных рощ, ни перелесков — голая земля, чуть вздыбленная холмами. И душа сливается с этой таинственной и величественной землею, с улочками Кордовы, с ее тихими белеными двориками. Последний штрих, завершающий картину: рано утром и в полдень в городе жгут ветки олив — тянет дымком; это исконный запах испанского юга.
И снова я думаю: где он, тот художник, что сумеет перенести на полотно душу Кордовы, услышит ее мелодию, уловит все оттенки, проникнется ее отрешенностью и покоем, ее безмолвием и печалью…
ПИРОЖНИК
— Коврижки, медовые коврижки!
Это пирожник бродит по ярмарке, нахваливая свой товар. На святки старинный городок как-то особенно печален и сумрачен: пожух зеленый ковер на кукурузном поле, свинцовым блеском отливает листва редких олив на пустоши, небо померкло, а по временам срывается сильный ветер и рвет с петель скрипучие слуховые окошки.
— Коврижки, медовые коврижки! — Это снова кричит пирожник.
Почти весь день сыплет мелкий дождик, и народ не торопится на ярмарку; лотошники и зазывалы топчутся без толку, а есть и такие, что позакрывали свои ларьки и спустили холщовые навесы. Изредка, бог весть зачем, забредают сюда крестьяне — двое, трое, не больше. Сумерки густеют, ранние холода гонят по домам, и под мутным свинцовым небом от церкви медленно плывет колокольный звон, созывая к вечерней молитве, а в дальнем конце улицы мелькает силуэт священника — сутана и пелерина вздуваются от ветра.
— Коврижки, медовые коврижки! — снова кричит пирожник.
И зачем он только кричит? Уже вдоль и поперек исходил он всю ярмарку с круглой своей плетенкой, полной лепешек, и никто — ни один человек — так и не купил у него коврижку. Городок потихоньку зажигает огни: из ближней лавки на темную улочку вдруг хлынул сноп света, над аптекой загорелся красный кружок, а на старинной башенке, на часах, засветился тусклый ободок у циферблата. Церковный колокол смолк — уже не созывает он на вечернюю молитву. Но вдруг, нарушая этот глубокий сумеречный покой, два колокола — большой и самый маленький — начинают перезвон, оповещая о завтрашнем отпевании.
— Коврижки, медовые коврижки! — доносится с ярмарки. Шут-побродяжка, клоун, высовывается из ярмарочного балагана:
— Что, друг, не идет торговля?
— Нет, — отвечает коврижечник. — А публика?
— И публика не идет, — жалуется бедолага-клоун.
Колокольный звон терзает душу, а в старом казино, в уголочке четыре старика перекидываются ничего не значащими фразами:
— Дождь, похоже, никогда не кончится, — заключает один из собеседников.
— Льет и льет, который уж день, — отзывается другой.
— А осень сухая была, — замечает третий.
Электрические лампочки светятся тусклым, мертвенным светом, по временам ветер яростно хлопает дверьми. Все сидят по домам, улицы опустели, на всех ярмарочных лотках давно спущены холщовые навесы, бедолага-клоун запирает свой балаган, и по темной улочке, волоча большую плетеную корзину, тихо бредет с ярмарки коврижечник. Дома жена его спрашивает:
— Сколько продал, Томас?
Он ставит корзину на стол и отвечает:
— Нисколько.
КАСТИЛЬСКИЙ ГОРОДОК
Городок прилепился к горе, у подножия течет река. Сразу за предместьем распаханные поля и оливковые рощи, на реке — мельница и чуть подальше старинная давильня, где выжимают оливки на масло. Улочки городка узки и извилисты, а кое-где перекрыты галереями старинных полуразвалившихся колонн. А называются они так: Улица Дуэний, Галерная, Лодочная, Дубильная, Старая Школьная, Командорская, Старовратная, Улица Бакалавров, Хлебная, Угольная, Пекарная, Красильная, Монастырская, Улица Мальчика-поденщика. И троговый люд, и морские разбойники, и погонщики мулов найдут приют в городке — здесь три постоялых двора. Один зовется «Под луной», другой — «Для полуночников», а третий по имени хозяина, Антонио Гальярдо. Здесь не обещают ни особых удобств, ни разносолов; к перилам единственного балкона прибита вывеска: «Есть солома, ячмень и вода». В городе четыре церкви — Старая, Новая, Святого Филиппа и Зеленого Сантьяго. Церковь Святого Филиппа закрыта по причине ветхости, от Старой остались одни стены, поросшие желтыми цветами, да обломки перекрытий. Церковь Зеленого Сантьяго — красивое готическое здание — построена в шестнадцатом веке, при ней маленький тихий дворик, замощенный каменными плитами, и колодец с резной облицовкой. Новая церковь в неоклассическом стиле холодновата, строга, даже сурова. А кроме того есть в городе три часовни: Христа с лампадой, Богоматери-утешительницы и Святого Роха. От предместья к погосту, что на холме, тянется дорога, обсаженная кипарисами; вдоль нее, как станции, расположились ветхие, полуразвалившиеся часовенки. Есть в городе и два монастыря — бернардинок и кармелиток.
Промыслов почти нет, разве что две старые дубильни на реке, да еще мыловарня. В незапамятные времена ткачество здесь было обычным занятием, а теперь остались только два ручных станка: владелец одного — старик и почти уже не работает, да и другой — редкий мастер! — садится за станок только зимой, раза два-три в неделю. В 1860 году здесь было три богатых торговых дома — дона Хуана Мендосы, Каррильо и Эскивелесов — и все разорились; дон Хуан Мендоса уехал в Мадрид, где и окончил свои дни в нищете, Каррильо угораздило спиться, и он спустил все свое состояние в провинциальных тавернах, братья Эскивелесы проигрались вчистую. Все их дома и владения отошли большей частью к торговцам мулами, к пришлым людям, разбогатевшим на продаже скота в кредит (под немалый процент).
Мужчины собираются в казино; в этой жалкой развалюхе есть печь, несколько мраморных столиков, несколько закопченных керосиновых ламп. Здесь беседуют о политике и урожае; в девять — полдесятого привратник гасит лампы и уходит домой. В городе четырнадцать недоучившихся бакалавров, четыре врача и дюжина адвокатов, а работы едва хватает на семерых — вот они и пишут в суд поношения друг на друга, а при случае ведут дела горожан, наводя на бедолаг страх своей неистовой готовностью перетряхивать прошлое, выжимая из тяжущихся последние гроши. В начале мая в городке празднуют день Зеленого Сантьяго. Есть здесь и Братство Смертных Мук Христовых; когда умирает один из братьев, церковный сторож или просто вестник обходит с колокольчиком весь город и кричит: «Похороны дона такого-то в таком-то часу!»
Лето здесь жгучее, а зимы долгие и суровые. Друг к другу люди не ходят; окна и двери на запоре, улицы пустынны, и только на площади в ясные зимние дни увидишь кучку соседей: кто в темных плащах, кто в пальто — греются на солнышке. Вечно синее небо. Неподвижная жизнь. Лишь петушиный крик да лязг железа в кузне тревожат глухую тишину. Да совершается иногда в городке или в его окрестностях ужасное, неслыханное преступление. И долго еще повсюду обсуждают это событие.
Есть в городке три замечательных человека: дон Хоакин-наследник, Перико Антонио и Качо. Дон Хоакин-наследник деликатен, мил и обходителен; он читывал «Историю человечества» Лорана, был другом Риверо и уверяет, что по его планам для возрождения страны потребуется всего пять лет. Перико Антонио помешан на спиритизме и магнетизме, карманы его вечно набиты книжками и выписками, которые он непрестанно порывается зачитать друзьям.
Качо — характерный народный тип, что-то среднее между шутом и плутом. Все бы ему пировать да развлекаться: где праздник, там и он, что ни слово, то присказка, а то и целая история, вот господа и берут его с собой на охоту.
Перед постом всю карнавальную неделю по улицам бродят ряженые — в рогоже, с метлами через плечо. Крестьяне живут здесь бедно: хорошо, если за весь карнавал зарежут три-четыре барана, а то и меньше. Самым примечательным событием в истории городка был мятеж, вспыхнувший в 1870 году из-за пошлин, — тогда-то в Судебной палате и сожгли все бумаги, а по улицам валили толпы разъяренных крестьян с серпами и мотыгами.
КАСТИЛИЯ Перевод Н. Малиновской
ГОРОД И ОКНО
Никто меня от боли не избавит.
ГарсиласоВойдем в собор — светлый, свежий, только что возведенный. В притворе, рядом с образом Скорбящей есть дверца на колокольню. Поднимемся туда. И не забудем взять одно из чудес света — подзорную трубу. Смотрите, там, у самого горизонта, у горной гряды, показалось темное пятнышко — оно движется, меняет очертания и клубится пылью. Это свита знатного сеньора — пажи, рыцари, оруженосцы. А вот и он сам: ветер колышет разноцветные перья, блестит эфес, на груди сияет золотая цепь. Вельможа со свитой направляется к городу. Вот они миновали холмы и въезжают в долину, где вьется река, одолев теснину, и тихо катит рыжеватую воду от излуки к излуке. Повсюду зеленый частокол — рощи тянутся по долине, взбегая на холмы. Широкая дорога, бурая в зелени, поднимается по крутому лесистому склону. На исходе осени по ней погонят отары в жаркую Эстремадуру. А пока и в долине, и на плоскогорье, и по прибрежным буграм точно снежные шапки на камнях белеют овцы.
Городок промышляет шерстью и кожей. У реки — несколько дубилен и шерстомойня. Если выйти из города через Старые Ворота и спуститься к реке, упрешься прямо в дубильни. А рядом с ними ветхая развалюха — обиталище почтенной старушки, некоей Селестины. Всякий день поутру она берет большой кувшин и отправляется за вином, а потом обходит дома, всучивая девушкам кружева и ленточки, пояски, воротнички и прочий приворотный скарб. Мастеровые поделили городок — на одной улочке стригальщики, чесальщики, ворсильщики, шерстобои и шерстокрасы, а на другой — шорники, бурдючники, скорняки, замшеники и башмачники. С раннего утра кипит жизнь; стригальщики затягивают старинные романсы о Сиде, о красавице Бланкафлор (те самые, что пели сеговийские чесальщики в романе «Братец-балагур»), шерстобиты пушат шерсть, ворсильщики надирают ворс, шерстокрасы разводят в чанах краску, башмачники кроят замшу, шорники выделывают упряжь, бурдючники — мехи для вина и оливкового масла. Пробудились и монашенки маленького местного монастыря — чисто и высоко зазвонили колокола. Попозже, к полудню, монашки заснуют по городу — и там и сям замелькают их темные одеянья. Ремесленники работают и торгуют тут же, на дому, — товар выложен у двери, а над ней то нарисован барашек, то миска с похлебкой, то прялка. У всякого свой знак. А лавчонки — крохотные, узкие закутки.
За стригалями с утра затягивает свои молитвы слепец — в городе он человек известный: пригласят — помолится и внятно, и жалостливо, никто лучше его не скажет молитву Судии Праведному или Святому Григорию или какую другую, да и заговоры знает от хворей, ран и напастей. При нем поводырь — сообразительный, хитроватый парнишка. В лавчонках сидят сухопарые евреи. На улицах мельтешат серые и черные сутаны. Церковный колокол бьет долго и гулко. А в предместье, на реке, женщины моют и треплют шерсть.
(Уже открыт Новый Свет — бескрайние земли, густые леса, широкие реки, златые горы и странные голые люди в уборах из перьев. В Европе открылись типографии — печатают тысячи книг. Возрождается античность. Вновь читают Вергилия и Платона. Вновь зеленеет древо знания.)
На городскую площадь выходит каменный дом — четыре больших окна. Над входом резной герб. Крайнее окно слева открыто, у окна человек — бледное, бескровное лицо окаймлено острой седой бородкой, в глазах безысходная тоска. Он сидит неподвижно, опершись головой на руку…
Что-то стряслось с нашей подзорной трубой — не видно ни города, ни долины.
Наверное, стекло запылилось. Надо протереть. Вот так, а теперь давайте смотреть. Рощи, что когда-то окружали город, вырублены. А там, у самого горизонта, где небо сливается с синей кромкой гор, вновь показалось темное пятнышко — оно приближается, вздымая облачко пыли. Это большая, тяжелая карета. Всякий день в один и тот же час, одолев крутизну, она, огибая холмы, тарахтит по дороге, пересекшей долину, и въезжает в город. На месте густых рощ теперь пашни, огороды, бахчи, расчерченные канавками и желобками, питающими поле речной водой. Река, как и встарь, тихо струит свои воды. Но нет больше на берегу шерстомойни, хотя мельница еще стоит и вода, как прежде, ворочает жернова. Дубилен тоже почти не осталось — одна-две, не больше, да и те в запустении. И никто уже не помнит, где здесь стояла хибарка старухи, что всякий день поутру брала кувшин и шла за вином, а после ходила по домам, приторговывая безделушками.
Больше не слышно в городке песен стригальщиков, почти не осталось ремесленников, промышляющих шерстью и кожей, и не перегоняют больше стада в Эстремадуру по той бурой дороге. Сидят, правда, еще по своим каморкам старики-бурдючники, да на окраине, там, на горе, еще стучит изредка старинный ткацкий станок. Тихо в городе. Редко когда услышишь на улице молитву Судии Праведному. Пустые дома заперты. За садовой стеной тянутся вверх темные стрелы кипарисов. Долго, торжественно и тоскливо — как триста лет назад — бьет церковный колокол.
(Отбушевала в мире великая революция, повергнув в ужас народы: многим было суждено погибнуть под ножом гильотины, как королю и королеве. Теперь народом правит парламент. Уже провозглашено право человека на свободу и равенство. А сколько книг, газет и журналов читают по всей земле…)
Крайнее слева окно, что выходит на площадь, открыто. У окна человек в неброском расшитом камзоле. Круглое лицо его чисто выбрито. Он сидит в кресле, опершись головой на руку. В глазах его застарелая, безысходная тоска…
И снова что-то приключилось с нашей подзорной трубой — ничего не видно. Надо протереть стекло. Вот теперь хорошо — так наведем же опять нашу трубу на город и долину. Словно кто-то рассек синюю кромку гор там, у самого горизонта, где она сливается с опаловым небом. На дне этой прямой расселины блестят два бесконечных стальных бруса и, параллельно друг другу, пересекают долину. И вот там, где они начинаются, вдали, показалось темное пятнышко — оно несется к нам, оставляя за собой длинный дымный шлейф. А вблизи уже можно разглядеть эту чудовищную железную повозку с дымящейся трубой, волочащую за собой цепочку черных ящичков с окошками, за которыми мелькает множество лиц. Что ни утро, проносится эта железная повозка по долине, дымя и волоча свои черные коробки, и, протяжно загудев, на бешеной скорости врывается в предместье.
Река тихо катит рыжую воду, а на берегу, там, где когда-то стояли мельницы и шерстомойни, появилось огромное здание с высокой тонкой трубой, дым из которой застилает все небо над долиной. Нет больше лабиринта, где теснились когда-то лавчонки, — проложены новые широкие улицы, на которых зимой ветер клубит едкую пыль, а летом нещадно жжет солнце. В предместье у Старых Ворот появился большой круглый дом, внутри — амфитеатр с нумерованными местами, а внизу, посередине — круг, огороженный деревянным барьером. На другом конце города еще одно новое большое строение. Из его бесчисленных окон рано утром, в полдень и почти уже ночью доносятся резкие, с перепадами, протяжные звуки полковой трубы. А сколько огней светится в городе ночью — одни загораются, другие гаснут.
(Всю землю уже опутала сеть железных дорог, по которым снуют поезда, а сколько других, тоже скоростных машин носятся по улицам городов, по дорогам, проложенным через поля и горы. Появилось устройство, способное передавать человеческий голос на другой край земли. Мысль человеческая переносится с континента на континент. Человек придумал удивительные аппараты и на одном из них поднялся в небо, а на другом спустился в морские глубины; он выстроил огромные корабли и сейчас играючи пересекает океан, прежде внушавший ему ужас. Через границы тянутся руки рабочих друг к другу.)
У крайнего, слева от герба, окна в том самом доме, что выходит на площадь, в глубокой задумчивости сидит человек. Тонкие черты, длинные, закрученные усы. Он сидит у окна, оперев голову на руку. Глаза его затуманены глубокой тоской…
О вечная, непостижимо вечная боль… Каких бы высот и благ ни достиг род человеческий, останется на земле городок, где в дальнем окне, выходящем на площадь, все так же будет сидеть задумчивый и грустный человек, оперев голову на руку. Никто его от боли не избавит.
ОБЛАКА
Калисто и Мелибея поженились (о чем знает всякий, читавший «Селестину») сразу же после того, как тайна свиданий в саду была раскрыта. Калисто полюбил ту, кому суждено было стать его женой, с первого взгляда — в тот самый день, когда в поисках сокола очутился в саду Мелибеи. Случилось это восемнадцать лет назад. Двадцать три года было тогда Калисто. Теперь они — муж с женою — живут в наследственном владении Мелибеи; есть у них дочь, названная в честь бабушки Алисой. За домом — солнечная лужайка, окруженная тем самым садом, где Калисто и Мелибея вели нежные любовные беседы. У них большой и богатый дом с резной каменной лестницей, просторными залами, с тихими уединенными покоями и сумрачными коридорами, один из которых кончается дверцей с узкими филенками, похожей на ту, что изобразил в «Менинах» Веласкес, и ведет она тоже в залитый солнцем дворик. В зале пол устлан алым ковром, затканным зелеными ветвями с золотистыми шишками, здесь на шелковых подушках рассаживаются дамы. Там и сям расставлены красные кожаные креслица и низенькие раскладные стульчики, инкрустированные на мавританский манер; у стены секретер для бумаг и драгоценностей, украшенный резьбой и росписью золотом, а посередине зала, на столе орехового дерева с ножками в виде лап и резной кромкой — прекрасная шахматная доска, инкрустированная слоновой костью, серебром и перламутром; оловянная амальгама огромного зеркала отражает орлиный профиль на золотом фоне настенного портрета.
В доме мир и тишина. Мелибея неспешно обходит комнаты — она все замечает, за всем приглядывает. В шкафах чистое, свежее белье, переложенное для запаха айвою. В кладовой солнечный луч играет на пузатых, расписных кувшинах и мисках из Талаверы. На кухне зеркалами сверкают высоко подвешенные на доске латунные тазы и миски, а глиняные горшки и плошки ручной работы, купленные у соседа, гончара-умельца, стоят в ряд, по размеру, и каждая являет взору свое круглое, чисто вымытое, облитое глазурью нутро. Хлопотливая Мелибея рачительна и бережлива: ничто не ускользает от ее милых зеленых глаз. По вечерам из дому часто доносится негромкая грустная мелодия — это Алиса играет на клавикордах. А иногда в аллеях того самого сада мелькает стройный девичий силуэт — это Алиса бродит среди деревьев.
Сад тенист и прекрасен. Цветет олеандр и жасмин, и кипарисы, вечно одинаковые, прячут в тени мимолетный, как жизнь, подарок — алую, белую или золотую розу. Три цвета царят в этом саду: густая синева небес, белизна стен и зелень деревьев. Тихо, и только свищут, как алмаз по стеклу, ласточки, стремительно чертя синеву. Из мраморной чаши струится бахрома воды. Воздух напоен ароматами роз, жасмина, магнолий. «Приходи ко мне в сад», — сказала Мелибея. С тех пор минуло восемнадцать лет.
На залитой солнцем галерее в кресле сидит Калисто, опершись щекой на руку. Стены его дома украшают прекрасные полотна; когда Калисто хочется музыки, для него играет Алиса, а если душа просит стихов, в его библиотеке найдутся книги лучших поэтов Испании и Италии. Все в городе любят Калисто, о нем нежно заботится Мелибея, род его продолжается, правда, не в сыне, но в дочери — прелестной девушке с ясным умом и добрым сердцем. Но все же Калисто грустит, опершись головой на руку. Помните, Хуан Руис, протопресвитер Итский, в своей «Книге благой любви» заметил:
…и, право слово, не вешай голову и не жалей былого.Калисто не о чем жалеть — ни прежде, ни теперь не оставляла его удача. Тревоги и горести всегда обходили его стороной. И все же Калисто печалится, опершись головой на руку, — смотрит в небо и видит там, на голубой глади, облака.
Облака будят чувство вечности и мимолетности. Они, как море, — всегда те же и всегда другие. Смотришь на них и понимаешь, что и сам ты и весь мир канете в бездну, а они, мгновенные, пребудут вечно. На эти самые облака, что сейчас у тебя перед глазами, и двести, и пятьсот, и тысячу, и три тысячи лет назад смотрели другие глаза, и другие сердца терзались той же болью, теми же страстями, той же жаждой, что и твое сердце. Как ни хочется счастливому остановить мгновенье, время ускользает, час за часом, год за годом. А облака, ежесекундно меняясь, вечно бегут по небу и вечно они те же. То яркие, тугие, ослепительно белые на смутном небе вешнего утра. То легкие, батистовые, едва сквозящие в молочной глубине. Или серые в серой дали. И вечерние, червонного золота, облака бесконечно грустных равнинных закатов. И густые, как овечья шерсть, — сплошное витое руно, и редко где проглянет клочок неба. Одни плывут медленно, нехотя, другим не терпится. А есть тихие дымчатые облака, они заволакивают небо и сеют тусклый пепельный свет, скрашивая осеннюю землю.
Калисто все так же сидит, опершись головой на руку, и минет еще не одно столетие, пока возьмет перо поэт Кампоамор и сложит гимн облакам в поэме, посвященной Колумбу. «Облака, — скажет поэт, — это зрелище жизни». Что жизнь, как не игра облаков? Говорят, облака — сны ветра, но ведь они еще и тени, отброшенные грядущим. «Жить, — говорит поэт, — это смотреть вослед». Да, жить — значит видеть, как все проходит, как уплывают высоко над нами облака. Но скажу иначе и вернее: жить — это видеть, как все возвращается. Как приходит все на круги своя, и все печали, радости и надежды возвращаются мимолетно и вечно, подобно изменчивым и вечным облакам.
Облака — образ Времени. Но что трагичней и горше, чем различать в настоящем прошлое, а в прошлом — грядущее?
В саду тихо, и слышней вскрики ласточек. Шелестит вокруг чаши струистая бахрома воды. У подножия кипариса зацветают алые, белые и золотые розы. Вечер пахнет жасмином и магнолией. На белых садовых стенах темнеют зеленые ветви, а выше, над зеленью и белизной, густеет небо. Алиса сидит в саду с книгой. Из-под широкой юбки тонкого фландрского сукна виднеется край черной бархатной туфельки, расшитой серебром. У Алисы тонкие черты лица и материнские — зеленые — глаза. А как белы и нежны ее руки! Как певуч ее голос!
В саду покойно и тихо. Калисто все еще сидит на верхней галерее, опершись головой на руку, и печально смотрит на дочь. Вдруг он видит, как в сад залетает, преследуя добычу, сокол, а за ним в пылу погони через стену перемахивает юноша и, пораженный, застывает перед Алисой. И вдруг улыбается — и начинает говорить.
Калисто смотрит в сад — он знает наизусть каждое слово, что скажут они друг другу. Плывут и плывут куда-то, в небесную синеву, большие белые облака.
ФЛЕЙТА В НОЧИ
Черствое время! Чем ты отплатило?
(Слова Диего Лаинеса из «Юности Сида» Гильена де Кастро)1820. Флейта звучит в ночи хрупко, тягуче и грустно. Если к этому древнему городку идти со стороны Старых Ворот, придется одолеть крутой склон, и тогда обязательно увидишь с обрыва, далеко внизу, реку, обсаженную раскидистыми вязами, а в их аллее, там и сям, широкие и длинные каменные скамьи. В ночном сумраке белые пятна плит едва различимы. И вот там, где кончается аллея, уже в предместье, увидишь полосу света на дороге. Свет льется из окна. Войдем в этот дом. Просторная комната почти пуста: у одной стены старинный ткацкий станок, у другой стол с пюпитром, за ним седой старик и рядом мальчик. Губами он касается флейты. Мелодия протяжно и печально вплетается в тихую ночь. Над ними нависает весь этот старинный город: готический собор, узкие улочки, где теснятся мелочные лавчонки, шорные мастерские, каморки чеканщиков по серебру, тесные дворики с прозрачными водоемами, ветхие большие дома с резными гербами на каменных стенах и даже сады — потаенные сады, обнесенные галереями. Приезжие (а здесь их немного) находят приют на постоялом дворе, именуемом «Звездой». Всякий день по вечерам, в девятом часу, по аллее, что тянется над рекою, в город въезжает дилижанс, и на какое-то мгновенье, когда дилижанс окунается в льющийся из окна свет, нежные звуки флейты тонут в железном лязге, а после флейта снова запевает в глухой непроглядной ночи. Днем же в доме мерно стучит старинный ткацкий станок.
1870. Пятьдесят лет минуло. Подойдем же снова к этому старинному городку со стороны Старых Ворот и увидим, как дилижанс въезжает на мост, перекинутый через реку. Всякий день вечером, в девятом часу дилижанс прибывает в город. Все тихо; там, наверху, в окошках горят огоньки. От старинной дубильни, точь-в-точь такой, как описана в «Селестине», поднимемся по крутому склону, войдем в аллею, обсаженную раскидистыми столетними вязами. Белые плиты каменных скамей едва различимы в ночном сумраке. И вот полоса света пересекает дорогу. Не из этого ли окна льется мелодия флейты — тягучая, печальная, хрупкая, как хрустальная ниточка, готовая оборваться? В большой полупустой комнате старик и двое детей. Один из мальчиков играет на флейте, другой завороженно смотрит на него большими синими глазами. Старик изредка что-то говорит мальчику с флейтой. Когда-то, давным-давно, был он таким же мальчиком и в этом же доме по вечерам играл на флейте ту же печальную песню. Мимо с оглушительным грохотом проносится дилижанс, и нежный звук флейты на какое-то мгновенье пропадает, но грохот стихает, и флейта снова поет в ночи. На горе спит старинный город, спят вязы в аллее, дремлют река и поле. Пройдет еще час, флейта смолкнет, и тот, другой мальчик, молчаливый и отрешенный, встанет и пойдет в город — там, на площади, в старинном доме с гербом, в своей комнате, уставленной томиками стихов, еще долго — пока не заснет — он будет сидеть над книгой. Нечасто забредают путники в этот городок, а если и забредают, то останавливаются на постоялом дворе, именуемом «Звездой». Больше и негде, а дорогу к «Звезде» укажет всякий: улица Нарваэса, не доходя до мучных складов, прямо напротив пекарни — как раз там, где у владений дона Анхеля дорога сворачивает в поля.
(Сколько лет минуло? Да не все ли равно? В Мадриде, почти что на чердаке одного из больших домов, в каморке ютится старик — у него седая борода, но все те же большие синие отрешенные глаза ребенка, когда-то смотревшего на флейтиста. На старике поношенная одежда, стоптанные башмаки. Посреди каморки стол, заваленный книгами, на стене полки, тоже с книгами. Правда, книги убывают — между томами там и сям чернеют пустоты. Рядом с полками две фотографии в рамках: на одной женщина — прекрасное, задумчивое лицо, шелковистые волосы в локонах, на другой — девочка, такая же задумчивая и милая, как и женщина. Но не слышно в каморке их голосов. Седой старик, бывает, по целым дням пишет что-то на листках, потом ходит с этими листками куда-то, с кем-то говорит, но обычно так и возвращается с непристроенными листками и сует их в ящик, к другим, уже запылившимся, забытым листкам.)
1900. Дилижанс, который ежевечерне подъезжал к старому городу, преодолевая крутой подъем за речной излучиной у дубильни, и тарахтел по аллее, обсаженной вязами, давно не ходит. Зато есть железнодорожная станция — поезд останавливается в предместье, и тоже вечером, но не здесь, не у моста, а на другом конце города. Мало кто сходит на этой станции, а сегодня и вообще приехал только один человек — седой старик с синими глазами. Вот он стоит на платформе в потертом пальто с фанерным чемоданом в руке. Когда поезд тронулся и скрылся в ночи, старик вышел на вокзальную площадь, откуда омнибусом можно добраться до гостиницы «Звезда». Это лучшая (порукой тому — ее древность) гостиница в городе. Она, правда, сильно переменилась к лучшему с тех пор, как переехала с улицы Нарваэса в старинный дом на площади. Седой старик сел в омнибус, идущий до гостиницы, не зная, где именно она теперь находится. И только когда омнибус остановился на площади, он понял, что стоит перед тем домом, где жил когда-то в незапамятные времена. Ему отвели комнату — ту самую, где подростком он перечитал столько стихов. И переступив порог этой комнаты, старик прижал руку к сердцу — у него перехватило дыхание. Он вернулся на площадь и пошел куда глаза глядят. И еще долго бродил по городу, пока не очутился в старинной вязовой аллее. Ночь была тиха и пустынна, и в глубокой тишине ее пела флейта. Тягучая и грустная мелодия казалась хрустальной ниточкой. Полоса света пересекала дорогу. Путник подошел к дому и увидел в окне старика и ребенка — мальчик играл на флейте. И седой старик опустился на белую каменную скамью у дороги и снова прижал к сердцу руку — стиснутую до боли.
КРАСНЫЙ ОГОНЕК
С очами, проливающими слезы…
Песнь о моем СидеЕсли соберетесь в Энарские горы, к тому самому дому, что одиноко стоит на крутизне, идите сначала по Скорняжной улице, а после, за городом, сверните к мельницам и, пройдя Мараньюэлу, подымайтесь на гребень Навалосы. Там-то, на плоскогорье, и стоит дом, обсаженный старыми вязами. Над их купой стрелами торчат темные верхушки двух кипарисов. В саду большой цветник, белые, желтые, алые розы пестрят зелень. Прекрасный вид открывается отсюда: справа, на пологом склоне стоит часовня Святой Девы у Колодца, вдалеке, у самого горизонта синеют горы; слева, спускаясь к реке, петляет пастушья тропа, на берегу, под вязами, краснеет черепица мельницы. Небо чистое, ослепительно синее, только два белых облачка тихо плывут вдаль. Но дом заперт, а окна давно разбиты — торчат лишь запыленные осколки. Рядом, на крюке, вбитом в стену, висит глиняный кувшин. Тропинки в саду уже заросли бурьяном, жасминовые кусты потеснили цветник, а страстоцвет дотянулся до нижних веток кипарисов и зацвел в темной их зелени.
Смеркается, и дом постепенно тонет во тьме — стены уже не различимы. Ни шороха в доме, ни огонька. И вот тогда-то откуда-то снизу доносится краткий глухой рокот. И вслед за тем мелькает и тут же пропадает в ночи красный огонек. Ежевечерне в этот час поезд проносится по мосту, перекинутому через реку, и исчезает за горой.
Окна и двери в доме распахнуты — поднимемся же туда, в Энарские горы. Сначала по Скорняжной улице, затем свернем к мельницам и, миновав Мараньюэлу, взберемся по крутому склону. Чудесный вид вознаградит нас за тяготы дороги. Внизу раскинулось цветастое лоскутное одеяло: черные полосы гряд, квадратики зелени, ленты пожухлой травы. Над домами клубятся дымки. Вьется серебристая нитка реки. По склонам петляют, словно играя в прятки, пастушьи тропы. Протарахтит по дороге повозка, но, сколько ни смотри, будет казаться, что она и не сдвинулась с места — так кружит дорога среди холмов.
А дом полон жизни. Здесь поселилась семья — муж и жена с дочкой. У отца седая борода, он худощав и бледен. У девочки золотая копна волос. Тропинки в саду выполоты. В доме повсюду расставлены букеты белых, алых, желтых роз. Окна распахнуты, и ветер по временам раздувает, как паруса, чистые занавески. Дом убран просто. На стенах, прежде голых, большие фотографии — улицы, церкви, рощи, сады. На столе, за которым работает этот худощавый изможденный человек, груда исписанных листков и книг в красных, синих и желтых переплетах. Ежеутренне он садится за стол и, склонившись над листками, пишет что-то своим мелким почерком. Часа через три к нему в комнату входят. Девочка подбегает, гладит по голове, и он, оторвавшись от листков, видит на лице женщины печальную улыбку.
Вечером все трое спускаются в сад. Небо светло и прозрачно. И еще темнее кажутся острые верхушки кипарисов. Между ними зеленый и розовый перелив вечерней звезды. Воздух пахнет розами. Но тише — откуда-то издалека, из глубины ущелья, вот-вот донесется глухой рокот поезда, что ежевечерне в этот час проносится по мосту, перекинутому через реку. Промелькнет красный огонек последнего вагона и канет в ночь.
(В саду. Вечереет. Нежный запах роз. Верхушки двух кипарисов врезаны в прозрачное небо. Между черными стрелами переливается вечерняя звезда.
— Где же наш огонек?
— Вот поезд загрохочет…
— Из ночи в ночь. Редко когда запоздает, да и то на пару минут.
— Люблю я этот огонек.
— Всегда одинаковый и всегда разный.
— Чем-то он трогает, бог весть чем. Неизбежностью? Неизменностью? И что бы ни творилось вокруг, зима, лето, дождь или снег, — огонек зажжется в свой час, мелькнет и канет в ночь. И нет ему дела до того, что на душе у нас, радость или горе. Счастлив ли тот, кто ждет его, или несчастней его нет в целом свете — огонек промелькнет и канет.
Голос девочки: А вот и он!)
Станция в получасе ходьбы от селенья. Редко кто сходит здесь, еще реже уезжает. А наверху, в Энарских горах, тот дом. Он заперт и безлюден. Если захотите подняться туда, сверните к мельницам, мимо Мараньюэлы, и взбирайтесь на кручу. Внизу, невдалеке от станции, через реку перекинут мост, сразу за мостом дорога круто сворачивает в ущелье.
Сегодня вечером уезжают двое — женщина и девочка, обе в трауре. Лицо женщины скрыто густой вуалью, но внимательный взгляд разглядел бы и покрасневшие глаза, и темные круги под ними. И такие же глаза у девочки. Они молча стоят — ждут поезда. Их провожают несколько человек, соседи.
Поезд загудел и замер у платформы. Женщина и девочка поднимаются в вагон. И сверху, из немого и забитого теперь дома, некому больше смотреть, ловя глухой короткий ропот, как зажегся красный огонек, промелькнул и, как всегда, из ночи в ночь, из года в год, канул во тьму.
ГОРОДОК Перевод Е. Лысенко
Любимому великому поэту Антонио Мачадо,—
его друг Асорин.ОСЕНЬЮ
Осенью в Мадриде бывает книжная ярмарка. Осенью… Знойные летние дни уже миновали. Осталось голубое — чуть блеклое — небо и приятно освежающий воздух. Начинает желтеть инжир. Идет сбор плодов, которые где-то там, в деревнях, на равнинах и в горах, будут дожидаться зимы в просторных сельских кладовых, подвешенные на соломенных жгутах к длинным жердям или уложенные на мягкое соломенное ложе. А не чувствуете ли вы в воздухе какую-то гулкость и прозрачность, которых не было летом? С осенними развалами старых книг в Мадриде обычно сочетается зрелище вековых кипарисов Ботанического сада и бескрайней, залитой светом панорамы ламанчской равнины. Не спеша идем мы по Ботаническому на охоту за книгами. Любуемся чудесными фонтанами, расположенными посередине аллеи. Волокнистой бахромой течет вода из широких чаш, течет медленно, словно нехотя, течет, как дни нашей жизни; ее течение увидят другие гуляющие, которые в другие дни отправятся, подобно нам, на поиски старинного тома; ее течение видели некогда другие люди, чьи труды, страдания и радости уже исчезли в дали времен.
* * *
Грустные, проникновенно грустные осенние дни! Исполненные мягкости, глубины, гармонии осенние дни кастильских плоскогорий. Дни Гвадаррамы и Гредоса. Дни, когда наше восприятие кастильского пейзажа сливается с глубинным восприятием классиков. Почему осенью мы лучше чувствуем Сервантеса, авторов «Ласарильо» и «Селестины»? «Случилось так, — читаем мы в „Ласарильо“, — что мы пришли в селение, называемое Альмарос, во время сбора винограда, и один виноградарь дал ему гроздь…» От давилен исходит терпкий, резкий запах сусла, висят на лозах последние золотистые или черные гроздья. Фраза из этой старинной книги вызывает в нашем воображении милые сердцу виды Кастилии. Зимой и весной мы были поглощены чтением книг и событиями в парламенте; летом нам хотелось позабыть о трудах целого года, мы расстались с привычной обстановкой и пейзажами родной Испании — теперь мы роемся в книжных лавках Франции, носимся, себя не помня, по чужим городам, стол наш завален иностранными книгами и газетами. Где же наша Испания? Где Кастилия? Не там ли, не за высокими ли, суровыми горами, где-то далеко от мягких, романтических пейзажей и синих морей? И только осенью, после этакого духовного бродяжничества, после ребяческого празднества нашего духа, да, только осенью, когда мы возвращаемся на кастильское плоскогорье, страница-другая «Селестины» или «Ласарильо» заставляют нас глубоко, до боли глубоко проникнуться пейзажем, бытом и искусством Кастилии. Перед нашими глазами еще маячит видение Европы. Когда ж мы читаем и перечитываем эти страницы нашего XVI века, нам хотелось бы ощутить свое единство с изображенными там городами и старинными пейзажами. Уставшим от труда, на склоне лет нам хотелось бы обрести покой в одном из этих старых селений. Селений в провинциях Толедо, Сеговия, Авила, Саламанка. Нам мерещится просторный, удобный дом на тихой, пустынной, захолустной улице. Позади дома — большой тенистый сад, где ножницы садовника лишь осторожно касаются куртин из мирта и бересклета.
На поверхности пруда и в широкой чаше фонтана плавают желтые листья. О благородные силуэты вековых черных кипарисов на синеве неба! И мерные удары колокола в далеком соборе, нарушающие тишину, отчего она становится еще ощутимей… «Вожделенное место для усталого человека», — сказал поэт. В этой пустынности и тишине, в этом духе постоянства и устойчивости есть некие тонкие узы, объединяющие нас с Европой. Так пусть же каждый день в один и тот же час оказывается на нашем столе увесистый пакет с письмами, газетами, книгами, журналами. Книгами и журналами, чудесно пахнущими свежей типографской краской. Кастилия и Европа (Страна Басков и Европа; Каталония и Европа…).
* * *
Мы спускаемся вдоль Ботанического к книжной ярмарке. Уже несколько лет книжную ярмарку устраивают позади сада, у его длинной решетчатой ограды; а прежде она размещалась перед министерством общественных работ, где открывается вид на ламанчскую равнину. В Ботаническом, между могучих каменных деревьев, кое-где возвышаются черные кипарисы, а внизу, на равнине, виден холмик с часовней. Книжная ярмарка — это пятнадцать — двадцать деревянных балаганов. Здесь собрана вся скука, вся серость, вся пошлость совершенно бесполезных книг. Поразительно, сколько глупейших книг издается!
Вот они, наваленные грудами на дощатых прилавках, смотри, разглядывай. Каждый из этих жалких томиков воплощает, по крайней мере, некий один момент жизни человеческой. То, что сейчас кажется нам никчемным, в какое-то мгновение вдохновляло чей-то ум. А что мы знаем о руках, листавших страницы этой бездарной книжонки? Да ведь и нам самим где-нибудь в деревенской глуши, лишенным наших любимых книг, изголодавшимся по чтению, разве не доставило бы приятности чтение вот такой глупенькой книжечки? В какой-то мере, и в немалой, книга — это собственная наша мысль. Возможно, что многие книги с ярмарки могли бы оказаться нам полезными. И быть может, на этой грубой бумаге с расплывчатыми буквами мы найдем простую, естественную мысль никому не известного человека, который в один прекрасный день сел писать, не обладая никакими познаниями. В селениях Кастилии — как и в других местах — было немало таких людей, которые когда-то что-то писали, и никто об этом знать не знает. Порой их мысль выражена в форме аффектированной и темной — влияние великих писателей! — но иногда бывает изложена просто и прозрачно, с чистотой и прозрачностью горного ручья. И однажды осенним утром, роясь на ярмарочных прилавках, мы нашли одну из таких книг.
* * *
Лучистое, приятное утро. Осень… Осень, спустившаяся на Гвадарраму, на Гредос, на селения и дома Кастилии. В притихшем саду с платанов и акаций облетают желтые листья. Кипарисы, как всегда, неподвижны. Воздух дивно прозрачен. Почта только что доставила на наш письменный стол увесистый пакет с книгами, газетами, журналами…
СРЕДИ ГОР
Книга
Найденная нами на ярмарке книга озаглавлена так: «Патриотические мысли и благочестивые беседы, коими сельский священник, истинный друг отечества, наставляет своих прихожан. Беседы ведутся зимними вечерами у горящего очага. Собеседники — священник, цирюльник, ризничий, стряпчий и дядюшка Качарро». Произведение состоит из двух томиков, оба напечатаны в один год (1791), оба в Мадриде. Автор книги — дон Хасинто Бехарано Галавис-и-Нидос. Свое имя Бехарано на титульном листе сопровождает следующими званиями: приходский священник церкви Сан Мартин в городе Аревало епископата Авилы; кандидат на место постоянного каноника в кафедральных соборах страны — в Сан Исидро эль Реаль в Мадриде, на кафедру в университете в Саламанке, где он был замещающим преподавателем и ассистентом…
Вдали от мира
Да не введут читателя в заблуждение все эти титулы — впрочем, довольно скромные и легковесные, — и не будем воображать, будто наш сочинитель пишет свою книгу где-то в Мадриде или в Саламанке, сидя у себя дома в просторном монастырском кресле, после того как побывал в нескольких дружеских компаниях или же порылся в книжной лавке. О нет! Мир Мадрида, Саламанки нынче от нас далек; далеки увлекательные собрания книг и приятные компании; далека легкая, беспечная болтовня в толпе горожан, занятых тем же, чем ты, либо направляющихся по делам. Нынче, в те дни, когда наш автор пишет свое сочинение, он находится в маленьком городке, почти деревне, провинции Авила. Сам городок расположен на дне глубокой долины, солнце тут с трудом преодолевает высокую горную гряду, и лучи его скользят по кровлям домов. В этом крохотном городке ужасно холодно. «Что до тепла, — пишет наш автор на странице 5 первого тома, — то на избыток его я никогда не сетовал, как и на недостаток средств обогревания, хотя живу в Риофрио»[65]. Иными словами — хотя этот городок самое холодное место в мире. Далее — ради чего и пишутся эти страницы — мы увидим, как Бехарано, наш почтенный священнослужитель, делает подробное и красочное описание Риофрио в провинции Авила.
Как очутился здесь дон Хасинто Бехара́но Галавис-и-Нидос? На титульном листе книги сказано, что в то время, когда его сочинение печатается, автор уже служит священником прихода церкви Сан Мартин в городе Аревало той же провинции Авила. Итак, нашему Бехарано Галавису удалось сбежать из Риофрио. А когда же автор был замещающим преподавателем в Саламанке и участвовал в конкурсе на место каноника в мадридском Сан Исидро? Было ли это в промежутке между службой в одном и в другом приходе? Из его сочинения явствует, что пребывание в Мадриде и Саламанке предшествовало ссылке в крошечный захолустный городок. О, как теперь далек тот мир! Как сладостны и мучительны, мучительны и вместе сладостны воспоминания о дружеских кружках в Мадриде и Саламанке и об увлекательных и поучительных посещениях книжных лавок и библиотек! Ныне Хасинто Бехарано живет вдали от любимых им городов, вдали от дружеских компаний — столь милых его сердцу, о чем мы узнаем впоследствии; он сюда заброшен, он затворен, заточен в этом городке в самом сердце сьерры. Удастся ли ему когда-нибудь отсюда выбраться? И какую позицию избрать? Отчаиваться, изливаться в жалобах и делать бесполезные гневные жесты — или же выказывать мудрое, тихое смирение перед суровой и неумолимой необходимостью? Как поступить: исполниться презрением человека высшего сорта ко всем этим неотесанным мужланам, которые его окружают и с которыми он вынужден каждый день общаться, — либо разумно с ними поладить, не требуя от необразованного бедняги, чтобы он был Вивесом или Эразмом, стараясь, да, да, стараясь извлечь из общения с ними всю возможную пользу, ценя проницательность их природного ума и прощая незнание тривиума и квадривиума?
Доморощенный Монтень
Бехарано избирает второе. Наш автор — доморощенный Монтень из Риофрио в провинции Авила. Наш автор прочитал много разных книг; он наделен живым, любознательным умом; он любит всяческие новинки и причуды человеческой мысли; в то же время ему нравятся содержательные, приятные аттические беседы; также мила ему жизнь тихая, мирная, скромная, без шумных радостей, но и без хлопот, неудобств и неприятностей. У него нет никаких стойких предрассудков. «Я никогда не бываю настолько привержен своим идеям, — пишет он, — чтобы не осудить свое заблуждение при первом же случае, позволившем его обнаружить». Его взгляды на культуру и ученость совпадают с взглядами автора «Опытов». Монтень предпочитал ум, не затронутый культурой, без учености, без книжного груза, зато ясный и точный, уму, загроможденному ученым хламом, но тусклому и бесцветному. J’ay veu en mon temps, — пишет он в знаменитой главе о философии Раймунда Сабундского, в главе XII книги II, — cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus heureux que (les recteurs de l’universite, et lesquels j’aimerois mieux ressembler[66]. To же самое заявляет наш Бехарано Галавис-и-Нидос. «Учение, — говорит он, — дает знания и снабжает понятиями, с помощью которых мы можем строить рассуждения, до каковых никогда бы без них не додумались. Это не подлежит сомнению». Не подлежит сомнению, однако… «Книги не наделяют умом». Заблуждение относительно роли книг присуще многим. Сколько лет прошло с тех пор, как Бехарано, священник из Риофрио, высказал эту истину, а заблуждение, с которым он пытался бороться, — и до него Монтень, — стало ныне еще более упорным и стойким. Суеверное отношение к книге усугубилось. Мы смешиваем культуру и ум. «Будем ли мы считать, — пишет Галавис, — что неравенство людей по уму или суждению происходит из самой сущности строя их души, как полагали некоторые, или же, что оно зависит единственно от различного состояния и устройства органов телесных, как обыкновенно думают, но умственные способности с учением и без оного остаются все теми же. Ведь не подлежит сомнению, что устройство или состояние наших органов не меняются от учения, ибо оно не способно подобное изменение вызвать и тем более — изменить сущность строя души». (Прошу читателя, кстати, обратить внимание, как славно это выражено. Дальше мы увидим, что наш автор изящный, превосходный прозаик, один из лучших кастильских прозаиков.)
Да, книги, ученость не наделяют умом. Нужно просто иметь его, этот ум. «Тупица так и остается тупицей». И наш автор прибавляет: «Допустим, что он много читает, много беседует с другими, заполняет свою память многими понятиями и сведениями. Все равно он не сумеет удачно их соединить, разумно распределить, глубоко постигнуть, отчетливо разграничить; по сей причине он будет ученым лишь с виду, годным на то, чтобы поражать невежественную чернь, одним из тех, кого величают кладезями учености, но, как заметил некий разумный писатель, они всего лишь кладези мутной воды». Земледелец из числа тех, с кем в Риофрио живет рядом наш автор, может быть умней какого-нибудь доктора наук, или министра, или сочинителя пухлых, ученых книг; без всякой учености он способен понимать жизнь более ясно и точно, чем иной многоученый муж. Бехарано порой вспоминает о своих посещениях книжных лавок и библиотек, однако не впадает в уныние из-за того, что ныне это ему недоступно. «Будучи студентом в Саламанке, — пишет он во втором томе своего сочинения, — я однажды днем зашел (как делал то неоднократно) в превосходную библиотеку университета, взял с полки книгу…» Те дни миновали. Добрый Бехарано Галавис частенько думает о тех заманчивых полках. Однако он умеряет порывы своего духа разумной резиньяцией и преодолевает сердечную тоску. Здесь он живет в тишине, покое, умеренности, здесь, в этой долине сьерры, проходят его дни. Но верно ли, что нашему автору удается полностью заглушить свои воспоминания? Неужто у этого уравновешенного и жизнерадостного человека никогда не бывает на лице хотя бы мимолетного выражения грусти, не бывает мига отчаяния, когда хочется замкнуться в ожесточенном, досадливом молчании? Неужто не бывает часа, когда мысль о своей отгороженности от мира и об унылом безлюдье горной местности у этого деликатного, тонкого, умного, чувственного человека — да, чувственного, как и Монтень, — исторгает вопль, один лишь предательский вопль из самых недр его духа, нарушающий его невозмутимое душевное равновесие?
Но не будем опережать события, будем двигаться постепенно.
НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ
Мулы
Приведем некоторые мысли автора. Бехарано Галавис терпеть не может мулов. Помните навязчивую неприязнь дона Фермина Кабальеро по отношению к мулам в его «Сельском населении»? Бехарано Галавису ненавистен самый вид мулов. Мулы — это для Испании нечто типичное, единосущное. Мулы — это видение бесконечной серой равнины. Где-то там, далеко-далеко, на фоне ослепительного неба, темнеет силуэт вереницы мулов, которые медленно, покачиваясь и дергая, тянут тяжелую сельскую повозку. Мулы — это трактиры и постоялые дворы («Имеется вода и солома»), заезжие дома на деревенских улочках и на высотах перевала средь пустынных гор. Мулы — неизменная принадлежность мадридских улиц: повозка, застрявшая на крутом подъеме, вымощенном неровным, блестящим булыжником; брань и божба извозчиков; искаженные яростью лица; чудовищные удары по головам бедных животных; бесстрастно наблюдающее эту сцену скопище бездельников и зевак. Мул — это неглубокая борозда, небрежная, поспешная пахота. Мул — это грубая сила, дикое упрямство, неподатливость, непредсказуемость. Мул — это логическое дополнение к нашему чуло, к бою быков, к густому, мутному вину, к шумной, судорожной пляске. Другая крайность, противостоящая кротости, терпению, спокойствию, основательной работе волов — воплощена в мулах. «Нельзя отрицать, — говорит Бехарано, — что борозда от плуга, который тянет мул, бывает менее глубокой, чем от плуга, который тянет вол»
Мы не представляем себе испанский пейзаж без мула. Однако в этом облике испанского пейзажа — пейзажа природного и духовного — есть черта, придающая ему глубокую оригинальность. Пейзаж Испании не спутаешь с пейзажем Франции или Англии. Начиная с сочного плода до строфы поэта, с румяных, душистых яблок и до пылких, возвышенных стихов фрая Луиса де Леона, — все здесь наполнено поразительной энергией. Живя в Испании, ощущаешь во всем силу, порыв, четкость, благодаря которым ее пейзаж не спутаешь с каким-либо другим пейзажем. Резкость нрава вот этой черноокой, быстрой женщины со смуглым, оливковым цветом лица, резкость и пылкость этой женщины — столь отличная от прелестной мягкости иных женщин под иными небесами, — именно это и придает ей ни с чем не сравнимое очарование. И очарованию этой женщины, ее резкости подобны яркие краски и сильный аромат испанских цветов — роз, гвоздик, жасмина, — или лучистые сумерки светлых вечерних часов в Кастилии (особенно в Авиле, когда смотришь с ее стен на долину Амбле́с), или глубокая, душераздирающая печаль народной песни, звуки которой отдаляются, затихают, растворяются в прозрачной дали, точно стон плачущего, точно крик ужаса в ночи…
Бой быков
Не это ли привлекало Мериме? Не это ли привлекало его в Испании, когда в своих письмах Эстебаньесу Кальдерону он посылал привет милой Заике? Кто она была, эта Заика? И кто такая Пепа Бандерильера, о которой упоминает один из биографов автора «Кармен»? Да, несомненно, Мериме чувствовал глубокие, неодолимые чары этого изысканного ощущения энергии и резкости. После него Ницше, путешествуя по Италии и слушая музыку Бизе, вероятно, испытывал те же чары. Побывай Ницше в Испании, он бы еще более глубоко насладился этим ее психологическим и эстетическим своеобразием. Заика, Пепа Бандерильера… Два прозвища, которые приводят на ум столько будящих воображение и противоречивых мыслей. Бой быков, однако, должен у нас вызывать отвращение. Бой быков — это жестокость, варварство. Нашему автору он отвратителен. Считают, что бой быков нужен, дабы «укреплять отвагу духа». Нет! «Люди более кровожадные, — пишет Бехарано, — всегда будут более жестоки и бесчеловечны, но не более отважны, чем остальные».
Пепа Бандерильера, Заика, искрометные глаза, оливковый цвет лица, легкие и сильные руки и ноги… Нам хотелось бы одного — чтобы эти запасы энергии, эта сила, этот порыв были введены в некое русло, упорядочены, благотворно сосредоточены. Испанские энергия и резкость могут быть чертой могучей и оригинальной культуры. Оставить свою печать на общечеловеческом фоне — таков наш идеал.
Европа или Бланшар и Руссо
Таков наш идеал, и такой должна быть наша деятельность. В своих ограниченных, скромных пределах, среди захолустья сьерры, таким было и желание нашего автора. Бехарано Галавису все любопытно, до всего ему дело — нет такой интеллектуальной новинки или изобретения, которых бы он не выловил в книгах. На страницах сочинения, о котором мы пишем, читатель может увидеть, сколь разнообразным и пестрым был его круг чтения. И несмотря на это, сколь истинно испанским, сколь глубоко испанским был ум этого человека! Среди раритетов, коими интересуется наш автор, находим следующие: «…летающая повозка Бланшара и воздушный шар Монгольфье». Заметьте, мы находимся в Риофрио, городке, затерянном в горах Авилы, и живем в 1791 году. На этих же страницах встречаем также упоминание о Руссо: «Кто и когда приравнивал бой быков, балеты и комедии к религиозным действам? Даже гражданин Женевы Жан Руссо рассуждает об этом предмете, как Его Святейшество». Европа — это Бланшар, создатель воздушного экипажа, и Руссо; Европа — это техника, а также идеология. Будем следить за всеми интеллектуальными и научными движениями и, насколько сумеем, усваивать все новое в области мысли; но усваивать для того, чтобы включить это в нашу жизнь, чтобы внедрить уже как свое в наш дух. Бехарано с необыкновенным упорством отстаивает национальное своеобразие. К этой теме он непрестанно возвращается на страницах своей книги. Но мы не должны замыкаться в себе. Будем делать то же, что делают другие народы. «Разве Голландия и Англия стали бы такими многолюдными и могущественными, если б их жители не трудились прилежно над делом, соответствующим их званию?» И наш автор прибавляет: «Так почему же нам не подражать в этом им и другим народам Европы, раз уж им подражают в разных безделицах, мелочах и вредных причудах? Надобно рассеять их заблуждение и наглядно показать, что испанский характер и испанский дух способен осуществить все, что бы ни предпринял; одним словом, что это дух и характер высшего порядка и отнюдь не склонный к лености».
ТЕОРИЯ СТИЛЯ
Снег и вода
Наш Бехарано Галавис-и-Нидос сидит за небольшим столом, ноги его — если сейчас зима — покоятся на толстой циновке из испанского дрока. В комнате уютно, от жаровни исходит приятное тепло, в окнах видны покрытые снегом горы. На столике чернильница, перо, листы белой бумаги. Сейчас наш Бехарано Галавис-и-Нидос начнет писать. Как же будет писать наш Бехарано Галавис-и-Нидос? Тем ли барочным, высокопарным, напыщенным слогом, какой мы видим у духовных лиц XVIII века, или же зверски сложным, усеянным чужеземными вокабулами, нередко притянутыми за волосы, каким изъясняется Торрес Вильяроэль? Нет, Бехарано очень далек от Торреса Вильяроэля — которого он знает — и от «изощренных» духовных писателей XVIII столетия. Так, значит, каким будет его стиль? Да, стиль… Взгляните на белизну горного снега, ее нежность, ее чистоту; взгляните на прозрачную воду горного потока, на ее кристальную ясность. Таков и стиль, стиль — это ничто. Стиль — это значит писать так, чтобы читатель подумал: «Тут нет ничего». Чтобы он подумал: «Так могу и я». И однако, чтобы тот, кто так подумает, не мог достигнуть этой простоты, и чтобы то, что кажется ничем, было самым трудным, самым каверзным, самым сложным.
Прямо к делу
Бехарано Галавис в предисловии к книге сам излагает свою теорию стиля. Его утверждения категоричны. «Первое достоинство стиля, — пишет наш автор, — это ясность. Мы говорим ведь лишь для того, чтобы нас поняли. Стиль ясен, если он мгновенно ведет слушающего к делу, не задерживая его внимание на словах». Запомним основную максиму: прямо к делу. Чтобы слова не задерживали нас, не мешали, не затрудняли путь, чтобы мы мгновенно перенеслись к делу. Более удачное и точное выражение невозможно найти. Остановимся же на этой теме: «Если стиль верно и точно передает то, что мы чувствуем, — он хорош». Трудность, высшая сложность в том, чтобы таким вот образом передать то, что чувствуешь. Разумеется, кому не дано быть художником, не дано быть великим стилистом, кто не владеет техникой, у того неизбежно появляется склонность облекать свои чувства и мысли всяческими аксессуарами и надоедливой мишурой. Людям не понять, что простое это и есть художественное. Не под силу понять, что презирать стиль за простоту — глупо. «Простоту, если речь идет о стиле, надлежит почитать не недостатком, но, напротив, искусством». Почему старинные писатели имеют для нас — людей, отделенных от них столькими веками, — такое глубокое очарование? В испанской литературе мы авторов XVI века предпочитаем авторам XVII века. А среди произведений великого писателя созданиям его зрелых лет обычно отдаем предпочтение перед созданиями юности… Написав эти строки, мы на минуту остановились, чтобы подумать. А верно ли то, что мы сейчас высказали? Произведения юности — это огонь и золото; творения зрелости — строгость и серебро. Перед нашим мысленным взором стоят в это мгновение последние полотна Тициана. Мы думаем также о первой и о второй части «Дон Кихота». И вспоминаем глубокое впечатление от перечитывания «Персилеса и Сихизмунды» уже во второй половине жизни. Во всем есть своя прелесть, но, пожалуй, самое сильное, самое утонченное наслаждение доставляют эти матово-серые тона, эта скупость средств, эта невыразимая, тихая грусть великих созданий вечерней поры.
Вернемся к формуле Галависа: «Простоту, если речь идет о стиле, надлежит почитать не недостатком, но, напротив, искусством». И автор прибавляет: «В простом стиле не меньше изящества и точности, чем в других стилях». «Из всех недостатков стиля самый нелепый тот, который именуют напыщенностью».
Темный стиль — темная мысль
Все должно быть принесено в жертву ясности. «Всякое другое обстоятельство или качество, как, например, чистота языка, соразмерность, возвышенность и изысканность, должны поступиться перед ясностью». Не довольно ли этого? А вот для пуристов сказано так: «Лучше навлечь осуждение ревнителя грамматики, нежели остаться непонятым». «Верно то, что любая аффектация достойна осуждения, однако к аффектации ясного стиля можно прибегать безбоязненно». Единственная извинительная аффектация — это аффектация ясности. «Недостаточно, чтобы тебя поняли; надобно стремиться к тому, чтобы тебя не могли не понять».
Да, стиль немногословный и ясный — это высшая цель. Но как писать немногословно и ясно, если думаешь-то совсем не так? Стиль не зависит от нашей воли, отсюда бессилие и тщетность — относительные — всяческих правил. Стиль — это равнодействующая нашей… физиологии. «Когда стиль темен, есть основание полагать, что и понимание смутно». Темный стиль — темная мысль. «То, что ясно написано, может быть ясно высказано, разве что у автора есть причины напускать на себя загадочность». Великолепно по точности и проницательности! Рекомендуем простоту и еще раз простоту. Но что такое простота стиля? Вот большая проблема. Сейчас мы дадим формулу простоты. Простота, эта чертовски трудная простота — вопрос метода. Следуйте нашему совету, и вы одним махом овладеете великолепным стилем: когда пишете, помещайте одно после другого. Больше ничего, вот и все. Разве вы не замечали, что у ораторов или у писателей обычный недостаток состоит в том, что они помещают одно высказывание внутри другого с помощью всяких там скобок, вставных, вводных предложений и разных попутных и случайных мыслей? Так вот, в противоположность этому надо размещать предметы изложения — сиречь мысли, чувства — одно после другого. «Предметы изложения надобно размещать, — говорит Бехарано, — в том порядке, в каком о них думаешь, и отводить им надлежащее пространство». Трудность, однако, в том… чтобы правильно думать. Стиль не зависит от нашей воли. Стиль — это равнодействующая физиологическая.
Врожденное
Ты либо поэт, либо не поэт. Либо прозаик, либо не прозаик. Либо живописец, либо не живописец. Все это — независимо от нашей воли. Кто сумеет выразить глубочайшую тайну, неисчерпаемое могущество врожденного? Прелесть литературного стиля — в его разнообразии, многоликости. «Стиль произведения, написанного для всех, — говорит Бехарано, — должен быть ясным, чистым, отшлифованным, местами простым, местами возвышенным, здесь короткие фразы, там периоды». Многоликость… Философ Ницше любил повторять фразу нашего Лопе де Веги: «Я наследую самому себе…» Я наследую самому себе в разнообразии стилей, форм, оттенков. Я наследую самому себе, вникая во все и проникаясь всем. Художник — тот, кто создает окончательную, единственную форму выражения для данного предмета. «Есть слова, которые так соответствуют предмету и так свойственны нашей мысли, что рождаются вместе с нею». Что рождаются вместе с нею; дело мыслителя и художника — найти их. «Порой мы свою мысль можем надлежаще выразить лишь одним способом. Счастливы те, кто этот способ находит!» Да, здесь, в хаосе вселенной, где-то таится он, этот способ; здесь есть и «Мадонна» Рафаэля, есть Дон Кихот и Санчо Сервантеса или Шекспиров любовный дуэт Ромео и Джульетты. Он здесь, здесь, окончательный, непревзойденный архитип. Здесь единственный способ выражения для этого предмета. Здесь, в несотворенном, в этой туманности, в хаосе вселенной, он, этот способ, ждет интуиции художника. «Счастливы те, кто его находит!»
Врожденное… Кто выразит все его могущество и тайну? В могуществе врожденного — вся штука. Это оно перепрыгивает через нерушимые предписания и создает новые эстетики. Наш автор — в 1791 году — предвосхищает революцию романтиков. Наш автор (он сам это говорит) — человек без предрассудков. Своими мыслями, изложенными в этой книге, наш автор, автор никому не известный, заброшенный в глухой городок провинции Авила, завоевывает себе место среди лучших современных испанских писателей. «Нельзя отрицать, — говорит он, — что рабское подчинение правилам подрезает крылья таланту». И далее — глубокие слова, которыми хотелось бы заключить эту главу: «Хороший вкус не создавался правилами, но, по прошествии времени, правила создавались хорошим вкусом. Счастливый природный дар, пусть и неотшлифованный, больше стоит, чем мастерство отделки…»
ВРЕМЕНА ГОДА
В Париже и в Мадриде
Какое же время года будет здесь, в этом городке среди гор, для нашего Бехарано Галависа самым приятным? В какую погоду его меньше томит скука? Об этом скажет он сам. Времена года в Риофрио — совсем не то, что в Париже или в Мадриде. И вообще-то, есть ли в больших городах времена года? Во всяком случае, приметы, по которым мы различаем времена года в сельской местности, в деревушках, не те, какие для них характерны в многолюдных городах; или лучше так: для нас, жителей больших городов, во временах года пропадает многое из того, что мы видим и чувствуем, когда проводим это время в деревне. В больших городах жизнь наша движется в головокружительном темпе, с нами происходит уйма событий, и поэтому время летит быстро. (Прочитайте глубокие наблюдения Гюйо в его «Происхождении понятия времени».) Зима, действует отопление — которого мы не видим; и вот как бы совсем неожиданно, в один прекрасный день, мы с удивлением обнаруживаем, что деревья оделись зелеными листьями. Странное дело! Неужели так быстро прошло время? Поезд мчит нас на морской берег; мы видим прелестных, соблазнительных женщин за карточным столом; другой поезд мчит нас обратно в большой город; начинает действовать отопление — которого мы не видим. Странное дело! Неужели время так быстро пролетело?
Милый Бехарано Галавис! В Риофрио провинции Авила все происходит не так. Мы-то «живем своей жизнью» — как ныне говорят. Но и вы, там, — тоже…
Весна
Весною растения и животные «начинают оживать». «Да, в эту пору все живое выказывает свою радость». Птицы словно бы воскресают. «Деревья и луга красуются буйной зеленью листвы и множеством ярких цветов. Сколь прекрасной и приятной становится тогда природа!»
(Наша весна. — В рыжем овраге цветет одно миндальное деревцо. Наверху — голубое небо. Звенят вдали бубенчики овечьего стада. Журчит ручей. Пахнут розмарин и лаванда. Синие тени. Звуки песни, постепенно затихающей в сумеречном воздухе. Где-то там, высоко в горах, среди мрака, — огонек костра.)
Лето
Земледельцы полагают, что лето лучшее время года. «И правда, лето приносит исполнение их надежд. Если прежде вспаханная земля была покрыта пылью, теперь она торжествует победу в триумфальном венце колосьев. Груженные трофеями повозки образуют обелиск из снопов и наполняют зерном амбары. Летом лесной бог Пан, радостный пастушеский бог, сидя верхом на своем осле, привлекает все взоры, веселя души крестьян тамбурином и флейтой. Наконец, что ни говори, лето — время сбора урожая, и тот, кто в эту пору не потрудится прилежно, будет сидеть голодный весь год».
(Наше лето. — С возвышенности видны бескрайние просторы синего моря и далекий берег. Яркий луч маяка, то вспыхивающий, то исчезающий во мраке. Легкие, надушенные женские платья. Открытое окно в вагоне. Неспешная прогулка на закате.)
Осень
«У осени столько преимуществ, что, коль рассудить хорошенько, она занимает первое место среди времен и сезонов года». «Осенью Бахус или Силен с важным видом восседает на бочке или же, щеголяя пухлыми щеками, увенчанный виноградною лозой, шествует по улицам, всем своим видом показывая, что именно в нем вся роскошь земель Медины. Об этой поре в крови нашей, истощившейся от чрезмерного летнего зноя, шумит и бродит молодое вино, и дружескими заботами Клифлота (виночерпия Бахусова, того, кто подносит ему кубок) она становится здоровее, укрепляя сердце, печень и прочие части человеческого тела». Осень — пора великолепных зрелых плодов. В землю бросают семена, и земля, не торопясь, зачинает урожай следующего года.
(Наша осень. — Качающиеся верхушки кипарисов. Бледные розы. Стонущие колокола. Тополевая аллея, устланная ковром желтых листьев. Аромат хранящихся к рождеству фруктов в сельской кладовой. Кашель, горящие глаза — и белые, изящные руки. Опадающие лепестки роз. Тиканье часов в сумерках. Поскрипыванье мебели…)
Зима
Что может привести в свое оправдание зима, чтобы стать желанной обитателям земли? Зима угрюма и сурова. «Съежившиеся от стужи, закопченные, с приставшей к одежде соломой, люди — свидетели ее жестокости. Голые деревья безмолвно обличают ее немилосердие, а скалы и ущелья под слоем льда и снега обнаруживают ее страшный облик и разрушительный нрав». И однако у зимы тоже есть поклонники. «Да, я один из них», — говорит Бехарано Галавис. Наш автор терпеть не может жару и любит холод. «Холод меня бодрит, а жара расслабляет». Летом нас беспокоят всевозможные насекомые и зверушки, зимой мы отдыхаем от этих напастей. «Кроме того, в эту пору, даже при восточном ветре, и вина не киснут, и нас не донимают слабость и недомогания, которые этот треклятый ветер причиняет летом. Зимою мы лучше спим, охотней едим, и пищеварение работает лучше». Есть и еще кое-что, приводящее нашего автора в восторг. «Главное же, когда наступают длинные вечера, у горящего очага собираются люди потолковать о том, что случилось в этот день и вообще в течение года». О, как наслаждается Бехарано приятной, разумной беседой! «Для меня это величайшее наслаждение — такие беседы везде были моей отрадой». И здесь, в этом городке, в этом Риофрио, Бехарано тоже умеет насладиться радостями мирной беседы. В остальные времена года земледельцы не сидят дома, они трудятся в поле, а когда наступает ночь, усталость валит их прямо на ложе. Для того, чтобы поболтать, пошутить, времени не остается. Другое дело в зимнюю стужу. «Зимою, — пишет наш автор, — так как времени для сна много и в поле делать нечего, мы чаще собираемся вместе и подолгу разговариваем, а беседа разгоняет ипохондрическое, мрачное и унылое настроение, которое порождается одиночеством и порой так губительно влияет на тело и даже на душу».
(Наша зима. — В сумерках, через стекла витрины, видна в задней комнатке лавки склоненная голова старика. Дробно рассыпаются звучные удары соборного колокола. На улочке слышны шаги. Ранним утром звон колокольчиков. Тихо падает снег.)
Все субъективно
А что же видим мы, читатель, весной, летом, осенью и зимой? Какое из этих времен года предпочитаем? Все субъективно. Различные времена года дороги нам тем, какие связаны с ними воспоминания, какие чувства, впечатления детства, события взрослой жизни. Какая-нибудь черта, общая двум или даже всем сезонам, может оказаться определяющей для какого-то одного сезона, и в этом одном сезоне больше говорит нашей душе, чем во всех остальных. Почему луч этого маяка в море связан для нас с летом, а не с зимой или весной? Дело тут в чувствах глубинных, невыразимых словами. Ведь мы глядели на него летними ночами, незабываемыми для нас; столько раз глядели в тишине и покое на этот безмолвный, вращающийся, возвращающийся свет! Мы привносим в природу свой дух: одно и то же явление не будет одинаковым для двух человек. И с ходом жизни, по мере того как многие пылкие стремления угасают в нас, становятся более яркими и выпуклыми некие отдельные черты воспринимаемых явлений, черты, которые для нас уже будут окончательными.
ПАСТУХИ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
Наблюдение Надара
Пастухи или земледельцы? Два мира, два класса людей. Да, два класса, однако… От Мадрида или Парижа они находятся далековато. Бехарано уже привык жить среди пастухов и земледельцев здесь, в этом городке, в горах Авилы. Во всем есть своя прелесть, общество пастухов и земледельцев тоже может быть в некотором смысле приятно. Да, может, когда имеешь дело с людьми простодушными, наивными, наделенными живой природной интуицией. На землях Авилы, вероятно, нетрудно примириться с существованием среди людей подобного рода. Здесь все они живут вдали от Мадрида. В чем же причина того, что большие города столь скупо распространяют цивилизацию вокруг себя? Откуда эта ужасающая грубость обитателей городков и деревень близ Мадрида? Пусть Бехарано живет себе в Риофрио провинции Авила, но не пожелаем ему жить в окрестностях испанской столицы. И то, что мы сказали о Мадриде, мы можем сказать и о Париже. Кто же лучше всех способен определить, каковы люди в селах и городах, то есть на какой ступени цивилизации они живут? Извольте… Аэронавт. «Как? Аэронавт?» Да, представьте себе, аэронавт. Аэронавт со своим шаром обязательно где-то опустится, в этом нет сомнения. Когда шар опускается посреди поля, в окрестностях деревушки, сбегаются пастухи, земледельцы, ремесленники. Каково отношение у всех этих людей к шару и что они будут с шаром делать? Воздушный шар — для них вещь необычная, фантастическая. В жизни этих людей внезапно произошло потрясающее событие. Здесь, в их власти, оказался воздушный шар, а в руках у них серпы, жерди, дубинки, камни. Что же предпримет вся эта орава? Будут ли они почтительны к необычному предмету, оберегая его и оказывая помощь аэронавту, или же поведут себя агрессивно, варварски? Ответ на этот вопрос зависит от того, идет ли речь об окрестностях большого города или о сельской местности, отдаленной — очень отдаленной — от многолюдных городов. В окрестностях Мадрида воздушный шар наверняка уничтожили бы. В окрестностях Парижа — то же самое. Остроумный Надар, аэронавт, фотограф, юморист и прочее, много лет тому назад сделал это наблюдение. В середине XIX века Надар многократно поднимался на воздушном шаре, об этом он сам рассказал в своей книге «Mémoires du „Géant“»[67], Париж, 1864. В этой книге Надар говорит о «гостеприимной зоне, начинающейся за пределами окружности с радиусом пять лье вокруг Парижа». И прибавляет (страница 41): «Никогда не опускайтесь внутри этой окружности. Если же так случится, бросайте все и бегите. Ибо в пригородах столицы цивилизованного мира вы встретите более грубых и свирепых дикарей, чем бушмены или туземцы штата Орегон». И тут надо также вспомнить о том, что творили земледельцы из окрестностей Парижа, искавшие убежища в городе во время осады 1871 года, в богатых домах, которые оказали им гостеприимство. Об этом повествует Сарсе в своей известной книге…
А вблизи Мадрида… Любезный Бехарано Галавис! Живи с пастухами и земледельцами, среди пастухов и земледельцев, только подальше, подальше от Парижа и Мадрида!
Пастухи
В доме Бехарано, у очага, друзья священника рассуждают о преимуществах жизни пастухов и земледельцев. Просто удовольствие цитировать эти абзацы, написанные таким чистым и сочным языком. Дядюшка Качарро — он земледелец — говорит, что пастухам, мол, живется лучше, чем землепашцам. Послушаем его: «Верно у нас говорят, что пастухам живется куда вольготней. Целехонький день дрыхнут себе где-нибудь на лугу, а мы-то в это время рыхлим землю и сорняки выпалываем. Потому-то они всегда такие веселые! Как придут в деревню, пляскам нет конца, да и там, на лугах, среди коз, овец и коров, им тоже забав хватает. То кастаньетами трещат, то на волынках или на скрипках играют, распевают свои песенки и гогочут. Едят они за чужой счет, оттого и печали не знают, и плевать им на то, дорог нынче хлеб или дешев. Нам бы так повеселиться! Мы-то, как придем после пахоты, уже ни на что не годны, на ногах еле держимся, а наутро снова надобно идти ковыряться среди этих скал. И хуже всего, что, когда нескольким твоим фанегам зерна приходит конец — а так оно обычно и бывает, — брюхо-то набить нечем. И если у кого-то разживешься в долг — а дают тебе фанегу-другую, приговаривая, что милость великую оказывают, — так в августе надо вернуть вдвое больше. Глядишь, туда надо, сюда надо, сам не заметишь, как разойдется все, что собрал. Вот это нам обидней всего, потому мы своим занятием и недовольны».
Земледельцы
Священник Бехарано не согласен с дядюшкой Качарро. И у пастухов и у земледельцев есть свои преимущества. Да, земледелец трудится больше, чем пастух, но от своего труда он получает не меньше удовлетворения, чем пастух. Пляшут же и поют те и другие. «За то, что пастухи весь день полеживают, между тем как землепашцы выпалывают сорняки да рыхлят землю, им приходится расплачиваться. Ночью и днем пастухи под открытым небом, спят где-нибудь под кустом, мокнут от дождя, докучают им холод и жара, а земледельцы отдыхают в своей постели, подле кухонного очага, или выгреваются на солнышке, судача с соседями. Конечно, и у тех и у других не всегда все ладится. Однако же пастухи и земледельцы ведут простой образ жизни и вырастают здоровыми». (До известной степени, дорогой Бехарано. Из-за плохого питания среди земледельцев свирепствует чахотка. Также другая болезнь, которая, казалось бы, должна быть принадлежностью горожан. Мы имеем в виду неврастению. О «сельской неврастении» уже заговорили доктора. А что касается простого образа жизни земледельцев… это тоже до известной степени. В деревнях делают все то, что делают в Мадриде или в Париже.) «Они равнодушно переносят огорченья, — прибавляет наш автор, — им нет никакого дела до того, что творится в мире. Было бы вдоволь выпить и поесть, они бровью не поведут и не станут печалиться, хоть бы свод небесный раскололся на кусочки». Удивительно точно подмечено! Вспомните то место, где Монтень говорит о своем садовнике: «Этот человек, что работает в моем саду, нынче утром похоронил своего отца или своего сына…»
Пастухи и земледельцы
И те и другие живут превосходно. (Если живут, любезный Бехарано.) «Кто с лучшим аппетитом ест что угодно и в любой час, как не пастухи и земледельцы? По этой-то причине я утверждаю, что они едят роскошно, как короли». (Минуточку, мне хочется привести несколько строк из Фейхоо, написанных в те же годы: «Я, по правде, могу говорить с полным знанием дела лишь о том, что творится в Галисии, Астурии и в горах Леона. В этих краях нет людей более изголодавшихся и хуже одетых, чем земледельцы. Несколько тряпок прикрывают их тело — вернее сказать, открывают, ибо состоят из сплошных дыр. Жилье у них такое же дырявое, как одежда, ветер и дождь разгуливают там, как у себя дома. Питание их — огрызок черного хлеба с чем-нибудь молочным или с какими-нибудь грубыми овощами, однако все в таких скудных количествах, что многие ни разу в жизни не встали из-за стола насытившись…» — Фейхоо, рассуждение «Почет и выгода сельского хозяйства». — Теперь продолжим.) «А ведь если нет аппетита, то поставь перед вами самые изысканные яства, все будет не в радость. Что толку, если стол ломится от телятины, цыплят и прочей птицы, от форелей, угрей и другой дорогой рыбы и т. д., коли те, кому вы это поставили и кто за стол садится, пресыщены всем? И напротив, когда есть хороший аппетит, похлебка из солонины с капустой, репой и салом покажется вкуснее всего вышеназванного». (Как сказать…) «Ломоть ячменного или кукурузного хлеба им дороже, чем кренделя Старой Коллегии в Саламанке». (Как сказать… А с каким удовольствием наш друг вспоминает о кренделях Старой Коллегии в Саламанке!)
Что ж до сна, «много ли радости королю, что у него перины набиты пухом и простыни из тончайшего голландского полотна, если он, ложась, не может уснуть?» А как бывает с земледельцами? «Улегшись на свой матрас, набитый кострою или соломой, любой земледелец спит, как говорится, без задних ног, и спится ему сладко и спокойно. Пастух на своих овчинах или на голой земле тоже наслаждается этим преимуществом».
(Голоса пастухов и земледельцев: «И все же, и все же…»)
У АРКСТЕЯ И МЕРКУСА
Изящные гравюры
Испания — страна, где никто не знает географии. Географию мира — едва-едва. Географию Испании — не знают вовсе. Были, однако, попытки и пробы ознакомления с географией, которые делались век тому назад или чуть позже. В 1778 году в Мадриде (в типографии Панталеона Аснара) начала издаваться серия книжечек под названием «Испанский Атлант, или Общее, географическое, хронологическое и историческое описание Испании». Автором этой серии был дон Бернардо Эспинальт-и-Гарсиа, чиновник Главного почтового ведомства столицы. Томики выходили «иллюстрированные изящными гравюрами». И на этих гравюрах мы видим панорамы городов, где на широкой улице или на просторной площади гуляют или стоят два-три жителя. Много раз, детьми и уже в зрелом возрасте, мы любовались в книгах XVIII и начала XIX века такими видами улиц и площадей. Наше внимание, наш интерес всегда вызывали эти три-четыре жителя, которые в многолюдном городе одни лишь наслаждаются обширными пространствами площади или улицы. В одиноких этих фигурах есть что-то таинственно-притягательное. В некий дневной час, когда, казалось бы, на улицах и площадях города должен кишмя кишеть народ, эти два или три его обитателя одни располагают всем пространством города. Некоторые из тех одиноких фигур словно бы куда-то направляются — их правая нога чуть выдвинута вперед. Другие щеголяют в цилиндрах. Обязательно есть — это уж традиция — дама с зонтиком. И собачка, удивительно симпатичная собачка, словно бы бежит рядом с одной из этих особ. Здания на рисунке строги, симметричны, четки, мостовая гладкая, ровная. В окнах, в дверях домов — нет никого. По небу не плывут облака. О, счастливые люди, вы, которые в высоком цилиндре и во фраке стоите как вкопанные или как будто куда-то идете на гравюре в книге Месонеро Романова! Вам принадлежат вся пустынность и простор обширной площади или широкой улицы. Никто вам не мешает, вы можете делать все, что захотите; а когда открывают книгу, глаза читателя устремляются прямо на вас, и вы, в вашем высоком цилиндре, испытываете легкое презрение к читателю, существу бренному, которое нынче не такое, каким будет завтра, тогда как вы — вечны.
Критика «Атланта»
В «Испанском Атланте» публиковались томики, посвященные Мурсии, Кордове, Валенсии, Каталонии, Севилье, Арагону… Иллюстрации первого из этих томиков — о Мурсии — принадлежат Паломино. Осталась неизданной часть, относящаяся к Кастилии. «Атлант» стал мишенью для критики. Сочинение это пестрит ошибками и упущениями. Как впоследствии словарь Миньяно, «Атлант» дал пищу для фельетонов, для сатирических и юмористических отзывов. Нам известны два из этих опусов, оба напечатаны в Валенсии в один и тот же 1787 год. Один называется «Благодарственное письмо космополита автору сочинения под названием „Испанский Атлант“». Второй озаглавлен «Критическое письмо дона Альваро Хиль де ла Сьерпе автору произведения под названием „Испанский Атлант“».
Сочинитель «Атланта», собирая данные для своего труда, разослал вопросник наиболее известным особам в разных городах. Один из таких вопросников попал в Риофрио, и, поскольку там самой выдающейся особой был священник, то есть наш друг Бехарано Галавис-и-Нидос, он-то и взялся ответить на вопросы. Однако книга — или книги, — посвященная Кастилии, так и не вышла… Да и Бехарано не послал свои ответы автору «Атланта». Он ограничился тем, что опубликовал их в «Патриотических мыслях». И это самая интересная часть его книги. Мы мало знаем таких восхитительных страниц, как описание этого селения. «Городок» — так можно было бы озаглавить эти пятнадцать или двадцать страниц из истории Кастилии. Городок со своими обычаями, своими анналами, своим народом, своей повседневной жизнью, своими «памятниками», своими традициями, своими ремеслами. Кастильский, доподлинно кастильский городок, жизнь которого мы видим сквозь строки этой прозы — ясной, местами лукавой, простой, домашней, с крепким привкусом родной почвы.
Данные Мадоса
Мадос в своем «Словаре» — том XIII, 1849 — приводит некоторые данные о Риофрио в провинции Авила. Риофрио расположен в трех лигах от главного города провинции, в ладьеобразной котловине, меж двух горных гряд средней высоты; наиболее часто тут дует южный ветер, климат умеренный; в городке 130 домов вместе со зданием городского совета, служащим заодно тюрьмою; есть начальная школа для обоих полов и приходская церковь (Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон) «с приходом первого разряда и ординарного обеспечения». Мадос прибавляет: «Почвы невысокого качества. Дороги проселочные, соединяющие с соседними селениями; почта приходит в центр района. Производятся рожь, картофель и другие овощи, а также фрукты, орехи, имеются пастбища, естественные и возделываемые; крестьяне держат овец, коров, разную птицу. Промышленность: несколько мукомольных мельниц. Население: 99 домовладельцев, 457 душ».
У Аркстея и Меркуса
Мы питаем особую нежность к книжечке, имеющей на титульном листе внизу следующее обозначение: «А Amsterdam et á Leipsick, chez Arkstée et Merkus[68], 1769». Предполагаем, что речь идет об Аркстее в Амстердаме и о Меркусе в Лейпциге, и о типографском заведении каждого из них в соответствующем городе. Книжица напечатана на неважной бумаге, но шрифт крупный и отчетливый. Это произведение выдержало много изданий и в старину, и в новое время. Нас, однако, заворожил именно этот экземпляр… потрепанный, с засаленным переплетом, не обладающий никакой библиографической ценностью. Издание, имеющееся в продаже в лавках Аркстея и Меркуса, в Амстердаме и в Лейпциге, в небольшой книжной лавке каждого из них, куда захаживают старые, вечно простуженные книгочеи с тросточками и в парике. Это издание нашей книжечки снабжено превосходным оглавлением. Среди статей в оглавлении две носят название: «Испания», «Испанцы». И среди разделов последней статьи один озаглавлен следующим образом: «Их открытия в Новом Свете и их незнание собственной страны». На соответствующей странице автор говорит: «Они сделали огромные открытия в Новом Свете и еще не знают собственного континента. На их собственных реках есть мосты, ими еще не открытые, а в их горах — неизвестные им народы».
Нет надобности сообщать имя того, кто это говорит. Читатель его узнал: Монтескье в своих «Персидских письмах». (Но не странно ли звучат слова о мосте? Или же мы не так поняли, неправильно перевели?.. Открыть мост? Иначе говоря, погонщики мулов и возчики с превеликим трудом и неудобствами переходят реку вброд, не зная, что немного выше или ниже по течению есть мост. Не так ли? Во всяком случае, это звучит немного абсурдно.) Да, мы открыли целый мир и не знаем собственной страны. Испания и ныне, как в 1721 году, когда Монтескье писал свои «Персидские письма», еще не исследована. Целые области («народы», как точно определяет Монтескье) нам не известны. Основа патриотизма — география. Мы не сможем любить нашу страну, не будем ее любить по-настоящему, если ее не знаем. Постараемся же почувствовать наш пейзаж, глубоко им проникнуться. И вот написанная неизвестным сочинителем история одного городка.
НЕОЖИДАННЫЙ КРИК
Ирония
Наш друг Бехарано — эрудит, он читал много, и о самых разнообразных предметах. В своем описании Риофрио ему, нашему Бехарано Галавису, приятно показывать нам, что он человек начитанный. Но в свои ученые цитаты он также вносит чуточку иронии. Может, это нам кажется, что они ироничны? Нет, тут и впрямь есть ирония. Вот примеры. Повествуя о двух речушках, которые протекают в пределах городка, он говорит, что одна из них низвергается по крутым расщелинам в скале. Падающая с высоты вода издает глухой шум. «Невольно, — добавляет он, — вспоминаются водопады и пороги Нила. Когда воды нашей речушки низвергаются с зубчатого утеса, называемого Эль-Понго, это похоже на водопад на реке Мараньон, сиречь Амазонке». Неужели почтенный наш священник бывал в Америке? И как может он «вспоминать» о водопадах или порогах Нила? Немного ниже, рассказывая о Мертвом море, он сообщает, что греки называли его Асфальтовым «из-за того, что воды его насыщены глиной и серой». И добавляет: «Это сведение мне кажется не лишенным интереса». Здесь нам чудится лукавая, ироническая улыбка. Далее, излагая одну свою отчасти философскую мысль, он также добавляет: «Мыслишка эта подвернулась мне на перо, и не хотелось бы оставить ее в чернильнице». Повествуя о достопримечательностях Риофрио, Бехарано нам рассказывает, что «некий врач из Авилы, писавший о свойствах вод Лараса и Муньяна, утверждает, что именно здесь собирали манну, ничуть не уступавшую по вкусу калабрийской манне». И автор присовокупляет: «И все же она, наверно, сильно отличалась от той манны, которую израильтяне собирали в пустыне».
Ирония, ирония… Ничего не поделаешь, мы не можем не видеть усмешки, появляющейся на устах нашего друга. Добрый наш священник, разумеется, человек ортодоксально и глубоко верующий, что не мешает ему осторожно посмеиваться — и над многими вещами! Во втором томике своих «Патриотических мыслей», изложив некое рассуждение, он пишет: «Сказанное мною — ирония, что означает с плутовской усмешкой утверждать то, что в глубине души почитаешь нелепостью». В этом он весь, наш славный друг: образованный, мягкий, утонченный, простодушный, легонько и плутовато посмеивающийся над многим. Насмешка же надо всем — указывает на отсутствие глубины и понимания. Невозможно определить, сколько вреда принес наш современник дон Хуан Валера своим влиянием на умы. Валера поднимал на смех многие весьма серьезные вещи и отзывался со скрытой издевкой — чтобы показать свое превосходство и остроумие — о многих благороднейших художниках и мыслителях.
Нет, не такова ирония нашего друга, она не должна, не может быть такой у этого скромнейшего человека. Будем же избегать поверхностности и достойного сожалений сарказма Валеры. Будем ко многому в жизни относиться серьезно. Когда в мире появится художник, мыслитель, поэт, философ и в непривычной для нас форме будет говорить то, чего мы никогда не слышали и к чему не знаем как отнестись, не будем смеяться, подобно Валере, не будем все вышучивать, не будем кичиться своим остроумием и превосходством и с этого ламанчского плоскогорья на высоте 650 метров над уровнем моря и за много километров от границы, среди засушливых степей, не будем утверждать, что все благородные мысли, все благородные стремления, все ухищрения художника, его духовные борения, его личная трагедия, вроде трагедии Ницше, — это, мол, причуды и экстравагантности, пригодные лишь на то, чтобы отпускать о них остроты по дороге в Сан-Херонимо…
Купанье в горах
Наш друг, надо признать, — человек, ценящий чувственные радости. Он любит все изящное, утонченное. Ему нравится гулять одному. (На странице 129 первого тома дядюшка Качарро, удивляясь, что ему известно все происходящее в городке, говорит: «Ну, прямо обхохочешься, ваша милость знает обо всем, что у нас творится, хотя вы так мало выходите из дому, а если выходите, то гуляете одни».) Бехарано доставляют удовольствие две приятнейшие вещи: уединение и вода. О, сколько можно бы написать о воде и об уединении, какого себе желал Монтень, о таком уединении, чтобы мы, если захотим и когда захотим, могли бы с ним расстаться и вступить в общение с нашими близкими друзьями. И почему это все люди, любящие уединение, обычно находят также особое наслаждение в мирном и утонченном человеческом общении? Таков был Монтень, таков и наш любезнейший друг из Риофрио.
Да, Бехарано любит воду. (О своей любви к приятной дружеской беседе он говорит во многих местах книги, мы это еще увидим.) Одна из его забот — борьба с неумеренным потреблением алкоголя, которому предаются эти несчастные крестьяне в таверне. Ничего нет лучше стакана чистой, прозрачной воды. В Риофрио от воды бегут. «Здешние люди так боятся воды, что содрогаются, видя, как я по утрам выпиваю залпом целый стакан». Хорошо вымытый, чистый, наполненный чудесной водой, водой горного ручья, стакан сверкает в руках доброго священника; он приподнимает его, смотрит на свет, луч солнца из окна падает на стакан… Горные речушки местами образуют заводи, в таких заводях вода спокойная, сквозь ее кристально прозрачную толщу видно чистое, каменистое дно. Искупаться там было бы большим удовольствием. Пустынность, тишина, свежий воздух, чистая вода — какое прекрасное сочетание! Бехарано искупался бы, но… Знаете ли вы об этих вертких пресмыкающихся, которые незаметно скользят меж камнями и по земле, сливаясь окраской с ее цветом, и, когда мы одеваемся или раздеваемся, могут забраться в нашу одежду и причинить нам — даже если не ужалят — весьма неприятное ощущение? В Риофрио множество гадюк. «Я так их боюсь, — говорит Бехарано, — что, если выхожу на прогулку, мне все время чудится, что какая-нибудь меня ужалит». И этот чувствительный, с развитым воображением человек прибавляет (интереснейшее замечание!): «От страха я не раз испытывал ощущение змеиного укуса». Из-за гадюк Бехарано отказался от удовольствия купаться в горных ручьях. «Они лишили меня холодных купаний, столь полезных и рекомендуемых нынешними врачами. Мне кажется, что даже в воде я не буду огражден от их нападения».
«Вздыхаю и плачу»
От первой страницы своей книги до последней наш друг сохраняет спокойствие, жизнелюбие. Он покорно принимает свою участь. Ведь в любой момент жизни и в любом месте на земле мы можем оставаться самими собой. Во всем есть своя значительность и ценность: они есть и в кругу земледельцев, и в обществе избранной публики. Так-то так, а все же… Как приятны, как сладостны и упоительны беседы с любезными, образованными людьми! Там, в Саламанке и в Мадриде, книжные лавки, академии, салоны позволяют нам насладиться прелестью изысканного человеческого общения. И наш друг, всегда такой спокойный и жизнерадостный на страницах своей книги, вдруг заявляет: «По тем дружеским кружкам я вздыхаю и плачу, по ним тоскую и завидую тому, кто ими наслаждается». Ах, милый Бехарано! Мы вздыхаем и плачем? А где плутовская усмешка? Куда подевалось мудрое спокойствие? А жизнерадостность и смирение? «Вздыхаю и плачу…» Как много говорит нам о характере человека подобный крик души! Но крик этот не единственный.
В конце описания Риофрио у нашего друга вырывается также и другое тревожащее нас признание. В течение всего повествования он показывал нам свою «лукавую усмешку». В его рассказе царят спокойствие и веселость нрава. «Это рассказ человека если не счастливого, то невозмутимого», — думаем мы. Но в конце раздается неожиданный крик боли, крик неожиданный, которого мы все же почему-то ждали. «Заявляю, — пишет Бехарано, — что если я дал волю своему перу, то не ради того, чтобы меня сочли способным быть настоящим писателем, но лишь ради того, чтобы этим занятием рассеять печаль изгнания и на несколько мгновений сдержать слезы, которые заставляет меня всечасно проливать мой злополучный жребий». Страшное, мучительное признание! Да, этот человек — личность, нам удивительно слышать у человека XVIII столетия этот романтический возглас. Как же так? Человек спокойный, остроумный, словоохотливый, жизнерадостный, миролюбивый, человек, который, как мы видим, приспособился к жизни в этом городке, так изумительно тактично обходясь со здешними земледельцами, так мягко беседуя с ними, — этот человек вдруг приоткрывает перед нами глубокую, душераздирающую личную трагедию? Мимоходом, не настаивая, мельком, без ораторских приемов, он говорит о своем «злополучном жребии»? Ах, это человек не пошлого десятка! Этот скромный, незаметный, неизвестный человек — личность. И неожиданный его крик посреди спокойного и даже веселого повествования делает этого человека незабвенным в памяти нашего сердца.
ВОПРОСНИК, ПОСЛАННЫЙ БЕХАРАНО
«Просим прислать подробное сообщение о селении Риофрио и его окрестностях, дабы оно было помещено во Всеобщей истории Испании, над которой я тружусь. Требуются следующие сведения: надобно указать, деревня это или городок, к какому району принадлежит и как далеко находится от главного города провинции; расположено ли ваше селение на равнине, в горах или на берегу какой-либо реки, и на сколько лиг простираются его пределы; каковы свойства почвы и какие плоды и прочие продукты производятся; когда было основано и кем, с перечислением самых значительных событий в его истории; какие привилегии имеет, какие в нем бывают ярмарки и базары; принадлежит ли оно какому-либо владельцу или короне и кто владелец; число жителей, рек, лесов, мест для купанья и мастерских; число приходов, монастырей с именами святых, их покровителей и именами основателей; лазареты, часовни, источники, общественные школы, число ворот, через которые проходят в селение, и окружено ли оно глинобитной оградой или стенами; какие имеются замки и примечательные здания; какие в нем жили знаменитые люди, развита ли торговля и чем торгуют, и какие есть мастерские, короче, все, что может украсить это селение, дабы оно вошло в историю со всеми своими достопримечательностями и не кануло в забвение».
ОТВЕТ БЕХАРАНО
«Многоуважаемый сеньор писатель!
Когда я, сидя в своем логове (ибо так будет вернее назвать мое жилье, чем домом), меньше всего ожидал этого, в руках у меня оказалось письмо с напечатанным адресом, которое при первом взгляде на него возбудило во мне неодолимые трепет и опасение, что эти несколько монеток меня вынудили заплатить, поощряя к усердному чтению „Ave Maria“.
Так оно и впрямь бывало, ибо некий богомольный человек в Мадриде по имени Кампоменосо, ведущий духовную корреспонденцию (как он утверждает), взял себе в обыкновение удостаивать меня подобными письмами, призывая со всем мыслимым пылом внушать моим прихожанам особое почитание молитвы „Ave Maria“, — вероятно, в убеждении, что, ежели он не возьмет на себя сей труд, наши города и веси разучатся приветствовать владычицу небесную, как то сделал архангел.
И хотя я не намерен осуждать столь благочестивое рвение, но, напротив, хвалю его и буду хвалить по заслугам, не могу, однако, назвать иначе как бестактностью эту манеру посылать мне ни с того ни с сего, одно за другим, по три-четыре увесистых конверта, битком набитых листочками со всякими увещаниями и прочими образцами его духовной корреспонденции, причем сей праведный муж и не помыслит о том, что почта у нас недешева и что многим священникам моего пошиба деньги, уплаченные за подобные письма, куда как сгодились бы на пару яиц во утоление нужд желудка.
Да простит Господь его грехи (если вдруг они у него есть), как я прощаю ему те реалы, которые он заставил меня выложить за его благочестие и набожность. В рассуждении всего вышесказанного, я, прежде чем решиться прочитать письмо вашей милости, внимательно изучил подпись, и, убедившись, что имя и фамилия совсем иные, чем у нашего святоши, я вздохнул с облегчением, приободрился и набрался духу ознакомиться с содержимым конверта. Счастливый час настал (сказал я тогда) для тебя, о наш Риофрио! Кто в прежние года смог бы тебя уверить, что ты когда-либо заставишь потрудиться печатные станки, дабы занять почетное место в книгах, меж тем как доныне ты прозябал в таком небрежении и безвестности, что уже за порогом твоим многие знать не знали о твоем существовании? Да, пришел сей нежданный час, когда ты можешь явиться миру и засиять, коль это будет угодно твоему священнику, — а он, честное слово, намерен тебя пропечатать в „Испанском Атланте“.
Стало быть, лишь от меня зависит, явишься ли ты перед публикой в своих нищенских лохмотьях, или же в мишуре красивых слов всем на загляденье. По правде сказать, сам не знаю, как быть. Ведь ежели писать по совести и следовать всем правилам порядочного историка, то я должен изобразить тебя таким, каким мать тебя родила, ни прибавить, ни убавить; но ежели я подумаю о том, что скрывать чужие изъяны это дело милосердия, а также, что желание прославить отечество или место, где ты родился или живешь, вполне естественно, тогда я должен избавить тебя от твоих лохмотьев и красиво нарядить, ибо ты направляешься в столицу. И я не устану восхвалять самоуверенность автора, решившего пользоваться одними лишь письменными сообщениями для такого труда, как „Всеобщее описание Испании“. Когда бы он, дабы лучше справиться со своей задачей и исполнить все требования, поехал путешествовать по стране, критически отмечая все, что увидит и встретит в нашем королевстве, появившаяся на свет „Испания“ была бы либо хороша, либо дурна; и ежели бы, к несчастью, оказалось последнее, то запрезирали бы нас, испанцев, иноземцы, которым это „Описание“ попало бы в руки; так уж лучше и куда благоразумней поступать так, чтобы снискать глубочайшее уважение и славу, будь что будет.
Нельзя отрицать утонченный вкус и возвышенный образ мыслей того, кто замыслил сей проект, не имеющий себе подобных. Не беда, что читатель, читая эту новую историю, составит себе поверхностное, скудное и отчасти неверное представление о том, каков в действительности наш полуостров, ибо таково, по сути, представление о нем самого автора, поскольку он по стране не путешествовал. Знать об этом будут лишь немногие его друзья, и так как они скорее всего тоже не выходят за порог своего дома, чтобы поездить по чужим краям и узнать, где что находится, и занимают в интеллектуальной сфере (как выражается Флорес) место небольшое или вовсе никакое, то у них недостанет храбрости рассуждать о всех землях от Востока до Запада; ничто их тут не обеспокоит, и из лености они, возможно, и книгу не прочтут.
Другое дело иностранцы! Жадные до сведений о мире, они ухватятся за „Описание“, полагая его плодом беззаветного усердия какого-либо ученейшего академика или порождением некой знаменитой Академии. В простоте души они твердо поверят, что произведение со столь многообещающим названием, созданное в столь просвещенные и склонные к строжайшей критике времена, должно быть творением совершенным и свободным от ошибок. Да кто бы так не подумал, будучи знаком с тем, что пишется в книгах по сему предмету?
Полибий перешел Альпы, дабы точно описать поход, совершенный через них Ганнибалом. Страбон во времена Тиберия взял на себя труд объехать большую часть мира, дабы с величайшим тщанием записать все, что видел. Андалусиец Помпоний Мела и Плиний поступали так же: первый в правление Клавдия, второй при Веспасиане. Птолемей во времена Адриана и Антония также не пренебрег этой возможностью, да еще присовокупил карты с указанием государственных границ, выверенных по небесным светилам, дабы таким образом избежать неточности в вычислениях, которою отмечен „Путеводитель“ Антония Пия. Абрахам Ортелий и Педро Эскивель, математик из Алькала, не меньше потрудились над развитием столь важных наук, как география и космография; Ортелий выпустил в свет первое большое географическое пособие, обогатившее библиотеки ученых (его название: „Театр мира“, и написано оно на латинском языке, год 1570), а Эскивель, также пользовавшийся покровительством Филиппа II, издал ученое описание нашего континента. Их атласы затем были дополнены добросовестными наблюдениями других ученых, которые, уж наверно, не замыкались в своих кабинетах.
И найдется ли разумный человек, который, зная об этих примерах, не понадеется — имея на то все основания, — что предпринятый в наши дни труд будет более точным и выверенным, чем „Современное состояние мира“ месье Сальмона? Автор этот, сделав компиляцию из „Прелестей Испании“ (сочинения, написанного по-французски Хуаном Альваресом де Кольменар), допускает в пятнадцатом томе множество ошибок, как, например, то, что в Мадриде якобы очень мало застекленных витрин, потому-де, что в Испании стекло слишком дорого.
Наконец, кто не понадеется, что в „Испанском Атланте“ (произведении сеньора Б. Э.) будут исправлены многие устаревшие сведения, ошибки в именах, малопочтительные отзывы о различных предметах, содержащиеся в „Путеводителе“ (напечатанном в Амстердаме, год 1656) каких-то немцев, путешествовавших по Испании?
Всякий склонен будет предположить все это; из подобных, вполне законных предположений составится добрая слава сочинения и отрадная картина королевства нашего. Климат наш и земли предстанут в самом завидном свете, как то было в прежние времена, когда страна славилась золотыми и серебряными россыпями, плодородием, а также густым населением. Да, да, и населением также, вопреки мнению некоторых политиков, полагающих, что в Испании ныне народу меньше, чем было два-три века тому назад; поскольку составляют таковые отчеты священники, располагающие матрикулами тех, кто исполняет церковный обряд крещения, то стоит им ошибиться и поставить число не домовладельцев, а число душ в селениях, получится, что они населены весьма густо, хотя и не очень густо расположены.
Что до всяких там ложек, прялок, веретен и прочего, то в каждом селении уж наверняка есть свои мастера и подмастерья; что до шерсти или льна, то в большинстве селений ткут и изготавливают сукна, холст и т. д. — вот вам народные ремесла. Есть, конечно, и торговля, ибо в любом месте, где есть люди, продают, покупают, выменивают и меняют.
Дабы собрать подобные сведения и прочие, не менее научные, многие ученые покидают свой дом; ныне можно избежать столь обременительного труда и хлопотных исследований благодаря лукавому искусителю, автору „Атланта“. Теперь любой из нас, сидя у себя дома, в конторе или кабинете, может узнать все, чего пожелает, для удовлетворения своего любопытства: узнать старинное и новое название местности, города или деревни; кто их основал, расширил или восстановил; каковы там реки, берега, гавани, горы, густота лесов, размеры пастбищ и климат; какое было управление в старину и какое теперь; каковы суд и алькальдия; как обстоит дело с народными школами; есть ли библиотеки; какие были там выдающиеся личности; какие есть фабрики, дворцы, храмы, замки, статуи, картины, фонтаны и памятники древности.
В рассуждении общественной жизни он узнает все об обычаях, костюмах, ремеслах, о внутренних и внешних сношениях. Так чего же ради пускаться в странствия по испанскому королевству? Пусть иноземцы принесут автору столь похвального замысла глубочайшую благодарность — он вполне заслужил эту дань и почтение, оказав им столь очевидную услугу. До сих пор они не могли удовлетворить свою жажду точно узнать, что такое Испания; отныне же и впредь, не страдая от дурных дорог и дурных постоялых дворов, не опасаясь нападения бандитов и грабителей, не имея надобности оправдываться другими, кроме указанных властям, причинами, задерживающими их на Пиренейском полуострове, они смогут в тишине и покое, у горящего камина, в подробностях ознакомиться с интересующим их предметом.
Никто не станет отрицать сии огромные выгоды и преимущества подобного издания, а также те, что воспоследуют для его автора. Он осуществит свой замысел, суть которого, вероятно, в том, чтобы доставить свои книжечки людям любопытным и не слишком придирчивым (это не окончательное мое мнение, я ведь не должен судить дурно о ближних), — таким образом, и общество в целом и каждый в отдельности будут довольны и рады. И какой недорогой ценой! Надобно лишь помещать получаемые сообщения в таком порядке, какой намечен автором и требуется предметом.
Главное, советую автору внимательно просмотреть каждую страницу, каждый раздел или главу, дабы сгладить разнобой в языке; тогда история будет уж вполне благопристойной: слог ее обретет связность, умеренность, приятность и спокойствие, приличествующие всякому хорошему историку. Надо будет также убрать обилие переходов, эпитетов, отступлений и сентенций; любой автор ради краткости вычеркнул бы их, будь это творения самого Марса, однако не так обстоит дело, коль берутся за перо священники, многих из них так и распирает от желания блеснуть мишурой дешевого красноречия.
Ах, почему такая идея не пришла в голову мне! Если бы у меня возникла подобная мысль, я забросил бы все другие дела и в надежде приобрести славу и — что для многих намного важнее — некую толику деньжат сделался бы заправским писателем, географом, историком и таким способом назло всем алхимикам на свете обрел бы философский камень. Истории, сочиненной подобным образом, я бы тоже дал название „Атлант“, вспомнив вымысел поэтов, утверждавших, что Юпитер возложил на его плечи бремя вселенной, — и если это легенда, то для моей истории она была бы чистейшей правдой. Но, может быть, лучше бы назвать ее „Полифемом“, поскольку известно, что Улисс, лишив циклопа его единственного глаза, совсем ослепил его, из-за чего он швырял каменные глыбы вслепую. И еще… Но с кем же я тут беседую? В порыве восхищения я утратил власть над своими умственными силами и чувствами. И теперь, очнувшись от этого экстаза или исступления, едва могу вспомнить хоть что-нибудь из всего, что наплела, наболтала и навыдумывала моя фантазия, мое воспаленное воображение.
Не удивляйтесь этому, милостивый сеньор, и будьте снисходительны — такой недуг заслуживает сочувствия. В места эти я прибыл, имея небольшое образование и привыкши общаться с людьми самого разного сорта; поскольку же ныне я живу совершенным отшельником или пустынником и привык к одиноким размышлениям, то, коль подвернется вдруг какая-либо новая тема, я дни и ночи провожу в монологах, от коих порой голова изрядно туманится. О, я несчастный! Со всей откровенностью признаю эту свою слабость. Можете ли вы требовать от меня большего? Избавиться от нее я не в силах.
Ежели вашей милости угодно выслушать мои ответы на ваш вопросник, начну со всей правдивостью и искренностью, ибо обман, хотя иногда и приносит славу, однако достоин порицания.
Риофрио — никакой не городок, но, в сущности, деревня, принадлежащая короне и подчиненная городу Авиле в делах светских и церковных.
Находится Риофрио, по существующему у здешних людей мнению, на расстоянии двух с половиной лиг к югу от Авилы. Правду сказать, определено это на глазок — хотя местные жители ежедневно проходят этот путь, они ни разу не додумались сосчитать шаги, дабы выяснить, сколько тут геометрических шагов, сколько миль или стадиев, и, следовательно, нет возможности указать расстояние точно.
Не могу также определить градусы широты и долготы, не имея ни карты, ни надлежащих инструментов. Будь они у меня, я с огромным удовольствием развлекся бы выяснением этих данных, чтобы уж все было точно и обстоятельно. Если не ошибаюсь, у меня еще сохранились кое-какие познания, и я помню рекомендации географов для проведения таких измерений.
Когда-то в юности, учась в Саламанке, я порой совершал путешествия вокруг глобуса и интересовался также глобусом небесным. Это столь полезное изобретение мне всегда нравилось. Астроном университета был моим другом, и благодаря его наставлениям и своим скромным способностям я сумел приобрести кое-какие познания, да и впоследствии интерес к наукам побуждал меня почитывать книжицы по сему предмету. Полагаю, что ваша милость считает подобные данные неотъемлемой частью своих занятий, и потому, надеюсь, вы сами раздобудете сведения, коих я дать не могу.
Селение наше расположено меж разновысоких горных гряд, но, по сути, оно находится на равнине. Выражаясь образно, оно лежит в лоне долины Амблес. Здесь можно легко ответить на вопрос Вергилия: „Dic quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo: tres pateat caeli spatium non amplius ulnas?“[69] Или на другой: „Religione patrum late sacer undique colles inclusere cavi“[70].
Долина Амблес простирается от нас на запад и на север. Горы имеют высоту около тысячи геометрических шагов. Если какой-либо звезде не вздумается забавы ради стать прямо над нами, мы ее не видим — для составления календаря место непригодное. Кабы халдеям довелось жить здесь, вряд ли им удалось бы установить длительность великого года. Окружающие нас горы — это ветви или отроги большой сьерры, которая тянется из Португалии от Визеу, проходит по Эстремадуре, отделяя эту провинцию от обеих Кастилии, и именуется то Сьерра-Гата, то Пенья-де-Франсия, то Бехар, Гредос, Пуэрто-дель-Пико и Паломера — как называют ее здесь. В наших местах на горах чрезвычайно холодно, большую часть года они покрыты снегом и внушают почтение своими сединами. Вершины их и хребты являют взору зрелище страшное, картину, вселяющую отчаяние. Вот и посудите, ваша милость, какими видами мы любуемся!
Из сказанного понятно, что земля здешняя малоплодородна. Родится только рожь, а коль посеять пшеницу, она, скрещиваясь с рожью, вырождается. В долинах есть фруктовые сады, и фрукты там недурны на вкус, если успевают вызреть. Трава на лугах очень сочная, поэтому летом на наших пастбищах пасутся большие стада овец, коров и табуны кобыл. Луга очень обширны, в окрестностях немного таких, и имеют около четырех лиг в окружности.
С южной стороны, меж вершинами горной гряды, прорываются два потока, две горные речки, питаемые вечными источниками. Здесь буквально творится чудо, воспетое Давидом: „Разверз камень, и потекли воды“. Потоки эти в своем начале удалены один от другого на одну восьмую лиги и через такое же расстояние соединяются, и место их слияния, уже в пределах города, называется Эскалонилья. Один поток протекает по городку, другой — по его орошаемым садам.
Благодаря обилию воды по берегам речек образовалась полоса растительности. Тут можно увидеть разные породы деревьев: грецкие орехи, белые и черные вязы и (как было сказано выше) кое-какие фруктовые деревья, все они тут растут могучими и пышными. В укрытых от ветра местах сеют ячмень, пшеницу, лен, сажают картофель, фасоль, репу и прочее. Все это (за исключением репы и картофеля) надо посеять, посадить и собрать в течение четырех месяцев; поэтому выращиваемую здесь пшеницу называют трехмесячной.
Буйная зелень представляет весьма привлекательный и приятный вид весною и летом, если таковое бывает, ибо можно утверждать, что в наших краях мы знаем лишь два времени года, а именно: зиму и весну. Весна длится июнь, июль, август и сентябрь, а остальные восемь месяцев года — у нас зима. И действительно, зима здесь такая суровая и морозная, что кажется, будто мы живем внутри полярного круга или на близлежащей параллели, как выражаются географы и космографы.
Вода наших рек, вне всякого сомнения, изумительно чиста. Хоть я кое-что читал о том, как делается анализ воды, сам никогда этим не занимался. Хотелось бы мне иметь гидрометр и сравнить воду одной и другой речки, но я так и остался при своем желании. Свойств этих вод я не знаю — не знаю, есть ли в них кислотность, или же они содержат нейтральные соли, и врачи могли бы использовать их для лечения каких-либо острых и хронических болезней.
А пока эскулапы решат этот вопрос — ведь им, по предписанию Гиппократа, надлежит знать воды той местности, где они проживают, — скажу, с их позволения, что я заметил в нашей воде признаки, указывающие, согласно мнению натуралистов, на ее целебность. Вода эта не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета.
Фейхоо, правда, пишет, что подобные признаки лишь свидетельствуют о вредности воды, а вовсе не о ее целебности, ибо нет сомнения, что есть весьма вредные воды, обладающие всеми этими свойствами. В наших местах часто встречаются грыжи, и большинству здешних детей доморощенные хирурги производят удаление грыжи, наполовину их кастрируя, хотя это запрещено. Возможно, обилие грыж и вызвано действием чрезмерно пресной воды, как это было замечено в королевской резиденции Сан-Ильдефонсо.
Как бы то ни было, я заявляю, что, на мой вкус, нашу воду следует предпочесть хваленым водам с серой, ртутью, медным купоросом, железом и прочим. В одной из названных речек водится кое-какая рыбешка, лягушки и прочее, однако форелей нет, о чем я весьма сожалею; и обстоятельство сие примечательно и даже поразительно, ибо в устьях наших речек на юге форели водятся в изобилии со всеми своими четырьмя „в“[71]; в одной речке живут также амфибии, однако удивления достойно, что в другой ничто живое не водится. Этот феномен (назовем его так) приводит местных жителей в величайшее изумление, хотя они очень мало или вовсе не привыкли задумываться над явлениями природы. Поистине тут можно усмотреть одну из ее многих тайн и загадок. За их причудливость философ назвал их „демониями“.
Я-то неоднократно размышлял над причиной сего дива, но так и не сумел ее обнаружить. Предположил я, правда, что ею мог быть водопад. Вода низвергается там с высоченной скалы и шумит так, что невольно вспоминаются водопады и пороги Нила. Когда воды нашей речки низвергаются с зубчатого утеса, называемого Эль-Понго, это похоже на водопад на реке Мараньон, сиречь Амазонке.
Но ежели хорошенько подумать, причина не в этом, ибо тогда форель могла бы водиться в реке в ее течении до водопада. Беседовал я однажды с человеком, изрядно сведущим в физике и химии, и он сказал, что, возможно, это вызвано прохождением воды по колчеданам. Я подбирал образцы их невдалеке от водопада, и, стало быть, вот разгадка тайны. Упомянутому химику, разумеется, хорошо известны свойства и качества этого минерала, известно, много ли в нем мышьяка и т. д. Tractant fabrilia fabri[72].
Я же лишь сообщаю, что не заметил в этой воде запаха, указывающего на то, что она проходит по минералам или берет в них начало. Вода кристально прозрачная, и я пью ее без каких-либо вредных последствий, напротив, с явной пользой для здоровья, и уверяю, что ради ее приятных свойств предпочитаю ее всем прочим на нашей территории, а еще и потому, что, поскольку в ней не может существовать ничто живое, она, уж наверно, должна быть хороша от всякой нечисти в кишках, именуемой глистами. Ввиду этого ее свойства мы называем речку, о которой идет речь, „Мертвая речка“, однако не „Асфальтовая“, каковой эпитет дали греки Мертвому морю из-за того, что его воды насыщены глиной и серой. Это сведение мне кажется не лишенным интереса.
Количество воды в упомянутых двух речках невелико, однако столь постоянно, что даже в самые засушливые годы мельницы на их берегах не прекращали работать. А мельниц таких здесь одиннадцать, и некоторые с двумя жерновами; в других местах они при таком же количестве воды не могли бы так работать. Здесь же, благодаря ее большому перепаду, быстроте течения, а также низкой температуре, довольно и меньшего ее объема. Вашей милости, разумеется, известно, что на сей предмет говорят физики, а именно — что при равном количестве воды жернова зимою работают лучше, чем летом. Чему же иному это приписать, если совершенно очевидно, что механизм сам по себе очень прост и незамысловат? Галисийцы, сооружавшие эти водяные мельницы, и слыхом не слыхали об основах учения Евклида и даже понятия не имели о Тоске.
В песке той речушки, которая, как я сказал, протекает по селению, я часто находил крупинки золота или чего-то с ним схожего. Ее можно сравнить с Пактолом, рекой в Лидии, прославленной поэтами, историками и географами из-за обилия золотого песка; крупинки, о которых я говорю, не так уж малы, и, чтобы их увидеть, не надобен микроскоп. Ежели это золото, следовательно, река берет начало в золотоносном минерале или же проходит по нему.
Я сказал „золото или что-то с ним схожее“, памятуя, что не все то золото, что блестит. Правда, лишь один этот металл выходит из недр земли в чистом виде. Признаю, однако, что, дабы с большей уверенностью рассуждать о сем предмете, требуются более обширные познания и опыт. В минералогии или металлургии мои сведения ограничиваются тем, что можно прочитать в каком-либо современном труде по естествознанию. Натуралисты и химики говорят, что на горах, изобилующих залежами, бывает растительность скудная. Гора, по которой течет эта речка, вся в скалистых утесах и почти голая, даже кустарника мало.
Ныне подобные сведения ценятся весьма высоко, вот я и сообщаю их, дабы вы воспользовались ими по своему усмотрению. Драгоценный металл для всех желанен. Поскольку в нынешних государствах царят иные нравы, нежели в Спарте, мы, смертные, всечасно его жаждем. И, возможно, природа наделила своими дарами не все края одинаково щедро и упрятала серебро и золото в глубочайшие недра земли, дабы чрезмерное их изобилие не принесло людям вреда. Мыслишка эта подвернулась мне на перо, и не хотелось бы оставить ее в чернильнице. Вот, сами видите, сколь справедливо мое замечание, что многих священников так и распирает от желания блеснуть фейерверком сентенций.
Прежде чем продолжить, я торжественно заявляю, что не могу ручаться в верности своего утверждения, будто в нашей реке не может существовать ничто живое. Хотя у местных жителей искони есть такое убеждение, подтвердить его я не могу. В этих материях я весьма недоверчив и ко всяческим поверьям отношусь как вольнодумец; я никогда не откажусь от убеждения, что в естествознании, требующем самых тщательных опытов и исследований, очень нужен пирронизм. Это необходимо иметь в виду, ибо порой мы слышим голословные и необоснованные утверждения того, что не доказано или доказано недостаточно.
Хотя у всех есть глаза, чтобы смотреть, не все видят вещи такими, каковы они в действительности. Паре наших глаз, ежели они привыкнут к какому-то цвету или не вполне здоровы, предметы и пейзажи представляются не в том цвете, какой им присущ, и даже в искаженных очертаниях; этот образ, переходя по зрительным нервам в мозг, сообщает ему неверную картину, вследствие чего он и судит ошибочно. Думаю, ваша милость знает, что именно в этом (согласно здравой философии) причина того, что люди об одном и том же предмете судят по-разному.
В наших краях произрастает множество лечебных трав; я-то думаю, все, что по соизволению Божьему рождает земля, имеет свойства, полезные для чего-либо; таково мое мнение; однако сейчас речь идет лишь о растениях, известных фармацевтам и ботаникам. Будь я членом общества Мадридского Ботанического сада, я без труда мог бы представлять каждый год по коллекции, сопровождая ее соответствующими пояснениями. Для этого я иногда воспользовался бы Диоскоридом с „Комментариями“ доктора Лагуны, иногда „Мемуарами“ Боме и, наконец, следуя нынешним веяниям, черпал бы в „Учреждениях“ месье Турнфора и „Систематике“ знаменитого Линнея; тогда одиночество не нагоняло бы на меня такую тоску и беспросветное уныние.
Цирюльник, житель нашего селения, рассказал мне, что в прошлые годы приезжал сюда иностранец, собиратель растений, который, видимо, изрядно много нашел их здесь, и даже редких, почему отзывался весьма благоприятно о здешней почве. Некий врач из Авилы, писавший о свойствах вод Лараса и Муньяна, утверждает, что именно здесь собирали манну, ничуть не уступавшую по вкусу калабрийской манне; и все же она, наверно, сильно отличалась от той манны, которую израильтяне собирали в пустыне.
Я, например, заметил, что в нашем краю много ясеней, а именно они, по мнению врачей, и дают упомянутое слабительное. Этому дереву, вернее, его соку, приписывают свойства вяжущие и жаропонижающие. Натуралистам, разумеется, известно, произрастает ли манна только в жарких краях, вроде Калабрии, или также в холодных. Я решить этот спор не берусь.
Цирюльник наш, дабы убедить меня, что хоть он в знании трав и не Соломон мудрый, а все же может рассуждать пусть не о кедре ливанском, так о библейском иссопе, показал мне однажды корень как бы с пальцами, похожий на кисть руки (его и называют manus Christi[73]), уверяя, что это прекрасное средство от болезней рук. Я поверил ему на слово; ведь если корень козельца, имеющий сходство с жабой, представляет собой противоядие, и в частности против ее яда, то показанный мне корень, по той же причине, наверняка годится для лечения рук. Да что я говорю — рук! Он, несомненно, может излечивать от всех недугов. Рука Христа, в отличие от всех специфических средств, чудесным и решительнейшим образом исцеляла совершенно от любой болезни.
О времени основания нашего городка память не сохранилась, однако, судя по его древности, было это весьма давно. Следовательно, и основатели его неведомы, ибо хроники не велись. Никто его не восстанавливал и не расширял, но разрушители были, так как известно, что прежде он был больше. Поскольку же истории у него нет, то ни о каких выдающихся и заслуживающих внимания событиях сообщить нет возможности. Хотя обитатели его не пожалованы никакими привилегиями, живут они очень свободно и свободу свою любят; в этом они не уступают ни Стране Басков, ни Астурии или Монтанье. Такова характерная черта здешних уроженцев.
Щит с гербом я случайно обнаружил, он валялся на земле, я поднял его и прикрепил к амбару, куда ссыпают зерно десятины. В гербе сем изображены на гладком поле шесть круглых хлебцев, расположенных рядами, по три с каждой стороны; что они обозначают, я не знаю, ибо в геральдической материи я полный профан. Читал о ней немного лишь у Кадальсо в „Энциклопедии для салонных эрудитов“, да в голове ничего не удержалось. Пояснения, которые он там приводит, показались мне какой-то греко-арабской, халдео-еврейской или даже кабалистической грамотой; неискушенному уму моему они напомнили термины черной магии, коими щеголял клирик в достославной и прославленной „Саламанкской пещере“.
И, возможно, по невежеству своему я подумал, что, поскольку герб валялся возле амбара, его хлебцы обозначали, что тут хранят хлеб. Если же это не так, тогда герб, видимо, красовался на уже не существующем большом доме, который здесь называют „дворцом“ и руины которого сохранились вблизи церкви; принадлежал он донье Марии Вальдивия, проживающей в Кордове и владеющей расположенной в этих краях большой частью своего майората. Если это верно, то хлебцы это не хлебцы, а восьмерные дублоны, символ обилия дублонов у владельца герба.
Статуй у нас здесь нет, коль не считать, что здешние обитатели сами все равно что статуи бесчувственные. Источники воды имеются лишь те, которые созданы самой природой. А она в этом так расточительна, что полными пригоршнями изливает на наши места влагу всего земного шара. И впрямь, наш край как бы отдушина или место отрыжки для напитанных водою недр земных. Ярмарок и больших базаров здесь не бывает, но в них и нет нужды: круглый год, каждодневно, есть свободный рынок, и каждый продает и покупает по своему усмотрению.
Домовладельцев насчитывается около 120. Все они пастухи или землепашцы — это здесь самые древние занятия и труд, коим люди занимаются искони. Все они необразованные крестьяне, жизнь ведут бедную, однако для них не тягостную. Несчастен лишь тот, кто себя несчастным считает; они живут, довольные своей нищетой. У них нет духовных интересов, нет разума. Все делается, как заведено обычаем. Хотя священники старались их пообтесать, сомневаюсь, чтоб они многого достигли. Здешние люди не стремятся к великим предприятиям, но лениво прозябают в своем незавидном состоянии. Одним лишь они сходны с героями Гомеровыми, а именно тем, что сами доставляют себе все необходимое для жизни человеческой.
На каждом из них подтверждается сказанное вышеупомянутым Гомером о добром человеке из Кум, который сам себе делал сандалии; сами же строят хлевы и сараи для скота и т. д. Также подходит к ним и то, что говорится об Улиссе, — что он сам воздвиг свой дом и соорудил кровать.
Не читавши то, что изложил в двадцати пяти книгах Магон о сельском хозяйстве и Ксенофонт в своей „Экономии“, ни того, что писали о скоте и прочих сельских статьях дохода Катон Цензор, Варрон и Колумелла, они по традиции соблюдают многие из предписаний этих мужей.
Все тут большие охотники поесть, и этим также весьма схожи с героями Гомера. Пьют много вина, как все северные народы. К ним приложимо то, что говорил Исайя, — большинство дней они с утра до вечера проводят в тавернах. В этом находят они величайшее удовольствие. Сохранились следы бывших здесь когда-то виноградников. Рассказывают, что их попросту забросили, так как они были причиною многих раздоров с самыми прискорбными последствиями. Здешний люд столь же любит виноград, сколь изготавливаемую из него влагу. Нет здесь ни одного христианина. Именем этим их можно назвать только в ироническом смысле.
Сколько им ни проповедуют, они остаются какими были. И чем сильнее им грозишь с кафедры, тем их больше разбирает охота пойти опрокинуть стаканчик, дабы таким манером заглушить слабенькие угрызения совести; а когда им говоришь, что пьянство грех, они выслушивают это с полнейшим спокойствием и даже не считают нужным омыть святой водою свой порок. Частенько вспоминаю я то, что рассказывают об ирокезах и других американских племенах, которых мы называем дикарями: они терпеливо выслушивают все, что им говорят, со всем соглашаясь, но к концу беседы выясняется, что ты нисколько их не убедил.
Ни Орфей со своею лирой, ни Амфион со своею арфой (о коих древние легенды повествуют, что они музыкой своих инструментов заставляли повиноваться зверей и даже камни) не смогли бы укротить этих людей. Не знаю, влиянию какой планеты приписать их нрав. Пусть астрологи определяют, действует тут Сатурн или Луна, а по моей астролябии выходит, что на прихожан моих влияют обе планеты.
Женщины здесь все — истинные Ревекки и Рахили и подражают Руфи в том, что собирают колосья, пасут овец и носят воду; лицом некрасивы, однако весьма отважны и так плодовиты, что на всем земном шаре не сыскать им равных. Их развлечения — пастушеские песенки и пляски под звуки бубнов и других инструментов, подобных тем, на которых, как сказано в Священном писании, играли при водружении статуи Навуходоносора. Все они любительницы чесать языки, и это им помогает забывать об огорчениях.
Похоронный обряд исполняют они совершенно так, как это делали древние израильтяне. При погребении провожают покойников с таким плачем и воплями, что вызовут сочувствие у самого бессердечного. Глядя на них, я вспоминаю вдову из города Наин, о которой говорится в Евангелии. Рыдания перемежаются с панегириком деяниям усопшего. Их надгробные проповеди столь патетичны, что сам Флешье, великий мастер подобных речей, не смог бы их превзойти.
Хотя они горько плачут, но утешаются быстро и, при случае, выходят замуж самое позднее через год, и так же поступают вдовцы; с некоторыми из женщин бывает почти как с Саррой, женой юного Товия, у кото рой было восемь мужей.
Нет в нашем городке и монастырей, однако монахи бывают — приходят заменить нас при отлучке или болезни, либо собирать подаяние. Фабрик нет, есть только мастерские по измельчению угля; здешние жители столь усердно занимаются изготовлением угольной пыли, что их всех прозывают „угольщиками“. По счастью, обстоятельства у них для этого благоприятные — сьерра наша изобилует лесами; благодарим небо за сию милость, иначе нам пришлось бы тяжко в зимнюю стужу, столь суровую в этих местах, что мы могли бы сказать то же, что святой Иероним в одном из своих посланий: „Frigidos obstitit circum precordix sanguis“[74].
Нет здесь ни замков, ни дворцов, нет и купальных заведений, хотя есть множество мест, где можно купаться. Здешние люди так боятся воды, что содрогаются, видя, как я по утрам выпиваю залпом стакан. Они хвалятся, что за весь год на воду и не взглянули. Да по их испачканным сажею лицам и так видно, что им даже умываться ею страшно. В жарких странах жители более опрятны, жара побуждает их искать воду, дабы прохладиться, тогда как обитателей холодных краев холод заставляет тянуться к вину и другим горячительным напиткам, чтобы согреться.
Думаю, многие из распространенных здесь болезней порождаются неопрятностью. Тиссо весьма осуждает ее и настоятельно советует соблюдать чистоту, каковая облегчает потение, меж тем как грязь его затрудняет. И доподлинно, опрятность — добродетель, символизирующая чистоту души, по мнению Флери.
Лазаретов также нет, разве что можно каждый дом назвать лазаретом. Приходская церковь лишь одна, она довольно просторна, имеет три нефа, от основания до кровли сложена из камня, которого в наших скалистых горах предостаточно. Есть и колокольня, хотя не столь высокая, как Вавилонская башня, и, ежели та была сложена из кирпича, значит, и в этом они различаются. На колокольне висят три превосходных колокола, и, когда бы захотели добавить к ним сколько требуется для октавы, места бы хватило, ибо есть еще пять окон свободных.
Церковь наша посвящена Вознесению Богоматери[75], однако же главный наш праздник не в этот день. Торжественный молебен здесь правят 2 июля, когда церковь отмечает таинство посещения Богоматерью ее кузины Елизаветы. В этот день здесь бывает самый большой базар, или ярмарка. На нее (вопреки строжайшему королевскому запрету) собирается множество мелких торговцев и коробейников с лотереей и прочими причиндалами, какие в ходу у этих молодчиков. Бывает, как положено, проповедь, устраиваются процессии жителей и монастырские, народ много ест, много пьет (не холодную воду!), пляшет до упаду под ужасные звуки бубна и деревянных трещоток, которыми отбивают такт пастухи; сии могучие Аполлоны распевают хором с деревенскими музами и впадают в такое исступление, что уподобляются безумным, а то и впрямь сходят с ума.
Иногда разыгрываются пиесы, в коих соблюдаются все единства — действия, времени и места; если ж одно из них отсутствует, вина только поэта, а не исполнителей. Каждый исполняет свою роль настолько выразительно, что лучше нечего желать. Чего надо опасаться, так это трагических или воинственных сцен, когда наши актеры, превращаясь в истинных гладиаторов, отчаянно орудуют мечами, — того и гляди, поубивают друг друга. Полагаю, было бы разумно, чтобы в такие моменты зрители вспрыгивали на подмостки с винным мехом в руках и тем прекращали драку.
Дух Клифлота в этот день старается вовсю. Одни сочиняют стишки, другие затягивают литании и вечерние молитвы, да так стройно, что не надобно певчих Эскориала, Толедского хора и Королевской капеллы. Какие хроматизмы, какие переходы, басы, альты, какие пиано!
Для народного просвещения имеется казенный учитель начальной школы, но успехи детей в грамоте невелики, то ли из-за малого прилежания, то ли из-за отсутствия метода. Мало кто умеет сносно выводить буквы. Я как-то назвал нашу школу „трехъязычной“, ибо учитель там изъяснялся, видимо, на древнееврейском, халдейском и греческом языках, а еще вернее ее надо бы именовать Вавилоном, ибо сей педант, сдается мне, говорил на всех языках, на каких говорили там, — я-то, во всяком случае, ни единого слова не понимал.
Стен в городе нет, он, так сказать, огражден самою природой — проникнуть в него возможно только через три перевала. Случись здесь сражаться римлянам, их мог бы снова постигнуть позор с ярмами. Самый приметный дом — дом Городского совета, расположенный в центре городка. Политические дела обсуждаются там и в таверне — как в Лондоне. Именно в этих двух помещениях частенько заседают совместно палата лордов и палата общин, подражая „милордам“ в том, что расходятся они в полночь или на рассвете.
Имеются также свои ораторы, которые, вдохновляясь винными парами, исправляют законы Двенадцати Таблиц, естественного и государственного права. Сим децемвирам нипочем Пандекты, Дигесты, законы Семи Частей, Свода или Фуэро Хузго. Коль заблагорассудится, они делают комментарии и замечания и к праву божественному. Своим толкованием они приспосабливают все законы к своим мирским удобствам. Сборищ этих я опасаюсь, как вражеского войска, идущего на штурм. Правление здесь смешанное — аристократическое и демократическое.
Дабы ваша милость убедилась, что страх мой не напрасен, расскажу об одном случае. Устав проповедовать против осквернения храма, я однажды, в благочестивом рвении, предпринял, казалось бы, разумную меру. И что же получилось? Когда собрался в полночь совет, некий портной, он же стригальщик шерсти, предложил обсудить следующие два пункта: 1) принятие в члены совета свинопаса N; 2) исключение священника из членов оного за то, что он отругал свинопаса, вошедшего в церковь с кафтаном на плече, как ходят козопасы; за то, что он запрещает шум, разговоры, шутки и хождение без надобности по храму во время службы; и, наконец, за то, что он с горечью и великою досадой выгоняет из нее явившихся под мухой, или же — что на его языке все одно, — пьяных. Таковое действие повторялось с N и с N.
Оратор напомнил нашумевший случай, когда в городе Авиле взяли под стражу двух алькальдов лишь за то, что они приняли участие в процессии, спотыкаясь и падая, и т. п. После предерзостной речи сего трибуна в защиту народа было единогласно решено священника из совета исключить. Этого я не боялся, а было мне страшно, что портной может протрубить атаку и они нападут на меня. Но я сохранил присутствие духа и сумел нагнать на них панический ужас, чтобы не посмели они поднять руку на служителя господня.
Дабы впредь не допустить столь гнусной наглости — чему имеются примеры, — я с той минуты, как их раскусил, решил разыгрывать роль этакого забияки-драчуна. Теперь они так меня боятся, что даже когда еле на ногах стоят, стараются спрятаться или удрать. Заседания хунты продолжаются, и, хотя они явно незаконны, ибо ведутся беспорядочно и на подпитии, а участники их вполне достойны быть отправлены в Пуэрто-Рико, способ их прекратить еще не найден. Портной в награду за свое патриотическое рвение будет и далее ими командовать. Таковы выдающиеся личности нашего городка.
Слов нет, он говорит правду: я и впрямь величайший противник поклонников Бахуса; я их неустанно громил и громить буду. Для искоренения столь отвратительного порока я прибегал к самым суровым порицаниям и чрезвычайным мерам. Их возражения мне смешны. Пророк Давид сказал: „О мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино“. Если Бог с нами, кто нас осилит? Нечего бояться и тысячной толпы, на нас ополчившейся.
Селение наше имеет два прилежащих хутора, в каждом с десяток жителей. Более дальний расположен на вершине холма к северу от нас. С возвышенности видна Авила и открываются далекие просторы, ибо с этой стороны горизонт на довольно большом отрезке не застят горы в сторону восточную и на запад, однако к югу видно куда меньше, заслоняет утес, верно, не ниже того, что на мысе Доброй Надежды.
Хутор этот расположен в месте безводном, потому там нет ни рощ, ни садов. Обитатели держат коров и овец; на полях выращивают рожь и вику. Есть там своя церквушка, ее патрон — Иоанн Креститель. В его праздник все жители хутора пируют: без меры едят и пьют, пляшут и играют, черпая веселье в вине, а не будь этого подкрепления, они б о святом и не вспомнили. В этот день служат торжественный молебен, но, если у священника нет охоты произносить проповедь, паства остается без назидания и о том не печалится.
На хуторе есть источник отменной воды. Вытекает он как бы из большого каменного сундука с крышкой из грубо отесанных глыб. Строителю сего сооружения явно ни к чему были законы механики и гидростатики. Здешние люди полагают, что это соорудили мавры, но мне никак не верится, чтоб мавры селились в столь холодном краю, когда сами они уроженцы жаркой страны.
Называется хутор — „Хижины“. Происхождение этого названия, иначе говоря, его этимология объясняется видом тамошних домов, которые и впрямь хижины, или же хуже тех хижин, что были построены пастухами, когда это место впервые заселялось. Хотя хутор относится к Риофрио, у него есть свой совет и своя территория, за каковую хуторяне ежегодно платят дань в виде кур, двух баранов и сорока фанег ржи маркизу де Вильявисиоса, он же ныне граф де ла Рока, однако он — не владелец хутора, который принадлежит государству.
Второй хутор расположен на равнине, к западу от нас, с выходом в долину Амблес. Называется он Эскалонилья, о чем я уже говорил. Этот образует единое целое с нашим Риофрио. Невдалеке от речки видны развалины еще одного поселка. Рассказывают, он опустел из-за того, что тамошние обитатели все перетравились на свадьбе, когда вместе с разными мясными блюдами нечаянно сварили ядовитую ящерицу.
В окрестностях Риофрио имеются развалины еще в трех местах, и легенда гласит, что в давние времена то были поселки, принадлежавшие Риофрио. Также подчинены нашим властям две усадьбы в горах. Они расположены к востоку и отстоят одна от другой на четверть лиги, а от Риофрио одна — на три четверти, а другая — на одну лигу; первая называется Дворец Павы, а вторая — Дом Хемигеля. Я полагаю, что Пава была в прежние времена сторожевой башней или крепостью, — о том говорят ее развалины и местоположение. Дом же Хемигеля расположен в долине, на полпути от Авилы через Паломеру к перевалу Михарес и к Талавере-де-ла-Рейна, а посему служит постоялым двором для путников. У основания этой постройки течет довольно полноводная речка, есть мостик. На небольшом удалении можно разглядеть остатки церкви — в ней, вероятно, отправляли богослужение для горян и для жителей двух соседних, теперь опустевших, поселков.
К западу от этого места на расстоянии менее полулиги есть еще одна горная усадебка, где никто не живет. Вокруг нее луга с растущими на них дубами и ясенями, места, больше пригодные для пастбищ, чем для пахоты; однако у жителей Риофрио нет никакой предприимчивости, зато ею — или, вернее, деньгами — обладают те, кто пользуется этими пастбищами, дабы выгонять туда летом своих коров, овец, кобыл, коз и свиней. Называется этот горный луг — Клементес и принадлежит он сеньоре де Вальдивия, живущей в Кордове, о которой уже упоминалось. Пава же — собственность какого-то маркиза из Аревало, точного титула я не знаю. Усадьба Хемигель принадлежит благотворительному обществу — то ли светскому, то ли церковному. Также у маркиза де лас Навас здесь есть весьма недурные владения.
Хотя этот скалистый и лесистый край, казалось бы, удобен для дичи, ее здесь чрезвычайно мало. Думаю, это из-за снега, который, долго не стаивая да еще покрываясь ледяной коркой, мешает кроликам и прочим зверькам добывать себе пищу, и они погибают с голоду. А вот чего тут в изобилии, так это гадюк. Они тут очень длинные и тонкие. Известно, что святой апостол Павел, хотя и побывал в Испании, но не в наших горах; случись ему заглянуть к нам, с ним, возможно, произошло бы то же, что на острове Мелите, и он, произнеся заклятье, изничтожил бы этих свирепых тварей.
Я ужасно их боюсь, и, если выхожу на прогулку, мне все время чудится, что какая-нибудь меня ужалит. От страха я не раз испытывал ощущение змеиного укуса. Они лишили меня холодных купаний, столь полезных и рекомендуемых нынешними врачами. Мне кажется, что даже в воде я не буду огражден от их нападения. Не помогает даже то, что у меня есть змеиный камень, противоядие от их яда, столь восхваляемое у Фейхоо.
Одно утешение — есть у нас храбрецы, которые воюют с гадюками, как я с пьяницами. Геркулесам сим мы обязаны величайшей благодарностью — когда б не они, гадюки нападали бы на нас и в постели. А для охотников занятие это выгодно — они сдают гадюк в мадридские аптеки и привозят оттуда сколько-то там реалов. Змеиный бульон в наших краях не любят, предпочитают суп из баранины или куриный. Один из змееловов сообщил мне, что поверье, будто у рожающих гадюк лопается утроба и они погибают, неверно. Он клянется, что гадюки часто рожают у него в мешке, пока он их несет, и тогда он, мол, вынимает приплод, то есть змеенышей, и кладет их обратно в змеиные норы, чтобы подросли.
Думаю, вполне разумно верить этому человеку, имеющему в сем деле опыт, больше, чем кому-либо другому, кто бы он ни был, опыта не имеющему. Так учит нас преподобный Кано[76]. С тех пор как я выяснил, что мнение о гадюках (а сколько о том написано!) ложно, мне трудно поверить тому, что рассказывают о других животных и насекомых, коих наблюдать как следует невозможно, — к ним относятся и пчелы. Плиний не был таким уж легковерным, чтобы попасться на подобные байки. Он, бывало, опровергал даже то, что, как говорят, сам утверждал прежде.
Если не ошибаюсь, я ответил на вопросник вашей милости да сверх того прибавил, сколько мог, для прославления городка, в котором живу. Коль в этом облике он появится в печати, значит, не напрасной была моя мечта, пророчившая ему счастливое будущее, — настал миг, когда он заставит потрудиться печатные станки и займет должное место в книгах. Я же буду безмерно рад, коль так получится; ведь описание сие — мое чадо, и вполне естественно, что оно, пусть уродливое, мне дорого. Изображенный в моем описании, городок наш будет не так непригляден, как в натуре.
Заявляю, что если я дал волю своему перу, то не ради того, чтобы меня сочли способным быть настоящим писателем, но лишь ради того, чтобы этим занятием рассеять уныние одиночества, печаль изгнания и на несколько мгновений сдержать слезы, которые заставляет меня всечасно проливать мой злополучный жребий.
Hoc est cur cantet vinctus, Quoque compede fossor[77].Наконец заявляю, что готов служить вашей милости и исполнить любое другое поручение ваше, коли то будет в моих силах. Да сохранит Господь жизнь вашу на долгие годы и дарует благополучие по заслугам вашим и т. д., и т. д.»
ЭПИЛОГ
Год 1789
Мы прощаемся с нашим другом, сейчас мы покинем его — довольно уже повозились мы с ним на этих страницах. Мог ли он вообразить себе такое? Любезный дон Хасинто Бехарано Галавис-и-Нидос, ты остаешься там, в горах. Ты остаешься в окружении своих книг, ты читаешь все, в «Патриотических мыслях» ты упоминаешь Грасиана и Мольера — двух писателей, которые и нами любимы. Из Мольера ты цитируешь «Мнимого больного». И какое совпадение, какой роковой случай, какое тайное сродство побудили тебя, любезный Галавис, вспомнить отрывок, несколько слов из этого грустного, меланхолического произведения великого артиста? Произведения, в котором Мольер прощался с миром, последнего произведения, которое он написал и в котором играл; несколько часов спустя после представления — как нелегко оно ему далось! — Мольер испустил дух… «Когда я думаю о своей жизни среди этих непроходимых суровых гор, — сказал ты, Галавис, — печаль переполняет меня, лиясь через край».
Нет у тебя иной отрады, кроме чтения и одиноких прогулок по окрестностям; ты, правда, еще беседуешь с крестьянами, но не всегда на твою приветливость отвечают взаимностью. Сельские жители грубы и несдержанны. Ты сам говоришь, что часто вынужден перед ними разыгрывать роль «забияки-драчуна», то есть вопреки своей мягкости напускать на себя суровый вид и быть готовым выказать себя таким же мужланом, как любой из этих деревенских удальцов… Ты много читаешь, но чтение — как давным-давно сказал наш друг Монтень, — да, чтение нагоняет печаль. Дядюшка Качарро иной раз у тебя говорит: «И всегда-то ваша милость сидите взаперти, другие господа развлекаются — то на танцы смотрят, то играют в кегли, так и время проходит. Право, не знаю, как это вашей милости не скучно. Столько читать — не может быть здорово». Ты и сам это знаешь и испытываешь всю тяжесть меланхолии, порождаемой чтением. Столько читать — не может быть здорово. Но что ж тебе делать, если не читать? Что нам делать — тебе, мне и многим другим, — если мы не будем читать философов, поэтов, литераторов, писателей всяческих родов и видов? Читать — вот наша судьба. Ты думаешь, что это горы, горы Авилы преграждают тебе путь, что они тебя держат в плену. Ах, нет, любезный Галавис! Узилище твое куда страшнее. Твое узилище — это наш интеллектуальный склад, наша интеллигентность, книги. Хотя бы ты и выбрался отсюда, все равно останешься пленником — что в Мадриде, что в Саламанке. Останешься пленником книг, которые так любишь. Мы все — пленники книг. Мы живем в близком и постоянном общении с ними, по ним формируем свой дух, подражаем им в нашей любви, в нашей ненависти, наших мечтах, наших надеждах; нас с нашими книгами окружает особая атмосфера… И в тот день, когда мы, бывает, захотим вырваться из этой атмосферы и этого течения жизни нашей, захотим окунуться в наслаждение другими сторонами мира, вкусить другие радости бытия, мы убеждаемся, что не можем. Мы тогда как бы сбиваемся с пути, нам требуется отыскать новый ориентир для наших стремлений… А новая ориентация духа не создается сразу — для этого нужны время и другие обстоятельства. Словом, мы ощущаем себя пленниками. Наше узилище — книги.
Прощай, любезный Бехарано Галавис! Настает час расставанья. Несколько дней мы прожили вместе и, вероятно, уже не встретимся. Большую радость испытал мой дух от знакомства с таким человеком, как ты; я не ожидал встретить здесь, в глуши, человека столь просвещенного и тонкого. Сочувствую твоим горестям, как если бы они были моими. Прощай! Прощай! Да будет хоть немного милосердно к нам неумолимое, грозное время!
Год 1916
На верхушках башен, на стенах, на столах, в карманах — идут часы. Тик-так, тик-так… Идут неторопливо, но как быстро мчатся! Чем грустна жизнь, так это сознанием, что отрадная минута, которую мы только что глубоко прочувствовали, которую хотели бы удержать, уже прошла, ускользнула, отделяется от нас, отдаляется, уходит, растворяется в воспоминании, рассеивается и исчезает в прошлом. О, эта скорбь по уходящему времени! С 1789 до 1916 года немало оборотов отщелкали колесики часов. Не раз и не два, работая над этими страницами, мы готовы были совершить путешествие в Риофрио в провинции Авила. В городке этом скорее всего уж и следа не осталось от Бехарано Галависа… Бехарано Галавис? Кто это был? Какую реальность вызывает в уме это имя? Поездка так и не состоялась. Но мысленно мы многократно переносились из Мадрида в Авилу и из Авилы в Риофрио. Въезжали мысленно в старинную Авилу, поселялись в небольшой гостинице напротив собора, и на другой день дребезжащий экипаж вез нас по тряской и извилистой дороге в Риофрио. И в Риофрио мы провели несколько часов, видели улочки этого селения, окинули беглым взглядом окрестности. Зачем ездить? Наступает в жизни пора, когда мы обнаруживаем, что мысленный образ действительности лучше самой действительности. Нам трудно сказать, доставляет нам радость или печаль это открытие, сделанное где-то в глубинах сознания. (Если радость — то как быть с сужением нашей интеллектуальной любознательности? Если печаль — то можно ли отрицать, что наше беспристрастие теперь помогает нам видеть то, чего прежде мы не увидели?) Мысленный образ городка в сьерре провинции Авила куда лучше самого городка. Там ведь, конечно, уже ничего не осталось от человека, жившего в одном из тех домов больше века тому назад. Сам Риофрио нам ничего бы не сказал; мысленный же образ его кое-что говорит. Уходят в прошлое люди, события… и города. «Города, — говорит Жубер в одной из своих „Мыслей“, — умирают, как люди, хотя кажется, что они переживают людей». Город на земле — это наше впечатление; места, некогда привлекавшие, приковывавшие к себе человеческие чувства, ничего уже не говорят нам, когда то, что приводило в волнение нашу душу, уничтожено временем. «Города умирают, как люди». Риофрио в провинции Авила — хотя и реальность, но уже не существует. Лишь образ его остается запечатленным в глубине нашей души. Образ чего-то, что мы никогда не видели, образ неуловимый, как сновидение, образ чего-то, что мы тщетно стараемся вспомнить…
ВАЛЕНСИЯ
ОНА БЫЛА ЗДЕСЬ Перевод В. Багно
Не «безмолвное поле», не «печальные холмы» — веселая равнина с рядами апельсиновых деревьев и работящим людом, что собирает круглые золотистые плоды. Нередко с краю одиноко жмутся друг к другу, потесненные обилием апельсиновых деревьев, пять-шесть рожковых деревьев. До Средиземного моря рукой подать. В просвете между деревьями тоже частенько виднеется небольшое пшеничное поле, возделываемое одной семьей для собственных нужд, — в Кастилии их называют «хлеба». Путник идет неторопливо. Не спрашивает ни о чем. А спросил бы — удивились бы и лукаво улыбнулись в ответ.
Не видно романтических обломков колонн, на которых можно посидеть. Не видно и разрушенной арки, в тени которой можно отдохнуть. Слышна песня сборщиков апельсинов, а корзины ломятся от бесчисленных круглых золотых плодов. Опустившись на обломки колонны, склонив голову, подперев щеку рукой, путник мог бы поразмышлять о тщете всего сущего. В этой позе — вспомним старинные гравюры, хотя бы в издании «Руины Пальмиры» — его и запечатлел бы художник. Таким мы его и видим обычно, поднимаясь по дворцовым лестницам или проходя по галереям, на покрытых патиной картинах.
Но здесь руин седой старины нет. Мимолетность — само по себе слово прекрасное, пусть даже несколько манерное. Мимолетные, теряющиеся вдали образы. Забытое ощущение, чья мимолетность поглощена глубинами сознания. Случалось, что путник, читая старую книгу — Хуана Альтимираса, например, написанную превосходной прозой, — осознавал, что «растворять» значит «рассеивать». Растворяется кусок сахара в стакане воды. Точно так же в глубинах души растворяется воспоминание. В унылых дорожных думах на ум приходит немало слов, так или иначе обозначающих забвение — да, забвение, как это ни грустно. В памяти всплывают и томят образы былого. Да, она была здесь. На этой равнине, где сегодня красуются апельсиновые деревья, где являют свое смирение одинокие рожковые деревья, была Валенсия. И больше мы ее не увидим. Многолюдного славного города нет и в помине. Пятьдесят лет он хранился в сокровенном тайнике ощущений, а ныне, когда материя истлела и рассыпалась в прах, утрачен. Мы не знаем, где, среди этого моря апельсиновых деревьев, были собор, биржа, ворота Серранос и Куарте. Все рассеялось, как мимолетное впечатление. Хранимые в душе образы растворились, как растворяется кусок сахара в стакане воды. И теперь, поддавшись неосознанному порыву и возвратившись в Валенсию, мы ее не нашли. Надежда была неистова, мы были одержимы, по сути дела, одной идеей. А человеческая психология тем временем переменилась. Все течет и меняется. Такова жизнь. Жизнь — это смерть. Мы изменились, стало быть, изменилась и Валенсия. Мы бьемся, чтобы вытащить на поверхность хранимые в глубинах сознания образы, как в бездонную мрачную пропасть погружаемся в пять десятилетий прожитой жизни, пытаемся обрести хотя бы частицу былых впечатлений, но усилия напрасны. Неизбывно напрасны. Мы возвращаемся из недр пещеры на свет божий с пустыми руками. Напрасный труд! Жизнь заново не проживешь. Прошлое не в ладах с настоящим. Прошлое, которое нам не дано еще раз ощутить, и настоящее, которое на исходе жизни, торопит нас, обессиленных, гнетет и тревожит.
Апельсиновые деревья, работящий люд. Здесь была Валенсия. Именно в этих местах Турин течет среди апельсиновых садов, вдали виднеется Средиземное море. Именно в этих местах пятьдесят лет назад нам довелось изведать молодые чувства, одни блаженно, другие — с отвращением, как принимают горькую микстуру.
ЭЛЛИПСИС Перевод Е. Лысенко
Эллипсис, или роль чувства. Могу ли я в этих воспоминаниях о Валенсии опустить мимолетное и держаться лишь основного, существенного? Существенное — это то, что важно для всех. Однако нередко нас привлекает поверхностное, возбуждая нежность, волнуя чувства, а мимо существенного мы проходим равнодушно. И что существенно в Истории? Что существенно в моих воспоминаниях о Валенсии? Историки сами не знают, что существенно. Они спорят между собою, и в конце концов победу одерживает гениальная интуиция. Что касается искусства, здесь существенно поверхностное, а то, что другие почитают существенным, остается в тени, не имеет значения. Тон произведения, однако, зависит от того, отдается ли предпочтение этим или другим элементам, тем или иным чертам. А тон — это основа. Тон либо возвышает произведение, либо его снижает. И именно тон, наряду с выбором предмета, побуждает нас что-то опускать. Проблема стиля напоминает огромный лабиринт. Никак не сообразишь, как же надобно идти по его противоречивым, путаным ходам. Не знаешь, где находишься, и в конце концов пускаешься наобум. То есть пишешь по велению инстинкта. Предмет, тон, темп и эллипсис! Пути-дороги сложнейшего лабиринта. Самый тяжкий грех тут рассуждать поучающим тоном. Смирение же похвально, и каждому художнику, выдающийся он или заурядный, надлежит ограничиваться пределами своего личного опыта.
Посреди лабиринта стиля, на наш взгляд, возвышается понятие «эллипсис». Ибо от эллипсиса зависит присущая прозе протяжность во времени. И стиль хорош или дурен в зависимости от того, как протекает проза во времени. От того, насколько она замедлена или ускорена. Плавность и темп — вот два существенных качества стиля, сверх качеств, предписываемых в аудиториях и академиях, а именно — ясности и точности. Темпа, соответствующего стилю, не достигнешь ни эллипсисом, ни лаконизмом. Во многих случаях эллипсис может повредить. В борьбе с эллипсисом нам помогает повтор, бесстрашный повтор. Только в определенных случаях — в лирической поэзии прежде всего, но также в изысканной прозе — эллипсис вдруг открывает неведомую прежде перспективу. Эллипсис учит нас смелым скачкам, без оглядки на связность, от одного нюанса к другому. Промежутки, иными авторами к досаде читателя заполняемые, устраняются. Да, эллипсис, однако эллипсис не грамматический, но психологический.
В бытность мою в Париже — я прожил там три года, с 1936 до 1939-го — в Большом Дворце на Елисейских полях открылась выставка живописи. Там выставляют картины современных художников. В Париже постоянно устраивают различные выставки — либо за счет государства, либо торговцев картин. Я увидел там лучшие вещи Поля Гогена. Эдгаром Дега я любовался в Оранжери — великолепная была экспозиция. Но от той, которую я видел весной 1939 года в Большом Дворце, в тридцати или сорока залах, могла закружиться голова. Посетитель чувствовал, что тонет в этом обилии красок, пейзажей и образов незнакомых людей. И вдруг на косяке одной из дверей надпись, спасительная надпись, пробуждающая предвкушение блаженства: «Выставка картин Поля Сезанна». Вот он где, наш художник. Вот он где, человек, который, подобно литературному персонажу, тоже художнику из великолепного рассказа Бальзака, страстно боролся с цветом и рисунком. Если, конечно, считать, что рисунок есть нечто отличающееся от цвета.
В зале совсем не много полотен Сезанна. Не много, и притом отборных. Мы долго смотрим на них. И одновременно вспоминаем двух игроков в карты и великолепный натюрморт из коллекции Камондо в Лувре. Но больше всего нас заинтересовал в этой экспозиции скупой ряд фотографий над другим рядом фотографий. В верхнем ряду были представлены те места — пейзажи и селения, — которые изображал Сезанн, а в нижнем — картины художника, на которых изображены эти места. Здесь нам открылось чудо Поля Сезанна. Наглядно, ощутимо был ясен его могучий дар эллипсиса. Тогда-то мы поняли всю силу, интуицию, гений этого художника. И поняли также, что современники его не понимали. Потому что толпу больше всего раздражает существенное. А в искусстве существенное — это избранное.
ПАНСИОНЫ Перевод Е. Лысенко
«Камень катится, мхом не порастет». Пословица эта как бы хвалебна. А уж мы — кучка друзей — сколько кочевали с места на место, больше некуда. За несколько месяцев, бывало, погостим в шести — восьми пансионах. Носились туда-сюда, будто птицы. В зрелом возрасте раскладывать вещи и укладывать, приезжать и уезжать — это куча всяких неудобств. Человек уже пустил корни. Человек — это привычки. Привычки облегчают жизнь и приносят покой. Приехать в гостиницу после долгого пути — это целый переворот в вашей жизни. Ты должен забыть маленькие прежние привычки, надо создавать новые. Вынимаешь уйму вещей из чемоданов и баулов, все их надо разместить удобно, чтоб были под рукой, как раньше. И вдруг наступает день, когда все кончается, и где-то на другом месте надо все начинать сызнова.
У пансионов тогда был особый облик. Не всякий ведь дом годится для сдачи постояльцам. Комнаты были расположены в ряд. Проходить к себе надо было через две-три другие комнаты. Обои на стенах иногда отставали большими полосами, а на каменном полу стучали под ногами плохо уложенные кирпичи. Но сколько у нас было веселья! Сколько жажды жизни! Сколько беспечности! Платили мы по восемь реалов за постель, завтрак, обед и ужин. Были пансионы еще дешевле — по шесть реалов. Мог ли я вообразить, что со временем, через полвека с лишним, живя в Париже очень скромно, я должен буду платить две тысячи франков в месяц за квартирку на втором этаже вблизи Триумфальной арки, и это не считая электричества, газа, телефона и услуг консьержки.
Я забыл любопытную черточку. Черточка эта, неизгладимая, вечная, срослась для меня с образом пансиона. Деревянная столешница ночного столика всегда была испещрена горелыми пятнышками — наверно, от спичек или неосторожно брошенных сигар. А когда откроешь ящик — это и есть существенное, — оттуда исходил неизменно, как роковая примета пансиона, — сильный запах йодоформа.
КАФЕ «ИСПАНСКОЕ» Перевод Е. Лысенко
После обеда мы ходили в кафе «Испанское». Более шикарного в Валенсии не было. И даже в самом Париже не будет. Когда я впоследствии оказался в Париже, то, заходя в какое-нибудь кафе на площади Оперы или на Больших Бульварах, я всегда вспоминал кафе «Испанское». Через облицованный белым мрамором вестибюль вы проходили в прелестный арабский зал с фризами из изразцов с арабесками. И то была не декоративная имитация, а подлинные арабские изразцы. Оттуда можно было пройти в огромный зал, расписанный лучшими валенсийскими художниками. В глубине зала, на эстраде, красовался великолепный рояль «Эрар».
Прежде всего вам приносили тарелочку из белого металла с горкой кускового сахара и бутылку рома. Наливали вам отличный кофе в большой стакан, и в виде изящной добавки ставили еще бокал этого чудесного напитка. Из дополнительного кофе и рома получалось приятное, освежающее питье. А еще мы делали карамель. Положишь в ложечку кусок сахару, плеснешь рому на тарелочку и поджигаешь. Когда сахар растает и приобретет золотистый оттенок, мы его выливали на мрамор. Одна беда — бывало, что ложечка плавилась.
Роялем повелевал пианист, интеллигентный, живой юноша. Его кумиром был Вагнер. Он неустанно потчевал нас отрывками из «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Огромный зал заполнен самой разномастной публикой. Раздаются певучие звуки рояля. Первые такты увертюры к «Тангейзеру» звучат среди шума голосов. Внезапно воцаряется глубокая тишина. С эстрады как бы льется в зал таинственное, магнетическое излучение. Публика слушает завороженная. И когда затихают последние звуки, гремят оглушительные аплодисменты. Нередко после рукоплесканий раздается стук металлических тарелочек о мраморные столики. Публика вызывает на бис. И музыкант, который стоя кланялся в ответ на аплодисменты, снова садится за рояль.
С тех пор прошло более полувека. Ни в одном городе Испании — а возможно, и других стран — не было такого культа Вагнера, как в Валенсии, городе утонченного, чувствительного вкуса. В Мадриде дон Франсиско Асенхо Барбьери, как рассказывает один из его друзей, Пенья-и-Гоньи, приходил в ярость всякий раз, когда тот заговаривал о Вагнере. «Вагнер действует ему на нервы. Битва при Ватерлоо, Варфоломеевская ночь, Ниагарский водопад, восстание в Картахене — все это пустяк рядом с комментариями Барбьери по поводу вагнеровских диссонансов» (Анхель Мариа Сеговия, «Фигуры и фигляры», второе издание, исправленное и дополненное, том VII. Мадрид, 1881).
ПРИСУТСТВИЕ — ОТСУТСТВИЕ Перевод Е. Лысенко
В кафе «Испанском», рядом со столиком, который занимали мои друзья и я, обычно усаживался некий одинокий, молчаливый господин. Я говорю «молчаливый» потому, что заговорил он со своим соседом очень уж не скоро. А соседом его был я, это я сидел с той стороны столика, которая примыкала к его столику. Да еще потому, что, когда мы, наконец, сошлись покороче, говорил он очень мало и скупо.
Было этому господину не более сорока лет. Лицо его поражало бледностью. Его подтачивал какой-то таинственный недуг. Он побывал у самых знаменитых в Валенсии докторов, ездил и в другие города советоваться с другими знаменитостями, но тайна его рокового недуга оставалась невыясненной. Родом он был из Альберике. В этом селении он унаследовал от родителей богатые земли, но продал их, чтобы избавиться от общения — порой весьма неприятного — с испольщиками, арендаторами или, в случае если бы он сам занимался своим хозяйством, с алчными работниками. Сбежав ото всех забот, он жил в Валенсии наедине со своими мыслями — а мысли его были сосредоточены на его болезни, — жил в небольшой квартире на улице Эмбахадор-Вич. Я посетил его два-три раза. И всегда он был очень внимателен, немногословен и щедро дарил книги. Он покупал все лучшее, что появлялось в печати, и не стремился хранить книги для себя. Навязчивая мысль, что жить ему осталось недолго, породила в нем полнейшее равнодушие ко всем земным вещам. Книги он раздаривал друзьям и знакомым.
У Леопарди в его «Detti memorabili di Filippo Ottonieri»[78] говорится об одной из мучительнейших трагедий, какие только могут терзать человека. Вы горячо любите больного человека, и человек этот постепенно, почти незаметно для вас, от года к году, от месяца к месяцу, меняется из-за болезни. Когда-то, вначале, у вас сложился некий образ этого человека, но образ меняется. Меняются цвет лица, черты, выражение, меняются жесты. Бледный господин находился все время рядом со мною. Я видел его в течение девяти месяцев учебного года. После экзаменов я уезжал в деревню. А возвращаясь, снова видел этого человека на том же месте, за соседним столиком. Но он уже отличался от того, которого я оставил. Многое, конечно, еще сохранялось от того, прежнего. И все же у меня было предчувствие, скорбное предчувствие, что будущей осенью, после учебного года и после лета, в еще оставшихся изначальных чертах этого человека я обнаружу новую убыль. Так и случалось. У него дома, в чистых, светлых комнатах, мы, беседуя — почти всегда о книгах, — никогда не делали ни малейшего намека на его недуг, ни он, ни я. Я знал, что он терпеть не может говорить о своей персоне. На этот счет у меня был опыт после нескольких случаев в начале нашей дружбы, когда я пробовал деликатно высказывать сожаление по поводу его болезни. Полноте, будь что будет. Не стоит об этом говорить. И действительно, мы об этом больше не говорили. Но я замечал — такие вещи невозможно скрыть, — что его гложет навязчивая идея о его недуге. Я видел это по случайным, неожиданным мелочам: то он слишком долго молчит, то нахмурит брови, произнося, казалось бы, вполне безмятежные слова, то приложит руку к груди, а то вдруг, с удрученным лицом, даст безмолвно понять, что у него нет будущего.
Через три, четыре, шесть лет он каждый раз был другой. Если бы кому-нибудь показать его портрет десятилетней давности, а потом его самого, каков он сейчас, никто бы не поверил, что это один и тот же человек. В моем друге изменилось все. Пожалуй, даже фигура стала другой. Словно бы он весь сжался, уменьшился, утончился.
Присутствие — отсутствие. Леопарди прав: нет горшей муки, чем сжимать в своих объятиях любимое существо, облик которого теперь совсем не тот, что прежде, которое когда-то было совсем другим человеком. Присутствие — отсутствие. Это то же любимое существо и, однако, не то же, о нет. Откуда это трагическое бегство к прежнему образу человека, которого мы сейчас, в настоящем, держим в своих объятиях? Милый образ любимого существа вытесняется другим, скорбным. И когда любимый человек умирает, именно этот образ, а не тот, прежний, сохраняется в нашей памяти. Так любимый человек исчезает окончательно. — Cosi vieni a perdere la persona amata interamente.
ВАЛЕНСИЯ И РИМ Перевод В. Багно
Согласно историку дону Висенте Бойксу, при римлянах в Валенсии было «бесчисленное множество» подземных стоков. Это ошеломляет. Под видимым городом внезапно открывается другой, сокрытый. Широкие, прямые улицы, пересекающиеся под прямым углом, и разветвленная сеть переходов. Быть может, как нередко случается, в мутной, грязной воде затерялись следы преступлений. Во всяком случае, этот грандиозный подземный город исполнен мощи.
Да и в городе, открытом для взоров, повсюду замечаешь неисчислимые отблески Рима. На фасадах домов, на задворках, в недостижимых небесах, в интерьерах, в закоулках. Случается, что на римские надписи или надгробные плиты натыкается кирка каменщика под обломками сносимых домов. Так стремление оставить след, увековеченное и стертое с лица земли, заново обретает жизнь и навевает нам мысли о Риме, Риме, который неотделим от Валенсии. Само название Валенсии истинно римское.
Повсюду надписи и плиты. Эпиграфисты прошлого — такие, как Лумиарес, Кортес, — их изучали. Многие из плит были расколоты, многие из надписей наполовину стерты временем. Однако от всех веяло Римом. Все они подтверждали римское прошлое Валенсии. Каких только надписей не было: удачливый солдат благодарил богов за покровительство; некие отцы города желали увековечить свои имена; весь город свидетельствовал о своем восхищении римским императором, родившимся в Испании. А вот на отшибе, на стене углового дома, выздоровевший от тяжкой болезни возносит хвалу исцелившему его всемилостивому богу. На фасад другого такого же памятника некая дама с римским именем занесла вехи своей жизни. Во время работ на дне реки обнажился кусок алтаря с трогательным посвящением. Не редкость также плита — пожалуй, она-то и есть самая исконная, — на которой запечатлен рог Амалфеи, преисполненный дарами, символ изобилия, украшавший древний герб Валенсии.
Однажды некий поборник чистоты в помрачении рассудка приказал, чтобы в фундамент грандиозного сооружения — моста Серанос — были замурованы прекрасные надгробные плиты. Этот фанатичный поборник чистоты был врагом Истории. Он вознамерился замуровать Рим. Но Рим бессмертен, и кто знает, не живет ли и поныне римский дух в валенсианских сердцах.
ВРЕМЯ И ВРЕМЕНА Перевод Е. Лысенко
В Валенсии я был приезжим и сменил не одно жилье — этакое перекати-поле. Жил на улице Де-лас-Баркас, на улице Санта-Тереса, на улице Моратина, на площади Де-ла-Пелота, на улице Де-ла-Энсалада, на улице Бонайре. Улица эта идет от улицы Дель-Мар к площади Де-лас-Баркас и пересекает улицу Де-ла-Наве. А на улице Де-ла-Наве высится Университет. На эту улицу выходит главный подъезд Университета — кажется, я об этом уже говорил, — через который больше всего входят туда… и выходят обратно. И вот я в пансионе на улице Бонайре, очень дешевеньком пансионе, занимаю полутемную комнатушку. Роковым образом мне, которому на протяжении всей жизни приходилось бороться с временем, довелось столько раз перемещаться в пространстве. Пространство — другой лик времени. Но теперь я был намерен обрести постоянство. Постоянство жильцов — заветная мечта всех хозяек пансиона. На ночном столике у меня лампа с закопченным стеклом и книга в потрепанной обложке. Опасная книга! Ибо из нее я почерпну сознание времени, мучительное сознание, которое овладеет мною. Кружок старых друзей распался, и теперь я живу один, наедине со своими мыслями. На рассвете зажигаю закопченную лампу и беру в руки засаленную книгу. В начале моей писательской карьеры меня больше всего привлекала грамматика. Равно как классическая литература. А книга, лежащая у подножья лампы, это как раз «Грамматика» дона Висенте Сальва. На заглавном листе внизу значится: «Валенсия. В типографии Мальена. Улица Де-ла-Наве. 1847». Когда я в первый раз прочитал примечание, обозначенное в конце книги буквой «С», я ничего не заметил. Порой мы проходим по краю пропасти, не сознавая этого. При втором чтении моя душа наполнилась унынием. А при третьем мною овладел страх.
Да, страх! Там, в этом убогом пансионе, на рассвете, при тусклом свете лампы, страх, доходящий до галлюцинаций. Сальва в этом примечании играет временем. Сальва, подобно ловкому фокуснику, меняет времена глагола. По милости Сальва условное наклонение глагола «любить» утрачивает свое изначальное свойство и приобретает другое. То оно употребляется как время прошедшее, то как будущее. И я подумал, что времена эти ненадежны, и что то самое время, которое является нашим творением, в конце концов нас же уничтожает. Время и пространство — вот два неодолимых барьера для человеческого духа. Нам не перескочить через них никогда. Прошу читателя сделать усилие, на миг сосредоточиться и попытаться вообразить себе что-либо такое, что не было бы временем и пространством. Ну как, удалось? Сумели вы уловить хоть малейшую частицу чего-либо, что не является ни временем, ни пространством? А теперь, положа руку на сердце, скажите, хватит ли духа у жалкого смертного, неспособного вообразить что-либо вне времени и пространства, утверждать, будто там, за их пределами, ничего нет. Если он станет это утверждать, его ребяческая самоуверенность покажется нам нелепой. Да, примечание «С» в книжке Сальва подобно трагическому «Dies irae». О жалкая участь человеческая! Ни Бельо, ни Куэрво, ни сам Сальва не властны над временами. Дрожащей рукой берут они какое-либо время, чтобы поместить его в прошлое, вот, кажется, пристроили, а глядишь, время это делает скачок и перемещается в будущее. Другое время они хотят поместить в будущее, а оно одним махом перемещается в прошедшее. И приходится мириться с причудами и шалостями времен:
— Я охотно бы читал в Бетере «Рифмы» Кероля.
Когда я хотел бы их читать? А может, я их читал? Может, я хотел читать их месяц или год назад, или буду читать через год или через месяц. Ни Бельо, ни Куэрво, ни сам Сальва, совершивший магическое преображение некоей временной формы, тоже не знают, близкое ли это прошедшее или отдаленное, долго ли или недолго нам ждать этого будущего. И могу ли я с уверенностью сказать твердое и решительное «не согласен» попыткам Бельо, Куэрво и Сальва? Ведь «не» — это самое ненадежное, обманчивое и опасное словечко. «Не» — самая ветреная и проказливая из частиц. Иной раз она изволит отрицать, а иной — утверждать. «Не» выражает сомнение. Оно само не знает, что делать. Возьмем фразу: «А не пойти ли нам погулять?» Говорящий в это время думает: «Надо бы пойти гулять». И можно, например, сказать, выражая свое восхищение: «Не с Цейлона ли эти прекрасные жемчужины?» В «Деревенщине» Бретона в третьем акте (сцена VII) Элиса спрашивает: «Что такого он сказал?» И ей отвечают:
Уж так сказал, что от испуга Едва тут матушка не умерла!В «Прощении для всех» Горостисы (акт I, сцена II) дон Фермин спрашивает служанку, которая стелила постель: «Какое одеяло ты постелила?» Служанка отвечает: «Вот еще! Белое, камковое». На что дон Фермин замечает: «Признаться, я боялся, как бы ты не подсунула ему шерстяное».
«Человек, — говорит фрай Луис де Гранада, — это тростник, который гнется, куда ветер подует». Наступает утро, огонек лампы меркнет. Вот и петух пропел. Какая погода будет сегодня? Утро ясное, говорю я себе, пошли гулять. Что? Я с кем-то уже пошел? Вчера или на прошлой неделе? Или пойду, когда встану? Не знаю. А каким будет время в этом наступающем дне? Будет тянуться или пробежит? Будет в каждом часе по пятнадцать минут или по двести?
ФАЛЬЯС Перевод В. Багно
Ночью, теплой и ясной. Двери двух балконов, обращенных на площадь, наглухо затворены. Зала с плетенными стульями из пожелтевшего камыша. На спинках стульев — изображения лир. И на креслах. И еще одна лира в окружении роскошных цветочных ваз на канапе. На инкрустированной перламутром и черным деревом консоли две фарфоровые статуэтки — кавалер и дама восемнадцатого столетия. В углу под небольшим балдахином альков, отделенный от остальной части залы витражной стенкой. Высокий потолок.
В одном из кресел сидит пожилая сеньора. Одетая в черное. В руке белеет платок тончайшего батиста; время от времени она подносит его к глазам. По обе стороны кресла, на двух низеньких скамеечках, у ног дамы, сидят две девушки, также в глубоком трауре. Комната погружена в полумрак, и черный цвет платьев почти неотличим от окружающей тьмы. И выделяется лишь пронзительно-белое пятно платочка.
Слышен гомон толпы. Гвалт нарастает от едва ощутимого гула до пронзительных выкриков. Люди заполняют площадь. Всеобщее возбуждение. Тишина залы нарушена, и отныне шум снаружи вытесняет из комнаты безмолвие. Горестным раздумьям старой дамы и сидящих с ней девушек уже нет места. Три женские фигуры словно застыли. Не произнося ни слова, не сговариваясь, невозмутимые, они сидят, не шелохнувшись. Крики множатся и нарастают. Наконец неистовое возбуждение толпы прорывается. Молниями проносятся хлесткие проклятья. Воздух колеблется от хохота. Стоит кому-то отпустить ядреную шутку или выкинуть коленце, как все их мгновенно подхватывают. Потребность в зрелище неистова и неодолима. Площадь, как видно, запружена теснящимся, взбудораженным народом. И вот сквозь захлебывающийся протяжный рев начинает пробиваться музыка. Еще несколько минут три погруженные в траур фигуры остаются недвижны. Наконец обе девушки встают, поднимается также дама, и начинается медленное шествие. Дама посередине, а девушки поддерживают ее. Каждый неровный шаг дается даме с трудом, будто непомерный груз лежит на ее плечах. Вот они приблизились к двери и выходят из залы. Медленно бредут по широкому коридору.
До помещения, куда вошли дама и две девушки, гул с площади почти не доносится. Однако гомон, шум и ликованье толпы проникают и сюда. Дама опускается в кресло, девушки — каждая на свою скамеечку, по обе стороны от кресла, и погружаются в молчание. Они удалились от мира, но мир безжалостно домогается их и воплями толпы и веселыми звуками музыки. Платок белого батиста мягко касается глаз сеньоры. И сюда, в эту отдаленную комнату, проникают крики. Молчание, хранимое тремя женщинами, ранимо и, как все их чувства, поневоле обращено к площади — с потаенной мольбой о покое — отдаленное веселье едва ли не мучительней близкого. Непрерывным потоком накатывается грохот, быть здесь дольше бессмысленно. По существу, отголоски внешнего мира проникают сюда столь же беспрепятственно, как и в залу, два балкона которой выходят на площадь. Дама вновь поднимается, две девушки тоже встают, и вот они идут снова. Они движутся вглубь дома, куда не проникают звуки. Они идут все дальше. Там, в глубине, в темной каморке, тишина будет полной.
В глубине дома, в закутке фигуры трех женщин, сидящих, одетых в траур. Звуки сюда не доходят, это так. Ночь тепла, ясна, покойна. А в глубине душ трех скорбящих — ночь неистребимых воспоминаний. Этой ночью воспоминания подобны звездам, лучистым и вечным. Идет время. Идет, и не знаешь, сколько же его прошло. Три женщины встают и возвращаются в ту комнату, откуда пришли. Тишина непроницаема. И чуть погодя дама и две девушки выходят из комнаты и направляются в залу. По-прежнему царит тишина. Царит благотворно и покойно. Дама садится в прежнее кресло, и две девушки на те же скамеечки. Все миновало. Ничто не тревожит ночной покой. И покой воспоминаний.
РАССВЕТ НАД АПЕЛЬСИНОВЫМ САДОМ Перевод В. Багно
Я видел немало восходов солнца. Я наблюдал, как занимается день в Мадриде, Париже, Бургосе, Басконии. Но ни один рассвет не приводил меня в такой трепет, как рассвет над апельсиновым садом.
Рассветы влекут меня. Ночь уходит, а день только зарождается. Ночь была исполнена тревог и сновидений, а то, что уготовлено днем, пока неведомо. Каждый раз, когда заговоришь о рассветах, на память невольно приходят стихи Бодлера, в которых он описал кончину ночи — пору, когда фавориты луны сломлены усталостью, пору, когда преступники уже сделали свое дело. Вспоминаются также стихи культового гимна:
Hoc omnis erronum cohors Viam nocendi deserit[79].В рассвете больше поэзии, чем в его наследнице — заре. Заря — это веселые переливы кармина, золота, перламутра в облаках, а рассвет — едва уловимое сияние, как бы невзначай окрашенное нежно-зеленой медью. Домик, стоящий среди апельсиновых деревьев, пока закрыт. Домик виднеется над густой искрящейся листвой. Ни проблеска, ни шороха. Все пока спит, но мгновение спустя все проснется. Стальной игрушечный замок нории уже различим в скудных лучах. Домик побелен ослепительно белой известью. Он новый, небольшой, наполненный звуками. В этом доме, у окна, вдыхая воздух, напоенный запахом апельсинового дерева, мы работаем. Сегодня мы поднялись очень рано, чтобы насладиться рассветом. Апельсиновый сад многолик, хотя и кажется однообразным. Ничего похожего на дикие таинственные леса Севера, и кастильское плоскогорье, и нивы Тьерры-де-Кампос или Ламанчи, цветники и фруктовые сады самой Валенсии. Апельсиновый сад симметричен. Голая земля, без единой травинки. Края оросительных канав тщательно обработаны. И апельсиновое дерево горделиво, породисто красуется на этой опрятной, ухоженной земле. На ветках рядом цветы и плоды. Цветок апельсина белый, мясистый, с дурманящим ароматом. А его сок успокаивает нервы. Его плод — золотистый шар, за редким исключением, тонкокожий, глянцевитый, с удивительно сочной мякотью, не приторной и не терпкой; сладостно обволакивающая рот нежная мякоть — кладезь жизненной силы.
Бледный рассвет мало-помалу зацветает. Встает новорожденный день. Среди листвы уже различим домик. Апельсиновые деревья оживают. Легкий ветерок овевает окрестности. Гаснет утренняя звезда. И всякий раз с рассветом душу пронизывает какой-то смутный трепет, безотчетная тоска.
ХОРОШИЕ МАНЕРЫ Перевод В. Багно
В столовой накрыт безупречно опрятный стол, сервированный к обеду. Возле двери умывальник, как правило фаянсовый, прекрасная старая вещь из Алькоры или Эслиды. Год 1886 или 1895-й. Мытье рук перед тем, как садиться за стол, — это признак чистоплотности, благовоспитанности и заботы о своем здоровье. Кажется, где-то я читал, что в обиходе одной цивилизованной нации вновь появились умывальники.
Хорошие манеры — это свод неписаных законов, которым подчинено поведение культурного человека. Эти законы распространяются на приветствия, визиты, траур, волокитство, еду, переписку, разговоры. Но одних хороших манер мало. Смысл им придают другие качества. В триптихе общения хорошие манеры составляют лишь одну из частей, две другие — это справедливость и душевная щедрость. Можно быть вежливым, но по существу неинтеллигентным человеком. Неинтеллигентным, то есть несправедливым, нетерпимым, жестоким. Можно также быть вежливым, но неотзывчивым, иметь черствую душу. Так что человек грубоватый и неотесанный, но с врожденным чувством справедливости, а вернее, душевной чуткостью, оказывается неизмеримо лучше обладателя безукоризненных манер, способного на бесчестные поступки.
Не составило бы особого труда наметить основные вехи истории хороших манер. Можно было бы вспомнить французские книги о хороших манерах и испанские галатеос. Так называли в Испании переделки книги Джованни Делла Каза — «галатео» стало означать руководство или пособие по хорошим манерам. И Хуан Луис Вивес посвятил хорошим манерам не одну страницу своих «Диалогов». Переходя от эпохи к эпохе, от нации к нации, от области к области, нельзя не обратить внимания на различия в толковании хороших манер. Чем отличаются представления о хороших манерах в Валенсии и в Кастилии в 1886 и в 1940 годах? В целом одни и те же, они могут у той или иной нации, в той или иной области быть более четкими или более расплывчатыми, более явными или более завуалированными. В беседе выявляются хорошие манеры собеседников. Мы говорим либо много, либо мало. Либо по очереди, давая возможность высказаться и остальным, либо без умолку. Либо молчим, слушая говорящего, размышляя над тем, что слышим, точнее тем, что слушаем — ибо «слышать» и «слушать» не одно и то же, — либо, погруженные в собственные мысли, не придаем значения чужим речам и с нетерпением ждем, когда же собеседник замолчит, а то и резко его обрываем. Либо почтительно внимаем умудренному опытом старику, человеку сдержанному и умному — уметь жить это и есть мудрость, — человеку, сведущему в какой-нибудь науке или в искусстве, путешественнику, вернувшемуся из далекой страны и хорошо ее знающему, либо говорим благоглупости, невзирая ни на опыт, ни на ученость, ни на достоверные знания.
В Испании говорят мало. Во Франции, где говорят на повышенных, если сравнивать с Испанией, тонах, говорят куда больше. Вечерами я нередко сидел на скамейке на площади Этуаль, неподалеку от моего дома. Скамейки в этой части огромной площади вблизи от проспекта Ваграм облюбовали для своих ежедневных посиделок опрятные старушки в черном. Внешне от испанок их не отличишь. Но стоит услышать их болтовню, как с испанками их ни за что не спутаешь. Беседа их монотонна и бесконечна, тянется час, полтора, а то и два. Я же тем временем — на это у меня хватало терпения — три-четыре часа проводил в раздумьях о землеройках. Случалось, какая-нибудь старушонка, единожды начав, говорила минут сорок, если не час.
В столовой накрыт опрятный стол. Не забудем, что речь идет о Валенсии в 1890 году. Мы вымыли руки, развернули салфетки. Детям нельзя говорить во время еды, если только к ним не обратятся. Трудно сказать, насколько валенсианские хорошие манеры поведения за столом отличаются от хороших манер в других областях Испании. Мне запомнились две особенности, о которых стоит упомянуть: нельзя было говорить, что то или иное блюдо не нравится. Истинно хорошие манеры обязывали доедать блюдо, нравится оно или не нравится. Съедать кушанье, которое перед нами поставлено. Но не подчистую — и в этом заключалась вторая своеобразнейшая черта, — а оставляя малую толику на тарелке. Съесть все до последней крошки значило проявить полнейшую невоспитанность. Не плод ли моего воображения этот обычай, думалось мне не раз. По нынешним понятиям нелепо оставлять на тарелке объедки. И трудно себе представить, как это чистая тарелка может считаться проявлением дурного тона. И я засомневался в достоверности моих воспоминаний. Однако недавно мне попался «Катехизис светских и христианских хороших манер», сочинение отца Сантьяго Дельгадо (Мадрид, 1817). Проявления неотесанности за столом в этом руководстве описаны с помощью следующего вопроса: «Каких еще ошибок следует избегать?», на который дан такой ответ: «Съедать все до последней крошки, облизывать ложку и т. п.». Так вот в Валенсии еще в 1890 году, т. е. спустя полстолетия, съесть все подчистую значило расписаться в своем неоспоримом бескультурье.
Приступили к обеду. Но слуги, переходящего с блюдом от одного сотрапезника к другому, не видно. Блюдо устанавливают в центре стола, на тростниковой салфетке, чтобы предохранить скатерть от пятен. Прислуживает сотрапезникам хозяин дома. Под хозяином понимается как сеньор, так и сеньора. «Да здравствует мой хозяин!» — гласит ярлычок на ламанчских подвязках. И когда влюбленный восклицает: «Да здравствует мой хозяин!», — ясно, что хозяин для него — возлюбленная.
БЛАСКО ИБАНЬЕС Перевод В. Багно
Бласко Ибаньес был крепким, пышущим здоровьем юношей, с бородой под стать черному дереву и жгучими глазами. В губах его пряталась улыбка, лицо излучало симпатию. Ему не приходилось следить за своей мавританской бородой. Именно благодаря бороде Бласко Ибаньес был Бласко, а уже потом благодаря щегольским усам и моряцкой шее. Работал он без устали. Сняв воротничок, в расстегнутой рубахе, с засученными рукавами, а летом в нижней рубашке, как на портрете кисти Фильоля, он сочинял и сочинял свою ясную мускулистую прозу.
Наши эстетические взгляды были прямо противоположны. Поскольку позднее я открыто заявил об этих расхождениях, наши прежде сердечные отношения стали прохладнее. Но спустя годы былая искренность и теплота вернулись. С захватывающим интересом читал я первые «валенсианские» романы Бласко Ибаньеса — «Бесшабашную жизнь», «В апельсиновых садах», «Ил и тростник», «Хутор» — в них не было и следа тенденциозности. Они открыли мне новый мир. Живя в Валенсии, приезжая в Валенсию из гористого голого края, я до поры до времени не ощущал валенсианского пейзажа. Говорят, что творцы пейзажей — художники. И это истинная правда. Валенсианскую природу создал Бласко Ибаньес. Восхищенный, очарованный — превозмогая хорошо знакомый писателям кисловатый привкус, — я глядел на сменявшие друг друга невиданные картины. От деталей, в которых сам я тонул, читая его, я шел к общему. Пейзаж в романах Бласко Ибаньеса написан крупными мазками, выхватывающими самое главное. Я же — его читатель — предпочитал работать мелкими мазками. Бласко Ибаньеса сразу же оценили во Франции, Англии, в Италии, а не только в Испании. Впервые в новое время испанский писатель вошел в мировую культуру на равных. Переводили и продолжают переводить многих. Но лишь Бласко легко пересек границу и донес нашу самобытность до всех концов земли, обнаруживая в ней при этом общечеловеческий смысл, хотя наша самобытность всегда оставалась у Бласко исконно испанской. Из своего дома в Кабаньяле Бласко покорял мир. В самых разных странах люди узнавали свои драмы в драмах его героев. Так продолжилась наша европеистская традиция — традиция Вивеса и Сан-Висенте Феррера.
Но Бласко Ибаньеса подстерегала опасность: обретая общечеловеческий масштаб, овладевая общедоступным языком, он мог бы пренебречь раскрытием личного и исконного — своеобразного — в драмах, которыми наполнены его книги. Но это и в голову не приходит, когда читаешь прекрасные описания апельсинового сада, плодородной валенсианской долины, изобильного озера Альбуфера. Взяв в руки его книгу, мы безотчетно проглатывали страницу за страницей. Лишь иногда переводили дух и отдавались мыслям…
Благосклонно или безжалостно отнесется время к наследию Бласко Ибаньеса? Прелюбопытны признания автора о своем творчестве. Он полагал, что между зарождением — зарождением замысла литературного произведения — и претворением его в жизнь существует непримиримое противоречие. Следуя этому признанию, мы вправе ожидать страниц глубоко личных, безмятежных и сосредоточенных, а перед нами ярый порыв и всесокрушающая мощь. Многому в наследии Бласко Ибаньеса уготовлена долгая жизнь. Забудутся преходящие доктрины. Развеются тенденциозные пристрастия. Пожалуй, даже перестанут волновать конфликты. Но эти гениальные эскизы, наброски его пейзажей и портретов, не сотрутся ни с течением времени, ни под напором новых поколений.
БОДЕГОН Перевод В. Багно
Миска. На посудной полке в буфете или на каминном выступе. Белая миска с голубым ободком. И сетриль — кувшин для оливкового масла. Масло не должно быть очищенным, светлым, прозрачным, безвкусным, почти без запаха. Масло, лишенное вкуса, здесь большая редкость. Оливковое масло здесь зеленоватое, густое, сохранившее вкус маслины и пенящееся на сковороде. Миска и кувшин. Не хватает бутыли с уксусом. Чистый, отменный виноградный уксус есть только в этих местах, дающих четырнадцати-восемнадцатиградусное вино. Крепкий, благоухающий уксус. Несколько его капель, разведенные в стакане воды, снимают жар и восстанавливают силы. Откупоришь бутыль — и хлынет оттуда живительный запах.
Блестит покрытая белой глазурью миска. Радужный луч играет в стекле бутыли. Кувшин для оливкового масла все так же значителен, угрюм, исполнен собственного достоинства и понимания важности возложенной на него миссии. В очаге на раскаленных углях жарится треска. От ее румяной корочки веет опять-таки дразнящим нас запахом. На медленном огне жарится и очень горький перец, маленький и круглый, называемый «ньора», перец, высушенный на солнце в гирляндах, развешанных на фасадах домов. Просторная кухня, вместительный очаг. Представьте себе широкую плиту под каминным колпаком. К стене придвинут низенький сосновый столик. В королевстве Валенсия — особенно в Аликанте — по обыкновению, едят за низкими столами. Под стать им и невысокие стулья. Надо только обязательно поставить стол посредине, и можно приступать к священнодействию. Резать треску на мелкие кусочки, крошить перец, все перемешивать и класть в миску. И вот теперь приходит черед игривого уксуса и степенного оливкового масла. Когда блюдо пропитывается маслом и уксусом, остается только съесть его. Съесть один из самых изысканных деликатесов в мире. Ни одно яство валенсианской кухни, столь богатой и вкусной, не идет с ним ни в какое сравнение. С этим благословенным блюдом в нашу плоть и кровь входят скромный аликантийский пейзаж, весь в сероватых тонах, и простота нравов, и опрятность аликантинок, и благородная сдержанность валенсианцев в словах и жестах, и молчаливое самообладание в горе.
В солидных парижских ресторанах — в одном из них, на площади Мадлен, мы обедали, — мудреные приправы неизменно возвращали нас к мыслям об этом простом недосягаемом блюде. На столике — строгий испанский натюрморт, которому чужда фламандская избыточность: белая миска с голубым ободком и темно-коричневый подрумяненный хлеб. Они озарены лучистым средиземноморским светом.
ХОАКИН СОРОЛЬЯ Перевод В. Багно
С Сорольей я познакомился не в Валенсии, а значительно позже, в Мадриде. Валенсия — край художников. Художников, обвенчанных со светом. Одержимый светом, уехал в Неаполь Хосе Рибера. В Мадриде я подружился с писавшим мой портрет художником. О портрете я говорить не буду, ибо себя мне видеть не дано.
Живопись — это почва, наиболее благоприятная для вредоносных растений. Я имею в виду предрассудки — предрассудки дикие, вековые, — бытующие среди критиков и поклонников. Душа немеет, когда сталкиваешься то с травлей, то с апофеозами, то с превознесением до небес, то с неумолимыми приговорами. В чем только не обвиняли Соролью. Стоит художнику, писателю или мыслителю отойти от господствующего течения, как от имени нового — нового, но отнюдь не лучшего — его предают остракизму.
А по-моему, Хоакин Соролья великий художник. Художник гармоничный, оставшийся независимым в эпоху постыдной аморфности. Он, художник, остался независим, остался господином своего рассудка и своей души, когда другие играли в бирюльки. Однако существует ли наяву цвет там, где Соролья его находил — в Валенсии? Небо Валенсии — в сравнении с небом кастильского плоскогорья — молочной голубизны. И земля под этими белесыми небесами растворена в сероватых переливах. Цвет, который господствует в Валенсии, — белый. «Крестьяне живут за городом в усадьбах и на хуторах, которые содержат в безукоризненной чистоте. Полы жилищ покрыты отшлифованной керамической плиткой, белизна стен слепит. Достойна восхищения домовитость валенсианских крестьянок, ухоженность радующего глаз убранства; ради этого блеска они всегда держат наготове известь в особой посудине и, как только заметят на стене пятно, тотчас старательно его замазывают» (Хосе де Висенте-и-Каравантес. «Валенсианцы». «Семанарио Пинтореско» от 7 апреля 1839 года). Художник Эжен Фромантен, рассуждая о белизне стен алжирских домов, пишет: «Не кто иной, как квартальный проверяет время от времени состояние стен. С помощью щеточки, кисти и жестянки с гашеной известью он замазывает мелкие пятна, занимаясь не столько побелкой, сколько росписью, радуясь тому, что дарует короткими взмахами руки вторую жизнь девственной чистоте, в которой для мавра заключена вся краса фасада его жилища» («Год в Сахеле», Париж. 1859, с. 82).
Стоит ли удивляться, что одно из самых значительных полотен Сорольи — изумительный этюд в белом: портрет роженицы. Воздух — вот чем богата Валенсия. Воздух придает неповторимый колорит всем проявлениям валенсианской жизни. Воздух рождает всю гамму сероватых тонов, придает четкость силуэтам безлесных гор, позволяет различать на большом расстоянии мельчайшие детали и, наконец, облагораживает человеческий облик. В конечном счете именно воздух, а не цвет передавал Соролья, в этом сила его живописи. Море, белеющий парус, деревья, белый стол под зелеными кронами, рыбачья лодка — все, к чему прикоснулась кисть Сорольи, обволакивает какое-то удивительное невесомое марево.
И этот человек, который на берегу моря под открытым небом живописал этот вольный, здоровый, упоительный воздух, последние свои дни провел прикованным к креслу. В последний раз мы встречались в Басконии, в окружении пышной природы, яркие краски которой столь отличны от сероватой гаммы Леванта. Дни его были сочтены. Однако он не утратил ни блеска глаз, ни живости движений. Как-то раз он дал согласие написать предисловие к каталогу выставки одного американского художника, и вот, когда мы встретились на улице, он отвел меня в сторонку и заговорил об этом. Писать он не мог. Сколько ни старался, предисловие не получалось. Оно превратилось для него в мучительную, неразрешимую задачу. Я улыбнулся, и мы расстались. На следующий день предисловие было у Сорольи. Он его переписал своей рукой, и так — безо всяких поправок — оно было опубликовано. Не могу с уверенностью сказать, за подписью Сорольи или без всякой подписи. Скорее всего, без подписи.
КИПАРИС И СТЕНА Перевод В. Багно
Образ деревенского дома возникает в минуты душевной усталости. И, пожалуй, еще гордыни. В больших городах желанное одиночество накрывает нас хрупкими стеклянными колпаками. От любой неожиданности — телефонного звонка, письма, гостя — непрочное стекло колпака может разбиться или во всяком случае треснуть. Зато чем дальше от города, чем ближе к земле — и особенно в горах, — одиночество твердеет, крепнет и наконец где-то в лесной глуши становится несокрушимым.
В крестьянской усадьбе испытываешь блаженное чувство покоя. Далеко ли отсюда Валенсия, близко? Белая стена и кипарис. У кипариса остроконечная вершина, в стене — полукруглая дверь под каменной аркой. Когда дом такой ветхий и старый, то и стена кряхтит — как живая. Можем ли мы, любящие дома, как людей, остаться равнодушными к столь выразительной фразе и не проникнуться чувством сострадания? Стоило мне побывать в каком-то одном валенсианском хуторе, как я вспоминал и остальные. Как две капли воды похожи друг на друга крестьянские усадьбы Бенета, Парсента, Торреса, Хулии, Кастелара. В аликантийском деревенском доме солнце позолотило обмазанный известью фасад, и на этой золоченой стене выделяются длинные гирлянды красного перца, вывешенного для сушки. На валенсианском хуторе тон задают кипарис, лавр, апельсиновое и рожковое деревья. И белая стена за кипарисом.
А чуланы крестьянской усадьбы? Много ли у них общего с чуланами деревенских домов в Аликанте? Там, в центральной гористой части провинции — я имею в виду Аликанте — свет проникает сквозь узкое зарешеченное оконце. А в ласковой тишине — неуловимый запах зерна, полевых трав, вымытой шерсти, аниса, развешенных по стенам фруктов.
Коль скоро следы Рима в Валенсии столь многочисленны — каменные плиты, обломки алтарей, — думается, что эта крестьянская усадьба явственным образом проникнута духом римского права. Ясность — краеугольный камень крестьянской усадьбы в Валенсии. Основа римского права — определенность. Мостиком между прошлым и настоящим служит здесь неколебимый кипарис. На желтом фасаде, с полосками голубой глазури по краю каждого кирпича, следовало бы написать:
Honeste vivere. Alterum non laedere. Suum cuique tribuere.Жить честно. Никому не делать зла. Каждому воздавать свое. Так нам открылась бы самая суть нашей духовности. Валенсианец — индивидуум или сообщество — никогда не станет кичиться своей силой. Он знает лишь силу духа. На этих римских законах зиждется цивилизация. И за покровом арабской мечтательности, за пеленой мусульманской безмятежности — чего только не вобрала в себя история Валенсии — мы обнаружим в этой крестьянской усадьбе стойкую невозмутимость Рима.
Стена и кипарис. И наша душевная усталость проходит, и наша гордыня понемногу смиряется.
ВАЛЕНСИАНСКАЯ ГОЛГОФА Перевод В. Багно
«Неповторимо». И, помолчав, говорим еще раз: «Неповторимо». И голос при этом столь тих и тускл, что выдает неизбывную бесприютность. Весь год время мало-помалу стягивалось и все ближе подступало сюда. И вот наступил час, этот трагический час, когда мы почувствовали всю его напряженность. Неповторим этот час. Неповторимы черты этой поры, отличной от остальных дней года. Эта напряженность ощутима здесь, в королевстве Валенсия, здесь и сейчас. Хотя разнеженный воздух Валенсии всячески побуждает к наслаждению, к бегству от скорби этого часа.
На исходе ночи. Кончики пальцев хранят еще память о глянцевой изнанке апельсинового листа, а в темноте уже вырисовываются шероховатые контуры векового кипариса. Апельсиновое дерево — сама чувственность, а остроконечный кипарис — воплощение бесстрастности. Едва заметен его силуэт у дороги. Едва проступают очертания часовенок у голгофы в окружении двух кипарисов. Исход ночи. После дня сосредоточения, немоты и раздумий нас ждут время, сжатое до предела, и безмерное горе. Двадцать веков вмещает утро Страстной пятницы — более чем все другие дни Страстной недели. На исходе ночи, во мраке, по петляющей дороге тянутся в гору темные фигуры несчастных женщин. А если пасмурно, мгновенье спустя бледная трещина разорвет тучи. Смутное свинцовое небо как нельзя лучше подходит гнетущему роковому дню, который грядет. Фигуры в черном с четками в руках тянутся в гору; за ними, тоскуя, тянемся и мы, поэты, оставляя внизу сладостные апельсиновые деревья, рожковые, миндальные, которые здесь изящней и трепетней, чем в иных местах. Рассвет уже близок. Над городом взвились резкие крики петухов. Все явственнее белеют по сторонам дороги часовни, и черные стрелы кипарисов уже выступили из мрака. Только здесь, а не где-нибудь еще, на стародавней земле, усеянной древними памятниками, во всей силе можно ощутить трагичность происходящего. Только здесь, на валенсианской голгофе, ночью, на исходе ночи, в одном из этих заурядных селений, в ничем не примечательном доме, уставленном самой обыкновенной мебелью. Как и разнеженный валенсианский воздух, о котором я уже упоминал, эта заурядность обостряет ощущение избранности, неповторимости и драгоценности этого часа.
Вот уже забрезжил рассвет. И трагедия, достигнув крайних своих высот, истаивает на наших глазах. Столь она мимолетна. Мимолетна и остра, как тот озноб, который настигает нас в блаженстве. Но этот беглый промельк трагедии открывает нам ночью, на исходе ночи, дальний горизонт Вечности.
ВЫДЕЛКА И РАСЦВЕТКА Перевод В. Багно
Овладеть языком непросто. В мастерской, наполненной запахом свежеоструганного дерева, мастер берется за долото. Он должен подчинить себе материал — дерево. Твердое или мягкое, с прожилками или без прожилок, светлое или золотистое, многолетнее или молодое. Дерево, а именно: бук, дуб, вяз, красное дерево, черное или сосну, до или после сбора смолы.
Кастильский язык — лучший в мире. По обилию слов и по богатству оттенков. Сокровищница его идиоматики, отглагольных оборотов, пословиц — неисчерпаема. В английском больше слов. Но в английском употребление слов не меняет их сути, а в кастильском меняет в зависимости от окружения. Кастильский язык — это ткань. Шелковая, льняная, шерстяная, какая угодно, — в которой различимы выделка и расцветка. Выделка создается ритмом, расцветка — словесным богатством. Ритм может быть стремительным и неторопливым, относительно стремительным или относительно неторопливым. Можно выткать полотно всем многоцветием красок. Но нельзя облагородить полотно — язык, кастильский, испанский — при плохой выделке. И полотно скромной расцветки, но хорошей выделки, всегда придется по душе. Есть проза, не блещущая роскошеством словаря, и тем не менее яркая благодаря выделке, то есть ритму — стремительному, не спотыкающемуся, тому, что заложен в самой природе искусства. Более того, рассуждая о хорошем стиле, можно даже приветствовать скудость и даже бедность лексики. В литературе цвета не создашь, сколько ни говори: это красное, это зеленое, а это голубое. Цвет рождает единственно возможное, прозрачное слово, предельно точный оборот, удачная идиома и сочная пословица, его рождает аромат старины, всегда чуждый педантичному архаизму.
Но легко ли писать тому, кто в детстве и отрочестве думал не на кастильском, а на другом языке? Ведь его слова спаяны другим, внутренним ритмом. Нелегко и тому, кто долго жил вдали от родины, на чужбине: думаешь родными словами, привычными с малолетства, а говоришь другими. Читая Хуана де Вальдеса — кто знает, не предубеждение ли это, — я все время помню об этом и не ощущаю цвета. Вальдес пишет прекрасно. Ему подвластен тот наивысший закон, который сам он выразил так: «Я пишу как говорю». Другими словами, он пишет так, как говорят между собой просвещенные лица. Но разве у Вальдеса, покинувшего Испанию так надолго, вы найдете цвет, которым напоен воздух Кастилии? Там же, на севере, в холодном краю, далеко от Испании, долгие годы провел граф де Ребольедо. И, смотрите, в его стихах — ни намека на цвет. Возможно, вы мне возразите (да, я вижу, вы уже готовы возражать), что дело не в цвете, а в даре. Если, мол, поэт не велик, откуда взяться пышному многоцветью? А как же Сааведра Фахардо, оторванный от родины на долгие годы, по сути дела, на всю жизнь? И дело не в Таците. От Тацита у него выделка — неистовая, резкая, суровая, — но никак не цвет, истинно кастильский.
Как пишут на кастильском наречии уроженцы Валенсии? Вопрос животрепещущий для автора этих строк. И говорить об этом — значит коснуться, пусть даже со всей нежностью, какая только возможна, воспаленной, живой, зияющей раны. Что же касается Хуана Луиса Вивеса, судить здесь трудно. Изгнанник в Лувене, Лондоне, Брюгге, он писал на латыни, международном языке той поры. Бессмысленно судить о ритме по переводам. Тем паче, что перевод «Диалогов», выполненный Коретом, неуклюж и тяжеловесен. Напротив, истинное наслаждение, неподдельную радость доставляет испанская версия книги о христианке, осуществленная Хуаном Хустиньяно, опубликованная в Валенсии в 1528 году (у меня есть экземпляр этого редчайшего издания).
А кроме того, на память приходит прелестное в своей наивности признание замечательного валенсианского историка. Рафаэлю Мартинесу де Висьяне (1564) приходилось писать на кастильском. И он, историк и гуманист, смиренно и гордо защищает свой кастильский язык, касаясь недостатков своего стиля: «Коль скоро я валенсианец и мой кастильский не столь безупречен, как у уроженца Толедо, я заслуживаю снисхождения; не мудрено, что при несхожести и протяженности королевств наших в языке кастильском немало отличий…» До сих пор — смирение, а далее звучит гордость: «И пусть я пишу не по-толедски, но все же на подлинном кастильском, и даже лучшем, нежели в иных старых книгах самих кастильцев».
ХЛЕБ И ВОДА Перевод В. Багно
Я всегда с особым трепетом относился к хлебу и воде. Началось это еще в Валенсии. Хлеб изначален и вечен. Хлеб — это испытание в дружбе и жертвенности. Преломим с другом хлеб за столом. В былые времена клялись есть хлеб за непокрытым столом, пока не доведут до конца благородное начинание. Теперь уже не клянутся. Но в переносном смысле эта клятва возможна и сегодня. Я ел хлеб Кастилии — кто знает, не из пшеницы ли Тьерры-де-Кампос, тысячелетних Кампос-Го́тикос. И хлеб Галисии. И восхитительный хлеб Севильи, из Алькала-де-лос-Панадерос. Наконец, я ел хлеб изгнания. А в Мадриде, у истоков моих литературных баталий, отторгнув семью (семья была обеспеченной; я самовольно уехал из Валенсии), в Мадриде, живя в убогой каморке, работая денно и нощно, однажды целых двадцать дней подряд у меня не было другой пищи кроме хлеба: один хлебец за десять сантимов в полдень и второй такой же хлебец за десять сантимов вечером.
Хлеб эмиграции я ел три года в Париже. В послании Мартинеса де ла Росы к герцогу де Фриасу на смерть герцогини (если не ошибаюсь, написано оно в 1830 году) есть такая строка:
От грустных Сены берегов…Трудно представить себе берега милее, чем у Сены. Да, собственно, не о берегах, обо всем Париже пишет здесь поэт. А Париж — одно из самых прекрасных и одухотворенных мест на земле. Я прежде улыбался, читая эту строку Мартинеса де ла Росы. Я вообще много улыбался. До тех пор, пока не очутился в эмиграции, в Париже. Утрата родины окрашивает все, даже самое радостное, в тоскливые тона. Парижский хлеб изумителен, на редкость бел, воздушен. Но мне мерещился в нем привкус горечи — хлеб оправдывал свой постоянный эпитет: «Горький хлеб эмиграции».
Ну а хлеб и вода Валенсии? В Париже я выпил несметное число бутылок виттельской минеральной воды. Я пью только воду, и вода для меня — роскошь и блаженство. В Валенсии помимо бесплатного городского водоснабжения пригодную для питья воду привозят из Торренте и Патерны и продают кувшинами. А хлеб, румяный, хорошо пропеченный, называемый pa d’horta — хлеб с орошаемых полей — продавался на улицах на вес. А может, было иначе, и это лишь плод моего воображения. «Патаке́те» — грубый, ноздреватый хлеб — был тогда для меня истинной отрадой.
Только он придает завершенность отменному валенсианскому блюду из риса с фасолью и репой.
И НАКОНЕЦ ВАЛЕНСИЯ Перевод В. Багно
И вот ты здесь. Хотел вернуться, и вот ты в Валенсии. Не упрекаю тебя. Но и обманывать не хочу. Чтобы вернуться, чтобы решиться вернуться, ты ценой неимоверных усилий сдвинул целую гору воспоминаний, переживаний, предубеждений. Ты шел очень медленно, ступал осторожно. И долго не решался сказать ни «да», ни «нет». Наконец, внезапно приняв решение, на все махнув рукой, ты устремился в Валенсию — так ребенок бросается к игрушке.
И вот ты в Валенсии. Мучительная автомобильная поездка — и ты в Валенсии. Ты приехал, когда стемнело, и устроился в скромной гостинице. Автомобиль, въехав в город, миновал несколько улиц и остановился здесь. Ты толком не знаешь, куда тебя привезли. Ты в полной растерянности. Наверно, уже за полночь. Хотя, который час, ты не знаешь. Твои часы остановились, и эта временная помеха — ты ведь раб времени, ты одержим временем — тревожит тебя. Ты потерян во времени и пространстве, таков сейчас твой удел. От стремительной поездки у тебя слегка закружилась голова. Ты ощущаешь головокружение. Но куда ощутимее другое. Оцепенение, в которое впадаешь при переходе из одного времени в другое. Если быть предельно точным, ты прибыл сюда не из времени, а из вечности. Первые годы того полувека, которые отделяют тебя от твоей валенсианской юности, по существу, уже канули в вечность. Стало быть, ты прибыл сюда не из определенной точки в пространстве — не из Мадрида, — а из вечности.
На что же ты надеешься, возвращаясь в Валенсию? Быть может, ты думаешь так вернуть молодость? Смирись и готовься к кропотливой работе. И постарайся не впадать в допотопный романтизм и слезливость. Не первый год как ты порвал с сочинительством на злобу дня и нашел себя в чистом искусстве. Я не сужу, плохо это или хорошо. Просто говорю, что тебе удалось преодолеть суетность нашей жизни.
Окинь взглядом свое пристанище. Это не трудно. Тесная каморка в номерах. Железная кровать, зеркальный шкаф, умывальник, столик с двумя стульями. Вот она, твоя Валенсия. Валенсия глубокой ночью, когда и не знаешь, где именно ты находишься, запертый в четырех стенах. Валенсия сейчас — это не памятники, не пейзажи и не люди. Несколько кубических метров воздуха, и только. Сам-то себя не обманывай. Если бы ты не ощутил Валенсии в захудалой каморке, лишенный иных, пестрых и многообразных впечатлений, в пору было бы отречься от самого себя. Нет же, ты нутром чувствуешь, ощущаешь, зримо видишь Валенсию в этой убогой комнатушке, похожей на те, в которых ты живал в Севилье, Бургосе, Леоне, Сан-Себастьяне. И все-таки чувства, которые тебя охватили, — особые.
Вот ты открываешь окно, высовываешься, надеясь прикоснуться к Валенсии, вдохнуть ее воздух. Но это окно выходит не на улицу. Тьма беспросветна. Ни зги не видно. Но взгляд твой притягивает одна из звезд, сверкающих в непроглядном небе. Она отливает красным, синим и зеленым. Вот и все. Не надо ничего выдумывать. Ты же чувствуешь, как необъятна тишина. Не надо ни крика, душераздирающего крика в ночи, ни отдаленных, едва уловимых звуков, извлекаемых из пианино нервными, трепетными пальцами. Не надо песни, доносящейся издалека. Не старайся сочинять. Достаточно этого воздуха, которым проникнуты все твои чувства. Открыв окно, всматриваясь в бескрайнюю ночь, ты всем существом впитываешь тихий ласковый воздух и ловишь загадочное мерцание звезды.
ДВОЕ В ВАЛЕНСИИ Перевод В. Багно
Ты это или кто-то другой? Проснувшись утром в убогой комнатушке захудалой гостиницы, ты понимаешь, что дремота, вместо того чтобы раствориться во сне, одолела тебя вконец. Выходишь из гостиницы и, сделав несколько шагов, чувствуешь, что совершенно выбит из колеи. Тебе предстоит наконец встретиться с городом. Тебе предстоит свести Валенсию полувековой давности с сегодняшней Валенсией. Это почти невыполнимо, но не из-за того урона, что нанесла городу безумная чиновничья кирка. Непреодолима другая преграда — пережитое по отдельности тобой и городом, его новый говор, мысли, привычки, тайники души. Но кто же, ты или другой вернулся в Валенсию? Да, другой, а ты все еще далеко отсюда. Ты не смог вернуться. Все твои титанические, мучительные усилия были напрасны. Ты так и не приехал. В Валенсию приехал другой. Это он, готовый ринуться навстречу опасности, стоит на пустынной улице. Он пришел из прошлого, а предстало его глазам настоящее, которого он не знает и в котором так и не найдет ни малейшего следа дорогого его сердцу былого.
Смелее. Время есть время. Что суждено, то и сбудется. На улочке, которая неведома тебе, как неведомо было твое ночное гостиничное пристанище, до тебя вдруг доносится волнующий запах. Дверь одного из домов отворена. Точнее, это не дом, а лавочка. Видны стоящие в ряд жестянки и ларь с полочками. Итак, волнующий запах исходит из бакалейной лавки. Слияние ароматов шафрана, гвоздики, перца, ванили рождает редкостный запах, который непременно взволнует тебя. Пожалуй, слышится и редкий запах пебрельи. Пебрелья — это растение, характерное именно для королевства Валенсия и описанное Жаком Баррелье — собиравшим травы в глубинке — и Антуаном Жюсье, также побывавшем в Испании. Есть в этом запахе что-то от перца, корицы и гвоздики. Вот что пишет о пебрелье историк Эсколано: «В горах Хатива произрастает одна из лучших ее разновидностей; ни у одной из восточных пряностей нет столь пикантного вкуса, как у этого светло-коричневого листа, который следует измельченным добавлять в жаркое». Мыслимое ли дело, чтобы пебрельи не было в этой бакалейной лавке, которая медленно колышется между прошлым и будущим?
Тебя осеняет: внезапно, даже не помышляя об этом, ты открыл для себя нетленную, вечную Валенсию. А вместе с вечной Валенсией и свое далекое прошлое. В твоей душе трепещет и расцветает нечто зыбкое, когда-то безжалостно подавленное. Это — запах, который ты вдыхал полвека тому назад, проходя мимо бакалейных лавок, здесь, у рынка, на улицах, сходящихся к рынку, позади Лонхи. В этом запахе Восток. Восток трепещет в душе Валенсии. Говоря «Восток», я подразумеваю африканские земли, история и обитатели которых дороги каждому настоящему испанцу.
Теперь, у этой бакалейной лавочки с душистыми пряностями, ты уже не другой, ты — это ты. И пусть не без горечи и боли столкнулся ты с современной Валенсией, можно вздохнуть с облегчением. Валенсия и Восток. Валенсия, неизменная в своей сути, сколько бы веков ни прошло. Подтверждением тому — ваниль, гвоздика, шафран, перец — все пряности, хранимые в коробочках и источающие неистребимый аромат. Этот запах выдает приверженность валенсианцев кухне, обильно приправленной пряностями. Яства же напомнят вам и пейзаж, и характер, и все детали валенсианского быта.
Ну вот и нет больше причин для беспокойства. Ты нашел свою Валенсию. А кроме того, в Валенсии другой и ты, ты и другой, — вы оба нашли друг друга.
МАДРИД
УНАМУНО Перевод А. Садикова
На столе передо мной — фотография. На ней — Унамуно, сидит, положив ногу на ногу. И надпись: «X. Мартинесу Руису, с дружеским приветом, Мигель де Унамуно. Саламанка, 30.IV.97». Переписка с Унамуно началась давно — еще до моего переезда в Мадрид в 1895 году — и длилась очень долго. Многие письма Учителя я храню и по сей день. Часто это довольно пространные послания. А я, кстати, так и не научился писать длинно. В письмах дон Мигель был весьма откровенен. Вот одно из них, отправленное 17 ноября 1906 года из Саламанки, где он был ректором знаменитого университета. На листе с гербом университета едко-язвительные выпады в адрес нескольких известных писателей и ученых. И рядом приписка: «Друг мой Асорин, спрячьте это письмо, прошу вас, сохраните его в тайне. Не то чтобы я не доверял своим выношенным суждениям и своему чувству брезгливости — просто пока не время. Пишу вам, чтобы облегчить душу». Если не ошибаюсь, я так никому и не показал этого письма, хотя теперь, по прошествии стольких лет, его можно было бы опубликовать. Но, к счастью, со временем Унамуно изменил свое когда-то резко отрицательное мнение об этих людях.
Noctuas Athenas[80] — всякий раз, как я повторяю in mente[81] эту латинскую поговорку, сходную с нашей «Возить железо в Бискайю», я вспоминаю Унамуно. Он и лицом был похож на сову — нет, лучше сказать, на филина. Его глаза ясно видели в темноте. Так и хочется сказать: этот человек родился, чтобы возражать. Его резкий голос словно рассекал все тайны — так взгляд филина рассекает ночной мрак, добираясь до самой сути вещей.
В письмах Мигель де Унамуно обыкновенно знакомил меня со своими новыми — с пылу-жару — стихами. В письмо, отправленное из Бильбао 10 сентября 1909 года, например, он вложил стихотворение, которое позже я увидел опубликованным, причем в разных вариантах. Это стихотворение без названия и вполне в духе Унамуно, потому что заставляет думать и переживать. Не хватает музыкальности — у Унамуно-поэта ее и не было, — но есть биение философской мысли, надолго оставляющее в душе волнующий отзвук. Приведу первые строки. Эти стихи, говорит автор, «родились в комнате, что была свидетелем моих юных лет»:
В душу мне смотрят ночи, взгляд их тяжел и пуст. Гомона улиц клочья, шагов по камням хруст, странных речей длинноты, словно стенанья, ноты ветхого фортепьяно за кулисой тумана… Здесь навсегда затерян давних ночей клад, здесь, в полутемной спальне, где я томился и грезил, где терзался надеждой, ныне мечусь в сознанье невосполнимых утрат. У жизни назад не вырвешь ни единого вздоха… Себя самого не вырвешь, ты — навеки другой… Мне мнилось — я был собою порой далекой и краткой, но это было догадкой, и больше — ничего… Куда исчезло бесследно то странное существо? Дни и страсти былые, над кем мой разум не волен, кто схоронил вас в памяти, как в темени старых штолен? В черной тяжкой дремоте чего, притаившись, ждете?Мигель де Унамуно был выслан из своей страны во Францию, где прожил шесть лет, сначала в Париже, потом в Эндайе. Я каждый год проводил летние месяцы в Сан-Себастьяне, откуда часто наведывался в Эндайю, встречался с Унамуно, беседовал с ним. Он не скрывал, да и не сумел бы скрыть тоски по родине. Здесь, на границе, он поселился затем, чтобы быть поближе к Испании, ступать по земле Страны Басков, но теперь эта близость лишь сильнее мучила его. Когда стоишь на берегу Ондаррайса, кажется, протяни руку — и погладишь травку на другом — испанском — берегу! От мысли, что граница для него закрыта, Унамуно приходил в отчаяние. Как-то средь бела дня он вдруг потерял сознание, упал и сильно ударился. Думаю, что переживания и душевные потрясения стали причиной развившейся у него впоследствии долгой и тяжелой болезни.
Однажды я беседовал с Учителем на площади возле маленького кафе, где он обычно встречался с друзьями. Он рассказал о только что законченной пьесе, а потом вдруг пригласил меня к себе послушать один из актов. Я не любитель чтения вслух. Никак не могу забыть одного места из «Pensieri»[82], которое начинается словами: «Si avessi l’ingegno di Cervantes…»[83] И далее Леопарди говорит, что хотел бы создать книгу, подобную роману Сервантеса и тем заклеймить «жестокую и варварскую» пытку чтением вслух. Но тот вечер и чтение первого акта драмы «Брат Хуан» надолго запали мне в душу. Унамуно читал с жаром и душевным трепетом. Запомнился мне и дом, маленький и чистый. Хозяева, муж и жена, относились к своему необычному постояльцу внимательно и с большой теплотой. Итак, мы уселись в крошечной столовой. Унамуно попросил воды с лимоном, поставил стакан перед собой и начал читать. Справа было окно, лучи закатного солнца лились в комнату, светлыми пятнами ложились на стол. Я весь обратился в слух. В доме звучал лишь голос Унамуно.
ВАЛЬЕ-ИНКЛАН И ЮЖНАЯ АМЕРИКА Перевод А. Садикова
В 1910 году Рамон дель Валье-Инклан отправился в Аргентину. Там, в Буэнос-Айресе, он прочитал несколько лекций об испанской литературе и оттуда же прислал мне подробнейшее письмо на пяти листах, исписанных с обеих сторон. Это — весьма примечательный документ. Моего друга всегда заботило влияние Испании на западное полушарие. Письмо, казалось, дышало горячим желанием укрепить связи с «заморскими братьями» — народами американского континента. Этому, наряду с прочим, должны были способствовать поездки с культурной миссией в Северную и Южную Америку таких испанцев, которые могли бы завоевать уважение за океаном.
В это самое время в Аргентину отправилась инфанта Исабель, и с ней — славная когорта, шесть или семь видных деятелей испанской литературы. Не все эти люди — я передаю мнение Валье-Инклана — снискали уважение аргентинцев. Но самого Валье-Инклана встречали и провожали аплодисментами. Вот что он писал:
«И вот я здесь — читаю лекции. Сегодня четвертая, об испанском модернизме. Пришлось вести речь и о живописи, и о литературе, и я постарался хотя бы отчасти восстановить справедливость. Говорил о Вас, о Бенавенте и об Унамуно — трех испанских писателях, которых здесь действительно знают и ценят».
Пока дон Рамон пожинал восторги публики, другие посланцы Испании довольствовались холодной вежливостью, и только. Некоторые из них не скрывали возмущения. Валье-Инклан пишет:
«Мое появление вызвало кое у кого раздражение. Мой приезд не был оговорен заранее, и потому не сопровождался газетной шумихой, однако же оказалось, что здесь меня знают лучше, чем иных членов делегации. Мне рассказали, что в узком кругу некто бурно негодовал по случаю горячего приема, оказанного мне аргентинской интеллигенцией, ведь в Испании я — никто. Я расхохотался и после, встретив упомянутое лицо в театральном фойе, заметил: „Ну и страна нам с вами попалась! Тот, кто в Испании — никто, здесь, оказывается, кое-что значит, а о выдающихся деятелях испанской культуры в этой стране, оказывается, и не слыхали!“ Он осклабился, грызя сигару, которую пригасил из скаредности, но не думаю, что ему было очень уж весело».
А ведь Эухенио Селье́с (речь идет о нем) имел тогда прочную литературную репутацию. Мир искусства обширен, путей-дорог в нем не счесть, и каждый прокладывает свою. У Сельеса к тому времени под аплодисменты прошла премьера «Гордиева узла», а «Мстительницы» были освистаны. Кстати, на днях я перечитал эту пьесу и подивился — и простодушие драматурга, и возмущение критики вызывают теперь улыбку. Слог Сельеса ясен и чист, энергичен и изыскан. Когда-то говорили об особом, «лапидарном» стиле этого автора.
К потоку славословий, излившихся на Валье-Инклана в аргентинской столице, примешалась и ложка дегтя. О ней также упоминалось в письме. Не обошлось без личных выпадов. Причины враждебных высказываний были разные, в частности, и политические взгляды писателя. Сам он пишет: «Есть иные, помимо уже перечисленных, основания для этих нападок. В том числе мои убеждения…»
С Рамоном дель Валье-Инкланом я и сходился, и расходился. Когда ему отняли искалеченную руку, после операции я навещал его каждый день. Многим его книгам я воздал в своих статьях заслуженную хвалу. Но образ жизни мы с ним вели совершенно разный, да и наши эстетические программы были противоположны. Помню, как-то я встретил Валье-Инклана на Пуэрта-дель-Соль в компании друзей. В те времена мы скорее избегали друг друга. Один из той компании позже рассказал мне, что там, на площади, Валье-Инклан сказал приятелям: «Заметили, как я заворожил Асорина взглядом?» Сам я, признаюсь, в тот миг действия волшебных чар не ощутил. Но Валье-Инклан писатель заворожил меня давно и навсегда. Я и сейчас во власти чар этого человека, который столь щедро одарил испанскую литературу — и умер в бедности, поскольку предпочел остаться писателем… только писателем.
РУБЕН ДАРИО Перевод А. Садикова
Как-то я провел несколько дней в Овьедо, в гостях у Рамона Переса де Айялы. Помню комнату, где мы беседовали. Из окна был виден внутренний дворик, вдоль стен стояли стеллажи с книгами, и на одном из них — полное собрание сочинений Бальзака в томах небольшого формата. Бывали мы с Рамоном и в казино, где когда-то сиживал Кларин, набрасывая свои «Фельетоны». Поднимались на башню кафедрального собора, откуда единым взглядом можно было охватить все окрестности. На обед нам подавали полные тарелки астурийской фаба́ды — фасоли в пряном соусе. С нами делили трапезу Мелькиадес Альварес и находившийся в Овьедо проездом Рикардо Торрес. Бывали мы и у маркиза Валеро де Уррия, поклонника античности, блестяще знавшего классические языки, автора забавнейшей, полной своеобразного юмора книги о вымышленной им секте «паутиноплетов» — книга тогда готовилась к переизданию в расширенном варианте.
Однажды под вечер мы решили нанести дружеский визит Рубену Дарио, проводившему лето в городке Сан-Эстебан-де-Правия. Еще одна достойная упоминания страница моей жизни. К сожалению, сильно потускневшая от времени. Пока мы добрались до Сан-Эстебана, спустилась ночь. И мои воспоминания тоже словно бы тонут во мраке — пробивается лишь несколько светлых точек. Вижу открытую дверь, мы входим в таверну, собираемся ужинать, а потом — бескрайнее ночное небо в звездах, берег, мы шлепаем по мелководью, путаясь в водорослях, слушая тихий шепот прибоя. Наступишь на водоросль и смотришь, как фосфоресцирует след. Два в равной мере удивительных явления случилось мне видеть в жизни, и не думаю, что встретится третье, подобное им. Я говорю о том поразительном свечении примятых водорослей и об искрах в кошачьей шерстке. Как-то в деревне за Аликанте я гладил в кромешной тьме роскошного длинношерстого хозяйского кота и вдруг изумился — из-под моей руки сыпались искры. Такого света, как тот, я больше не видел: свечение водорослей во мраке и огоньки, вспыхивающие в кошачьей шерстке…
В доме Рубена Дарио (не помню, ни где стоял тот дом, ни как нам удалось его отыскать) мы застали поэта в тускло освещенной комнате первого этажа. Густые сумерки скрадывали очертания, и только на столе лежал круг света от лампы. Из памяти стерлись черты лица Дарио, давно стих звук его голоса, я уже не различаю людей, сидевших рядом с ним, помню только желтое пятно книги на столе — недавний том приложения к «Меркюр де Франс». Нетронутая желтизна еще не разрезанных страниц новой книги — единственное яркое воспоминание, оставшееся у меня от той ночи.
Река жизни уже несла Рубена Дарио к фатальному исходу. Так дерево, рухнувшее в реку, воды ее неумолимо и неизбежно уносят в океан. Поэт — песчинка, затерянная в вечности. И ей не остановиться — неодолимая сила, не зная покоя, влечет куда-то. Каждому свой удел, но судьбой Дарио правил Рок. Чему быть, то не миновало. Человек тончайшей нервной организации, Рубен Дарио вбирал в себя пестрое и противоречивое многообразие бытия — «все небо, землю, море» и безошибочным слухом угадывал в разноголосице мира роковую ноту. Мощный поток медленно, но неотвратимо увлекал поэта к безбрежному океану ночи, откуда нет возврата.
Взгляд Дарио на жизнь исполнен печали, но потому и снисходителен ко всем и вся. Цельная поэтическая натура, он в то же время не замкнут в собственном представлении о прекрасном, но стремится понять других поэтов, даже тех, чей стих режет ему ухо. Как-то я опубликовал статью, в которой довольно сурово судил о творчестве Кампоамора и Нуньеса де Арсе. Поводом к тому послужило чье-то предложение воздвигнуть памятники упомянутым историческим личностям. Вскоре я получил письмо с Балеарских островов, где жил тогда Рубен Дарио. Поэт писал: «Читал вашу статью о Кампоаморе и Нуньесе де Арсе. Время рассудит вас, да уже и сейчас оно отвело этим людям предназначенные им места. А что до памятника, то памятник художнику, что бы там ни было, всегда предпочтительнее воздвигнутых без числа статуй и бюстов воинов, осененных преходящей славой». И ниже — дружеское прощание: «С восхищением и любовью говорю вам: до встречи, Асорин!»
Мы больше не встретились. Я выделил в отрывке из письма слова «что бы там ни было», поскольку в них — вся доброта Рубена Дарио, снисходительного и чуткого Рубена Дарио последних лет его жизни.
КЛАДБИЩА Перевод Е. Лысенко
В Мадриде кладбища находятся за городом, а в Париже они в черте города. У нас в Мадриде мертвые почиют далеко от нас, от глаз подальше. В Париже мертвые не мертвы, они — в отсутствии. В отсутствии на неопределенный срок. Из загородных домов вокруг кладбища их жители и гости жителей видят этих временно отсутствующих. В Испании устраивают как бы стеллажи для мертвых, ряды ниш, один над другим. В Париже я таких не видел. Хотя нет, в Париже, на кладбище Пер-Лашез, возле крематория есть стены с крошечными квадратными ячейками, где хранится пепел сожженных.
Писатель Андре Жид сказал: «Когда я приезжаю в какое-нибудь селение, я первым делом отправляюсь посмотреть кладбища, рынки и суды». Я в Париже провел много времени в торговой галерее, Galerie Marchande, Дворца Правосудия. Трудно сыскать что-либо более поучительное и занятное. И каждое утро я в Париже ходил за покупками на маленький рынок Терн. В Мадриде есть кладбища открытые и кладбища уже не действующие. Некоторые уничтожены — например, кладбище Сан-Николас, которое мы, кучка писателей, когда-то посещали. Там были похоронены Ларра и Эспронседа. Перед нишей Ларры, находившейся возле ниши Эспронседы, в самом нижнем ряду, мы устроили однажды поминальную церемонию в память того, чей дух был нам так сродни. Когда многие годы спустя останки Эспронседы эксгумировали, чтобы перенести их на другое кладбище, я при этом присутствовал. Останки эти представляли собою кучу костей, праха и тряпья. Сохранился, однако, в целости жилет поэта из тонкого шелка табачного цвета с перламутровыми пуговицами. Я отрезал лоскуток с пуговицей и храню его в шкатулке для моих реликвий.
В старых нишах, рядом с увядшими, сухими цветами, обычно бывает выцветшая от времени фотография. Исчезла память о родных, отсутствующих или тоже умерших, — исчезает и блекнет черная краска на снимках, исчезают аромат и яркие краски цветов. Вверху, безоблачными ночами, сияют звезды, которые кажутся вечными, но звездам тоже приходит конец.
Бывало, вечерами, после встреч в кафе, мы ходили на одно из этих заброшенных кладбищ за воротами Фуэнкарраль. Проникали туда, перескочив через маленькую калитку. Бродили в ночной тишине меж старых могил. Нас властно притягивала тайна. Смутная меланхолия, владевшая нашим поколением, гармонировала с исходившим от могил унынием. Мы остро чувствовали злополучие Испании, потерпевшей поражение и унижение там, за морями, и клялись пробудить ее к новой жизни. Из созерцания смерти мы черпали силы для будущей жизни. Все у нас логически увязывалось: искусство, смерть, жизнь и любовь к отчему краю.
Не знаю, кому из нас пришла в голову странная мысль: разыграть там сцену кладбища из «Гамлета». В первую же лунную ночь, в ночь полнолуния, мы решили прийти туда, выучив каждый свою роль. А кто будет Гамлетом? Может, один из двух братьев Фукса, светловолосых, стройных юношей аристократической внешности, всегда в цилиндрах с ровными полями? Они были постоянными участниками нашей компании. И кто лучше сумеет изобразить Гамлета на заброшенном погосте, в два часа ночи, чем один из этих двоих юношей, родившихся в том же городе — в Ганди́и, — где когда-то родился маркиз де Ломбай, испытавший перед трупом некоей императрицы страшнейшее, истинно гамлетовское потрясение.
ПЕЙЗАЖ Перевод Е. Лысенко
Нас привлекал пейзаж. Прозаики и поэты, которые описывали пейзаж, существовали всегда. Литературный пейзаж — не изобретение нашего времени. Однако новшеством является пейзаж ради пейзажа, пейзаж как таковой в качестве единственного протагониста романа, рассказа или стихотворения. Если бы какому-нибудь классику сказали, что пейзаж может стать литературным произведением, он бы не понял. Матео Алеману, Саласу Барбадильо, Висенте Эспинелю и даже Сервантесу такой роман, как «Путь к совершенству» Пио Барохи, показался бы нелепым, безумным. «Путь к совершенству» Барохи — это собрание пейзажей, притом великолепное. А для старых писателей главным был человек, а не Природа, человек, а не земля, человек, а не цвет и линия. Ныне же, напротив, когда речь идет о живописи, мы считаем, что кающаяся Магдалина на имеющемся в Прадо чудесном пейзаже Клода Лоррена (долина на рассвете) — лишняя. Известно также, что французские импрессионисты ставили себе правилом писать пейзажи без человеческих фигур.
Я был частым посетителем зала, посвященного Хаэсу в Современном музее. Зал этот напрасно ликвидировали. Я там размышлял о пейзаже в живописи и набирался сил, чтобы упорно продолжать — продолжать и совершенствовать — описание пейзажа. Писатели моего кружка в те времена не ценили Карлоса Хаэса. Не будет преувеличением сказать, что мы его не знали или же знали поверхностно. Нашим любимым пейзажистом был Дарио де Регойос. От Регойоса до Барохи, от пейзажа в живописи до пейзажа в литературе всего один шаг. Однако у Хаэса были те же упорство и настойчивость, что и у нас, — он был нашим братом, пусть мы этого не хотели, — тогда как у Регойоса были наш колорит и наша точность.
Столь часто упоминаемый здесь кружок писателей принес в литературу пейзаж как некую систему. Кастильский и баскский пейзаж описал Бароха. Кастилию описывали и другие. Созерцая пейзаж, мы замирали в восторге, и наши заветные тетрадочки, всегдашний писательский атрибут, заполнялись заметками. В этом новшестве и состоит тайна нововведения, совершенного этими писателями. Автор «Послания к Фабио» говорит:
Как тихо ветер веет на вершине горы высокой и вздыхает кротко! И как гудит средь тростника в долине!В трех строках два пейзажа — гора и долина. Пейзаж с крутой горой и с долиной, где на берегах речушки растет тростник. Но и подобный пейзаж — и в этом различие между стариной и современностью — какой-либо писатель с тетрадочкой изобразил бы не так. Разве ветерок веет над горою тихо? Кто это сказал поэту? Тут бывает по-разному. Если гора голая, тогда веет тихо. Для тишины этой требуется, чтобы гора была совершенно голая. В можжевельнике, каменном дубе, мастиковом дереве ветер производит очень даже ощутимый шум. А если там есть лес и его обитатели, неужто среди буковых, дубовых, сосновых рощ не слышны пенье, блеянье, рычанье? В горах Аликанте, этих дорогих мне горах, когда в часы жгучего летнего солнца я укрывался в сосновой роще, то при каждом дуновении слабого ветра слышал в кронах деревьев глухой шум, вроде шума набегающих и откатывающихся волн. И также разве верно, что ветер гудит среди тростника? Тонкие, длинные зеленые верхушки тростника трепещут при малейшем ветерке и шелестят. Шелест этот еле слышен. Его нельзя противопоставлять мнимой тишине горы. Но в той же лирической поэзии мы находим опровержение тому, что писал автор «Морального послания». Автор, коего Нарсисо Кампильо, даже после того как авторство Риохи отвергли, с благородным упорством считал Риохой. Возьмем несколько примеров. Фрай Луис де Леон, говоря о саде, который он посадил своими руками, «горы на склоне», замечает, что ветер качает деревья, нежно шумя. Хосе Иглесиас де ла Каса начинает октаву своих анакреонтических стихов так:
Под деревом стройным с роскошной листвою, где ветры шумят и бушуют порою.А вот стихи Хосе Эспронседы в его «Стихотворениях» (Мадрид, 1840) под названием «Ночью»:
Лесную чащу оглашает журчаньем жалобным ручей. Ему унылым вторит эхом, стеная, ветер средь ветвей.Энрике де Меса в своей прелестной книжечке «Тишина в картезианском монастыре» (Мадрид, года нет, но это год 1916-й) в стихотворении с названием «Звук колоколов» пишет:
Душист и гулок сосновый бор. Стволы не ранит злодей топор.Писатели поколения 98 года любили Кастилию, ее старинные города и сельские местности. Страсть описания пейзажей перешла из Кастилии в Левант, в Андалусию и Край Басков. Впервые Испания увидела себя в истинном своем облике. Разрешите же одному из писателей этой группы, исчеркав лихорадочно быстрым карандашом свою тетрадочку, присесть на обочине извилистой тропы, одной из так называемых «старых» дорог, и сорвать желтый, голубой или алый цветочек, украшение здешних мест.
РЫНКИ Перевод Е. Лысенко
Сходим на рынок. Перо на бумаге начало дрожать. Требуется отдых. Мы работаем с рассвета. Мысли куда-то улетучились, зато в недрах сознания, видимо, пробилось желание того, в чем мы нуждаемся. Рынок доставляет взору приятную пищу. Здесь нас ждет гармония ярких красок. Мы сразу оказываемся в густой толпе, наш слух оглушают выкрики торговцев. Со всех сторон нас горячо подзывают, и мы улыбаемся. В Париже я каждый день ходил за покупками на маленький рынок Терн. Здесь я ничего не покупаю. В Париже иногда, удовольствия ради, я ходил на рынок на улице Сент-Антуан, самый типичный для этого огромного города. Бывают рынки крытые, в зданиях, построенных ex professo[84], а есть и такие, которые расположились, раскинулись вдоль улиц всевозможными лотками, ларьками, навесами. Именно такие рынки, привольные, под открытым небом, нам по душе.
Будем идти не спеша. Осмотрим все спокойно и по порядку. Во-первых, пряности, то есть шафран, перец, гвоздику, чебрец, едкий тмин, чеснок. Без пряностей ничего не сготовишь. Пусть у нас будут и нежная телятина и свежая зелень. Без пряностей они никуда не годятся. Писатель пишет прозу, проза у него правильная, чистая, но она ничего не стоит без приправы остроумия, без счастливой интуиции, без иронии, презрения или сарказма. Наряду со специями для писательской кухни требуются еще кое-какие орудия. На рынках тоже есть ларьки с таким товаром. Мы здесь увидим треножники, шумовки, бутыли для оливкового масла, сита, мехи. В Мадриде действуют две фабрики ветров, я хочу сказать, мехов: одна на улице Кучильерос, другая на Кава-Баха. И это говорит о том, что, к счастью, еще есть немало кухонь, где готовят на углях или на дровах, а не на газе или электричестве. Лакомки знают: самая вкусная еда та, которая готовилась в глиняном сосуде на медленно горящих дровах. И с позволения этих господ, я разумею господ гурманов, некий валенсиец, пишущий эти строки, еще добавил бы, что нет ничего вкуснее риса, сваренного таким образом — дрова, медленный огонь, — который ешь деревянной ложкой.
Перцы и помидоры дают нам красный цвет. Редиска — кармин. Капуста — белый цвет. Красная капуста и баклажаны — фиолетовый. Тыква — желтый. Испанские овощи восхитительны. Идем дальше между лотков с овощами, пробираясь через толпу. Да, мы позабыли о полезнейшем шпинате, и очень сожалеем. Нет лучшей пищи для людей, ведущих сидячий образ жизни. Ведь мы, писатели, большую часть дня проводим сидя, с книгой или с пером в руке.
А выкрики и остроты продавцов? Французский рынок — это сборище молчаливых монахов-картезианцев. Никто не шумит. Шумные возгласы испанского рынка приводят нас в смятение. Покупателя зазывают с величайшей страстью. Оглушают преувеличенными похвалами своему товару: перцам, помидорам или капусте. Громогласно отстаивают свою цену, когда покупатель пробует поторговаться. Вся улица галдит, кричит. И в этом людском водовороте, среди несмолкающего шума, мы невольно перестаем думать о том, о чем думали. Мы сбежали из тюрьмы — из своего рабочего кабинета, — но зато теперь оказались как бы на цепи. Мы хотели отдохнуть, а продолжаем мысленно кружить вокруг своей темы. И в общем-то, сами того не желая, мы достигли своей цели. Когда мы не работаем, тогда-то мы и работаем. После посещения рынка, после этого часа, когда мы отвлеклись от своей персоны, наслаждаясь яркими красками, к нам возвращаются силы. И теперь наше перо на листке бумаги уже не дрожит и не колеблется.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО Перевод Е. Лысенко
Наш кружок не мог оставаться бездеятельным, видя прискорбную действительность испанской жизни. Надо было активно вмешиваться. В воздухе носилась идея возрождения Испании. Это течение, вдохновляемое мыслями об обновлении, возникло не вследствие катастрофы с колониями. Она лишь оживила его. Благородное это стремление родилось давно. Ховельянос, например, был одним из его предшественников. Доктринеров и теоретиков у нас было хоть отбавляй. Одни писали хладнокровно, другие, вроде Хоакина Косты, впадали в экзальтацию и упивались выспренними речами. Тут можно было бы назвать книги самого Косты, Масиаса Пикавеа, Дамиана Исерна, Лукаса Мальяды. Книга последнего, кстати выдающегося геолога, полна глубокого пессимизма. Однако пессимизм — это источник энергии и упорного труда. Мы видим уродливую, мрачную действительность, и в этот тяжкий час для того, что нами любимо, мы жаждем спасти все дорогое нашему сердцу и обеспечить ему спокойную, счастливую жизнь. Будь мы оптимистами, мы перестали бы ездить по свету. Раз все обстоит хорошо, зачем искать, зачем трудиться, чтобы что-то улучшить. «Лучшее — враг хорошего», — гласит поговорка. Обвиняя нашу группу в пессимизме — в бесплодном пессимизме, — совершают умышленный или неумышленный подлог. Пессимистическое отношение к настоящему переносят на будущее с такой же легкостью и ловкостью, с какими орудует фокусник. А дело обстоит вовсе не так: мы с грустью смотрим на настоящее, но преисполнены надежды, твердой надежды на будущее.
«Трое» — это были Рамиро де Маэсту, Пио Бароха и я. Нас так и звали: «Трое». Так мы фигурировали в статьях периодики, так представлялись, когда у нас брали интервью. Мы трое были ядром литературной группы, собиравшейся положить начало общественной акции. Первоначальная группировка распалась, тогда другую группу возглавили Рамон дель Валье-Инклан и Хасинто Бенавенте.
Что же мы собирались делать? Какова была наша программа? Мы опубликовали манифест. Я его уж не помню. Наверно, мы в нем восхваляли и пропагандировали улучшение водной сети и аграрные реформы. Книга Мальяды, хотя и написанная признанным авторитетом в делах землеустройства, казалась нам чрезвычайно пессимистической. Нет, земля Испании способна на большее. Она не обречена по своей геологии и климату быть в преобладающей своей части неплодородной in aeternum[85]. Нам предложил помощь Мигель де Унамуно. В том опубликованном манифесте должна была фигурировать такая фраза: «Долг интеллектуальной молодежи невзирая ни на что посвятить свою энергию тому, чтобы дать начало плодотворной общественной акции с практическими результатами». В адресованном мне письме, помеченном 14 марта 1897 года, Унамуно привел выделенные курсивом слова; однако вместо «невзирая ни на что» он написал «невзирая ни на какие разногласия». Свое исправление он мотивировал так: «Напечатанное в листке „невзирая ни на что“ — не годится: это невозможно, ибо как бы призывает не взирать и на саму предпринимаемую акцию». Дальше он, правда с оговорками, обещал нам свое содействие. Привожу его слова:
«Хотя конкретная форма, которую вы намерены придать этой общественной акции, ни в коей мере не кажется мне неудачной, я смогу вам помогать лишь косвенно, ибо не разбираюсь ни в теории кочующего земледелия, ни в союзах земледельцев, не слишком интересуюсь восстановлением лесов, кооперативами сельских тружеников, кредитными кассами для земледельцев (здесь они есть) и болотами и думаю, что не это есть самое необходимое для изменения образа мыслей нашего города, а с ним — его экономического и нравственного уровня».
И далее:
«Правильно говорят, что у каждого дурня свой конек, — мой конек вам известен. Я почти ничего не жду от „японизации“ Испании и с каждым днем все более утверждаюсь в своем мнении. Испанскому народу необходимо обрести уверенность в себе, научиться думать и чувствовать самостоятельно, не передоверяя это другим, и главное — иметь собственное суждение и собственный идеал в отношении жизни и своих возможностей».
Да, это было и есть самое главное: было и есть необходимо, чтобы Испания обрела веру в себя.
ВОЗДУХ МАДРИДА Перевод А. Садикова
Каким был бы Сервантес, родись он в Сантьяго-де-Компостела? Каким бы был тогда его «Дон Кихот»? Какой была бы «Ясная ночь» Луиса де Леона, принадлежавшего Ламанче по рождению и Саламанке по убеждению, если бы он родился в Севилье? Площадь Пуэрта-дель-Соль находится на высоте 654 метров над уровнем Средиземного моря. Я, родившийся на берегу этого моря, не могу удержаться и всякий раз гляжу на удостоверяющую это бронзовую табличку на стене бывшего здания министерства внутренних дел. Воздух Мадрида — упругий, словно живой. Вода Мадрида чиста и нежна. За три года изгнания я так и не привык к парижской воде, тяжелой и маслянистой. Страстный водолюб, я готов был обойти весь Париж в поисках бутылок со словом «Виттель» на этикетке. Я — дегустатор вод, как бывают дегустаторы вин. И подобно тому, как они медленно смакуют светлое ароматное вино, так и я способен потихоньку наслаждаться легкой и кристально чистой водой. Солнечный свет в Мадриде ярок, ослепителен; контрасты света и тени кричаще резки. Мадрид не место для меланхолии и романтических страстей.
В Мадриде сплотилось поколение 98 года. Детерминизм — дитя не нашего времени. Он ведет свою родословную, по меньшей мере, от Гиппократа. В духе этой теории (я не касаюсь сейчас идеи промысла божьего) высказывались и Грасиан, и Сааведра Фахардо. Еще более законченное воплощение эта система нашла у Масдеу, в первом томе его «Критической истории Испании» (Мадрид, 1783 г.). «Под климатом я понимаю, — пишет он, — не только воздух (хотя это — главное), но и воду, и землю, и пищу». Климат (в широком толковании Масдеу) оказывает несомненное воздействие на человека. Именно он внушает нам ту или иную склонность. Однако не будем преувеличивать. В прологе к «Собранию пьес для театра» (1785) Гарсиа де ла Уэрта связывает особенности французской литературы с особенностями почвы и климата страны. Слабость подобных детерминистских объяснений литературы видна невооруженным глазом. Из тех же географических сведений можно вывести совсем другие следствия, но, кроме того, нельзя забывать и о том огромном влиянии, которое одни авторы оказывают на других. Но все же, в какой степени Мадрид повлиял на эстетику и характер писателей нашего поколения? Нельзя не заметить присущей всему поколению игры резкими контрастами, пристрастия к четким контурам. Это следствие яркого света, заливающего кастильское нагорье, его четких линий. С бульвара Росалеса видны, как на ладони, неровные, извилистые берега Гвадаррамы, где гранитные скалы летом сверкают голубизной, а зимой покрыты непорочно белым свежевыпавшим снегом. Кристальная прозрачность мадридского неба рождает в душе неиссякающую жажду чистоты. Оттого прозрачна и четка манера письма у нашего поколения. Кастелар рассуждает в одном из писем дону Адольфо Кальсадо о «ярком свете мадридского дня, придающем небу ни с чем не сравнимую чистоту, какой не увидишь ни в Венеции, ни в Риме». И в другом письме: «А о Мадриде что и говорить… боже мой, какой свет! Из окна кабинета, где я сижу и пишу, видны бескрайние небесные просторы без единого облачка, океаны света, сияющего света, гигантские пирамиды, меняющие цвет — от синего в основании до снежно-белого в высях, сверкающих словно венецианский хрусталь».
Было бы опрометчиво пускаться в рассуждения о причинах и следствиях. И все же — будем учитывать воздействие воздуха, света, тепла, воды. Об этом пишет в своей книге «Du climat de l’Espagne» (Париж, 1863 г.) доктор Эдуард Казенав, известный климатолог, член-корреспондент Мадридской академии медицинских наук, побывавший в нашей стране. Для Мадрида, напоминает ученый, характерны резкие колебания температуры. Столбик термометра находится в непрерывном движении. И следствием того является «особое невропатическое состояние, раздражительность, частая смена настроений, беспокойство и нервозность, тягостные и для испытывающего эти состояния человека, и для тех, кто рядом».
Также и доктор Хаузер в большой книге, не совсем ловко названной «Мадрид с медико-социальной точки» (Мадрид, 1902 г.), указывает: «Климат Мадрида, расположенного на возвышенности, несомненно, оказывает тонизирующее действие на организм, особенно на людей лимфатической конституции, которым нужен воздух сухой и легкий; однако на людей с особо чувствительной нервной системой тот же климат оказывает возбуждающее и вредное воздействие».
Житель Мадрида, наделенный живым и тонким умом, склонен к анализу и иронии. Он не легковерен, провести его трудно. Аналитический ум с неизбежностью увлекает его в ряды оппозиции. В Мадриде дух оппозиции, кажется, носится в воздухе. Когда дон Антонио Маура в бытность свою председателем Государственного совета выходил из зала заседаний в коридоры Конгресса немного передохнуть от утомительных дискуссий, он по обыкновению брал под руку кого-либо из друзей и говорил ему улыбаясь, с намеком на царившую в Мадриде атмосферу: «Давайте-ка пройдемся и поругаем правительство!»
Тот самый дух, о котором я только что говорил, отличал и писателей нашего круга. И болезненное беспокойство, о котором пишет француз-климатолог, было им тоже присуще. Однако разве только мы из всего нашего общества были такие? И разве мы всего-навсего перенесли эти качества в искусство, не более того? Когда возникает и развивается новая эстетика, важны все факторы — не только климатические, но и исторические и социальные.
ЦВЕТ Перевод А. Садикова
Писатели 1898 года любят цвет. Мир живописи — их мир. Брат Барохи — художник. К нашей группе принадлежит и Пабло Руис Пикассо — несколько прекрасных портретов пером, созданных им в традиционной манере, увидели свет в нашем журнале «Арте ховен». Со многими другими художниками нас связывают узы сердечной дружбы. Мы заново открыли для испанской публики Эль Греко: наши материалы о нем заняли целый номер газеты «Эль Меркурио» (единственный ее номер, вышедший в свет).
Иначе и быть не могло: писатели, стремившиеся точно передать действительность, не могли не подчеркнуть самую выразительную сторону вещей — цвет.
В знойный полдень под козырьком крыши ветхого дома лежит узкая полоска тени. На внутренней площади дворца в светлые часы дня резкая черта отделяет затененное пространство от залитого солнцем. Но где, на севере или в Леванте? Наверное, в Леванте — там ярче свет, и оттого гуще тени. Но многие ли разглядят голубые отсветы тени под козырьком или на площади? Нет, лишь тот, в ком развит дар художника, умение вдохновляться прекрасным — только тот способен заметить множество тончайших оттенков света и тени.
Цвет — источник впечатлений для прозаика и поэта. Так было всегда, и тому есть замечательные примеры. Для Лопе де Веги щечки красивой девушки — «как розы алой лепестки, в нежнейших сливок чашу упавшие». Кармин и белизна. Но лишь в наш век цвет сам по себе стал эстетической ценностью. Лишь в наше время стали говорить о колорите повествования. Такая странная похвала не пришла бы в голову критику XVII века.
Ну, а каков же колорит современной прозы? Какими средствами передают цвет вещей и событий писатели 1898 года? Даже говоря о живописи, до сих пор не установили, что такое колорит и как его обнаружить. У Сулоаги он есть? А у Сорольи? И если да, то был ли этот колорит у реального пейзажа или предмета, запечатленного художником? Решение знал еще Дидро, сказавший: восприятие цвета зависит от субъекта. Художник и писатель могут найти определенную окраску там, где ее не было, могут подчеркнуть ее или приглушить. Субъективность восприятия порождает противоречивые и взаимоисключающие оценки. Отсюда и споры между критиками.
Теоретические рассуждения Дидро на эту тему заслуживают, чтобы их процитировали in extenso[86]. Мы приводим их по первому изданию его книги «Essais sur la peinture»[87] (Париж, 1795 г., стр. 17 и 18):
«Но почему столь немногие художники умеют изображать предмет, который доступен пониманию всех? Откуда это обилие колористических манер, тогда как цвет в природе один? Причина этого в свойствах самого органа зрения. Нежный и слабый глаз не любит живых и ярких красок — и живописец отказывается запечатлеть на полотне то, что в природе ранит его восприятие. Он не любит ни огненно-красного, ни ослепительно белого. Подобно обоям, которыми он покроет стены своей комнаты, его полотна будут окрашены слабыми, нежными и мягкими тонами, он будет стремиться гармонией восполнить недостаток силы. Но почему бы и характеру, даже мимолетному настроению человека не влиять на колорит? Если мысли художника грустны, сумрачны и темны, если в его меланхолическом воображении и в мрачной мастерской неизменно царит ночь, если изгоняет он день из своего жилища, если ищет он одиночества и мрака, разве не вправе мы ожидать от него сцены, быть может, и сильной, но темной, тусклой и сумрачной? Если художник страдает разлитием желчи и видит все в желтом свете, как ему удержаться и не набросить на свою картину то желтое покрывало, какое набрасывает его больной орган на все видимое, пусть даже он огорчится, сравнивая зеленое дерево, явившееся ему в воображении, с деревом желтым, — тем, что видят его глаза?»[88]
Поколение 98 года увидело цвет там, где его не видели ранее. Как и резкий испанский контраст света и тени. Да, есть свой цвет у Эль Греко и свой — у Риберы. Я еще напишу несколько страниц, которые озаглавлю: «Одежда на веревке в Толедо». Когда в музее Прадо переходишь от Риберы в один из тех двух залов, что сейчас занимает Эль Греко, то впечатление — тем более сильное при моей близорукости — таково, будто перед глазами замелькало пестроцветье развешанных сушиться одежд. Вот она, живопись Эль Греко: яркие шелковые платья, верхние и нижние юбки, простыни и покрывала, вывешенные рядами на дворах и галереях, на балконах и пустырях. Ткань, трепещущая на ветру, залитая солнечным светом или оттененная свинцово-серым небом. Все переливы красного, белого, голубого, желтого, зеленого, водоворот цветов… Зато у Риберы есть свет и тень. Майянс пишет о Рибере в своем «Искусстве живописи» (1774 г.): «Он подбирал сюжеты, позволявшие ему сосредоточить все внимание на рельефности фигуры, как бы выступавшей из ночного мрака». В моих бумагах хранятся заметки 1898 года о беседах с Лоренсо Касановой. Касанова — художник из Аликанте, учившийся в Италии, а позже возглавивший одну не слишком известную школу живописи. Вот что он рассказывал: «Рибера ставил натурщиков в полутемной комнате так, чтобы на них падала лишь струйка света. Сам он садился в соседнем помещении и писал, поглядывая на модель в щелку». Все приведенные выше цитаты вполне применимы к той литературе, которую создавало славное поколение 98-го.
ЛУНА В ТОЛЕДО Перевод А. Садикова
Как-то в декабре 1900 года мы поехали на два-три дня в Толедо, где остановились на постоялом дворе — старом и не без претензий. Я говорю «не без претензий» потому, что ныне редко где увидишь на постоялом дворе большой круглый стол, непременную принадлежность старинных придорожных трактиров, — так вот, здесь круглый стол был. Покрытый, сами понимаете, клеенкой.
За этот-то стол и сели мы обедать в компании возчиков, барышников и землепашцев.
— А вы, часом, не из Мадрида, дружище? — спросил меня сидевший рядом человек.
— А вы, наверное, будете из Ильескаса, Сонсеки или Эскалоны?
— Из Сонсеки, сеньор, к вашим услугам.
Из «дружища» я вдруг стал «сеньором». «Дружище» было проще и сердечней. Так называют в Кастилии любого встречного. Дружище, друг, товарищ… На проселочных дорогах Ламанчи едет тебе навстречу какой-нибудь крестьянин, завернувшись, если дело зимой, в свой бурый шерстяной плащ, и обязательно приветствует тебя: «Бог в помощь, товарищ!» Все собравшиеся в толедской гостинице — крестьяне, торговцы, рассыльные и мы вместе с ними — были товарищами. Чистоте языка этих людей, пришедших сюда с полей и деревенских улочек, чистоте их испанского языка мог бы позавидовать любой пурист… если только у пуристов и в самом деле есть чувство родного языка.
Улочки и улочки… После долгой ходьбы — передышки на маленьких пустынных площадях. Вот, показалось, скрипнули жалюзи монастырского окошка. За ними, быть может, пара глаз, провожающих нас взглядом среди этого безлюдья. Еще немного — и мы в Больнице Святого Креста, одном из красивейших мест Толедо, у надгробия кардинала Таверы. Это изваяние — прекраснейшее из творений Берругете. В литературе нет образа, равного ему по скорби и трагизму. Весь ужас смерти запечатлен в остром профиле кардинала, чья лежащая мраморная фигура венчает надгробие. Небытие — безысходное и непререкаемое nihil[89] — предстает перед нами в очертаниях этого костистого носа, такого, каким он становится у покойника через два дня после смерти. В «Хронике деяний кардинала Таверы» (изданной в Толедо в 1603 г.) Педро Саласар-и-Мендоса сообщает, что кардинал не позволял художникам изображать себя — все дошедшие до нас портреты были созданы уже после смерти Таверы или самим Берругете, или по его поручению. Судя по портретам, лицо у кардинала было несколько удлиненное, глаза зеленые, раскосые, руки — белые, с узкими длинными пальцами.
Подобно речному илу, оседала в глубине души поколения 98 года неизъяснимая тоска. Наперекор царящей вокруг беззаботности писатели этого поколения печальны. В нас жила печаль Эль Греко и Ларры, наших кумиров. Но почему сделали мы кумирами именно их? И о чем тосковали? Печаль, а не радость, рождает великое в искусстве. И не думайте, что, как теперь говорят, причиной нашего отчаянья был крах Испании, потеря колоний. Да, военное поражение нас очень опечалило. И все же причина была не политического, а психологического свойства. Она — в накопившейся за годы Реставрации душевной усталости, в необходимости остановиться, заглянуть в самих себя. На наших глазах кончалась целая эпоха, и конец должен был стать — развитие событий подтвердило это предчувствие — трагическим.
Как-то вечером, блуждая по городу, мы остановились на пустынной площади. Серебристый лунный свет заливал округу. Вдруг мы увидели мальчика с маленьким белым гробиком на плече — он подошел к дому, поднялся по ступеням к двери, постучал, подождал, пока откроют, и спросил:
— Заказывали гроб для ребенка?
Нет, не заказывали. Было ясно — гробовщик неправильно записал адрес. Мальчик с гробом на плече двинулся дальше и постучал в другую дверь:
— Здесь заказывали гроб для ребенка?
Нет, и не здесь. Происходящее у нас на глазах наполнялось трагической символикой, реальность становилась фантасмагорией, как в северных балладах, и мы ощутили себя не на улицах Толедо, а в какой-то иной, полной зловещего лунного света фантастической реальности. Вторым «тук-тук» в дверь дело также не кончилось. И Смерть постучалась в следующую дверь. Уже не мальчик с гробом на плече, но сама Смерть.
— Здесь заказывали гроб для ребенка?
В Больнице Святого Креста острый нос Таверы торчал из холодного мрамора. В церкви святого Фомы двадцать или тридцать благородных дворян склонили головы при отпевании графа де Оргаса. В склепе другой церкви — святого Иосифа — бродили мы на следующее утро среди останков героев Отечественной войны. Днем, когда мы стояли у дворца упомянутого графа, чей образ запечатлел Эль Греко, я отошел в сторону и в одном из подвальных окон соседнего дома-развалюхи, среди черепков и прочего хлама, увидел старинную книжку. До сих пор я храню ее. Многих страниц недостает в ней, книжка начинается сразу с двадцать третьей и вот какими словами: «Лучше б тебе остеречься греха, нежели бегать смерти. Когда ты сегодня к ней не приуготован, то будешь ли завтра? И кто знает, суждено ль тебе проснуться?»
ЕВРОПА Перевод А. Садикова
Как писатели, мы много размышляли о контактах с внешним миром. Для литературы жизнь робинзона — будь она и возможна — имела бы печальный исход. Каждая литература, жаждущая самоутверждения или обновления, нуждается в том, чтобы ее оплодотворили извне. Взаимообмен между Испанией и внешним миром никогда не прекращался. Порой на нас влияла Франция, а мы, в свою очередь, влияли на нее, порой — Италия, Англия, а то и Германия. Незримому перетеканию одной литературы в другую нельзя поставить преграды. А словесность, в свою очередь, воздействует на общество. Литература широкого, открытого, человеческого взгляда на вещи должна проливаться благодатным дождем на умы сограждан. И некий иноземный ореол только оттеняет исконный дар художника. Гарсиласо, наш замечательный поэт, испытал на себе иностранное влияние. А вот Кристобаль де Кастильехо, поэт малозаметный, был непроницаем для внешних воздействий. Разумеется, и Гарсиласо велик не потому, что подвергался иностранному влиянию, и Кастильехо незаметен не оттого, что замкнут в национальной традиции. Главное — различие дарований. Если бы Кастильехо, укрывшийся ото всех поветрий, не приемлющий ничего чужеземного, превосходил талантом великого толедца, то имя его сияло бы ярче в нашей литературе.
Испания нуждалась в тесном общении с Европой. А Европу для нас представлял в ту пору Фридрих Ницше. Из рук в руки переходила книга Хенрика Лихтенбергера «La philosophie de Nietzsche»[90], вышедшая в свет в 1898 году, том самом, которому наше поколение обязано своим именем. А в 1902 году я поместил в мадридской газете «Эль Глобо» две статьи под общим названием «Испанский Ницше», где проводил ряд параллелей между Ницше и Грасианом. Прошло время, и за границей занялись основательным изучением этих аналогий. Упоминание Ницше вызывает у меня в памяти имя и другого европейца — Вагнера, чью музыку я слышал давным-давно, еще когда жил в Валенсии. Там эту музыку с восторгом принимали все — и знатоки, и непосвященные. Да и в Мадриде исход борьбы вокруг Вагнера был предрешен. Основными ее вехами стали премьеры «Тангейзера» в 1890 году и «Мейстерзингеров» в 1894-м, а главными действующими лицами — Артета, Аррин, Боррель, Пенья-и-Гоньи. Испании нужно было укрепить связи и с Америкой. Развитие контактов с Европой могло и далее обогащать нашу литературу. И чем сильнее и самобытней становилась бы она, тем скорее завоевала бы уважение и восхищение в Америке.
Сознавая это, наша группа поручила мне составить письмо на имя министра народного образования. Суть заключалась в следующем: государство выделяет стипендии художникам — мы предлагаем направлять во Францию также и государственных стипендиатов-литераторов. Письмо было подано в министерство, а затем в виде брошюры разослано по всем культурным учреждениям страны. В нем, в частности, говорилось:
«И вот сегодня, когда подлежит государственному попечению все, что делает жизнь достойнее, было бы только справедливо, если бы государство оказало свое благородное воздействие на столь важную для жизнедеятельности общественного организма сферу художественного творчества как литература. Государство содействует развитию изящных искусств; разумно ли оставлять на произвол судьбы искусство слова? В прежние годы, может статься, подобное пренебрежение и было объяснимо, но сегодня, когда проза, драматургия и лирическая поэзия стали мощным двигателем общественного развития, отражая идеалы и чаяния современного человека, именно сегодня, как мы убеждены, литературе должно оказать содействие. И не на равных основаниях с живописью и музыкой, поскольку следует учесть большую общественную значимость литературы. Ведь именно эти соображения заставляют государство поощрять поездки за границу юристов и обществоведов. Не случайно же родилась в свое время идея выделять и поощрять литературное произведение, наиболее верно передающее дух эпохи, и это славное начинание стало традицией».
Вот и все. И мне видится маркиз де Сантильяна (1398–1458), задумавшийся где-то посреди кастильского нагорья о Мичауте и Алене Чарротьере (так выглядят их имена в его написании), то есть о Пьере Мишо и Алене Шартье, французских поэтах.
КАСТИЛЬСКОЕ ДОСТОИНСТВО Перевод А. Садикова
Поколение 1898 года сделало основными для себя два слова, в наибольшей степени отвечавших образу наших мыслей. Одно из этих слов — «распущенность», другое — «Испания». Главным нашим врагом, с которым мы сражались упорно и самозабвенно, была распущенность. Мы воевали с ней — а она воевала с нами. В нашем сознании это слово в наивысшей степени воплощало в себе разрушительное начало, тогда как слово «Испания» — созидательное. Всеми средствами, доступными литературе, художественным исследованием картин природы, городов, людей мы старались утвердить отношение к жизни, которое можно очень кратко выразить двумя словами — «кастильское достоинство». Это — чувство одновременно древнее и современное. Чувство благородное и непреходящее.
Баску — такому, как Унамуно или Бароха, — нетрудно перенять достоинство кастильцев. И в Басконии известно это чувство, роднящее ее народ с кастильским. Со мной было иначе. Я родился на землях Леванта, в старину принадлежавших арагонской короне, и для меня пейзажи, обычаи и люди Кастилии — все было чужим. Приобрести названную мной черту кастильского характера помогли мне восемь лет, проведенные в монастырской школе-интернате (принадлежавшей ордену «Школ Благочестия»), и испанские классики, которыми я зачитывался в ранней юности — в ту самую пору, когда прочитанное глубже всего западает в душу.
Распущенность воевала с нами своим оружием. Даже на торжественных литературных собраниях, где серьезность и основательность суждений является нормой, о нас — о новой лирической поэзии, например, — говорили в самом развязном тоне. Свидетельством тому хотя бы речь Эмилио Феррари на собрании Испанской академии. Да и помимо нее у нас достаточно доказательств. Писатель — сейчас я говорю о поколении 98 года — вкладывает в свой труд надежду, веру, тщание, любовь. Он верит в красоту — и верит в Испанию. И если он бывает в своих писаниях и сварлив, и желчен, то это одно из неизбежных следствий веры в идеал, который он отстаивает. А в ответ в журнале, в книге, в академическом собрании на него и его соратников обрушивают град обвинений — бездоказательных, и притом в самом развязном тоне.
В свою очередь, кастильское достоинство предполагает не обмен колкостями и личными оскорблениями — напротив, оно требует спокойных, взвешенных суждений о литературной школе, направлении или поколении (в данном случае поколении 98 года), суждений, отделяющих главное от второстепенного, сиюминутное от непреходящего, полезное от никчемного. Рассуждать же о том, в чем не разбираешься, и есть отличительный признак распущенности.
В романе «Жизнь Ласарильо с Тормеса» есть персонаж, всегда вызывавший у нас симпатию. Кстати, «Ласарильо» — не плутовской роман. Мы вообще не верим в существование какого-то особого «испанского плутовства». Пройдох и проныр хватает повсюду. Мошенников достаточно в любой стране. Непонятно, почему «Ласарильо» принадлежит к «плутовскому» жанру, а, скажем, комедия великого Расина «Сутяги» — нет? Ведь речь в ней идет как раз о крючкотворах-проходимцах! И чем же не «плутовской» известный роман Антуана Фюретьера, рисующий картину сплошного вымогательства? Два главных персонажа «Ласарильо» — отнюдь не плуты и не шуты гороховые. Как, впрочем, и остальные. Те двое, кого я имею в виду, — священник из Македы и дворянин из Толедо. Священник беден, питается церковными просфорами, дома у него всего-то и есть что запертый ларь с запасом драгоценных хлебцев. И понятна та бдительность, с какой он оберегает свое скудное пропитание. Грешно смеяться над убогим его существованием и бережливостью!
А толедский дворянин — вообще один из самых благородных и привлекательных образов во всей нашей литературе. Он — и предшественник дона Алонсо Киханы, и глашатай, возвещающий его скорый приход. Этот идальго мог бы научить кастильскому достоинству. Он ведет себя сдержанно и благородно, он горд, щепетилен в вопросах репутации и чести. И хотя жить ему приходится в крайней скудости, по целым дням не видеть куска хлеба, наш идальго скрывает от людей это жалкое полуголодное существование, при всех обстоятельствах являя обществу надменную осанку и расхаживая с зубочисткой во рту, дабы все видели — он только что пообедал! Над чем же здесь смеяться, когда перед нами — образец кастильского достоинства?
ПИО БАРОХА Перевод А. Садикова
Это был очень приятный на вид старый дом № 2 по улице Мисеркордия, угол Капельянес. Вот уже несколько лет как его снесли. Дом был большой, с просторным вестибюлем, в глубине которого виднелась лестница. На втором этаже жил Бароха. На третьем — священник соседнего (видного из чердачных окон) монастыря. Этому священнику, весьма ученому и при этом скромному и доброжелательному человеку по имени Кристобаль Перес Пастор, мы обязаны находкой ценнейших документов, имеющих отношение к Сервантесу и Лопе де Веге. Семья Барохи занимала просторную квартиру. Мы, друзья Пио, собирались в гостиной, где стояли стулья и кресла, обитые черной гуттаперчей, письменный стол времен королевы Исабели и того же возраста консоль у стены. Семью Барохи составляли: дон Серафин, донья Кармен, Карменсита и Рикардо. Донья Кармен, высокая, худощавая и молчаливая женщина, опрятная и усердная хозяйка, целый день сновала туда-сюда по дому, успевая следить за всем. Дон Серафин, способный инженер, а на досуге — искусный виолончелист, время от времени позволял себе комические эскапады. Как-то он поставил себе задачу: побыть хотя бы минуту одному на Пуэрта-дель-Соль, и со всей настойчивостью взялся за осуществление задуманного. Дело оказалось нелегким. Эта оживленная центральная площадь никогда не бывает пустынной. Даже в предрассветный час на ней всегда увидишь запоздалых прохожих: кто-то возвращается из гостей, официанты спешат домой из ночных кафе, торговцы спиртным и булочники останавливаются, хотя бы ненадолго, со своими оцинкованными лотками на легких переносных козлах. Долго не оставлял усилий дон Серафин и, наконец, добился своего, не иначе как чудом. Зато теперь он, единственный из смертных, мог похвастаться тем, что пребывал в полном одиночестве на Пуэрта-дель-Соль!
Рикардо был своеобразным и интересным художником. Это он написал портреты всех писателей поколения 98-го. Излюбленным же его занятием было писать те же самые места — будь то в Мадриде или в Париже, — которые до него писал Рафаэлли. Предместья, дома простонародья, городские пустыри и деревенские поля… Карменсита занималась в часы досуга тиснением кож и чеканкой по серебру.
Не помню, когда и где я впервые встретился с Барохой. Да, забыл сказать, что в доме проживало еще одно лицо. Если даже в «Семи Частях» особо оговорены права животных, их «естественные права», то почему я стану отказывать собаке в праве быть личностью? Обитатель дома по кличке Йок был мохнатой черной собачонкой, низенькой и толстой, с живыми блестящими глазами. Иногда на этого умного и ласкового пса находили приступы безудержного веселья — и тогда он прерывал наши беседы курбетами и прочими отвлекающими выходками. Пес был с юмором, как и дон Серафин, и Пио — всяк, разумеется, на свой лад.
Моя дружба с Барохой никогда ничем не омрачалась. Были мы вместе или разлучались — наши симпатии и уважение друг к другу оставались неизменными. Человек он простой, открытый, без всякой позы; что бы ни делал, все у него выходит легко, без нажима. Бывали у нас с ним и совместные путешествия, как-то он останавливался на несколько дней у меня в Моноваре. О своих противниках Бароха отзывается едко, его суждения решительны и окончательны. Но вот странная черта, которой я не встречал больше ни у кого из писателей: как бы категорично и уничтожающе ни звучали тирады Барохи, в его тоне нет ни ненависти, ни страха, ни даже оттенка враждебности. Его критические суждения настолько естественны, настолько уместны, что нельзя и предположить заранее обдуманного злого умысла, и у собеседника Барохи или же его читателя не остается в душе неприятного осадка. Как-то в Париже один мой друг — и противник Барохи — сказал: «Я видел Бароху на набережной Сены, у книжных лотков. Думал подойти и поздороваться, но не решился». Я ответил: «И напрасно. Бароха ответил бы и говорил бы с вами вполне дружелюбно».
СЕКРЕТ БАРОХИ Перевод А. Садикова
Секрет Барохи — секрет полишинеля. Все знают — объяснить не может никто. Ключ к тайне многие держат в руках, но не могут им воспользоваться. Тайна Барохи — это его стиль. Такого стиля не было ни у кого из выдающихся испанских писателей. Но упрямых не переубедишь. Давние, убежденные противники Барохи будут стоять на своем.
Как пишет Бароха? И как надо писать? Что хорошо — это несомненно. Но как писать хорошо — вот вопрос. Проще всего повторить простую истину: писать хорошо значит писать ясно и точно. Хорошо пишет тот, кто пишет ясно, точно и при этом грамматически правильно. Но первое же возражение сбивает с толку — а как же талант? Та глубинная, стихийная сила, которая подчиняет себе все: слова, ясность, точность, правильность.
Эта глубинная сила — иными словами, инстинкт — создает особый мир, в котором живет всякое подлинно художественное творение. Мне вспоминается, как Эрмосилья в своей книге «Критическое рассуждение о главных испанских поэтах последних лет» порицает Ховельяноса за употребление в одной из эпистол таких слов, как мулы, бубенчики, рысца, погонщик. Эти слова — слишком низкого стиля. Немало наших современников улыбнутся суровости критика. Но критик был прав. Нам кажется, что нет, но перенесемся мысленно в эпоху, когда творил Ховельянос, в тот мир, который он создал своими творениями, — и станет ясно, что Эрмосилья попал в точку.
Все большие писатели создают свой собственный мир. По законам этого мира и следует судить о стиле писателя. Именно в этом плане могут быть уместны или неуместны слова и обороты речи. Эрмосилья считал, что некоторые слова — не для Ховельяноса. А проза Барохи такова, что целый ряд изысканно-архаичных слов и оборотов, которые у других писателей служат признаком высокой культуры, здесь прозвучали бы так, что автору осталось бы только сгореть от стыда. Да, они убили бы собственный стиль Барохи.
В своей прозе Бароха прост, ясен и строг. Чистота языка как таковая его не волнует. Бароха прежде всего — живой человек, он существует в реальном мире. Чувство действительности — его сильная сторона; не случайно его выражения так точны и естественны. Бароха создает также — не задумываясь, как само собой разумеющееся — особый, только ему свойственный ритм. А ритм (я говорил об этом в книге «Валенсия») — это квинтэссенция стиля. Вялая манера повествования губит писателя, и не спасет его ни чистота языка, ни точность, ни изысканность выражения. Ритм или есть, или нет. У Барохи он есть. А также и у некоторых наших классиков, прежде всего у Сервантеса. Именно у Сервантеса — в чудном прологе к «Персилесу и Сихизмунде».
ИСПАНИЯ Перевод А. Садикова
Как я уже говорил, у поколения 98 года были два любимых слова: «распущенность» и «Испания». Первое я объяснил, скажу о втором. Впрочем, дело настолько ясное, что не нуждается в объяснениях. О любви к Испании говорят наши книги. Книги Унамуно, Барохи, Маэсту и мои. Среди сорока моих опубликованных книг нет ни одной, где я не говорил бы об Испании. Не мы открыли испанский пейзаж, старинные города и вековые традиции нашей земли. Но нам удалось шире взглянуть на многое, внести свою лирическую и печальную ноту в рассказ о стране и людях.
Многие неверно истолковали нашу манеру писать, не поняли нашей любви к родине и потому судят о нас пренебрежительно и свысока. Нытики и пессимисты, говорят одни. Плохие патриоты, подхватывают другие. Как неправы все они! На днях я прочитал в одной статье, что, оказывается, в то время как мы празднословили, гуляя взад-вперед по улице Сан-Херонимо, на дальних берегах испанские солдаты приносили свои жизни на алтарь отечества. Автор не знает, что нас сильнее чем кого-либо потрясла испанская трагедия — потеря Кубы и Филиппин — и что благодаря именно нашим усилиям — Маэсту, Барохи и моим — был воздвигнут памятник героям, погибшим в ту войну.
Патриотизм — явление не новое, но никогда ранее он не воздействовал на человеческие поступки с такой силой и так последовательно, как теперь. История Педро Наварро, великого полководца, воевавшего на стороне французов против Испании, сейчас кажется бредом сумасшедшего. А ведь случай с Педро Наварро отнюдь не единственный в своем роде. Множество подобных историй приводит Эухенио Сельес в книге «Политика плаща и шпаги». Сегодня чувство принадлежности к Испании обязывает к большему, чем прежде. И писатели 98 года стремились к тому, чтобы испанский патриотизм был менее трескучим и помпезным, чтобы, не мешая трезвому и суровому взгляду на вещи, он стал чувством более серьезным и постоянным. А к такому патриотизму приходят лишь путем неутомимого познания своей страны. Перечитаем же заново и с любовью отечественную историю. И с сыновней нежностью заново откроем для себя испанскую землю.
И кто посмеет отрицать, что со страниц наших книг встает живой — и прекраснейший у Барохи и Унамуно — образ родной Испании?
ОТКРЫТИЕ СЕВЕРА Перевод А. Садикова
Мое открытие испанского Севера все во мне перевернуло. В 1904 году я впервые побывал в Басконии. И всегда, когда я говорю об этой стране, я вспоминаю строку из сонета Лопе де Веги (из книги «Стихов Томе де Бургильоса»): «Так с Севером венчалась Каламита…» Как и донья Каламита — аллегорическое имя магнитной стрелки, — я навек повенчался с Севером. Любовь с первого взгляда. Меня, родившегося в стране серых гор и пустошей, поросших редкой травой, где небо безоблачно, а дожди редкость, не могла не покорить открывшаяся глазу картина. Острое, временами болезненно-нервное возбуждение сменилось блаженным успокоением. Дилижанс Сумаррага-Сестона быстро катится вперед, и я с жадностью вдыхаю воздух Севера. Впервые в жизни я открываю для себя незнакомый мир — здесь, на родине, а не за пределами Испании. И образ мыслей и чувства здесь иные. В этой стране, под этим низким небом и скрытой от глаз линией горизонта, писать надо как-то иначе. Тогда-то, наконец, я понял Бароху. И ритм, и выделка его прозы были рождены этим, ныне окружившим меня покоем, умиротворенностью, простотой местных жителей.
Уже почти тридцать лет каждый год летом я приезжаю в Басконию. И всякий раз изумляюсь ее пейзажам, ее воздуху. Мало того, я лучше стал понимать природу моего родного края, после того как сравнил ее с баскской. Глядя на эти горные склоны, расчерченные на яркие — желтые, зеленые, красноватые и багровые — квадратики, я вернее понял, сердцем почувствовал неброские, мягкие серые краски моей земли. И теперь склонен думать, что Страна Басков — это школа, которую непременно должны пройти колористы, а Аликанте — может быть, место самого сурового для них испытания.
Живя в Сан-Себастьяне, я много бродил по окрестным полям. Объездил и всю провинцию. И заметил вот какую отличающую деталь гор Басконии от левантийских: бродя по левантийским горам, можно присесть и отдохнуть, на басконских тропах — нет, так они узки. Редкая мягкая растительность Леванта словно бы приглашает расположиться на отдых — на лужайке, поросшей дроком, или среди благоухающих зарослей тимьяна и розмарина. В густой буйной чащобе, покрывающей северные горы, нельзя и подумать о том, чтобы остановиться и присесть — идешь и идешь, продираясь вперед, разводя густые ветви руками. Да и влажная земля этих лесов — отнюдь не то же, что высушенные солнцем уступы гор Аликанте.
В первые утренние часы острые верхушки сосен словно бы раздирают густую пелену тумана, и она рваными клочьями упадает в долину. Но, случается, легкая дымка висит в воздухе весь день. Тропинки вьются по склонам, устремляясь к вершине, и вдруг, как раз, когда не ждешь, у тебя под ногами разверзается пропасть, и там, глубоко внизу, на самом дне ущелья, тебе открывается уединенное селение, словно отрекшееся от мира. Домики рассыпаны по склонам, и кажется, они вот-вот покатятся на дно долины. Низкое пепельно-сизое небо льет слабый, мягкий ласкающий свет. Нависающая серая пелена оттеняет яркий ковер зелени, разостланный внизу. А случается, наткнешься на затерянный в горах старинный замок строгих очертаний, почерневший от времени. Когда-то здесь селилась просвещенная знать, а сейчас обитают лишь безвестные землепашцы. Мрачные пустынные залы… Того, кто привык к светлым, опрятным, как игрушечка, аликантийским домикам, здешнее запустение удручает. Этот могучий замок с гербом на фронтоне и галереей, опустелый, покинутый, обреченный разрушению, горьким печальным аккордом вплетается в мелодию, сотканную туманно-серым небом, неярким светом, таинственным сумраком лесной чащи.
ЦИЛИНДР Перевод А. Садикова
Если меня спросят, какова отличительная черта цивилизации, я отвечу: уважение к человеку. В семье, в городе, где он живет, и в государстве. Уважение к другу и к противнику. И уважение к собственной личности. «Никогда не терять уважения к себе», — требовал Грасиан. Тот, кто уважает себя, уважает и других. Цивилизации расцветают или приходят в упадок в зависимости от того, насколько уважают в них человека. Степень уважения к человеку определяет расцвет или упадок общества.
Цилиндр (я веду речь о шляпе) — преисполнен достоинства. Он создан для того, чтобы выказывать уважение. Все шестьдесят славных лет, что длилась Реставрация, учтивость была нормой. Цилиндр носили повсюду. В публичных дебатах и в частной переписке обычным было обращение «мой достойный друг». А вежливое приветствие — знак внимания и даже симпатии к человеку. Писатели 98 года ходили в цилиндрах. Я сам носил его много лет. Цилиндр надевали ежедневно, и утром, и вечером, и даже идя на корриду. В Музее Сан-Себастьяна, наверное, и сейчас висит картина (я видел ее много раз), на которой Лискано запечатлел народ на трибунах вокруг арены для боя быков и в толпе — человека в цилиндре. Цилиндр был надежен и долговечен. Его нужно было только гладить время от времени. Заподозрив цилиндр в бессмертии, которое могло бы погубить шляпные фабрики, предприниматели стали менять фасоны цилиндров каждые три-четыре года. Поля то сужались, то расширялись, тулья то вдавливалась, то распрямлялась. Но самые респектабельные из граждан, умевшие блюсти свое достоинство, всю жизнь носили цилиндр классического образца, отметая всевозможные легкомысленные вариации.
В один прекрасный день, решив воздать должное уважение памяти Ларры, мы отправились на кладбище Сан-Николас в цилиндрах. Будь жив Эль Греко, он бы пришел в восторг при виде братьев Фукса в черных шелковых кашне, трижды обернутых вокруг шеи, и в высоких цилиндрах, красовавшихся на пышных копнах русых, шелковисто-мягких волос.
Писатели 98 года имели обыкновение нападать на своих литературных противников — маститых деятелей литературы. Но никогда мы не нападали на человека, не зная основательно его книг и образа его мыслей. Осудить, не зная сути дела, значит проявить неуважение к человеку, который за ним стоит. И не только. Это — непростительное пренебрежение собственным достоинством. Недопустимо ради того, чтобы покрасоваться или доказать свое воображаемое превосходство, очертя голову лезть на рожон. Тогда тот, кого поносят, имеет право презрительно улыбнуться или пожать плечами — этого будет достаточно.
С нежностью я вспоминаю свой старый добрый цилиндр. Цилиндр и белый свет газового фонаря — характерные атрибуты XIX века.
МОНАХИНИ ТОЛЕДО Перевод А. Садикова
В ту памятную поездку в Толедо — вот уж сорок лет минуло с тех пор — нас, кажется, страшно интересовали монахини. Кто-то из нас заранее заготовил список женских монастырей Толедо с краткими сведениями о жизни за их стенами. Наше воображение занимали решетки, металлические сетки и шторы. Решетки нижних хоров, как в монастыре Сан-Пласидо в Мадриде, металлические сетки залов свиданий в монастырях и металлические шторы с отверстиями, еще более прочные и надежные, чем решетки, в тех же залах свиданий и на окнах. Бывало, уже в первый рассветный час (монастырские церкви рано открываются и закрываются) мы стояли в пустынном храме, в неверном свете свечей, и старались различить там, в глубине хоров, легкое шуршание, а иногда и женский силуэт. Какая она, эта монахиня? Какое у нее лицо? И еще вопрос: какое определение будет здесь уместно? Очень долго, года два или три — баски народ упорный, — Бароха готов был спорить с каждым встречным по поводу эпитета «смазливенькая», которым Гальдос наградил монашку, мельком увиденную на хорах здесь, в Толедо. Это слово, если не ошибаюсь, встречается во втором томе романа «Анхель Герра» (прекрасно изданном в 1891 году), где действие происходит в Толедо. Переубедить Бароху было невозможно. «Вы только полюбуйтесь, — кричал он, — на эту пошлость: назвать „смазливенькой“ монахиню — будто это певичка из „Аполлона“, или модистка, или там кухарка!»
Церковь была пустынна, и мы сдавленной от волнения грудью вдыхали аромат безмолвия, уединения, покоя. Стоя у решетки хоров, мы до боли в глазах старались разглядеть что-нибудь по другую ее сторону. Были в Толедо монастыри богатые и бедные. Больше бедных. И мы предпочитали скромную обитель францисканок или кармелиток богатой монастырской школе для благородных девиц. Время от времени, странствуя из одной обители уединения в другую, мы попадали в некогда процветавшие, а ныне убогие и постепенно пустеющие монастыри, где от недостатка средств обитательницы жили в крайней скудости. Еще до поездки я слышал, что в Мадриде, на улице Сан-Бернардо, монахини живут из расчета реал в день на человека. А оказавшись в глубине обширных, скрытых от мира покоев какого-либо из толедских монастырей, мы с удивлением узнавали, что здесь влачат свои дни три-четыре старухи-инокини, всеми забытые, не имеющие по ту сторону монастырских стен ни родных, ни единого близкого человека, на кого бы опереться.
Одно время я усердно работал в библиотеке Института Сан-Исидро (прежде библиотеке Императорской школы ордена иезуитов), располагающей богатейшим собранием книг по мистике и аскетизму. Тогда, работая над романом «Воля», я полгода рылся в каталогах, сидел над книгами, исписывал тетради. С тех пор у меня хранится множество материалов о жизни монахинь.
С большим вниманием прочел я обнаруженную в той библиотеке «Книгу о затворнической жизни монахинь» (Саламанка, 1589 г.) епископа корийского[91] дона Гарсиа де Галарса. В драматических тонах пишет он о возражениях монахинь корийской епархии на некоторые из постановлений Тридентского собора. Интересно и сочинение Антонио Дианы «Coordinatus seu omnes resolutiones morales»[92] (1667 г.), где, в частности, говорится (трактат 1, положение 337, с. 230), что монахини не имеют права покидать монастырь, даже заболев смертельно опасной болезнью, от которой могли бы излечиться в миру. «Non egredi monasterio propter aegritudinem, etiamsi certo sciretur eas aliter morituras»[93] А вот аббатиса монастыря Уэльгас, в Бургосе, была прямо-таки королева: ее власть распространялась на несколько окрестных городов. Инокини-цистерцианки в Вальядолиде носили на шее большие ожерелья из крупных зерен черного янтаря. Сестры ордена госпитальерок святого Иоанна из Королевского монастыря в Сихене носили черное платье с длинным шлейфом, белый чепец и черный платок с белым восьмиконечным крестом. В противоположность монахиням этих богатых орденов были и другие — такие, как босоногие францисканки в Севилье, о которых говорится на обложке их «Уложения» (1687 г.): «Живут, доходов не имея, на промысл божий уповая, оного же попечением и сыты».
Какой же урок извлекли мы из посещения женских монастырей Толедо? Очень простой: лишний раз убедились в духовности Эль Греко. От Эль Греко до монахинь один — для нас неизбежный — шаг. Духовная жизнь у затворника и затворницы одна и та же. Монастырский устав и внешний образ жизни сходен. Но силы не равны. Женщина слабее мужчины. Эль Греко живет невероятным напряжением духа. В этом — его суть. И это — путь, по которому направляются духовные искания любого человека, посвятившего себя богу. Но у женщины меньше сил. Оттого-то и тянуло нас в монастыри — узнать, как с меньшими физическими силами удается их обитательницам достигать высших пределов духовности. В церкви бернардинского монастыря святого Доминика Старого — той церкви, где Эль Греко был и архитектором, и скульптором, и иконописцем, — на стене висел портрет бледной и страждущей женщины кисти того же Эль Греко. А в глубинах келий и галерей монастыря существа, столь же слабые телесно, достигали немыслимых вершин чистоты, достоинства и духовного рвения.
МГНОВЕНИЕ И ЧУВСТВО Перевод А. Садикова
Очень хотелось бы знать: как люди ощущали мир в определенный период — например, с 1898 по 1910 год? Очень хотелось бы представить себе, как воспринимались в то время свет, тень, цвета, тишина, безлюдье, белизна стен, прозелень или же чернота древних плит, звон дальнего колокола, шепот струй в безмолвии сада, белое или пепельно-серое облако, плывущее мимо, и даль, неоглядная даль. Нам есть на что опереться в прошлом, будь то картина Эль Греко или сонет Гонгоры. Величайшее новаторство Эль Греко состоит в том, что он пишет холодно, в то время как все пишут тепло. Величайшее новаторство Гонгоры состоит в том, что он передает отдельно взятое ощущение, в то время как другим нужно описать все предшествующее и последующее. «В эпоху, — пишет Коссио в журнале „Ревиста Иберика“ от 20 июля 1902 года, — когда живописцы Италии и других стран творили большей частью в красновато-охристой гамме, создавая столь характерный теплый, золотистый колорит — непревзойденным мастером этой манеры остается Тициан, — Эль Греко рвет с традицией и первым переходит к лазурной гамме, включающей все оттенки голубого и синего, с серебристым отливом, что придает его картинам холодную тональность, столь широко принятую и в современной нам живописи, особенно французской».
В том же 1902 году в музее Прадо была развернута прекрасная экспозиция Эль Греко. В предисловии к каталогу помощник директора музея Сальвадор Виньегра — художник и знаток живописной техники — цитирует слова, когда-то сказанные Пачеко: «Он (Эль Греко) часто ретушировал свои картины, добиваясь резкого перепада цветов, оставляя тут и там вызывающе темные пятна, чтобы тем сильнее подчеркнуть свою дерзость». Нам остается лишь соотнести сказанное ранее об отдельном ощущении у Гонгоры со словами Пачеко о четких границах цвета у Эль Греко. Приведя указанную цитату, Виньегра добавляет: «Можно предположить, что и ретушь, и резкие мазки, и темные пятна нужны были не для того, чтобы скрыть недостатки техники, которую мы сегодня считаем великолепной, — скорее для того, чтобы ослабить реальность образов, продиктованную наивным чувством, и дать дорогу духовному началу, главенства которого он, вне всякого сомнения, и добивался в своих картинах. Столкновение противоречивых чувств художника, вероятно, и порождало те „погрешности и преувеличения“, которые мы находим у Эль Греко».
Есть у Кинтаны замечательные строки: «Лишь легкой спички бледное свеченье», — но мы прекрасно ориентируемся в пространстве. Вот вместе с поэтом мы спускаемся по ступеням. Тьма сгущается. В руке Кинтаны вспыхивает огонек — и мы видим мраморные надгробья, а дальше, в метании теней, угадываем еще и еще гробницы, утонувшие в полумраке. Мы — в пантеоне Эскориала.
Усталый путник, сбившийся с пути В ночи глухой, больной и бесприютный, Напрасно ловит луч надежды смутный… К кому еще взывать, куда идти?Кто? Где? Когда? Кого и о чем молит он, днем ли, ночью ли, в закатных или предрассветных сумерках? Где звучат его шаги, куда он стремится, кто и что его влечет? На полотнах Эль Греко бросаются в глаза размытые — голубоватые, грязно-зеленые, желтоватые — пятна, которые сами по себе, вне связи с сюжетом производят в нас неизъяснимое волнение духа. Поэт уводит нас за пределы временной и социальной связи событий. Того же достигает и художник — с помощью цвета. Мы уже не связаны тем, что произошло или должно произойти. Нами владеет чувство чистое, первозданное, неземное.
А за те двенадцать лет — что же нового появилось в нашем восприятии? Обогатилось ли оно новыми оттенками, пусть едва заметными, пусть недоступными словесному выражению? Да, за это время перед нами раскрылся Эль Греко. Начиная с 1894 года мы стали вглядываться в верхнюю часть картины «Погребение графа де Оргаса» — а ведь раньше ее упорно не замечали. Видели нижнюю — групповой портрет двадцати пяти дворян, тело покойного графа и держащих его епископов. Тогда, в 94-м, художник-пейзажист Мартин Рико дерзнул заявить на страницах «Эль Либераль», что верхняя и нижняя часть картины взаимосвязаны.
И не дают забвенья обрести и ближний звон, и лай ежеминутный…Откуда доносится собачий лай? Чей слух тревожит? И где сейчас тот, кто слышит его, — мечется ли в жару на постели темной ночью, или склонился над клочком бумаги, набрасывая строки стихов? За двенадцать лет образ наших чувств переменился. Что-то осталось позади и позабыто, а что-то забрезжило перед нами вдали, на горизонте… Но уловить и воплотить эти легкие дуновения чувств — трудная задача. Понятно одно: уже существует чувство ради чувства и цвет ради цвета. И это — несомненное завоевание. Вот что писал в 1907 году Антонио Мачадо:
Закат, как угли жаркие, дымится за черной кипарисовой аллеей… Умолкнувший фонтан в тиши беседки. Амур крылатый замер сиротливо и молча грезит. Мраморная чаша полна воды умершей.Густая иссиня-черная тень, лежащая под козырьком крыши в ослепительный полуденный час, важна сама по себе, как и молочная белизна рассвета и радужное многоцветье утренней зари. Шагая по дальней улочке, затерянной в глубине старинного городка, мы вдруг останавливаемся, потрясенные красотой невысокой беленой стены, через которую льются неудержимым зеленым водопадом густые кроны акаций, а за ними, в глубине сада, угадывается старый дворец. Или мы сидим в уютной тишине дома, и хочется, чтобы в мире было только это — некрашеный сосновый стол да плетеный стул.
Здесь мы бесконечно далеки от людской сутолоки с ее вечной заботой о собственной выгоде. Мы ничем не хотим воспользоваться, не ставим себе никаких целей. С нас хватит и этого — незамутненно-чистого ощущения тишины, белизны стен, непритязательной наготы стола. В 1901 году некто, избранный действительным членом Академии изящных искусств, позволил себе во вступительной речи пренебрежительно отозваться об импрессионистах, и группа испанских художников выступила с протестом. В письме, опубликованном в журнале «Хувентуд» 30 ноября того же года, говорилось: «Зачарованные непрерывной сменой состояний природы, они (импрессионисты) умеют быстрым движением кисти удержать на полотне тончайшее движение воздуха; это — художники мгновенных озарений, впечатлений мимолетных, но тем-то и ценных, особенно для пейзажиста и мариниста, и при этом представляющих собой труднейшую задачу живописи».
Перечислим авторов письма в том порядке, в каком они его подписали: скульптор Франсиско Дуррио из Бильбао; художники — Игнасио Сулоага из Гипускоа; Дарио де Регойос, астуриец; Сантьяго Русиньоль из Барселоны; Пабло де Уранга из Гипускоа; Франсиско Бидаль из Бильбао; Ансельмо Гинеа из Сантандера; Адольфо Гиард и Мануэль Лосада из Бискайи; Лопес Альен и Висенте Берруэта из Гипускоа; Мигель Утрильо из Каталонии; Даниель Сулоага из Мадрида. (Как, вероятно, заметил читатель, в списке нет одного имени — того, которое должно было бы стоять первым. Это — имя Хоакина Сорольи. А нет его здесь по понятным причинам — он был земляком и другом художника, который своим выступлением дал повод для критики.)
Мгновение быстротечно. Мы пытаемся закрепить рожденное им ощущение на полотне или листе бумаги и не знаем, почувствуют ли другие, задержав взгляд на картине или печатной строке, то, что чувствуем мы. И будет ли это приобретением для искусства? И чему суждено остаться лишь нашим, глубоко личным и непередаваемым другому впечатлением, и чему — стать общим достоянием. Подражать Гонгоре? Подражать Эль Греко? Но подражать — не значит продолжить. Повторение пройденного — не движение вперед. Делая то же самое, не сделаешь того же. Главный — и единственно плодотворный путь в искусстве — чувствовать и, подобно им, давать своему чувству эстетически новое воплощение. И осмелюсь сказать, что за двенадцать лет, с 1898 по 1910 год, испанцы стали чувствовать по-новому — ощутили то, что раньше для них просто не существовало.
ЗАЧИНАТЕЛИ Перевод А. Садикова
На гладком, ничем не покрытом столе орехового дерева — стакан отличного вина, орех — один-единственный и, может быть, пустой — и три корня пастернака. Свет льется потоками через боковое окно, и на столе играют шаловливые тени. На переднем плане — стакан, орех, корешки. За ними — затененное пространство. Прекрасный натюрморт. Лучшего не создал бы и Лукас Менендес. А зачем они — этот стакан вина, этот дырявый орех, конечно же, пустой, и эти три корешка, желтоватые, длинные, с тонкими отростками?
Дороже всего на свете были сии коренья…И это вино, и этот злосчастный орех, и рядок пастернака, откуда выдернули три корешка, — плоды изобильной земли Ла-Риохи. А человек, изобразивший для нас все это, — священник бенедиктинского монастыря святого Мильяна, и он же — поэт, заслуживший искреннюю симпатию писателей 98 года. Пио Бароха, не слишком щедрый на славословия классикам, с любовью отзывается о нем в книге «Лабрасский майорат» (1903 г.). Были среди нас и такие, что, прочитав толстую книгу Томаса Санчеса, дополнили ее каким-нибудь анекдотом собственного сочинения. Поколение 98 года не случайно обращается к этому великому поэту, равно как и к другим писателям средневековья. Это — характерная и естественная для нас реакция на велеречивое многословие современной литературы. Вымученной аффектации наших современников, таких, как Кастелар, Нуньес де Арсе, Эчегарай, всей нашей живописи на исторические темы и т. д., мы противопоставляем простоту и искренность зачинателей испанской литературы.
А среди них найдется ли кто-нибудь более наивный и искренний, нежели Гонсало де Берсео? И в то же время, кто из художников преодолел большие препятствия на пути к сердцу читателя? Сам Берсео не сделал ни шагу за пределы монастыря, в котором жил. Как не сделал и ничего, чтобы заставить собой восхищаться. Разве что изредка гулял по окрестным полям и заходил передохнуть в какой-нибудь дом у дороги. Добрые поселяне подносили ему стакан вина (отличнейшего, повторим, вина — чистого, светлого, ароматного, словом, настоящего вина Ла-Риохи), и поэт поднимал его со стола — стола орехового дерева — к губам. Все остальное под черепицей, как говорит сам поэт, не стоит пустого ореха. И этот миг, когда поэт сидит в пастушьей хижине со стаканом в руке и вот-вот поднесет его к губам, — миг единственный и неповторимый. Нет, не единственный — пожалуй, еще значительнее то мгновение, когда стакан поднесен к губам и пьющий, причмокивая, смакует драгоценный напиток.
Ничего не сделал поэт для того, чтобы обрести известность — только писал стихи. А стихам его выпала сложная судьба. Превратности этой судьбы напоминают те испытания, которые приходится преодолевать современному поэту, прозаику или живописцу в борьбе за место под солнцем. С тех пор как в 1780 году Санчес издал полное собрание сочинений поэта (ранее было напечатано совсем немного), поэзия Берсео пробивается к читателю, как первый рассветный луч: одни его видят, другие — нет, для одних он одного цвета, для других — совсем иного, кому-то кажется легким и нежным, кому-то режет глаз. Читать читают, а прочитав — не знают, что и думать. Гений? Бездарность? Было бы интересно собрать воедино суждения писателей — от Моратина до Хуана Валеры — по поводу Берсео. Поэт не делает ни шагу за порог монастырской кельи — и при этом борется, как боролись (также ничего для этого не предпринимая) такие художники, как Малларме, Сезанн или Гонгора. Берсео груб и неотесан? Или изящен и остроумен? Никто вам точно не скажет. Валера, не в меру гордившийся своим тонким вкусом, был к Берсео несправедлив. И эта долгая борьба поэта за признание — в конце концов его признали — лишнее основание того интереса, который питают к поэзии Берсео писатели 98 года, тоже борцы за новую эстетику.
Да так ли просты и наивны были зачинатели? Во всяком случае, они умели быть такими в своих творениях, и эту завещанную ими простоту сделали символом веры писатели нового поколения. А Гонсало де Берсео являет нам сплав простоты с искренней и горячей человечностью. И это его качество вполне современно. Берсео груб, примитивен? Нет, он тонок и более чем современен. Самое земное бывает одновременно и самым возвышенным. Пример? Хлеб и вино. Прославленный Берсео стакан доброго вина вошел в поговорку. Но все ли помнят его Мадонну Пшеничного Хлеба?
Царица небесная, пшеничного хлеба матерь… «О милостыне не забывайте на миг единый!» —говорит нам поэт. А милостыней может быть и ломоть хлеба, и глоток вина. Не все бродят по улицам и дорогам, прося подаяния. Есть бедняки, влачащие нищенское свое существование не на миру, а у себя дома, за закрытой дверью:
Помните о людях, иже в мире сущи, Аки звери наги, бедны, неимущи. В граде глаз не кажут, в убогой прячась куще, Снедаемы гладом, мора и язвы пуще.«Снедаемы гладом» — значит голодные, сжавшиеся в комок в углу хижины, скрюченные подобно кривому гвоздю. Затворники в собственном доме, и никто о них знать не знает. Так возникает в XIII веке некий неясный силуэт, который в XVI веке, в «Ласарильо», примет четкие очертания — и станет испанским дворянином, честным, суровым и гордым, прозябающим в нищете, но так, что никто об этом и не подозревает, — дворянин умеет хранить свою тайну.
ЗЕЛЕНЫЙ МИР УЕДИНЕНЬЯ Перевод А. Садикова
Не могу распроститься с этой книгой воспоминаний, не упомянув о «зеленом мире уединенья». Эти слова не мои — они принадлежат великому поэту. В свое время мы, правду сказать, не слишком восторгались искусством «фламенко». Верно и то, что тогда это искусство еще не было столь значительным. Пепа Ла Бандерильера, о которой Проспер Мериме упоминает в письмах Эстебаньесу Кальдерону, — еще не была известна всей стране. Время шумной славы для многих тореро, гитаристов, певцов и танцовщиц пришло позже. А в конце концов это искусство стали считать выразителем испанского духа. Возникла целая литература — одическая и дифирамбическая, посвященная этим персонажам. И даже скромница лирическая поэзия, и та не удержалась от восторга. В своем ослеплении мы позабыли, что для подлинной лирической поэзии — той, чей удел величие и бессмертие, источник вдохновения — это трагическая судьба человека и неустанный поиск того, что Луис де Леон назвал «истинной скрытой сущностью вещей».
Галисия была далеко. Духовно мы были связаны с ней через Валье-Инклана и Камило Бархиелу. Путь до Галисии казался тогда бесконечным. Эта туманная страна грез лежала словно на другом континенте, у границ обитаемой земли. Наша способность любить и понимать обнимала всю Испанию от края до края. Действие одного из прекраснейших романов Барохи происходит в обетованной Кордове. Я посвятил множество страниц Андалусии. Но у Галисии было, как видно, свое приворотное зелье. Бароха не мог тосковать, как я, по картинам Галисии. Пейзаж Басконии сродни галисийскому. Но неоглядную, равнинную галисийскую землю пронизывает какая-то щемящая, печальная одухотворенность, какой не знает Страна Басков со скрытой от глаз линией горизонта, пограничная страна, вдоль и поперек исхоженная и изъезженная путешественниками, стекающимися отовсюду.
«Зеленый мир уединенья» — это она, дальняя, одинокая земля Галисии. Всякий раз, читая «Odi barbarie»[94] Джозуе Кардуччи, я задерживаю взгляд на строфе, в которой поэт говорит о тишине и покое деревенской жизни:
O desiata verde solitudine lungi al rumor degli uomini![95]И думаю о Галисии, стране уединенья. И передо мною встают пустынные зеленые равнины — всей грудью я вожделенно вдыхаю тишину. Чуть слышно, словно издалека, долетает народная галисийская мелодия. Я слышал народную музыку многих стран — Румынии, страны столь похожей на нашу, Венгрии, Италии, древней белокаменной России, России Лермонтова и Гоголя. Но ни одна песня не трогала меня так, как галисийские — до глубины души. В Париже, в 1939 году, мне как-то сказали, что в нашем посольстве будет «испанский вечер». И я написал послу, дону Хосе Феликсу де Лекерика, письмо, в котором просил его, чтобы на этот раз (хотя бы только однажды) «испанский вечер» не свелся к перестуку каблучков и страстным стонам в стиле фламенко. Я посоветовал послу предложить избранному обществу, которое соберется в посольстве, концерт галисийской народной музыки. Тогда бы гости услышали нечто единственное в своем роде, и вечер оставил бы неизгладимое впечатление. По меньшей мере такое же, какое произвела галисийская музыка в Париже в дни Всемирной выставки 1889 года, о чем рассказала Эмилия Пардо Басан в книге «По Франции и Германии». В Париже выступала тогда «Галисийская капелла» под управлением маэстро Вейги, чье искусство восторженно приветствовал Лоран де Рилье, знаток хорового пения. Песни, исполненные галисийцами, «не утонули в безбрежности парадного зала Трокадеро — нет, им внимали, рукоплескали, их вызывали на бис».
Путь в Галисию неблизкий, не то двадцать, не то тридцать часов поездом, который медленно идет по тряской колее. Тяготы пути не в счет в сравнении с той новизной ощущений, которую я там испытал. В тех уединенных долинах и тенистых горах жила столь милая моему сердцу народная музыка. И там обитал дух любимых мною поэтов — Росалии де Кастро, Ламаса Карвахаля. Из стихов Росалии, не понятой читающей публикой, мне больше нравились те, что написаны на ее родном наречии, и меньше — кастильские, собранные в книгу «На берегах Сара». Когда Росалия де Кастро пишет по-галисийски, кажется, вся ее душа изливается на бумагу легко, непринужденно, изысканно. А в ее испанских стихах чувствуется скованность — словно она берется за тяжелый инструмент, который ей не по руке. Галисия… разве найду я слова, чтобы рассказать о чудесных часах, проведенных там, в одиночестве, в отдалении от общества, в сельской гостинице, в самой дальней комнатке, затерянной в глубине коридора. Закрываю глаза и вижу поля, по которым я бродил, или морские дали, в которые вглядывался с высоты Геркулесовой башни в Ла-Корунье. И снова погружаюсь в умиротворение, подобное тому, какое доставляет уставшему человеку стакан парного молока — густого как сливки, изумительно вкусного, — мне довелось его отведать в маленькой харчевне, на тихой боковой улочке. С тех пор навек осталась у меня наивная мечта — добыть себе плащ, соломенный плащ, под которым укрываются от дождя галисийские крестьяне, надеть его и пойти куда глаза глядят, под мелкой изморосью на звук протяжной, бесконечно печальной песни, изредка прерываемой пронзительным и страстным криком — эхом иного мира.
ЭПИЛОГ В ПУТИ Перевод А. Садикова
Сидя на придорожном валуне, я смотрю на плывущие мимо облака. Вот так же проплывает и время. С рассвета я на ногах. Девять часов утра, а солнце уже слепит глаза. Безбрежное море света заливает окрестные поля, и странно видеть это жителю большого города, где редкий луч пробивается в этот час в глубины улиц. К ощущению изумительно яркого света примешивается особое ощущение времени. Девять часов утра, но мне, вставшему с первым проблеском зари, кажется, что уже полдень. Здесь, в поле, мир пробуждается и начинает жить полной жизнью гораздо раньше, чем в городе.
Время течет. Круглые тени придорожных олив, незаметно перемещаясь, меняют очертания. Великолепное утро постепенно движется к полудню, часы я оставил дома и скоро даже приблизительно не смогу сказать, который час. Может, спрошу у показавшегося вдали путника. Сорвав веточку тимьяна, я подношу ее к лицу. Какой сильный аромат. Появление человека в таком пустынном месте — всегда событие, прерывающее однообразный бег времени. Интересно, куда идет этот крестьянин? Откуда он? Как и чем живет? Нежась в волнах томительного, разлитого в окружающем воздухе блаженства, я вспоминаю строки одной из эклог Лопе де Веги и произношу вполголоса:
Хуан Редондо дорогой идет, Плащ на нем с позолотой. Чуть свет — уж он за работой. Кто рано встает — тому бог дает.Хуан Редондо, а точнее — незнакомый мне путник проходит мимо и теряется вдали. Поет жаворонок. Издалека доносится скрип телеги по камням. Вот и она — то проваливается в глубокие рытвины, то вползает на пригорки. А я — я не исчезаю за поворотом, не ухожу в неведомые дали. Я возвращаюсь. Возвращаюсь отовсюду на склоне дней, прихожу из собственных воспоминаний. Часть моих воспоминаний вошла в эту книгу «Мадрид», другая — в книгу «Валенсия». Но верно ли, что это — возвращение? Или это — путь в прошлое, куда с душевным трепетом и пылом все мы устремляемся в старости?
Лишь звезды знают о моей печали…Кажется, так звучит первая строка одного из сонетов Франсиско де ла Торре. Гипербола скрывает тонкую мысль. Судьба поэта — жить в одиночестве, ни с кем не деля печали. Но где-то высоко, в черном и прозрачном небе безлунных ночей, каждому из нас светит звезда, знающая и разделяющая наши горести.
Так есть ли хоть одна звезда, чтоб знала и о моей печали? Увидим — сегодня же ночью.
Мадрид, апрель — май 1940 г
НА ПОЛЯХ КЛАССИКОВ. ХУДОЖНИК И СТИЛЬ
ГОНСАЛО ДЕ БЕРСЕО Перевод В. Симонова
За оконцем кельи открывается пейзаж — изысканного, тонкого письма. Стелется зеленый бархат лугов, река неспешно струится узкой светлой лентой, и ряд тополей отражается в ее кристальных водах. В маленькой белостенной келье монах трудится над стихами. В эту минуту он пишет о том, что видится ему из оконца кельи. О зелени, которая «весьма пышна»; о «зарослях цветов, весьма обильных»; о благоухании, которое они источают; о «светлоструйных источниках», исторгнутых из скал, — «зимою — теплых, летом же — прохладных». На фоне небесной лазури рассыпаны по полю округлые купы рощ; словно робкие беглецы, испуганные могучими очертаниями вековых деревьев, виднеются поодаль силуэты изящных, нежных смоковниц и гранатов: гранаты, с их узловатыми стволами, усыпанные ярко-красными огоньками цветов, и вечно зябкие смоковницы, так любящие влагу; гранаты, с зорким любопытством глядящие вдаль с вершины холма; смоковницы, что прячутся, съежившись, по влажным расселинам и словно кутаются в свою густую листву. И мало ли еще плодовых деревьев в здешних садах. От них — а особенно в час вечерних сумерек — доносятся в маленькую келью монаха нежнейшие, упоительнейшие ароматы. Господи, какая здесь благодать! И как славно, вдоволь потрудившись над стихами, вкушать, глядя на этот пейзаж, «от чаши доброго вина» — легкого, светлого, благоуханного вина этих полей!
РОМАНСЕРО Перевод В. Симонова
Романсы, народные наши романсы, стародавние наши романсы — кто сочинил вас? В чьем уме вы родились, чьи сердца изливали в вас тоску напевными звуками? Романсы воскрешают в нас память о старых кастильских городах с узкими улочками, о больших ветхих домах с коврами в просторных залах, о кипарисах в садах. Эти народные романсы, такие простодушные, такие безыскусные, пели или попросту рассказывали в мастерской ювелира, на хуторе, у вечернего очага, на городской улочке, поутру, когда сильному, свежему звуку голоса вторит ясное эхо. Форма многих из этих романсов тщательно отделана, отшлифована. Мы легко узнаем их, и, скорее всего, их написал какой-нибудь поэт, которому захотелось блеснуть красноречием и изысканностью стиля. Другие — короткие, совсем не отделанные, несут на себе печать выношенной, выстраданной поэтической мысли и чувства. Эти, «народные», романсы — действительно ли слагал их народ? Мог ли сочинить их ткач, каменщик, плотник, кузнец, пахарь? Или они — плод труда истинного художника, иными словами, человека, который постиг, что высшее искусство — в сдержанной краткости, ясности и простоте?
Романсы рыцарские, романсы мавританские, романсы народные — за вашими строками встает Испания, какой была она много веков назад. Из всех романсов мы больше всего любим самые короткие. Они — как мимолетные видения, где сюжет, тема едва намечены. Вероятно, их сочиняли люди, которые не были профессиональными литераторами. Есть и другие, более пространные, сложные, в которых чувствуется проработка, мастерство, словом, все те разнообразные ухищрения, к которым прибегал автор, чтобы романс появился перед нами в его сегодняшнем виде. Романсы первого рода похожи на песню, что оборвалась, едва зазвучав, — что-то заставило певца умолкнуть, и мы даже не знаем, счастливые ли то были обстоятельства, или трагические. Все незавершенное таит в себе глубокое очарование. Эта надломленная сила, этот остановленный порыв, этот прерванный полет — чем могли бы они обернуться, каких пределов достичь? В этих коротких романсах запечатлена частица жизни, ускользающее мгновение, когда состояние души, начавшее было воплощаться на наших глазах, замирает полувоплощенным. Они обладают глубокой притягательной силой, как человек, с которым мы перекинулись парой слов в зале ожидания или в приемной и которого мы больше никогда не увидим; они волнуют и очаровывают своей загадочностью, как одна из тех неприметных на первый взгляд женщин, в которых после нескольких часов совместного путешествия мы начинаем замечать тихую, молчаливую красоту, которая еще долго после того, когда незнакомка исчезнет в водовороте жизни, будет тянуться в нашей душе светлой лунной дорожкой.
Наутро, в день Сан-Хуана, граф Арнальдос вышел прогуляться по золотистому песку морского берега. Безбрежное синее море лежит перед ним. Свеж и прозрачен утренний воздух. Ярко сияет лазурь небосвода; чайки плавно кружат над волнами. Граф замечает вдалеке галеру. Вначале лишь маленькая точка на горизонте, она становится все больше, приближаясь к берегу. Белые, тугие паруса ее, полные ветром, подобны белым облакам, скользящим по лазури; они белы, как нежная пена на волнах. Матрос на корабле поет песню; легкий ветер доносит его голос к берегу. Голос этот дышит чувством, радостью жизни, бодростью, надеждой. Что за глубокая печаль лежит на сердце у графа? Отчего, заслышав этот трепещущий юный голос, он застывает в раздумье, словно зачарованный? Какая глубокая связь между сиянием утра, морской синевой, ясными небесами и этой песнью, что поет человек, плывущий, быть может, из чужих, далеких стран.
Богом тебя заклинаю, поведай мне песнь свою,—восклицает граф. И матрос отвечает ему:
Лишь тем, кто плывет со мною, я эту песнь пою.И — все; так заканчивается романс.
«Тем, кто плывет со мною». Куда? В безбрежное, бурное море? В страны грез и фантазий?
Стоит май. Земля источает чувственный запах пробуждающейся жизни. Деревья уже покрылись молодой листвой. Как никогда ярко светит солнце; тени — тень от застрехи, от старой стены в саду — расцвечены едва уловимыми оттенками: красноватыми, голубоватыми, сиреневыми. Как никогда певуче журчит вода источника, и мы чувствуем непреодолимое желание подставить руки этой кристально прозрачной, прохладной влаге. В воздухе слышится гудение; неуклюжие, пузатые майские жуки с бронзовым отливом проносятся в воздухе и тонут в нежном ворохе розовых лепестков…
Узник томится в темнице. Он не может радоваться пышному пробуждению Природы. Жестокость и злоба заточили его в темницу, которая страшна: она темна, как могила, ни один луч света не проникает в нее.
Не знаю ни зорь, ни закатов — одну беспросветную тьму,—в тоске жалуется узник. И все же он знает, точнее сказать — догадывается о том, когда встает и когда садится солнце. В темницу его долетает пение маленькой птички; когда слышится ее пенье, узник знает, что наступил день и что все живые и неживые существа, всё на свете — кроме него одного! — радуется солнечному свету. Эта птичка (подобно паучку другого знаменитого узника) была его единственной отрадой. Как отзывалась его томящаяся душа на трели счастливой и свободной певуньи!
Но вот узник перестал слышать ее:
Убил ее лучник меткий. Боже, воздай ему! Мой отдых — на поле бранном, руке не расстаться с мечом…Когда мы сегодня читаем этот старый романс, нам представляется воин с изможденным, запыленным, влажным от пота лицом. Жизнь его состоит из одних тягот; он спит на скалах, под открытым небом; его сон чуток, и малейший шорох заставляет его тревожно вздрагивать и просыпаться. Поднимаясь в горы, он в кровь ранит ноги об острые камни; хляби небесные разверзаются над ним, и ледяные ветры хлещут его по лицу. Даже самой малой передышки ему не дано; одни опасности и страдания поджидают его на пути. Почему мы, люди сегодняшнего дня, воспринимаем героя этого романса не в традиционном героически-возвышенном обличье, а страдающим и смиренным? Почему повесть о его многотрудных деяниях звучит для нас не радостной песнью, а грустным рассказом? И куда он держит путь, этот человек с изможденным, влажным от пота лицом?
Читая сегодня этот романс, мы вспоминаем стихотворение Готье «Aprés le feuilleton»[96] из книги «Эмали и камеи». В нем поэт тоже предстает измученным, обессиленным, изможденным. В этих словах он рассказывает нам о своей напряженной жизни, полной тягот и трудов. Ни на минуту не может он оторваться от работы, перестать писать. Нет, может. И вот он, этот миг — сейчас, когда он закончил наконец длинный, нескончаемый роман с продолжением… Теперь у него есть несколько минут передышки. А затем он вновь склонится над листами бумаги, чтобы продолжить труд всей своей жизни.
Но знайте — любви, сеньора, все тяготы нипочем…—говорит герой старинного романса. Так и каждый из нас, по мере своих сил, должен и будет переносить любые тяготы и страдания во имя красоты, во имя мира, во имя далекого идеала. И пусть этот идеал будет для нас путеводным огоньком в нашей ночи.
Романсы, народные наши романсы, стародавние наши романсы, — кто выдумал вас и чьи голоса пели вас в старых испанских городах столетия назад?
ГАРСИЛАСО Перевод В. Симонова
Вдали от Испании, вдали от Толедо, от его узких улочек, от старых, обветшалых домов, вдали от глубоких желтых вод Тахо, на острове посреди другой реки — Дуная, живет в изгнании опальный поэт. Чтобы добраться сюда, надо проехать через такие разные и такие чужие, диковинные страны: Францию, Швейцарию, Австрию. Где-то позади, за дальними далями, в невидимой точке земного шара, остались сухие бесплодные равнины Кастилии, колокольни с пирамидальными черепичными крышами и аистом наверху — четким силуэтом на лазурном фоне, пышные кирпично-красные особняки с простенками из тесаного камня и тяжелыми решетками на окнах, олеандры и розы в садах, рощи столетних вязов на городских окраинах. В одной из своих «Песен» поэт воспел остров, на котором живет. Нет на нашем языке описания более нежного, текучего, воздушного. «С кротким журчаньем» струятся «быстрые светлые» воды Дуная. Так беззаботно весела природа этих мест, словно «в зелени пестрой весна навсегда поселилась». Соловьи поют не умолкая в нежной ночной тиши. Мягко льется на поля лунный свет, трепетно мерцают звезды, и, словно перекликаясь с ними, соловьиные трели навевают грусть или возвеселяют душу, полня ее сокровенной усладой. Внутренним взором мы ясно видим этот мир: трава бархатистым муравчатым ковром стелется по земле; плавные, волнистые очертания холмов теряются вдали, где густой лес темно-зеленым занавесом протянулся вдоль горизонта; неподалеку, разливаясь во всю свою ширь, протекает река, и ветви деревьев, склоняясь к ней и ласково, любовно касаясь воды, образуют некое подобие тенистого свода. Под сенью этого свода поэт, который долго стремил сюда свой легкий челн, решил отдохнуть, наслаждаясь тенистой прохладой, глядя на отраженный в воде светлый кусочек неба, с томиком Петрарки или Саннадзаро в руке…
Дунай, божественные воды ты катишь среди диких стран и, светлою волной играя, плещешь…«Дунай, — думает поэт, — пусть твои божественные воды унесут с собой все мои тайные муки, всю мою тоску, мои желания и мое отчаяние, и пусть все это, слившись с ними, исчезнет в безбрежном, вечном море». Среди деревьев виден дом; в густой листве можно различить его крышу и окно на самом верху. Стоя у окна, поэт озирает окрестность: нежно-зеленый ковер лугов и светлую кроткую реку, теряющуюся вдали.
Дунай, божественные воды…В тридцать три года поэт был тяжело ранен в одном из сражений; много дней длилась борьба со смертью. Наконец ему удалось победить. Выздоровление было медленным. Теперь Гарсиласо видел мир, чувствовал его, жил в нем уже совсем по-иному. Он остался прежним, и, однако, все вокруг словно переменилось; все казалось ему новым и как бы обрело большую глубину и поэзию. Как ясно вспоминались выздоравливающему в эти плавно, незаметно текущие часы те места, что были когда-то отрадой его глаз, пищей его фантазии! Вершины Пиренеев с их «белеющими снегами»; рощи «укромной» Эстремадуры; «дряхлый» Тормес; Тахо. Реки поэт любил особенно нежно; три реки воспел Гарсиласо: Тормес, Тахо и Дунай. Не правда ли, рядом с этими двумя старыми, исконно испанскими реками, что текут под древними римскими мостами, в чьих водах отражаются бесплодные сухие пустоши, деревушки, сложенные из грубого пористого кирпича, города с тысячелетней историей, города, где так много монастырей и сумрачных обветшалых домов знати; реками, через которые тянут тяжелые повозки длинные упряжки мулов и скачут посыльные, — не правда ли, какое странное, трудно определимое чувство испытываем мы, когда рядом с этими двумя реками мы видим ту, другую, бесконечно далекую, несущую свои воды ни к Средиземному морю, ни к Атлантике, протекающую мимо неведомых нам таинственных городов?
Думая о Тормесе, поэт вспоминает «просторную, широкую долину», зеленый наряд ее вечен. На берегах Тахо поэту мила «густая зелень ив, увитая плющом», который, обвиваясь вокруг стволов, «стремится ввысь». Но в долгие дни выздоровления, возрождаясь к новой жизни, вся любовь Гарсиласо, вся его нежность в едином выплеске устремились к той, широкой и светлой реке, которая где-то там, в немыслимой дали, струила свои воды в зеленых берегах. Мысли его из Толедо уносились к той сводчатой галерее, что образуют, склоняясь над водой, ветви деревьев. И тогда, на закате жизни, весь уйдя в размышления и воспоминанья, он думал о том, что часы, проведенные там — часы изгнания, — были самыми счастливыми в его жизни.
Дунай, божественные воды Ты катишь среди диких стран и, светлою волной играя, плещешь…Прошли годы. Поэт возмужал; надежды, грезы — все это позади. Что же воспевает теперь Гарсиласо? Каким видится теперь поэту то действо, что зовется жизнью и миром? Из всех испанских поэтов Гарсиласо — единственный целиком и полностью мирской поэт. Причем он составляет исключение не только среди поэтов, но и среди всех классиков нашей литературы. В творчестве Гарсиласо нет ни малейшего проявления чего-либо неземного, запредельного. Все в нем насквозь человечно; и человеческое он умел выразить с какой-то болезненной обреченностью, затронув в нас глубинное, потаенное, пленив душу идеальными далями. Как молния вспыхивает над всеми его тайными, сокровенными печалями, над мучительным и страстным хитросплетением разочарований, сомнений, доверительных признаний мгновенное видение пейзажа! Как мощно, как выпукло являются — на грозовом фоне обостренной чувствительности и напряженной мысли — Пиренеи в их белоснежном венце или видение полноводной реки, на мгновение приоткрывшееся нам!
Каким же теперь видится мир этому поэту человеческого, земного, — теперь, когда жизнь, мирские заботы и скитания по далеким чужим странам оставили в его душе осадок, какого раньше не было? Каким он видит мир и о чем пишет он сейчас, когда все чувственные, чисто человеческие порывы достигли в нем предельной точки, исчерпав себя? Написал ли он поэму «о вещах», как Лукреций, или нечто подобное тому, что, столетия спустя и в том же роде, набрасывал в своих черновиках другой великий поэт человеческого — Андре Шенье?
Из древнего Толедо, над утесами и пустошами, через Францию, Швейцарию и Австрию мысль поэта стремится к прекрасному, незабвенному острову на Дунае. Там провел Гарсиласо лучшие дни своей жизни; там, гуляя с томиком стихов, он ощутил течение времени, подобное течению вод, и этим водам поверил он свои печали, чтобы, слившись с ними, они унеслись в безбрежное море. Как давно это было и какой сладкой печалью полнится душа, когда вспоминаешь об этом!
Дунай, божественные воды…КЕВЕДО Перевод Б. Дубина
I
Есть в том городке по имени Вильянуэва-де-лос-Инфантес каменная церковь, просторная, обнесенная колоннадой площадь, особняки с обегающими дворик галереями и гербом на воротах, улочки с навесами торговцев, огороды, сады, и все это — посреди безлюдной рыжей равнины, уходящей к самому горизонту. Как-то в 1621 году по одной из таких улиц въехал грузный дорожный экипаж. Город в те времена еще кипел шумом и суетой жизни, теперь же повсюду тишь, покой да ветшающие стены. Тогда двери и окна особняков были распахнуты настежь, теперь они — покоробленные, изъеденные деревяшки — круглый год заперты. В ту пору на площади бурлила толпа, у навесов то и дело мелькали крестьяне, ремесленники, приезжий люд со всей округи; нынешняя площадь с колоннами — попросту огромный пустырь, а на улицах уже никто не торгует. В тишине древесину буравит затаившийся шашель, стены мало-помалу выгорают, и видно, как вдали, на высоте, по кубово-синему небу, сухому небу этих каленых просторов плывут белые-белые облака…
Экипаж продвигался по улицам, позвякивая колокольчиками, клацая деревом и стеклом. На пороге окрестных домов показы вались люди, глянула из-под широкой застрехи какая-то старушка. Въехав на площадь, экипаж стал. Из него сошел господин в черной бархатной накидке. Слева на груди алел среди бархата крест святого Иакова. Господин носил круглые черепаховые очки. Волосы падали до плеч. Закрученные усы торчали кверху. При ходьбе — а он сделал несколько шагов — мужчина прихрамывал. Осанка его внушала столпившимся зевакам почтение. Один из местных дворян, шагнув сквозь любопытных, обнял гостя; по толпе прошелестело имя приезжего. После минутной беседы путник вернулся в карету. Во взгляде, в походке, в каждом его движении проступали печаль и усталость. Ему было около сорока, но по изнеможенному виду — все шестьдесят. Грузный экипаж развернулся и вскоре уже исчез вдали, среди бескрайней равнины, по дороге к Башне Хуана Аббата.
В кеведовых преисподних пестро и шумно толпятся канцеляристы, портные, судейские, доносчики, трактирщики, колдуньи… Чем трогают нас сегодня его вновь прочитанные страницы? Что внушают поздравительные стихи, плутовские куплеты, зацитированное послание к графу-герцогу? И заденут ли сердце нашего современника сочинения Кеведо — аскета, политика, моралиста? Перечитываешь его, а в уме словно борются давний, еще в отрочестве, в юности сложившийся образ — и внезапное, только что возникшее ощущение. Вспоминается человек взрывчатый, брызжущий талантом, плодовитейший мастер на все руки, неистощимый изобретатель, сатирик острый, глубокий и самобытный. Кое-что из этого чувствуешь и сегодня; но есть в нынешнем ощущении и гораздо больше — и куда меньше. Взрывчатостью, разнообразием, неиссякающим пылом Кеведо не устаешь поражаться и по сей день; но в созданных его воображением преисподних нам — как в 1820 году Марчене — хотелось бы видеть и других действующих лиц, другие типы, других приговоренных, а не одних лишь портных, кабатчиков и канцеляристов. Сегодня мы понимаем социальную сатиру иначе, нежели в XVII веке. Отвращение у нас вызывают фигуры и поступки иного масштаба. Исток и основа этого чувства — коренящаяся в самой глубине нашего существа прямая, задушевная, неисчерпаемая любовь к каждому человеку и толпам людей, согнутых, удушаемых и губимых непосильным трудом и нищетой. Посмотрите на окруженного нынешней жизнью, брошенного в громадный, лопающийся от роскоши и великолепия город бедняка, на его скрюченное тело, запавшие глаза, восковую кожу, торчащую из ворота заношенной куртки шею, всклокоченную бороду, сунутые в карманы штанов руки, надвинутую до бровей засаленную шляпу. Куда он шагает? Какую трагическую судьбу несет? Эти загадочные и болезненные типы наших современников как будто сошли с гравюр Стейнлейна. Взгляните на женщину с детьми посреди улицы, рядом с грудой нищенского скарба: глаза ее опухли от слез, а дети — совсем маленькие, синие от стужи — испуганно провожают взглядом задержавшегося на миг прохожего. Взгляните на крестьян в хибарах, на этих сумрачных и свирепых зверей: до чего — и как жутко — непохожи они на изнеженного жителя больших городов. Бросьте взгляд в недра шахт и фабрик, посмотрите на легионы мужчин и женщин — мучеников с утра до ночи и без исхода. И вглядитесь потом в тысячи искусных, эфирных, почти не ощутимых форм беззакония и угнетенья, ставших самой почвой нашей общественной жизни.
Вряд ли можно ждать от Кеведо такого отвращения и такой ненависти. Это чувства нашего времени. Но и в его эпоху встречалось более глубокое понимание вещей. Представим себе Испанию 1595 года: всюду костры, на которых фанатики сжигают инакомыслящих. Усилием мысли перенесемся в мирный домик под Бордо, в зеленую французскую долину. Там, в полном уединении, живет молчаливый господин, влюбленный в порядок, чистоту и книги. Он привык записывать свои впечатления, и вот фраза, одна только фраза из его записей за тот же 1595 год: «Aprés tout, c’est mettre ses conjectures à bien haut prix que d’en faire cuire un homme vif»[97]. И всё, но сколько проницательности в одной этой фразе, в одном только слове «выдумки». Какая независимость суждений, какая современная манера мыслить, какая утонченность!
Читая Кеведо, невозможно расстаться с нашим нынешним пониманием социальной несправедливости. Мы не вправе ждать его от поэта XVII столетия. Но как не пожелать ему чуть больше сострадания, чуть больше глубины, чуть больше точности в диагностике зла!
И тем не менее наше сочувствие прямо и до конца отдано этому человеку. Вопреки чему бы то ни было, всем своим существом, чей сплав отчеканило время, Кеведо воплощает протест, бунт. Разве мало уже и этого? Но прибавьте гонения и муки, всегда сопровождавшие поэтов на их пути. Кроме того, есть в Кеведо черта, как-то особенно трогающая современного человека и мастерски запечатленная Роденом в «Бальзаке» и «Мыслителе». Это усилие ума, напряжение духа, всегдашняя и самозабвенная заряженность мыслью. Достаточно одного этого: Кеведо уже среди наших избранников. Он жил мыслью и ради мысли. Он мучительно страдал. С того 1621 года до поры, когда он вновь приезжает в Вильянуэву-де-лос-Инфантес, прошло двадцать четыре года. Ползет вдалеке по плоской рыжей равнине грузный дорожный экипаж. Он движется из Башни Хуана Аббата. Пробравшись по улочкам Вильянуэвы, карета стала у скромного дома. Не возле особняка с гербом на воротах и обнесенным колоннадой двориком, а возле совсем не приметного жилища. Из экипажа показался господин в черной накидке, с алым крестом на груди. Ни следа прежней изысканности, ни былой осанки: двухнедельная бородка не ухожена, лицо измученное, бледное. Сам он уже не в силах передвигаться: его спускают на землю, поддерживая под руки. Двумя днями позже — 8 сентября 1645 года — дон Франсиско де Кеведо скончался.
В феврале 1903 года, после шумного королевского двора в разгаре карнавала, я очутился в тихой Вильянуэве. Стены трескаются и выгорают; окна и двери старинных особняков круглые сутки заперты; шашель втихомолку буравит древесину. Душу поглощают покой и тишина. Я смотрел с окраины вдаль, провожая взглядом дорогу к Башне Хуана Аббата. В первый же вечер мне удалось побывать в доме, где умер Кеведо. Узкая дверь, обнесенный галереей дворик, простые деревянные перила. Слева, как войдешь, — комнатка с окном на улицу. Скромность и бедность, каких мало. Здесь, вдалеке от суеты больших городов, в затишье и нищете окончил свои дни тот, кто был среди современников самим неистовством, энергией, буйством, вулканом идей. А теперь вообразите себе на другом конце социальной лестницы, в противоположность Кеведо — прозаику, поэту, философу, дипломату, политику — деревенскую старуху, которая ни о чем не ведает и ни к чему не рвется. Вот одна из таких одетых в черное старух и провела меня спустя три столетия в комнату, где умер великий писатель.
— Здесь, в этой комнатушке, — пришепетывала она, — говорят, скончался Кеведо.
II
Кеведовская Испания — край жестокий и неистовый. Иное дело — Сервантес. В тех «Назидательных новеллах», которые я бы назвал экзотическими («Великодушный рогоносец», «Госпожа Корнелия», «Английская испанка» и другие), кастильская суровость и мрачность словно пронизаны веселым и ясным лучом, светом Средиземноморья, Италии, Англии. Когда в прозе Сервантеса — по контрасту с нашими высокогорьями, пустошами и сиротеющими в безлюдных полях постоялыми дворами — вдруг открывается спокойное латинское море, беспечные и приветливые итальянские кабачки, зеленые английские лужайки, на душе теплеет. У Кеведо таких лучей не встретишь; он — сплошная угрюмость, суровость, мрачность, сухой и резкий чекан. Чем бросается в глаза воссозданная им Испания? Возвращаясь сегодня к его книгам, вспоминаешь уличные объявления и деловые бумаги эпохи, труды экономистов. Отсюда и этот телеграфный стиль — он как нельзя лучше передает сжатую, рубленую речь Кеведо и наши чувства от его Испании.
Один из старых кастильских городов: Сеговия, Алькала, Авила, Бургос. В центре — особняк из каменных плит; огромный герб на воротах, широкие балконы с кованой оградой, лоснящиеся медные шары по углам решетки. В оконницах — квадратики толстых стекол: одни заменены холстиной, другие, разбитые, стянуты полосками бумаги, от третьих торчит единственный осколок. Чтобы в дыры не дуло, внутренняя дверь балкона заперта (приказ вставить стекла отдан месяцев восемь назад). Портал обложен галькой; с крыши свисает потухший фонарь; стекла в нем тоже выбиты (приказ сменить фонарь отдан вот уже полгода). Наверху — просторная зала. Спертый, пропахший потом и плесенью воздух. Шкафы, набитые бумагами всех сортов: толстые листы, листы в муравьиных цепках сплошных узких букв, листы, проштемпелеванные круглыми печатями. В глубине — помост, на нем — стол под сукном. Канцелярия Талаверы. Промокательницы, с легким шорохом посыпающие скрепленные печатью толстые листы железными опилками.
Три господина в черном входят и рассаживаются. У одного тонкое, бледное, землистого оттенка лицо; он словно мысленно вглядывается во что-то. Ничего не видит и не слышит. Не видит и не слышит мольбы, жалоб, стонов, рыданий.
Тучи полицейских, начальников и подручных, альгуасилов, канцеляристов: Марко Оканья, Бредень, Верста, Плутень, Гонсало Ксенис, Петля, Чешуйка, Хуан Кругляк… Приходят, уходят, бегут по улицам, врываются в дома, вносят и зачитывают бумаги, стучат жезлом об пол, мигают фонариками в ночном мраке.
Стряпчие, стряпчие, стряпчие, стряпчие…
Темная, смрадная камера. Гам и гомон арестантов. Варварские забавы, шлепки, затрещины. Нестройный рев богородичного молебна. В углу — бледный мужчина с запущенными волосами и бородой. Он сидит, упершись локтями в колени, сжав голову руками.
Ждет приговор Лобресно; скоро придут за ним и — по судьбе и доля — вздернут до именин.Вскарабкавшаяся на осла старуха с бумажным колпаком на голове и голыми плечами в перьях, приклеенных рыбьим жиром.
Алонсо Чурбан, сеговийский палач. Густые усы, винная отрыжка, шрам через все лицо. (Всегда к услугам, плата по договоренности.)
Граничный столб у въезда в селение. (Одни — простой колонной, другие — с изящной капителью, третьи венчает красивая клетка или живописный каменный фонарь.) Граничный столб. Плотная стая ворон и соек кружит над человечьей ногой, подвешенной за кольцо либо втиснутой в фонарь или клетку.
Колокола — в Толедо, собор — в Леоне, куранты — в Бенавенте, столб — в Вильялоне.Костер в предзакатных сумерках. Сбившиеся кучей люди. Тоскливые вздохи. Треск сучьев. Запах жареного и уже пригорающего мяса. (В потемневшем небе затеплилась первая звезда.)
Колокола, ударившие в монастыре бернардинок, в мужской и женской обители Милосердия Господня, в часовне Калатравы, у бенедиктинцев, иезуитов, августинцев, доминиканцев…
Побирушки. Колченогие, однорукие, увечные. Побирушки с самыми жуткими и чудовищными уродствами. Побирушки, которые молятся, вопят, хныкают, корчат из своих бельмастых лиц рожи, протягивают руки.
Безлюдное поле — репей, мак, вьюнок. В просветах бурьяна сквозят уже почти стертые гряды меж давними бороздами. На взгорке — дом без дверей, с провалившейся крышей. Обок — сухой колодец.
Харчевня на постоялом дворе у дороги. Мошенники, потаскухи. Входит студент, спрашивает ужин. Все навостряют ухо, смекая, как бы его обчистить.
«И тут мой хозяин, новичок новичком и совсем зеленый, говорит: „Собери-ка, трактирщик, поужинать мне и двум слугам“».
«К услугам вашей милости, — вставляют мошенники, — всегда в вашем распоряжении. Глянь, трактирщик: этот господин отблагодарит тебя за службу, открывай кладовую, нечего жаться».
И, сказав это, один из них подходит и снимает с гостя плащ со словами:
«Отдохните, ваша милость, господин мой».
И стелит плащ на каменную скамью.
В университете новичок. Суета, беготня, гомон в галереях. Свора учащихся обступила новенького и осыпает его плевками.
Дворики и приемные королевского дворца, битком набитые ожидающими. Средние и обедневшие дворяне, простые солдаты. За кожаными поясами — документы и прошения.
Кабальеро ударяет шпагою идальго, не признавшего в нем — высшем по иерархии — господина. (В «Персилесе и Сихизмунде» Сервантеса, книга I, глава V, идальго обращается к кабальеро «господин», тот же вместо положенного «ваша милость» ограничивается простым «вы». Идальго взбешен и бросается на кабальеро со шпагой. «И — сказано-сделано — нанес ему два отменных удара в голову».)
Измызганная, оборванная солдатня, стершая ноги, давным-давно не получавшая плату и стаями бредущая по дорогам от селения к селению.
Зрительный зал театра, отделение для женщин. Дабы развлечь присутствующего на представлении короля, придворный выпускает из клетки крыс. Паника, ужас, прыжки, крики, слезы, обмороки. (Король и вельможи смеются.)
Мадрид, центральная площадь. Широкие деревянные скамьи набиты народом. На балконах — дамы и господа. Утыканные копьями быки. Все ревут от восторга и плещут в ладоши. «Как эти господа сумели внушить себе, будто унизить быка — это подвиг?» — спрашивает Кеведо.
Достойно ль видеть, как наследник трона седлает стул, верхом на нем скача и правя палкой, всадник распаленный?(Не в этом ли пассаже из «Послания к графу-герцогу» впервые поднят голос против варварского быкоубийственного зрелища и фламандских развлечений от безделья? Не совсем. Году в 1480-м Эрнандо дель Пульгар в одном из писем к дочери-монахине объясняет, насколько по-разному видишь быков с арены и из-за барьера: «Тем, кто выходит на арену, мнится, будто они вольны идти, куда желают, и передвигаться по своей охоте, но одни падают, других калечат, третьи без причины бегут сломя голову, преследуемы не столь быком, как страхом; иные беспрестанно в движении, то нападая, то отпрядывая, другие же сталкиваются с быком и сдаются, а вонзивший в него острие не смог бы ответить, зачем он с таким упорством и наперекор такой опасности стремится погубить того, кто не сделал ему ни малейшего вреда…»)
Дворянин, взошедший на плаху и обезглавленный: он умирает в расцвете сил и ясном сознании, «не просто храбро, но с блеском».
«Весь день он пролежал на плахе, обезглавленный. Над телом читали заупокойные молитвы. Граф де Луна созвал друзей похоронить усопшего, и к ночи собралось много приглашенных и тех, кого привело сострадание. Палач открыл лежащие на помосте останки дона Родриго; их сложили в гроб для повешенных и воспретили идти за телом. Так, в незакрытом гробу, альгуасилы с фонарем перенесли его на кладбище босоногих братьев-кармелитов, где отыскали яму, сбросив его туда и засыпав землей».
Пышный зал в королевском дворце. Ковры, черное дерево, серебряные жаровни. Вельможные дамы в черных бархатных платьях, расшитых бриллиантами. Придворные «черви», то бишь карлики, горбуны, шуты. В глубине, под балдахином, мужчина с длинной рыжей шевелюрой и торчащими усами. (Не румянится ли он, скрывая бледность?) Вид у него унылый и безучастный. Входит дворянин с подносом и серебряной чашкой на нем, предлагая их другому, который с благодарностью принимает, передавая третьему, что кланяется и берет, вручая четвертому… Человек под балдахином подносит чашечку к губам и отставляет с утомленным и разочарованным видом. Молчание. Карлик кувыркается через голову. Кто-то из гостей отвешивает ему тумак. Тот вскрикивает от боли. Человек под балдахином раздвигает губы в почти не заметной улыбке.
БЕККЕР Перевод Н. Ванханен
Краткой была жизнь Густаво Адольфо Беккера. Он родился в 1837, умер в 1870 году. Его литературное наследие невелико, как, впрочем, и наследие Гарсиласо. Беккер оставил несколько десятков коротеньких стихотворений да стопку прозаических страниц, исписанных торопливой рукой. Обращаясь к нему сегодня, мы, не знавшие поэта при жизни, пытаемся представить себе его по стихам и нашим собственным романтическим воспоминаниям о женщинах, по которым тайно вздыхали в юности. Беккер — смутная тихая грусть, печальная песня о ласточках, что «не вернутся назад», долгий задумчивый взгляд женских глаз, сумерки, голубые колокольцы повилики, обвившей балконную решетку, выцветшие письма с засохшим цветком между страниц, затерянные в глубинах стола… Его поэзия, крылатая, хрупкая, тонкая, неуловимая, сродни фотографиям Лорана 1868 года, запечатлевшим бледных белокурых девушек с шелковистыми завитками надо лбом.
Беккер не был знаменит. Он жил в бедности и умер безвестным. Современники не относили его к числу крупных дарований. Крупными считались другие: громогласные, велеречивые, витиеватые, напыщенные. Беккер писал мало; в пору всеобщего многословия его творения казались изящными безделками, хрупкими и недолговечными. Поэт должен был ощущать себя чужаком в литературной среде. Отчего не брался он за длинные, пространные, мощные и волнующие поэмы? Почему ни разу не вылилась из-под его пера патриотическая ода во славу величественных идеалов человечества? И все же этот грустный мечтатель, отверженный и безвестный, вечно погруженный в себя, ранимый, впечатлительный и скромный, автор коротких, словно из ничего сделанных стихотворений, глубже постиг душу человека и тоньше поведал о его чувствах, чем творцы громогласных од. Беккер служил высоким идеалам как большой поэт. Главные человеческие устремления — прогресс и справедливость — не что иное, как вопрос чувства. Искусство, цель которого красота и только красота, наделяет нас глубоким, острым и новым видением жизни, обостряет наше восприятие и помогает увидеть, понять и почувствовать то, чего раньше мы не видели, не понимали и не чувствовали. Цивилизация сделала еще один шаг; в будущем наш взгляд на мир будет иным, и наша душа уже не сможет безропотно, смиренно и покорно сносить то, что раньше принимала как должное, и вдобавок научится страстно желать того, о чем еще недавно не помышляла. Человек сделается тоньше, духовнее, и, благодаря этому, изменится, расширится, вырастет его понимание чужой боли, чужой скорби, иным станет отношение к правам другого.
Что же такое поэт-лирик, тот, кто не трубит о высоких целях человечества и все же трудится, без устали трудится во имя их. Беккер принес в испанскую культуру более глубокое, чем когда-либо, восприятие Природы. Обратимся к его «Письмам затворника». Их пейзажи проникнуты доселе неведомым щемящим чувством. До Беккера испанская литература не умела так говорить о сумрачных оснеженных вершинах, о вековых деревьях таинственной и безлюдной дубравы, о бегущих серебряными нитями потоках и печальном пепельном небе зимних сумерек.
По сути, романтизм Беккера — истинный. Нашему отечественному романтизму, пустому, трескучему, многословному, не хватало естественности, пока художник совсем иного склада не принес в литературу вместе с ощущением вселенской печали любовь к окружающему миру и преклонение перед природой. Страницы, написанные вблизи Монкайо, среди полей Тарагоны, в монастырской келье Веруэлы знаменуют эпоху в нашей литературе.
Принадлежность Беккера к чистому искусству не лишила его веры в прогресс и обновление. Обостренная способность тонко чувствовать, наделившая поэта ясным видением мира, сделала невыносимым для него зрелище несправедливости. «Я верю в будущее, — писал он. — Я с удовольствием слежу за тем, как новые идеи неодолимо овладевают умами людей и мало-помалу меняют облик Человечества, как невиданные доселе изобретения содействуют общению и развитию связей между странами, укрепляя национальный дух и в то же время стирая, если можно так выразиться, разногласия и противоречия между народами, руша преграды, их разобщающие».
Поэт не скрывает своей тяги к новому: «Минувшему, — замечает он, — нет смысла приходить вновь, и оно не вернется». Поздним вечером, перед листом бумаги, в безлюдии Веруэлы, представляются ему съезжающиеся в Королевский театр нарядные дамы, окруженные роскошью, привыкшие к исполнению малейших своих прихотей и капризов; и он вспоминает о других, бедных женщинах, соотечественницах этих богачек, их сестрах по крови, изнуренных и обессиленных, бредущих крутыми тропинками Монкайо в поисках охапки хвороста, чтобы потом, сгорбившись, тащить ее на плечах в неблизкий город. «Надо признать, — замечает поэт, — наш мир чудовищно несправедлив». На память невольно приходят строки о бриллианте из «Философских стихов» Гюйо: живые и чистые грани бриллианта не что иное, как кристаллы застывших слез той бесконечной череды рабочих, которая сделала бесценным камень, извлеченный некогда из глубин далеких копей, чтоб, отшлифованный до блеска, оправленный в золото, засиял он на теплой атласной коже красавицы.
Поэт, — читаем мы в одном из стихотворений Беккера, — живет в бесплотном мире меж бытием и снами. Он не спит и не бодрствует. Его дух «странствует по краю, где меняют вещи очертанья», где «в замирающем сознанье» «молчаливым кругом» сплетаются мысли. Кому не знакомо смутное ощущение усталости, душевного упадка, потерянности, когда в часы отчаяния, скорби и безверия внешний мир словно едва проступает за плотной завесой.
И однако именно в такие минуты к нам, казалось бы глухим ко всему, чисто, четко, явственно, как никогда, долетает сквозь густую пелену некий звук — шорох, оклик, отдаленный собачий лай, потрескиванье свечи. Может быть, у вещей есть душа, и они силятся что-то сказать нам, не способным понять их? Не окружает ли нас таинственное и непостижное, недоступное нашим слабым чувствам?
Беккер — единственный на нашем Парнасе — сумел передать в поэзии это новое неясное ощущение. В стихотворении, о котором шла речь, поэт, описывая смутное состояние души, вспоминает, как внезапно, среди дремоты, ему послышался «нездешний голос, нежный и щемящий», окликнувший его по имени:
И с темнотою, вверившись забвенью, я рухнул камнем и уснул устало, и спал, и вскрикнул, пробудясь: «Кого-то любимого не стало!»[98]Подобное восприятие — свидетельство истинной поэтической тонкости. Вспомним громкую, риторичную, высокопарную поэзию той эпохи. Есть ли у вещей душа? Ответь нам, поэт, какие скрытые, неведомые силы говорят с тобой? Твой взгляд проникает вглубь вещей, за пределы обыденного, так скажи нам, что за тайное предчувствие порой бросает нас в дрожь? А этот зыбкий свет в сумерках нашего мирного рабочего кабинета, откуда он? Чей скорбный пронзительный крик прорезает ночь? Наши органы чувств несовершенны. Мы доныне пребываем в неведении. «Как знать, — записал однажды прославленный Кахаль в своих „Заметках по биологии“, — как знать, не откроет ли Наука более общих законов существования материи, не обнаружит ли она новых феноменов жизни и мысли, когда, спустя столетья, полностью адаптировавшись к окружающей среде, человек усовершенствует зрение и слух, а его разум привыкнет к решению куда более сложных задач!»
РОСАЛИЯ ДЕ КАСТРО Перевод Н. Ванханен
Росалия де Кастро родилась в 1837-м, умерла в 1885 году. Всю жизнь она безвыездно прожила в Галисии. Сочиняла стихи по-галисийски и по-испански, написала два романа. За год до ее смерти, в 1884 году, в Мадриде появилась книга ее стихов «На берегах Сара», по благородству, тонкости и поэтичности не имеющая себе равных в испанской литературе XIX столетия. Книга эта прошла незамеченной. Как могло такое случится? Каким образом явление первостепенной значимости, впоследствии оказавшее глубокое влияние на эстетическое развитие страны, могло остаться без внимания? В 1885 году, как, впрочем, и сейчас, испанцы отдавали предпочтение блестящим, пышным, громким стихам. Правда, и в ту пору в нашей литературе встречались редкие и тонкие дарования. Уже в 1884 году Леопольдо Алас опубликовал две критические работы: одна — «Литература в 1881 году», в соавторстве с Паласио Вальдесом, другая — «Одни». Так возникла независимая критика. И все же книга Росалии де Кастро «На берегах Сара» не вызвала интереса. Годы спустя, в 1902 году, Хуан Валера при составлении своей печально знаменитой «Антологии испанской поэзии XIX века» не включил в нее стихов Росалии. В этой книге нашлось место многим ничтожным стихоплетам и никудышным поэтессам, но ни единой страницы составитель не счел нужным уделить поэту поистине замечательному; впрочем, в предисловии к изданию имя Росалии де Кастро все же упомянуто — оно стоит последним, в одном ряду с именами бездарных писак. Мало того: в 1908 году стихи Росалии не были включены в столь же неудачную антологию Менендеса-и-Пелайо «Сто лучших стихотворений». Но и это еще не все. Может показаться невероятным, но в одной из своих статей Антонио Вальбуэна при разборе упомянутого труда ни словом не обмолвился о Росалии, перечисляя имена поэтов, несправедливо пропущенных в собрании сантандерского эрудита.
Гнетущее одиночество Росалии, страдавшей от равнодушия и постоянной недооценки современников, вызывают к ней еще более теплое чувство. Пренебрежительное отношение к поэтессе со стороны такого беспечного, ограниченного верхогляда, как Хуан Валера, вполне объяснимо; с развязным панибратством, в равной степени присущим и Кампоамору, обращался этот писатель с творчеством художников и мыслителей, глубины которых ему не дано было постичь. Остается лишь пожалеть о целом периоде в истории нашей культуры, когда подобная поверхностность и небрежность вошли в моду с легкой руки высокообразованных людей. Тут Хуан Валера и дон Рамон де Кампоамор — непревзойденные мастера. Пока Росалия де Кастро прозябала в безвестности, критики и журналисты на все лады восхваляли поэтов трескучих, высокопарных и выспренних. Вдали от Мадрида, в стороне от литературной круговерти, Росалия ни с кем не переписывалась, не водила дружбу ни с писателями, ни с политиками. Нельзя не отметить также, что в своем творчестве поэтесса порвала с многовековой традицией рифмовки. Как понять этот новый, непривычный, режущий слух способ стихосложения? Но дело даже не в этом; достаточно сравнить стихи поэтов, представленных в антологии Хуана Валеры, с творчеством Росалии, чтобы увидеть, как велика разница. Причины неуспеха Росалии очевидны. Стихи большинства современных ей испанских поэтов вычурны, неглубоки, сухи и холодны. Ее собственная поэзия, напротив, свежа и нежна, исполнена внутренней сердечности и трепетного, смутного света.
В 1909 году в Мадриде появилось полное собрание сочинений Росалии де Кастро; в первый том вошли испанские стихотворения поэтессы из книги «На берегах Сара»; автор предисловия — муж Росалии, дон Мануэль де Мурхия. Ее стихом, пишет он, правит только ритм; она полностью отказалась от традиционных мэтров своего времени. «Это нововведение было столь неожиданным, — добавляет Мурхия, — что одним книга представилась неслыханной дерзостью, другим — загадкой». Странное ощущение оставляют эти стихи, где приметы внешнего мира соединены с чувством, с душевным движением тесными, но неявными, скрытыми, подспудными узами. Отсюда и обвинения в бессвязности, посыпавшиеся на Росалию со стороны не слишком проницательных критиков; на самом деле кажущаяся бессвязность тщательно продумана и логически обоснована. Так, перед героиней возникает огромный шумящий лес; стоит осень; листья падают и желтеющим ковром покрывают землю. «Бездонная печаль» овладевает Росалией; сердце ее сжимается. Осенняя грусть, листопад сплетаются с воспоминаниями, о которых, в сущности, не говорится ни слова, и, тоскуя о прошлом, поэтесса восклицает: «Зачем господь мне дал такую память?»
Росалия тонко чувствует природу, неизбывность которой восхищает ее. «И вечность бесконечна, и не может бесчисленность окончиться». Вечность всего сущего — вот что поражает Росалию в природе. Ее пленяют и суровые гулкие леса, и «столетние высокие каштаны», и «дряхлые дубы», и зеленая гладь мягких лугов, и море с его «глухими вздохами», и зимние дали, где «деревья голые и пепельные горы», серая дымка, задернувшая горизонт, «хмурые тучи», неспешно идущие по небу… Здесь, среди печальных просторов родной земли, крепнет ее дух, терзаемый внутренним разладом. Росалия не равнодушный наблюдатель; ее снедает потаенная тревога, она сама признается в своих «волненьях смутных, нежности таимой». Что означает развернувшееся перед нами нескончаемое действо? Каков его смысл? И смысл нашего существования? Суть вечной тоски и смутной тревоги, точно переданной в стихах Росалии, — невозможность ясно определить, чем манит прошлое, какими желаниями томит настоящее. Да и о какой ясности можно говорить перед лицом этого моря и гор, перед охватившим нас ощущением былого; как словами передать жажду, сейчас, в этот миг наполнившую душу? Лишь к одному мы осознанно стремимся в надежде утолить скорбь: к забвению. К мечте о забвении неизбежно приходит и Росалия; из «вод забвенья, что в родстве со смертью», говорит с нами поэтесса.
Сострадание и мудрая доброта сами собой рождаются в ее душе. Сострадание и мудрость пронизывают ее стихи. Трудно представить что-нибудь более возвышенное, тонкое и мудрое, чем ее стихотворение «Маргарита»; невозможно страдать сильнее, чем она, глядя на бедных хлебопашцев, бредущих дорогами родной земли к побережью, чтобы навеки уплыть в дальние страны. Когда налетает порывистый южный ветер, а в очаге пылает огонь, пишет Росалия де Кастро, «голодные, они проходят мимо, измученные, жалкие, нагие»; холод леденит мою душу, говорит она, так же, как он леденит их тела; при виде этих горемык «грустит и ноет сердце». В другом месте поэтесса восклицает: «О, как же ты терзала их, отчизна, что от тебя без слез уходят дети!» О родине, «всегда глухой, приниженной и темной», горестно размышляет она в одном из своих лучших стихотворений.
Росалия страстно любила море; в нем виделось ей отражение ее одинокой души и вечной тревоги. Незадолго до смерти она пожелала взглянуть на него в последний раз. «Умирая, она хотела увидеть море, — пишет Мурхия, — свою величайшую любовь». Вскоре Росалии не стало. «Глядя на нее в тесном приюте, ожидающем всех нас, — вспоминает Мурхия, — я воскликнул: „Покойся с миром, бедная измученная душа; ты столько страдала!“»
Несколько лет спустя дону Мануэлю Мурхия, мужу Росалии де Кастро, тихому и скромному человеку, пришлось приехать в Мадрид. Он намеревался добиться лишь того немногого, что на старости лет причиталось ему по праву. То был опрятный, молчаливый, пунктуальный старичок в высокой старомодной шляпе, коротком сюртуке, с длинными усами и романтической эспаньолкой. Недели две обивал он пороги различных ведомств, одолевал лестничные марши и толкался в приемных. Ему улыбались, дружески похлопывали по плечу, но делом его так никто и не занялся. В конце концов спутник одного из величайших современных испанских поэтов свернул свой потертый сюртук, уложил в картонку старомодную шляпу с высокой тульей и в безутешной тоске отправился восвояси.
СУДЬБА РОСАЛИИ Перевод Н. Ванханен
Наша цель привлечь внимание к Росалии де Кастро; надеемся, что страстная пророческая книга, озаглавленная «На берегах Сара», понравится истинным ценителям. Всесильная таинственная Ананке тяготела над хрупкой Росалией. Дон Мануэль де ла Ревилья, откликаясь в «Современном журнале» — июнь 1877 года, № 15 — на прекрасную книгу Альфредо Висенти «Воспоминания», так говорил об особенностях галисийской поэзии: «Этой туманной заунывной лирике чужда ясность мыслей и чувств; она весьма напоминает португальскую saudade; все бесчисленные книги, последнее время одна за другой выходящие в Галисии, — на одно лицо». Между тем галисийские стихи Росалии уже были опубликованы: они среди безликих, неопределенных «бесчисленных книг», поступавших из Галисии в Мадрид.
За этой оценкой прославленного критика — настоящей крепостной стеной, не уступающей монастырской, — мы, искушенные читатели, угадываем сегодня присутствие самой Росалии, грустную линию ее крупного рта и ясные задумчивые глаза.
ЧТЕНИЕ* Перевод А. Шлейфер
Размышления о чтении начинаются, как только мы беремся за книгу. В чем состоит проблема чтения? Может, сейчас читают больше, чем в старину? Или раньше читали больше? Окинем мысленным взором историю письменности, а затем взглянем и на живописные полотна. Вот здесь мы найдем множество квалифицированных средневековых читателей. В XVI веке один весьма достойный человек вздумал поздравить своего друга по случаю получения сана кардинала. Этот дворянин решил написать небольшую поэму в честь кардинала. Что же он придумал, дабы вдохновиться? «Пять дней напролет не отрывался от чтения Пиндара». Безусловно, тот, кто способен на это, — прилежный читатель. Я говорю о Диего Уртадо де Мендосе и о его поздравлении кардиналу Эспиносе. Столетие спустя один странник, неутомимый путешественник, без отдыха шагавший по дорогам, завсегдатай постоялых дворов и трактиров, рассказывает нам, что он так страстно любит читать, что не пропускает ни единой бумажки, даже найденной на улице. Это наш Сервантес. Книги можно увидеть и на картинах, причем чаще на полотнах религиозного, а не светского содержания. В музее Прадо есть картина Рибальты, изображающая распростертого святого Франциска, а рядом на непокрытом столе лежит большая толстая книга и стоит светильник. В Лувре много произведений и церковной и светской живописи; примером церковной живописи могут служить «Четыре евангелиста» Йорданса, а светской — «Философ с открытой книгой» Рембрандта. На картине Йорданса перед евангелистами лежит на столе большой раскрытый фолиант, один из евангелистов, уперев локоть в бок, с трудом удерживает в руках другой. Запомним этого евангелиста. На полотне Рембрандта перед нами в мрачном помещении со сводчатым потолком и каменными стенами предстает философ. Он стоит у окна, к которому придвинут стол, а на столе — большая раскрытая книга. Философ в длиннополой одежде с пелериной, в шляпе, чуть отодвинувшись от стола, что-то обдумывает, подперев рукой щеку. Печать глубокой тишины лежит на всем в этом мрачном помещении, ничто не отвлекает нашего внимания, ибо, кроме описанного, на полотне ничего больше нет.
Но разве не найдутся в литературных произведениях и на живописных полотнах другие читатели, о которых стоило бы рассказать? Конечно же, найдутся, но это нисколько не повлияло бы на наш вывод, а заключается он в следующем: в старину читали гораздо меньше, чем теперь. Тогда чтение — на этом хотелось бы заострить ваше внимание — было делом случайным, редким; в наши дни чтение, можно сказать, «органическая потребность». И да простит меня читатель за выражение, которым хочется еще резче подчеркнуть мою мысль, — чтение стало просто физиологической потребностью. К тому же не следует забывать, что население Испании в XVI и последующих веках составляло не более восьми — десяти миллионов жителей. Для современного человека чтение — жизненная необходимость. Мы все походим на философа, стоящего перед раскрытой книгой. Всем нам, как советует Грасиан, ежедневно нужна новая книга. Ну, а коль скоро мы столько читаем, то, вероятно, все прочитанное идет нам на пользу? Вот это как раз и волнует всех, кто имеет отношение к книге. Разве можно беспорядочное и бесконечное чтение всерьез называть настоящим чтением? Какая может быть польза от чтения второпях? Иногда читают просто, чтобы узнать о чем-то, а иногда и ради удовольствия. Это занятие всякому по душе. Каждый читатель, вероятно, может провести следующий эксперимент: попробуйте несколько дней не читать, а потом начните понемногу, время от времени, частями, и только, когда вы будете совершенно свободны. Тогда-то вы и поймете, как много теряется при беглом чтении, а то и нескольких книг одновременно и сколь выигрышно основательное, вдумчивое чтение. От такого чтения мы получим необычайное удовольствие, удовольствие, которого не знали ранее, и в книге найдем то, что прежде было сокрыто от нас. Прибавим к сказанному мысль одного из великих читателей — Артура Шопенгауэра. Он советует нам не расстраиваться, коль скоро в нашей памяти отложилась лишь малая часть из того, что прочитано. Пусть нас утешит, что прочитанное — раньше, чем о нем позабудешь, — оставит след свой в душе, умиротворяя и питая ее, меж тем как просто задержавшееся в памяти не пронизывает душу, а лишь набивает и засоряет ее непереваренной материей. На понимание прочитанного работает время.
Но время уходит и многое с собой уносит, в том числе и часы, которые можно уделить чтению. В старости уже нельзя читать столько, сколько в юные годы, но есть свое преимущество — перечитывать, ибо это все равно, что читать заново. Мы понемногу, вовсе не задаваясь такой мыслью, сокращаем количество читаемых книг; принуждаем себя сокращать, и постепенно число их все больше сужается. В конце концов вынужденно соглашаемся с Лопе де Вегой, который сказал в своем «Исидро», что «успеха достигает тот студент, который учится по одной книге». И добавил, что, когда было мало книг, «люди знали больше, потому что учились на меньшем».
Заканчивая нашу беседу, давайте оглянемся назад и обратим взор к старинным фолиантам. Думается, от этих старинных тяжелых фолиантов общество прошло долгий путь — путь становления культуры. От тех самых томов, которые раскладывали на столах или ставили на полки библиотек. Их трудно было держать в руках, — посмотрите на евангелиста с полотна Йорданса. Путь от фолианта привел к небольшому томику форматом в одну восьмую, который легко удержать и в одной руке. Стремительность, переменчивость, многогранность современной жизни — а также и легковесность этой жизни — очень хорошо прослеживаются в переменах, свершившихся с книгой.
БУКИНИСТИЧЕСКИЕ ЛАВКИ* Перевод А. Шлейфер
Почему книжные магазины с новейшей литературой мы любим больше, чем букинистические лавки? В Мадриде много и тех, и других. Но предпочитаем мы все же магазины, где продаются современные книги. Всем хорошо известно, что именно там можно найти, — ничего неожиданного нам в этих магазинах не предлагают. И когда нужна новая книга, там мы ее и ищем. В каждом доме есть каталог, естественно, внимательно просмотренный, в газетах тоже публикуются объявления о новых книгах. Большего и желать нельзя. Беспокоиться не о чем, и, если возникает потребность прочитать новинку, следует всего-навсего отправиться в книжный магазин и купить нужную книгу. Идешь туда — так, по крайней мере, случается со мной — не столь уж и охотно, ибо более или менее представляешь себе, о чем та или иная книга. Какие сюрпризы я могу ожидать от новой книги, столько уже на своем веку прочитав? Итак, заходишь в большой, а может, и в маленький магазин и покупаешь книгу. Возможно, прочитав несколько страниц, сразу отложишь ее в сторону. А может, будешь читать урывками, откроешь в середине, потом начало, опять вернешься в середину и полюбопытствуешь, что же в конце? Ну, а что происходит в букинистической лавке? Разве можно предсказать, что там найдешь! Если часто посещаешь букиниста, то все книги у него на полках тебе знакомы. Но ведь букинист изо дня в день приобретает новые тома, и вот они-то и оказываются для нас настоящим открытием. Я уже состарился и достаточно в этом преуспел, а потому мне нельзя терять время. Любая новинка вызывает у меня недоверие. Так и кажется, разрезая страницы новой книги, что придется читать что-то уже давно читанное. В моей библиотеке собрано множество книг — и испанских, и иностранных. Классика и современные произведения мне хорошо известны. Я вкусил прелесть всех литературных жанров. Так что же заставляет меня с неизменным интересом браться за книгу?
Вот тут-то и вступает в силу чарующее предназначение букинистической лавки. Я не собираюсь ничего покупать, я купил у этого букиниста уже много книг. Просто присяду здесь ненадолго и побеседую с другими постоянными посетителями. Ничем не занятые руки поневоле листают старинные тома, книги и в роскошных, и в бумажных переплетах, книги и большие, и маленькие. Но вдруг наталкиваешься на ту, которую раньше не видел и автор которой тебе не известен (всех знаменитостей ты, конечно, знаешь). Вот и сейчас мое внимание привлекла книга, так сказать, среднего автора. Есть такая категория писателей, которые, не хватая звезд с неба, по-своему обаятельны и часто помогают отыскать недостающую подробность, необходимую, чтобы закончить роман или пьесу. Кроме того, в таких книгах непременно найдешь что-нибудь такое, о чем и подозревать не мог. Разве все дома должны быть дворцами? Ведь порог обыкновенного дома мы переступаем с тем же любопытством, с каким входим в богатый особняк. Вот и оказывается в наших руках незнакомая книга, хотя, казалось, все на здешних полках давно знакомо. Эту радость — найти ранее неведомую книгу — и дарит нам букинистическая лавка. Вполне возможно, да так оно часто и случается, что интерес к незнакомой книге пройдет мгновенно, но, как говорится, «хоть миг, да мой». Хотя, конечно же, в конце концов отложишь в сторону и эту достойную книгу, с такой надеждой принесенную домой.
Что и говорить, я — старый книжник, и не раз мне случалось находить у букиниста редчайшие издания. Бывало такое и много лет назад. За опубликованную за границей книгу — редкую книгу, которая, может статься, попадет тебе в руки, — букинист не запросит ту цену, что стоит она в стране, где издавалась. Испанские книготорговцы, простые книготорговцы, вовсе не обязаны знать тайны французской, английской или итальянской библиографии. Как же не рассказать вам, что в одной из букинистических лавок я однажды отыскал вторую часть посмертного издания книги Жана Расина «Краткая история Пор-Руаяля»? Самые осведомленные расинисты сказали мне, что этот том, изданный в Кельне, является исключительным раритетом. Живя в Париже, я попросил посредника по книжной торговле найти эту книгу. Разумеется, не для того, чтобы купить, а просто, чтобы узнать цену, да и можно ли вообще отыскать эту книгу. Длительные поиски ни к чему не привели, книгу невозможно было найти. А если бы она и нашлась, то обладатель такого сокровища запросил бы, конечно, невероятно высокую цену.
Мы с вами, дорогой читатель, находимся в лавке со старыми книгами, в мадридской букинистической лавке. Две лавки, которые я чаще всего посещаю, расположены — одна в конце улицы Дель-Принсипе, а другая в конце улицы Анча-де-Сан-Бернардо. От одной до другой немногим более трех километров. Да, но ведь существует метро! Что ждет нас на этот раз в букинистической лавке? Так вот, недавно я нашел там книжечку в меховом переплете, издана она в Мадриде в 1817 году. Ее название: «Искусный охотник, или Безукоризненный стрелок». Автор обозначен только инициалами на обложке. Эта книжка преподносит нам хороший урок, и в особенности мне, раз я интересуюсь стилистикой. Урок состоит в следующем. Наш охотник, и в самом деле искусный охотник, рассказывает, что однажды «перестрелял целый лес зверей». Да, да, «целый лес». Этот охотник перестрелял целый лес да еще несколько рощ. Стало быть, можно изъясняться таким образом, и это правильно. Кто после этого возьмет на себя смелость утверждать, что изучил все оттенки испанской разговорной речи? Разве можно, к примеру, рассказать о смысловых тонкостях, которые зависят от применения предлогов? Или просто об использовании редко употребляемых слов? Прятаться во Франции или бежать в Францию. Так никто не напишет, но можно и так. А кто умеет управляться с согласованием предлогов? Я заметил, что многие ораторы и некоторые литераторы «спотыкаются», когда пользуются предлогами. Совсем недавно я прочитал следующее: «Я был дружен к Имярек»! Что же касается редко употребляемых слов, то об этом можно говорить много. Говорить об деле? Писать об чем-то? Вот я и сам впал в ошибку, против которой выступаю. Я должен бы сказать «говорить о», и писать следует тоже о чем-то. Ел ли читатель когда-нибудь гранаты? Наверняка наслаждался ими и видел, конечно, тончайшую перегородку между зернышками. Такая же тонкая ткань обволакивает зерно грецкого ореха и миндаля. Как она называется? Святой отец Луис де Гранада, описывая плод граната, говорит о «ткани, нежнее сендаля». А ведь он мог воспользоваться ее собственным именем — tástana[99]. И разве тонкая кожица под яичной скорлупой не имеет своего имени — редко употребляемого слова «fárfara»?[100] Сядем под оливковым деревом, под свисающими ветвями олив испанского Леванта. Разве мы помним, что такие склоненные к земле ветви называются «алабе»? Но здесь возникает опасная путаница: в старых словарях говорится, что «алабе» — это только свисающие ветви оливковых деревьев, а в современных словарях этим словом определяют пригнутые к земле ветви вообще любых деревьев. Что же делать? Смело встать на защиту старины или спокойно согласиться с современным употреблением? О алабе, алабе! И я в растерянности колеблюсь между стариной и современностью. Читатель, дорогой читатель, помоги мне найти выход из этого ужасного положения!
КОММЕНТАРИИ Н. Малиновской
«Асорин» — последнее из трех стихотворений, которые А. Мачадо посвятил Асорину. Перевод осуществлен по полному собранию сочинений, 1969 (A. Machado. Poesias completes. Madrid, Espasa-Calpe, 1969. Nuevas canciones (1917–1930), p. 213–214).
Все произведения Асорина, вошедшие в данное издание, переведены по Собранию сочинений в 9-ти томах, 1948 (Azorin. Obras completes (en nueve volumenes). Madrid, Aguilar, 1948).
ВОЛЯ
Роман впервые был издан в Барселоне в 1902 году. Второе, мадридское, издание (1913) вышло уже под псевдонимом Асорин.
§ Ретабло — заалтарный образ в испанских церквах.
§ Арроба — испанская мера веса, около 11,5 кг.
§ …эррерианского стиля… — Один из стилей испанского барокко, созданный архитектором Хуаном де Эррера (1530–1597) и названный в его честь. Образцом этого стиля может служить построенный по проекту Эрреры ансамбль Эскориала.
§ Эло — город в древней Испании, расположенный на северной окраине современной Еклы; возможно, одна из первых греческих колоний на полуострове.
§ Геркулесова дорога. — Согласно греческой мифологии, Геркулес, возвращаясь из страны Тартесс с коровами Гериона (десятый подвиг), проложил дорогу, ведущую от побережья в глубь теперешней Кампании.
§ Иерофант — верховный жрец в элевсинских таинствах греческой богини Деметры.
§ Адонис — в греческой мифологии божество финикийско-сирийского происхождения, олицетворение умирающей и воскресающей растительности.
§ …здание школы… — Здесь и в «Исповеди захудалого философа» автор описывает екланский колледж при монастыре ордена Благочестия, учрежденного в Риме в 1617 г. Главной задачей ордена было образование и воспитание детей.
§ Праздник Майского Креста. — 3 мая католическая церковь празднует обретение креста господня.
§ …держащий чашу, из которой выползает змея… — Речь идет об Иоанне Богослове, евангелисте. В западном искусстве его часто изображают с чашей, из которой исходит демон яда в виде змейки, ибо яд, поданный святому по велению императора Домициана, не повредил ему.
§ …погруженный в чтение книги… — Евангелиста Матфея обычно изображают с книгой или со свитком.
§ …с острым ножом… — В западной иконографии атрибутом апостола Варфоломея является нож мясника, орудие мучений, которым был подвергнут святой.
§ Св. Франциск де Паула (1416–1508) — испанский мистик, учредил монашеский орден минимов, по уставу родственный францисканскому.
§ …Отец ваш Небесный питает их… — Матфей, 6, 26.
§ …для каждого дня своей заботы. — Матфей, 6, 34.
§ …в царство небесное. — Матфей, 18, 3.
§ …не отнимется у нея. — Лука, 10, 38–42.
§ Эльзевир — книга, изданная в том же формате, что и напечатанные в знаменитых голландских типографиях XVI–XVII вв., которые принадлежали династии издателей Эльзевиров.
§ Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ-иррационалист. Асорин внимательно изучал его труд «Мир как воля и представление».
§ …перипатетические речи. — Перипатос — крытая галерея вокруг двора. Уже Платон имел обыкновение вести беседы, прогуливаясь, и школу его называли «перипатосом», отсюда определение.
§ …«энтропии» вселенной… — Речь идет о гипотезе тепловой смерти мира, к которой ведет превращение всех видов энергии в тепловую и ее равномерное распространение в пространстве.
§ Росарио (исп. — четки) — молитва в честь пятнадцати таинств Богоматери; чередуясь с другими молитвами, читается при обязательном перебирании четок.
§ Мистерия — часть молитвы, посвященная одной из скорбей Богоматери.
§ Экзордий — вступительная часть проповеди.
§ «Angelus» — молитва в честь Богоматери, которую следует читать трижды в день: на рассвете, в полдень и с наступлением темноты; к этой молитве призывает колокольный звон.
§ Жан Батист Ламарк (1744–1829) — французский натуралист и мыслитель; его «Философия зоологии» была опубликована в 1809 году.
§ Трансформизм — представление об изменении растительных и животных организмов; употребляется как синоним эволюционного учения.
§ Лукреций Кар Тит (ок. 96 — ок. 53 гг. до н. э.) — римский поэт, автор поэмы «О природе вещей».
§ Святой Паскуаль (Паскуаль Байлон; 1540–1592) — испанский религиозный писатель, монах-францисканец.
§ Эль Греко (наст. имя и фам. Доменико Теотокопули; 1542–1614) — испанский художник греческого происхождения.
§ Виктория (правильно Витториа Томас Луис; 1540–1608 или 1611) — испанский композитор.
§ Сиснерос (Франсиско Хименес де Сиснерос; 1437–1517) — испанский кардинал, политический и религиозный деятель, исповедник Исабели Католической, регент после смерти Фернандо Католического и Фелипе Красивого.
§ Тереса де Хесус (Тереса Санчес де Сепеда-и-Аумада, или Тереса Авильская; 1515–1582) — испанская религиозная писательница, мистик, реформатор кармелитского ордена.
§ Берругете (Алонсо Гонсалес Берругете; 1490–1561) — испанский скульптор и художник.
§ Уртадо де Мендоса Диего (1503–1575) — испанский писатель, воин и дипломат; автор хроники «Война в Гранаде» (опубл. в 1627 г.).
§ Касикизм — система управления, дающая особый простор произволу; при ней неограниченную власть на местах осуществляет касик (исторически — вождь у индейцев) — влиятельный помещик, буржуа или военный. В Испании касикизм был надежной опорой реакции.
§ …трое друзей… — Далее автор рассказывает о «Манифесте Троих», навеянном идеями X. Косты (здесь назван Антонио Добронравом). Трое — Маэсту, Бароха и Асорин, образовавшие отдельную группу внутри поколения 98 года. См. об этом в книге «Мадрид» (см. наст. изд.).
§ …прекраснейшая из всех стран. — Вольная цитата из речей Панглоса, наставника Кандида (Вольтер. Кандид, или Оптимизм, 1758).
§ Лига — испанская мера длины, равная 5,6 км.
§ Ван Дейк Антонис (1599–1641) — фламандский художник. Гойя-и-Лусьентес Франсиско Хосе де (1746–1828) — испанский живописец, гравер и рисовальщик.
§ Веласкес де Сильва Диего (1599–1660) — испанский художник.
§ Виллет Йохан (Жан) Даниэль де ла (1694–1775) — нидерландский художник.
§ …«приятное с полезным». — Строка из «Послания к Пизонам» (стих 343) римского поэта Квинта Горация Флакка (68 — 8 гг. до н. э.).
§ Монтень Мишель Эйкем де (1533–1592) — французский философ, писатель и моралист; его «Опыты» были настольной книгой Асорина.
§ …очерк о Раймунде Сабундском… — Имеется в виду «Апология Раймунда Сабундского», одна из самых больших глав «Опытов» (ч. II, гл. XII), в которой Монтень раскрывает свои взгляды на религиозные вопросы. По просьбе отца Монтень перевел на французский язык «Естественную теологию» испанского богослова Раймунда Сабундского (? —1432). В этой главе Монтень доказывает безнадежность попытки Раймунда обосновать положения религии с помощью разума и принципиальную невозможность такого обоснования, а также излагает свои сомнения относительно догм, выдвигаемых борющимися религиозными партиями.
§ Пио Бароха-и-Несси (1872–1956) — испанский романист поколения 98 года.
§ Сильверио Ланса (наст. имя и фам. Хуан Баутиста Аморос-и-Васкес Фигероа; 1856–1912) — испанский писатель и публицист, отставной моряк. Асорин посвятил ему одну из глав книги «Мадрид».
§ Кларин (псевдоним Леопольде Аласа-и-Уреньи; 1853–1901) — испанский писатель и литературный критик. Почти всю жизнь Алас прожил в Овьедо, где закончил университет, а затем преподавал право.
§ Виториа (правильно Виториа Франсиско де, или Франсиско Гамбоа; 1483 или 1486–1546 или 1549) — испанский богослов, профессор теологии Саламанкского университета; монах-доминиканец; разработал нормы международного права.
§ Философия энциклопедистов — система взглядов французских просветителей, создававших «Энциклопедию», проект которой разработал к 1750 г. Дени Дидро. Под его руководством работали сто семьдесят лучших умов Франции, среди которых были Д’Аламбер, Вольтер, Монтескье, Руссо.
§ Альварадо Франсиско (1756–1814) — испанский философ, монах-доминиканец, писавший под псевдонимом «Старозаветный философ»; известен своими «Письмами» (1811–1814) реакционного толка.
§ Себальос Хосе (1726–1776) — испанский теолог.
§ Велес Рафаэль де (1777–1850) — испанский теолог, монах-капуцин, архиепископ Бургоса в 1824 г. и Сантьяго-де-Компостелы, автор «Апологии трона и алтаря» (1818).
§ Сентябрьская революция (иначе: «Славная») — революция 1868 г. в Испании; начавшись свержением режима Исабели II, вылилась в гражданскую войну.
§ Позитивизм — философское направление, исходящее из того, что все подлинное (позитивное) знание есть результат отдельных наук или их синтетического объединения. Наука, таким образом, не нуждается в философии. Позитивизм оформился в 30-е годы XIX в. в работах О. Конта.
§ Гостия — облатка у католиков.
§ Спиритуализм — философское воззрение, исходящее из противопоставления духовного и телесного бытия; рассматривает дух как первооснову действительности, независимо от материи.
§ Скептицизм — гносеологическая позиция, в основе которой недоверие к любым взглядам и представлениям, сомнение в существовании истины и надежных критериев. Сложился в древнегреческой философии (Пиррон, Секст Эмпирик). В XVI–XVII вв. скептицизмом именовали всякую критику религии и догматической метафизики.
§ Декарт Рене (1596–1650) — французский физик, математик и философ, основоположник рационализма.
§ Спиноза Бенедикт (1632–1677) — нидерландский философ-пантеист.
§ Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ-идеалист, создал систематическую теорию диалектики.
§ Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ и ученый. Асорин считал Канта «последним великим философом».
§ …не знает «ноуменов»… Только феномены реальны… — Согласно номинализму, течению в западноевропейской средневековой философии, универсалии не имеют реальных соответствий и являются лишь именами (номина). В противоположность им феномен доступен чувственному познанию, являющемуся в опыте.
§ Кельты — индогерманские племена, вторгшиеся в VI в. до н. э. на Пиренейский полуостров.
§ «Сыновья Святого Франциска» — монахи нищенствующего ордена, созданного Франциском Ассизским (1182–1226), итальянским религиозным деятелем, проповедником евангельской бедности.
§ «Эль Импарсиаль» — мадридская газета, основанная в 1866 г.; Асорин работал для нее в марте и апреле 1905 г., когда редактором был Хосе Ортега-и-Мунилья (1856–1922), испанский писатель и публицист, отец философа Ортеги-и-Гассета.
§ Сельгас-и-Карраско Хосе (1821–1882) — испанский писатель, поэт и политический деятель.
§ Кастро-и-Серрано Хосе де (1829–1896) — испанский писатель.
§ Беккер Густаво Адольфо (наст. фам. Домингес Бастида; 1836–1893) — испанский поэт, поздний романтик.
§ Братья Архенсола (Бартоломе Леонардо; 1562–1631; Луперсио Леонардо; 1559–1613) — испанские поэты, приверженцы классического стиля, прозванные «испанскими Горациями».
§ Лоренсана (Альварес де Лоренсана Хуан; 1818–1883) — испанский литератор, политический деятель и дипломат.
§ Роберто Роберт (1827–1873) — испанский поэт-сатирик и публицист, редактор газеты «Ла Демократиа».
§ Эдуардо де Паласио-и-Уэра (? — 1901) — испанский журналист, писавший о корриде под псевдонимом «Сентимьентос», автор популярных романов («Диего Корриентес», «Сердце разбойника»), драматург.
§ Роса Гонсалес (правильно: Гонсалес Роса) — псевдоним испанской журналистки Рехины Описсо Сала де Льоренс.
§ Ласерна Мартинес Хосе де (1855–1927) — испанский врач и журналист, сотрудник газет «Эль Импарсиаль» и «АВС»; основатель Ассоциации испанских журналистов; писал под псевдонимом Хиль Иман и другими.
§ Аримон-и-Тамаро Сантьяго (1876–1921) — испанский адвокат и журналист, обозреватель газеты «Эль Либераль».
§ Караманчель — псевдоним мадридского журналиста Рикардо Хосе Катаринеу Лопеса (1868–1915).
§ Ховельянос-и-Рамирес Гаспар Мельчор де (1744–1811) — испанский писатель, поэт, драматург, ученый и государственный деятель, идейный вождь испанского Просвещения.
§ Антон Рафаэль Менгс (1728–1779) — живший в Испании немецкий художник и теоретик искусства, приверженец классицизма. Придворный художник короля Карлоса III.
§ Культизм (культеранизм) — одно из направлений в испанской литературе эпохи барокко, родоначальником которого был поэт Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627), стремившийся к созданию особого эзотерического поэтического языка, насыщенного сложными метафорами.
§ «Критикан» — роман испанского писателя Балтасара Грасиана-и-Моралеса (1601–1658). См.: Грасиан Б. Карманный Оракул. Критикон. М., Наука, 1981, с. 202.
§ «Сны» (1606, опубл. в 1627 г.) — сатира на церковь и общество испанского писателя и поэта Франсиско Кеведо-и-Вильегаса (1580–1645), которая распространялась в списках под бесцензурным названием «Сон о Страшном суде».
§ …десимы Эспинеля. — Висенте Мартинес Эспинель (1550–1624) — испанский писатель и музыкант, усовершенствовавший гитару; создал особую форму десятистишия (десимы), названную в его честь.
§ Старые фламандцы. — Так называют нидерландских художников XV–XVI вв.: Мастера из Флемаля (Робера Кампена), Яна ван Эйка (1390–1441), Рогира ван дер Вейдена (1399 или 1400–1464), Йоса ван Васенхове, Гуго ван дер Гуса (1440–1482), Ханса Мемлинга (1440–1494), Герарда Давида (ок. 1460–1523) и др.
§ Лео Таксиль (наст. имя и фам. Габриэль Антуан Жоган-Пажес; 1854–1907) — французский писатель-публицист, автор многих антиклерикальных книг (в том числе «Любовные похождения папы Пия IX», «Забавная Библия», «Забавное Евангелие»).
§ …после опубликования энциклики «Humanum genus». — 13 апреля 1884 г. папа Лев XIII (1878–1903; род в 1810 г.) обратился к верующим с посланием, в котором призывал решительно бороться с безбожием. Вскоре Лео Таксиль объявил о своем раскаянии, о возвращении в лоно церкви и поведал миру о духовном спасении Дианы Воган, «бывшей жрицы Сатаны». Не заподозрив подвоха, Лев XIII допустил Таксиля к целованию папской туфли и благословил на борьбу с безбожием. Однако в конце концов Таксиль на собрании Географического общества в Париже в подробностях рассказал о своей двенадцатилетней мистификации, чем вызвал громкий скандал.
§ …солдаты Виктора Эммануила вторглись в Рим. — Имеется в виду Виктор Эммануил II (1820–1878), король Сардинский и первый король объединенной Италии (с 1861 г.). После падения Французской империи его войска одновременно с гарибальдийцами вытеснили из Рима французский гарнизон, тем самым лишив папу римского светской власти.
§ Парокки Лючидо Мария (1833–1903) — итальянский кардинал, богослов и писатель. Через него папа Лев XIII передал мифической Диане Воган свое «святительское благословение».
§ Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский философ, историк религии, востоковед и писатель, автор восьмитомного труда «Происхождение христианства» (1863–1883).
§ Кампоамор-и-Кампоосорио Рамон де (1817–1901) — испанский поэт.
§ Гальдос (Бенито Перес Гальдос; 1843–1920) — испанский писатель, автор многотомной эпопеи «Национальные эпизоды».
§ Алонсо Кихано — настоящее имя Дон Кихота.
§ …в лучшем из возможных миров… — Отсылка к «Кандиду» Вольтера.
§ «…пострадать от кого-нибудь». — См.: Платон. Избранные диалоги. М., 1965, Критон.
§ …восстание в Севилье… — Речь идет о жестоко подавленных восстаниях республиканцев против монархии Бурбонов в 1886 и 1888 гг.
§ «…Считайте меня вашим братом. Лев Толстой». — В государственном музее Л. Н. Толстого хранится письмо от одного из редакторов испанского анархистского журнала «Ла Ревиста Бланка» (основан в 1898 г.) Т. Монье с просьбой прислать статью для альманаха, ежегодно выпускаемого журналом. По всей видимости, Толстой продиктовал это письмо по-французски. Оно было опубликовано в испанском переводе, который цитирует Асорин, в «Альманаке де ла Ревиста Бланка» (Мадрид, 1902).
§ «Эль Либераль» — мадридская газета, основанная в 1879 году.
§ …подвели средства исполнения. — Описанная история действительно имела место. Екланского изобретателя звали Мануэль Даса, и Асорин, возможно, видел его в ранней юности.
§ Ковадонга. — Имеется в виду битва при Ковадонге (718), выигранная первым испанским королем Пелайо (? — ок. 737) и положившая начало освобождению страны от арабского владычества.
§ Лепанто — старинное название города Нафпактоса в Греции. В проливе близ Лепанто в 1572 г. соединенный флот Испании, Венеции и папского престола под командованием Хуана Австрийского (1547–1578) одержал победу над турецкой эскадрой.
§ Сантьяго. — Ставшее в старину испанским воинским кличем, имя апостола Иакова (? — 44), крестителя и покровителя Испании.
§ Ка́вите — портовый город на Филиппинах. В заливе близ Кавите испанский флот в 1898 г. потерпел сокрушительное поражение от американских военных кораблей.
§ …к своим царственным символам… — В испанском гербе есть изображение орла, прялки и пучка стрел как символа единства, введенное католическими королями.
§ Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737–1814) — французский писатель, автор романа «Поль и Виргиния» (1787).
§ Луис де Леон (1527–1591) — испанский гуманист, поэт-мистик и писатель; монах-августинец, профессор богословия Саламанкского университета. Перевел «Песнь Песней», Горация и Вергилия; его главный труд — трактат «Имена Христа» (1583), вольное переложение на испанский язык Священного писания, — имел особое значение, так как перевод евангельских текстов в те времена был запрещен.
§ Доре Поль Густав (1832–1883) — французский художник, иллюстратор многих шедевров мировой литературы.
§ «…сияет белым светом Юпитер». — Автор цитирует первый роман Пио Барохи «Дом Аисгорри» (1900).
§ Протопресвитер Итский Хуан Руис (ок. 1283 — ок. 1350) — испанский поэт, автор «Книги благой любви» (1343), предваренной «Автопортретом».
§ Рохас Фернандо де (1456–1541) — испанский писатель, автор «Трагикомедии о Калисто и Мелибее» (1499), называемой обычно «Селестина» по имени сводни, которое сразу же стало нарицательным.
§ «…вся желтая, худая»… — Строки из «Книги благой любви» Хуана Руиса (757, ас).
§ «Цыганочка» — одна из «Назидательных новелл» (1613) Сервантеса.
§ Гонкуры. — Имеются в виду братья: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870), французские писатели. Их роман «Шарль Демайи» (1860) Асорин перевел для журнала «Ревиста нуэва» в соавторстве с Л. Руисом Контрерасом.
§ Метерлинк Морис (1862–1949) — бельгийский символист, поэт и драматург. Автор вольно цитирует девятую главу «Сокровища смиренных» (1896). Ср.: Метерлинк М. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1911, «Трагическое в повседневности», с. 68–78.
§ Фредерик Амиель Анри (1821–1881) — швейцарский писатель, «Дневник» которого является образцом психологизма.
§ Карлос Ласальде (1841–1906) — испанский педагог и ученый-археолог, учитель X. Мартинеса Руиса (см. наст. изд.).
§ …откопанных им на Холме Святых. — Холм Святых — гора высотой 175 м вблизи Еклы, где уже в XVI в. местные жители находили статуэтки «святых», как их называли в городе. В середине XIX в. раскопки стали производить монахи — историки колледжа, затем, с 1875 г., — мадридские археологи. Помимо руин храма, видимо, греческой архитектуры, было обнаружено около трехсот статуэток высотой 30–70 см, а также несколько фибул и множество железных и керамических предметов, относящихся к V–IV вв. до н. э.
§ Герменевтика — истолковательное искусство, традиция и способы толкования многозначных, обычно древних текстов.
§ …болтовней со всеми встречными. — Древнегреческий философ Сократ (ок. 469–399 гг. до н. э.) сам ничего не писал, лишь проповедовал на улицах и площадях. Его учение было изложено впоследствии учениками — Платоном и Ксенофонтом.
§ Кабала — эзотерическое мистическое учение, сформировавшееся в Испании в XIII в. на основе более ранних направлений иудейской мистики с элементами неоплатонизма и средневековой арабской философии. Священная книга кабалистов «Зогар» («Книга сияния»), написанная в Кастилии в последние десятилетия XIII в. на арамейском языке, аллегорически трактует библейские тексты.
§ …трактат об идеальном государстве — как Платон и Томас Мор. — Речь идет о «Государстве» Платона и «Утопии» (1516) английского писателя, поэта и государственного деятеля Томаса Мора (1478–1538).
§ …как Платон, сторонником сильной власти. — Отсылка к «Законам» Платона.
§ …и Флобер, также мечтавшие о государстве, управляемом учеными… — См. письмо французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880) к Жорж Санд, датированное концом июня — началом июля 1869 г., где он утверждает, что «политика до тех пор будет сущим вздором, пока не окажется в полной зависимости от Науки» (Флобер Г. Избранные сочинения. М., ОГИЗ, 1947, с. 608).
§ Прудон Жозеф (1809–1865) — французский экономист и социолог. В книге «Что такое собственность» приравнивает всякую собственность к воровству.
§ Платон… уравнивает женщин и мужчин в правах… — Об этом см. незавершенный диалог Платона «Критий».
§ …потешался над Платоновым феминизмом. — Речь идет о «Законодательницах» древнегреческого драматурга, «отца комедии» Аристофана (ок. 446 — ок. 385 гг. до н. э.).
§ «…Чамаполта чамаан»… — Юсте с некоторыми неточностями, но, в сущности, верно пересказывает сведения об острове Утопия (см.: Мор Т. Утопия. — В кн.: Утопический роман XVI–XVII вв., БВЛ. М., 1971, с. 77–79, 82). Однако никаких фраз «на утопийском языке» в тексте Томаса Мора нет.
§ Кампанелла Томмазо (Фома; 1568–1639) — итальянский философ и революционер, автор «Города Солнца» (1623). Юсте в целом верно, с небольшими неточностями пересказывает утопию Кампанеллы (см.: Кампанелла Т. Город солнца. — В кн.: Утопический роман XVI–XVII вв., БВЛ. М., 1971, с. 143–144, 152, 157–159).
§ Кондорсе (Жан Антуан Каритат, маркиз де Кондорсе; 1743–1794) — французский математик, философ, экономист. Речь идет о его главном труде — «Набросок об историческом прогрессе в области человеческого духа».
§ Фидий (нач. V в. — ок. 432–431 гг. до н. э.) — древнегреческий скульптор.
§ «Сдача Бреды» (1635) — полотно Веласкеса; находится в двенадцатом зале музея Прадо.
§ «…кто более жесток, люди или звери»… — См.: Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. М., Наука, 1981, с. 90–91.
§ Диего Мурильо (1555–1616) — испанский поэт, монах-францисканец.
§ Феликс де Аламин — испанский религиозный писатель XVII в., монах-капуцин, автор «Портрета истинного священника» (1704).
§ Антонио Арбиоль (1561–1626) — испанский религиозный писатель, монах-францисканец.
§ Бурже Поль (1852–1935) — французский романист и эссеист.
§ Прево Антуан Франсуа (1697–1763) — французский писатель, автор «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» (1731).
§ Бурдалу Луи (1632–1704) — французский иезуит, суровый моралист, автор «Молений».
§ Лютер Мартин (1483–1546) — вождь религиозной реформации в Германии.
§ Ардиета — испанский психолог, опубликовавший в 1901 г. исследование «Внушение и его роль в делах веры, морали и права».
§ Феррандис Габриэль (1701–1782) — испанский религиозный писатель, монах-доминиканец, профессор теологии Валенсийского университета.
§ Ларрага Франсиско — испанский теолог XVIII в., автор трактатов о морали.
§ Сала Бернардо (1810–1885) — испанский теолог, автор учебников по истории религии и церкви.
§ Либераторе Матео (1810–1892) — испанский теолог, иезуит, один из создателей газеты «Чивильта католика» и ее постоянный автор.
§ Ноннотт Клод Франсиск (1711–1793) — французский религиозный писатель и оратор, иезуит; в 1762 г. опубликовал книгу, направленную против Вольтера.
§ Тронкосо Хуан (? — 1873) — испанский священник и религиозный писатель.
§ Сан-Альфонсо Мариа де Лигорио (1696–1787) — неаполитанский религиозный деятель и писатель, основатель ордена Спасителя.
§ …олеография Веласкесова Христа. — Имеется в виду цветная открытка с изображением «Распятия», созданного Веласкесом в 1628 г. для церкви монастыря бенедиктинок Сан-Пласидо в Мадриде. Сейчас картина находится в тринадцатом зале музея Прадо.
§ Портланд — разновидность горной породы, из которой изготавливают высокосортный цемент; названа по месту добычи — британскому полуострову, омываемому Ла-Маншем.
§ Святой Бенедикт Нурсийский — основатель ордена бенедиктинцев, старейшего из католических монашеских орденов (529 г., Италия, Монтекассино).
§ Святой Бернард (1091–1153) — французский религиозный деятель, призывавший ко второму крестовому походу; автор «Писем» и «Теологического трактата».
§ Святой Бруно (1035–1101) — итальянский монах, основатель картезианского ордена.
§ Святой Августин (Аврелий Августин; 354–430) — епископ Гиппона, один из отцов церкви, религиозный писатель, автор «Исповеди» и «Града Божия».
§ Орден Милосердия — основан в 1223 г.; на средства ордена монахи добивались освобождения заключенных за выкуп.
§ Святой Илия. — В ветхозаветных преданиях (Третья и Четвертая Книги Царств) — пророк и чудотворец, аскет-подвижник.
§ Орден Троицы. — Основан Хуаном де Мата в 1196 г.; монахи-тринитарии собирали средства для выкупа плененных арабами христиан.
§ Святой Доминик (Доминго де Гусман; 1170–1221) — испанский проповедник; основанный им в начале XIII в. доминиканский орден ведал учрежденной в 1232 г. инквизицией.
§ Святая Клара (1193–1253) — основательница женского монашеского ордена кларисс.
§ Святой Дамиан (? — ок. 287) — христианский мученик, покровитель врачевателей.
§ «Критика чистого разума» — сочинение И. Канта.
§ Антропоцентризм — представление о человеке как о конечной цели мироздания и центре Вселенной.
§ Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт.
§ Версикулярии. — Здесь: монахини, читающие молитву по очереди с хором.
§ Бальмес Хайме (1810–1848) — испанский теолог, разработал доктрину «теократической демократии», яростный противник протестантства, критике которого посвящен его трактат 1844 года.
§ Атараксия — понятие древнегреческой этики; означает безмятежность, душевный покой, свободу от страха смерти, господство разума над страстями.
§ Альба, герцог (Фернандо Альварес де Толедо; 1508–1582) — испанский полководец, завоеватель Фландрии.
§ Палафокс (Хосе де Ребольедо де Палафокс-и-Мельси; 1776–1847) — испанский генерал, организатор восстания против Наполеона (1808) и обороны Сарагосы в годы войны за независимость.
§ Ларра-и-Санчес де Кастро Мариано Хосе де (1809–1837) — испанский писатель-романтик, революционный публицист.
§ Леопарди Джакомо (1798–1837) — итальянский поэт-романтик. Его поиски высшего оправдания человеческого существования, острое ощущение преходящести всего сущего были особенно близки писателям поколения 98 года.
§ Абсентеизм — форма землевладения, при которой земля как условие производства отделена от собственника и приносит ему доход в виде ренты или прибыли, тогда как сам он не причастен к процессу сельскохозяйственного производства.
§ Палингенезис — развитие, в процессе которого на зародышевой или личиночной стадии у организма возникают признаки его отдаленных предков; эти признаки сменяют друг друга и во взрослом состоянии пропадают.
§ Инвитаторий — антифон, который поют в заутреню.
§ Орден сервиток. — Основан святым Филиппом (? — 1285) в Италии в XIII в.
§ Цистерцианки — монахини ордена, выделившегося в 1098 г. в самостоятельный из ордена бенедиктинок.
§ Госпитальерки — монахини ордена, основанного в 1571 г. святым Иоанном Божьим (Сан-Хуан де Дьос; 1495–1550). Милостыня, которую они собирали, шла на нужды больниц.
§ «Здесь лежит Ларра». — Могила Ларры находится на кладбище Сан-Николас в предместье Мадрида.
§ Трояно Мануэль (1843–1914) — испанский юрист, журналист и общественный деятель, депутат, сенатор. В основанной им газете «Эспанья» Асорин в 1904–1905 гг. опубликовал более сотни статей, в том числе «Парламентские впечатления».
§ Луис де Гранада (наст. имя и фам. Луис де Сарриа; 1504–1588) — испанский религиозный писатель и проповедник, монах-доминиканец.
§ Мельчор Кано (1509–1560) — испанский теолог, монах-доминиканец.
§ Фернандо де Кастро (1814–1874) — испанский историк и богослов.
§ Санча-и-Эрвас Сириако Мария (1833–1909) — испанский кардинал, архиепископ Толедский.
§ Маринус ван Реймерсвале (1493 — после 1567) — фламандский художник.
§ Исабель Католичка (1474–1504) — королева Кастилии; за успешную борьбу по освобождению полуострова от арабов Исабель и ее муж Фернандо Пятый Арагонский (1474–1516) получили прозвание «католические короли».
§ Эрнан Кортес (1485–1547) — испанский конкистадор, покоритель Мексики.
§ Глубочайшее потрясение! — История с детским гробиком не вымысел. Свидетелями ее были Бароха и Асорин, посетившие в ноябре 1900 г. Толедо. Увиденное потрясло обоих настолько, что этот эпизод был вскоре описан в «Дневнике больного» Асорина (затем в «Воле») и в «Пути к совершенству» Пио Барохи. См. также главу в книге «Мадрид» Асорина.
§ …понять пылкий лирический порыв великой святой… — Речь идет о Тересе де Хесус, которая родилась и выросла в Авиле.
§ Кано Алонсо (1601–1667) — испанский скульптор, художник и архитектор.
§ Фернандес де Андрада Педро (по другим источникам — Андрес) — испанский поэт конца XVI в.; здесь имеется в виду его «Послание к Фабио», иначе «Наставление» (149–150).
§ Астрея. — В греческой мифологии богиня справедливости.
§ …сладостный певец «Ясной ночи»… — Имеется в виду Луис де Леон.
§ …глядит без вожделенья. — Строки из стихотворения Луиса де Леона «Фелипе Руису. О мере и постоянстве» (21–25).
§ Реконкиста (букв.: отвоевание) — освободительная война против арабов, вторгшихся на Пиренейский полуостров в 711 г. В ходе этой войны в 1212 г. объединенные войска Леона, Кастилии, Наварры и Арагона одержали решительную победу, но последний оплот арабов, Гранада, пал лишь в 1492 году.
§ …упадок австрийских времен… — Карлос V (1500–1558) из династии Габсбургов, вступивший на престол в 1516 г., стал первым испанским королем австрийского происхождения. В 1770 г. Габсбургов на испанском престоле сменили Бурбоны.
§ Тимонеда Хуан де (? — 1583) — испанский новеллист, поэт и драматург.
§ Руэда Лопе де (1510 — ок. 1565) — испанский драматург, актер и режиссер бродячей труппы.
§ Рохас Соррилья Франсиско де (1607–1648) — испанский поэт и драматург кальдероновской школы.
§ Тельес Габриэль (1584–1648) — испанский драматург, монах-мерсенарий, писавший под псевдонимом Тирсо де Молина.
§ Морето-и-Кабаньо Агустин (1618–1669) — испанский драматург итальянского происхождения, священник.
§ Грасиосо — шут в испанских комедиях.
§ «Ласарильо». — Имеется в виду испанская анонимная повесть, породившая жанр плутовского романа, «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» (1554).
§ «Жизнь пройдохи дона Паблоса, примера бродяг и зерцала мошенников» — роман Франсиско де Кеведо, написанный в 1603–1614 гг. и опубликованный в 1626 году.
§ Сурбаран Франсиско (1598–1664) — испанский художник.
§ Берсео Гонсало де (ок. 1198 — между 1265 и 1270) — первый кастильский поэт, чье имя стало известно.
§ «Романсеро» — сборники испанских романсов, лиро-эпических поэм различного объема, исполняемых под гитару. Жанр романса сложился к XIV–XV вв. Инфантина, паж Верхилиос, граф Кларос — персонажи романсов.
§ …разница между саламанкским школяром… — Асорин ошибается: Ф. де Рохас был ученым адвокатом, он жил и умер в Талавере.
§ …пальцы мне рукой своей сжимает. — Строка из «Книги благой любви» Хуана Руиса (810, dc).
§ …разбить старые «скрижали…» — См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1903. О древних и новых скрижалях, с. 203.
§ …выход в свет… романа Олаиса… «Духовное уединение»… — В тексте далее описывается действительно имевший место банкет по случаю выхода романа Пио Барохи «Путь к совершенству» (1901).
§ Моисей — в преданиях иудаизма и христианства первый пророк Яхве, законодатель, религиозный наставник и политический вождь еврейских племен в исходе из Египта в Ханаан («Второзаконие»).
§ Фрошаммер Якоб (1821–1893) — немецкий философ и теолог.
§ Домье Оноре (1808–1879) — французский график, живописец, скульптор.
§ Гаварни Поль (1801 или 1804–1886) — французский график.
§ Форен Жан-Луи (1852–1931) — французский художник и график.
§ Пляска Смерти. — В средние века так называлось аллегорическое живописное, скульптурное или поэтическое изображение загробного мира, где все сословия и возрасты равны перед лицом Смерти.
§ …гипотеза «вечного возвращения»! — См.: Ницше Ф. Собр. соч., т. IX. М., 1910. Воля к власти, с. 38 и 178.
§ Толанд Джон (1670–1712) — английский философ.
§ Макс Штирнер (наст. имя и фам. Каспар Шмидт; 1806–1856) — немецкий философ. В работе «Единственный и его достояние» (1845) объявляет все социальные институты уродливыми порождениями сознания отдельной личности, что приводит его к проповеди анархизма и противопоставлению своего «совершенного эгоизма» коммунизму.
§ Огюст Конт (1798–1857) — французский философ, один из основоположников социологии и философии позитивизма.
§ Фома Кемпийский (1380–1471) — немецкий монах, религиозный писатель, близкий к предреформационному течению «Братьев общей жизни»; ему приписывают духовное сочинение на латинском языке «Подражание Христу».
§ Картезианство — учение Рене Декарта, названное по латинизированной форме его имени (Картезиус).
§ Гегельянство — совокупность идеалистических течений (30–40 гг. XIX в.), исходивших из учения Гегеля.
§ Хорхе Лагарриге (1854–1894) — чилийский литератор, приверженец и пропагандист позитивизма, учившийся вместе с братом Хуаном Энрике (1852—?), философом-позитивистом, у Конта.
§ Гутенберг (наст. имя и фам. Иохан Генсфляйш; 1394 или 1397–1468) — немецкий типограф; усовершенствовал печатный станок.
§ Биша Мари Франсиск Ксавье (1771–1802) — французский врач, анатом и физиолог.
§ Лаффит Пьер (1823–1903) — французский философ, ученик и последователь Конта. Только в 1892 г. (а не раньше, как считает Старец) по указанию министра просвещения Лаффит получил кафедру философии в Коллеж де Франс.
§ Флорес Антонио (1818–1865) — испанский писатель и журналист.
§ Гизо Франсуа (1787–1874) — французский политический деятель, в 1830 г. — министр в правительстве Луи Филиппа, историк.
§ Пи-и-Маргаль Франсиско (1824–1901) — испанский политический деятель, юрист, писатель, сторонник федеративной республики и демократических реформ; в 1873 г. президент первой Испанской республики. Отзыв Энгельса о Пи-и-Маргале см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 461. Асорин был знаком с Пи-и-Маргалем, который в 1899 г. написал предисловие к его «Социологии преступлений»; послужил прототипом Старца в романе «Воля».
§ Эспронседа-и-Дельгадо Хосе де (1808–1842) — испанский поэт-романтик, публицист и драматург; член революционного кружка.
§ Метсю (точнее: Квентин Массейс; 1465–1530) — фламандский художник; его триптих «Снятие с креста» хранится в двадцатом зале мадридского музея «Ласаро Гальдиано».
§ «Пес в себе» — вариация на тему кантианской «вещи в себе», сущности, скрытой от нашего понимания.
§ Бернштейн Эдуард (1850–1932) — немецкий социал-демократ, идеолог реформизма и ревизионизма. В 1897–1898 гг. опубликовал ряд статей под общим заголовком «Проблемы социализма», где подверг ревизии основные положения марксизма в области философии, политэкономии, теории научного социализма и пролетарской революции. О несостоятельности теории Бернштейна см. в работах В. И. Ленина «Разногласия в европейском рабочем движении» (Соч., т. 16), «Марксизм и ревизионизм» (т. 15) и «Марксизм и реформизм» (т. 19).
§ Аркадия — в древности горная страна в Греции; в переносном смысле — воображаемая страна, населенная счастливыми пастухами и пастушками, место действия так называемых пасторалей.
§ Новый Иерусалим — Небесный Иерусалим, обитель избранных.
§ …13 февраля. — Описанное посещение кладбища Сан-Николас действительно имело место 13 февраля 1901 г. в годовщину смерти Ларры, покончившего с собой 13 февраля 1837 года.
§ Гимн Тересе — вторая песня поэмы «Мир-дьявол», элегия памяти возлюбленной Эспронседы Тересы, умершей в 1837 г.
§ Граф де Кампо-Аланхе, Хосе Негрете (1812–1836) — испанский гранд, военный деятель, писатель и журналист, друг Ларры. Благодаря его финансовой поддержке Ларра провел почти весь 1835 год в Париже и Лондоне. Граф де Кампо-Аланхе умер от ран, полученных в бою; о его славной смерти Ларра пишет в одной из своих последних статей.
§ «Погребение графа де Оргаса» (1586) — полотно Эль Греко, находится в Толедо в церкви Сан-Томе.
§ Месонеро Романос Рамон де (1803–1882) испанский писатель, мастер очерка нравов.
§ Маркиз де Молинс (Мариано Рока де Тогорес-и-Карраско; 1812–1889) — испанский политический деятель, писатель, поэт и литературный критик.
§ «Фигаро» — псевдоним Ларры с 1833 года.
§ …пьян от желаний и от бессилия. — См.: Ларра Мариано Хосе де. Сатирические очерки. М., ГИХЛ, 1956. Ночь под рождество 1836 года, с. 376.
§ Баларт Федерико (1831–1905) — испанский поэт, публицист и политический деятель.
§ Риверо Николас Мариа (1814–1878) — испанский литератор и политический деятель, республиканец.
§ Аррасола Лоренсо (1793–1873) — испанский литератор, юрист (автор «Испанской юридической энциклопедии») и политический деятель; занимал посты министра юстиции и председателя совета министров.
§ Кузен Виктор (1792–1867) — французский политический деятель и философ-эклектик.
§ Пачеко Хоакин (1808–1865) — испанский юрист и драматург.
§ Модесто Лафуэнте (1806–1866) — испанский историк, автор «Истории Испании» (1850–1865).
§ Гарсиа Луна Хосе (1798–1865) — испанский актер.
§ Калатрава Рамон (1786–1876) — испанский политический деятель, сторонник жесткой политики.
§ Мантерола Висенте (1833–1891) — испанский священник, оратор и общественный деятель.
§ Далмау Росендо (? —1902) — испанский певец и композитор.
§ Педро де Мадрасо (1816–1898) — испанский художник.
§ Вильдосола Антонио Хуан де (1830–1893) — испанский писатель, журналист и политический деятель.
§ Карлос Рубио (1832–1871) — испанский историк и политический деятель, автор «Истории испанской революции».
§ Антонио Мариа де Сеговия-и-Искьердо (1808–1874) — испанский писатель, литературный критик и публицист.
§ Антонио Кановас дель Кастильо (1828–1897) — испанский государственный деятель и историк, глава консервативной партии, сторонник умеренной конституционной монархии. Способствовал реставрации Бурбонов в 1874 г. и с 1876 г. определял испанскую политику.
§ Хулиан Ромеа (1813–1868) — испанский драматический актер.
§ Хосе де Саламанка (? —1887) — испанский банкир и политический деятель, занимал ряд постов в правительстве Исабели II.
§ Роке Барсиа (1823–1885) — испанский писатель и политический деятель, составил «Этимологический словарь».
§ Святой Иосиф — Иосиф Обручник; Матфей, 13, 55.
§ Льяно-и-Перси Мануэль (1826–1903) — испанский политический деятель, писатель и публицист.
§ Гомес-и-Эрмосилья Хосе Мамерто (1771–1837) — испанский писатель, лингвист, эллинист (Переводчик «Илиады») и литературный критик. Здесь речь идет о его книге «Критическое суждение об основных испанских поэтах последних лет».
§ Санс Эскартин Эдуардо, граф де Лисаррага (1855–1938) — испанский писатель, политический деятель и социолог.
§ Алькан Мишель (1811–1877) — французский типограф, инженер и политический деятель.
§ Штраус Давид Фридрих (1808–1874) — немецкий философ, автор «Критически переработанной жизни Иисуса» (1835–1836), в которой он объявляет Новый завет лишь литературным памятником, а Христа — исторической личностью, отвергая ортодоксальные версии происхождения христианского предания.
§ Катарина Эммерих (Ана Катарина; 1774–1824) — немецкая визионерка, канонизированная католической церковью в 1892 г. Поэт-романтик Клеменс Мариа Брентано (1778–1842), потрясенный ее откровениями, посвятил почти шесть лет (с 1818 по 1823 г.) записям ее видений. Опубликованные в 1833 г. «Горькие страсти господа нашего Иисуса Христа по видениям блаженной Аны Катарины Эммерих» в записи Брентано имели огромный успех и вскоре были переведены на испанский, французский и английский языки.
§ Пруденций Аврелий Климент (между 348 и 350 — ок. 410) — латинский поэт и ученый.
§ Гарсиа де Паредес Диего (1466–1530) — испанский воин, прозванный «испанским Баярдом».
§ Нинон де Ланкло (1620–1705) — французская куртизанка, редкостная красавица.
§ Энфитеусис — долгосрочный договор, предоставляющий ипотеку на имущество.
§ Антикресис — договор, по которому кредитор пользуется доходами с чужого имущества для погашения долга.
§ Рамос Каррион Мигель (1847–1915) — испанский драматург.
§ Арничес Карлос (1866–1943) — испанский драматург.
§ Верлен Поль (1844–1896) — французский поэт.
§ Малларме Стефан (1842–1898) — французский поэт-символист.
§ Беркли Джордж (1684–1753) — английский философ.
§ Андрес Пикер-и-Аррифат (1711–1772) — испанский врач и философ, профессор анатомии Валенсийского университета, личный врач испанских королей Фернандо VI и Карлоса III. Его «Логика» была издана дважды — в 1747 и 1771 гг.
§ Тартана — небольшая крытая повозка.
§ Дева Кармильская — покровительница испанских моряков.
§ Хоругвь Лас-Навас — знамя, под которым соединенные войска испанских королевств одержали победу над арабами в 1212 г. близ. Лас-Навас-де-Толоса. Упоминание о хоругви в письме, адресованном Барохе, имеет особый смысл. Это реплика концовки романа Барохи «Путь к совершенству», где герой (чья судьба, если не тешить себя иллюзиями, которых не чужд автор, столь же плачевна, как и судьба Антонио Асорина) мечтает о будущем своего сына: «Пусть он, не знающий ни в чем принуждения, вырастет тем, кем ему суждено быть, — даже чудовищем!» А мать младенца (деревенская Илуминада, принятая героем за воплощение народной души) зашивает ему в распашонку листок из Евангелия.
§ Тривиум (от лат.: трехпутье) — изучение грамматики, диалектики и риторики в средневековых школах, первый этап обучения.
§ Квадривиум (от лат.: четырехпутье) — второй этап обучения: овладение геометрией, арифметикой, музыкой и астрономией.
§ Косидо — испанское блюдо из мяса и овощей.
§ Манреса Хосе — испанский правовед, министр юстиции в 1849 году.
§ Муций Сцевола Публий — римский правовед, консул в 133 г. до н. э., затем верховный понтифик. Цицерон назвал его основателем науки о гражданском праве.
§ Фрейха-и-Рабассо Эусебио (1824–1894) — испанский публицист и революционер.
§ Сильвела Агустин Франсиско (1843–1905) — испанский политический деятель, ставший после убийства Кановаса дель Кастильо главой консервативной партии. В 1902 г. председатель совета министров.
§ Маура Антонио (1853–1925) — испанский политический деятель, сменивший во главе консервативной партии Сильвелу. Руководил государственной политикой с 1903 г. по 1923 г., проводя реформы, навеянные идеями поколения 98 года. После установления диктатуры подал в отставку и возглавил консервативное крыло оппозиции.
ИСПОВЕДЬ ЗАХУДАЛОГО ФИЛОСОФА
«Исповедь захудалого философа» с подзаголовком (впоследствии снятым) «Детство Антонио Асорина» была впервые опубликована в Мадриде в 1904 г. и переиздана с дополнениями в 1909 году.
§ Гарсиласо де ла Вега (1501–1536) — испанский поэт, реформатор поэтического языка.
§ Мариана Хуан де (1537–1624) — испанский теолог и историк, автор тридцатитомной «Истории Испании» (1592), написанной на латыни и затем переведенной на испанский язык.
§ Вивес Хуан Луис (1492–1540) — испанский гуманист, философ и педагог. Писал на латыни.
§ Тэн Ипполит Адольф (1828–1893) — французский эстетик, историк, литературовед и философ, основатель культурно-исторической школы.
§ Лафонтен Жан де (1621–1695) — французский поэт, баснописец и драматург.
§ «Что за ребенок…» — Первый учитель Асорина Франсиско Льорет, узнавший себя в герое этой главы, уверял, что она строго документальна, вплоть до цитируемой фразы.
§ …любил сажать деревья… — В герое этой главы жители Еклы узнали Хосе Антимо, но имена его собак и другие подробности ко времени беседы с литературоведом, собиравшим материалы для биографии Асорина, стерлись из их памяти.
§ Барнум Финеас Тейлор (1810–1891) — американский цирковой импресарио.
§ «…кошмарный городишко». — Асорин цитирует Пио Бароху. См.: Бароха П. Путь к совершенству. М., Книгоиздательство «Современные проблемы», 1912. Гл. XXXIII, с. 239.
§ …музейных залах. — Статуэтки с Холма Святых хранятся в Лувре, в Мадридском археологическом музее (третий зал), Археологическом музее Альбасете, а также в историческом кабинете колледжа в Екле. Часть их, как установлено, искусная подделка, изготовленная местным умельцем — екланским часовщиком.
§ Сарсуэла — традиционный испанский жанр музыкальной драмы, в которой пение и танцы чередуются с диалогом.
§ Дедушка Асорин. — Дед Асорина по отцу Хосе Сориано Гарсия действительно оставил своему старшему внуку все упоминаемые в главе рукописи. Сохранился и описанный здесь портрет.
§ Святой Исидро Пахарь (1082–1170) — покровитель своего родного города Мадрида.
§ Талейран Перигор Шарль Морис, князь Беневентский, герцог Дино (1754–1838) — французский политический деятель и дипломат; получил духовное образование, был аббатом, викарием в Реймсе, с 1788 г. — епископ Оттенский, затем перешел на позиции третьего сословия и, в частности, предложил передать церковное имущество в распоряжение всей нации.
§ Пий Седьмой (в миру: Грегорио Луиджи Барнаба Кьярамонти; 1740–1823) — римский папа с 1800 г. по 1823 г. Проводил политику уступок наполеоновской Франции, участвовал в коронации Наполеона, который в 1809 г. вывез его во Францию и лишил светской власти (вновь обретенной лишь в 1814–1815 гг.). В 1814 г. Пий VII восстановил запрещенный в 1773 г. орден иезуитов.
§ «Морской ветер» — стихотворение из сборника Малларме «Стихи» (1887).
§ Фландрская война — ряд неудачных попыток Испании подавить восстание в Нидерландах (1565–1609), в результате которого семь провинций из семнадцати завоевали независимость. Права на Нидерланды испанский престол обрел вследствие брака Хуаны Безумной, ставшей в 1504 г. кастильской королевой, с Фелипе I Красивым (1478–1506). Брак был заключен в 1496 году.
§ Спинола Амбросио де (1571–1630) — знатный генуэзец, главнокомандующий испанской армией в Нидерландах.
§ …брал… Остенде… — Город Остенде был взят испанцами в 1604 г. после двухлетней осады.
§ …при сдаче Бреды. — Крепость Бреда была сдана в 1625 г. по предварительному соглашению. Гарнизон ушел с оружием и флагами, передав ключи от крепости испанскому главнокомандующему Спиноле; эта сцена запечатлена на полотне Веласкеса «Сдача Бреды».
§ …тревогой, в которой признавался и поэт Бодлер. — Отсылка к стихотворению «Окна» из сборника Бодлера «Парижский сплин».
§ «…дорогу вьет вьюнок…» — Строки из Первой эклоги (187–188). Гарсиласо де ла Веги.
§ …не избавит. — Строки из той же эклоги (349–350).
§ …говаривал другой философ… — Асорин дает собственную, вольную формулировку мысли, высказанной Платоном в «Теэтете» (см.: Платон. Сочинения в трех томах, т. 2. М., 1968, с. 276) и «Пармениде» (там же, с. 405, 406, 423, 435, 442, 444).
ПУТЬ ДОН КИХОТА
Серия очерков, составившая впоследствии книгу «Путь Дон Кихота», была опубликована в 1905 г. в газете «Эль Импарсиаль». Особую известность приобрело второе, иллюстрированное фотографиями издание 1912 г. Уже в 1914 г. книга была переведена на французский язык, а в 1923 г. на немецкий язык.
§ …трудятся пчелы. — О доне Сильверио см. главу «Тобосские мигелисты» (XIV).
§ Карлос V (1500–1558). — Имеется в виду Карлос I, испанский король, который с 1519 г. по 1556 г. под именем Карлоса V был императором Священной римской империи. В 1556 г. отрекся от престола и удалился в монастырь.
§ Карлос III (1716–1788) — испанский король с 1759 г., просвещенный монарх, изгнавший из Испании в 1767 г. иезуитов.
§ Олья — испанское национальное блюдо из мяса и овощей.
§ Фелипе II (1527–1598) — испанский король с 1556 года.
§ Ариосто Людовико (1474–1533) — итальянский писатель, создавший в 1506–1532 гг. героическую рыцарскую поэму «Неистовый Роланд».
§ «Погребение» — полотно Эль Греко «Погребение графа Оргаса», на котором представлено отпевание Руиса Гонсало де Толедо (ум. в 1312 или 1323 г.), графа Оргаса, отмеченное чудесным пришествием святого Стефана и блаженного Августина. Это замечательный групповой портрет — в черных одеждах с белыми гофрированными воротниками позади святых и умершего стоят известные в Толедо ученые, священники, воины. Картина была заказана для толедской церкви Сан-Томе, перестроенной из мечети в готический храм на средства графа Оргаса.
§ …«победить самих себя». — См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1903. «О преодолении самого себя», с. 113.
§ …книгу об «Амадисе»… — Имеется в виду рыцарский роман «Амадис Гальский», написанный португальцем Васко де Лабейра между 1342 и 1367 гг. и переведенный на испанский язык в середине XV в. Последняя часть романа написана Гарси Ордоньесом Монтальво; он же внес исправления и в первую часть. В таком виде роман опубликован в Сарагосе в 1508 году.
§ «Тирант Белый» — каталонский рыцарский роман, созданный Жоаном Маторелем при участии Марти Жоана де Гальба между 1450 и 1470 гг., опубликован в 1490 году.
§ Джироламо Кардано (1501–1576) — итальянский философ, математик, врач и астролог.
§ …во время юбилея… — Имеется в виду трехсотлетний юбилей со времени выхода в свет первой части «Дон Кихота» (опубл. в 1605 г.). В рамках этого события в 1905 г. в Мадриде была проведена научная конференция сервантистов под руководством Наварро Ледесмы, опубликована книга Асорина «Путь Дои Кихота», а также «Жизнь Дон Кихота и Санчо» М. Унамуно, «Перед праздником Дон Кихота» Р. де Маэсту, «Психология Дон Кихота и кихотизм» С. Рамона-и-Кахаля, «Словарь „Дон Кихота“» X. Сехадора-и-Фрауки.
§ Торрес Наарро Бартоломе (1476–1531) — испанский драматург и теоретик драмы. «Пропалладиа» (букв.: «Дары Афине Палладе») — собрание его сочинений, изданное в 1517 году.
§ Пауль Шмицт — мадридский знакомый Пио Барохи и Асорина. Об этом швейцарце, жившем в начале века в Испании и интересовавшемся всем испанским, Асорин неоднократно упоминает в книге «Мадрид». Шмицт, познакомивший поколение 98 года с еще не переведенными книгами Ницше, послужил прототипом Шульце в «Пути к совершенству» Пио Барохи.
§ …читайте Ларру… — Отсылка к очерку Ларры «Приходите завтра». См.: Ларра Мариано Хосе де. Сатирические очерки. М., ГИХЛ, 1956, с. 89–100.
§ «… словно прошел миль десять». — Цитата из «Персидских писем» французского просветителя, философа, писателя и публициста Шарля де Секонда, барона де Монтескье (1689–1755). См.: Монтескье Ш. Персидские письма. Пер. с фр. под ред. Е. Гунста. М., 1955, Письмо XXIV, с. 75.
§ Новиков Яков (Иаков) Александрович (1849–1912) — русский историк и социолог. Книга, которую упоминает Асорин, вышла в Париже в 1894 г. на французском языке.
ТРАГИЧЕСКАЯ АНДАЛУСИЯ
Под этим общим названием в апреле 1905 г. в газете «Эль Импарсиаль» были опубликованы пять очерков, включенные затем (под тем же названием) как вторая часть в книгу «Захолустье. Очерки провинциальной жизни», вышедшую в Мадриде в конце того же года.
§ …сойдут с ума. — Цитируется стихотворение «Андалузка» из первого поэтического сборника «Сказки Испании и Италии» (1829) французского поэта Альфреда де Мюссе (1810–1857). См.: Мюссе А. де. Избранные произведения. М. — Л., 1952, с. 54.
§ Маньяра Висентело де Леса Мигель де (1628–1679) — севильский дворянин, прототип легендарного соблазнителя Дона Хуана, чье имя (в общеевропейской форме — Дон Жуан) стало нарицательным. В 1662 г., став рыцарем ордена Калатравы, Маньяра основал в Севилье больницу Милосердия. Перед зданием больницы в 1902 г. был установлен бронзовый памятник де Маньяре работы Сусильо.
§ Андуэса Хосе Мариа (1809—185?) — испанский романист и драматург.
§ Родригес Сапата-и-Альварес Франсиско (1813–1899) — испанский священник и филолог, профессор риторики Севильского университета.
§ Хиральда — почти стометровая арабская башня, украшенная орнаментами, сначала минарет большой мечети, затем христианская колокольня. Возведена арабами в 1184–1198 гг. В середине XVI в. по проекту Эрнана Руиса (ум. в 1583 г.) были достроены еще пять ярусов; с 1567 г. башню венчает четырехметровая статуя Веры — огромный флюгер, давший башне имя (хиральда в переводе с исп. — флюгарка).
§ …рассказывает Сервантес в «Собаках Маудеса»? — Эта назидательная новелла, созданная в 1603–1604 гг., получила известность под другим названием — «Беседа собак». Хозяин собак Маудес, видимо, реальное лицо — служитель вальядолидской больницы Воскресения, в которой после своего исцеления от тяжелой болезни он остался ходить за недужными.
§ …бюст… Небрихи. — Памятник испанскому гуманисту Элио Антонио де Небрихе (ок. 1444–1522), автору испано-латинского и латино-испанского словарей, был воздвигнут в его родном городе Лебрихе в честь пятисотлетия со дня рождения ученого.
§ Серрано-и-Домингес Франсиско, герцог де ла Торре (1810–1885) — испанский генерал и политический деятель. После низложения Исабели II вместе с Примом возглавил коалиционное правительство (1868). В 1869 г. был регентом, в 1872 г. — председателем совета министров.
§ Прим-и-Пратс Хуан, граф де Реус, виконт де Бруч, маркиз де лос Кастильехос (1814–1870) — испанский генерал и политический деятель, один из лидеров партии прогрессистов, сторонник конституционной монархии. Был убит при таинственных обстоятельствах.
§ Мендес Нуньес Касто (1824–1869) — испанский мореплаватель, военный моряк.
§ Эспартеро Бальдомеро (1793–1879) — испанский генерал, герой первой карлистской войны, сражавшийся на стороне Марии Кристины. Регент, по сути дела диктатор с 1840 г. по 1843 г. В 1855 г. — председатель кортесов.
§ Лопес Домингес Хосе (1828–1911) — испанский генерал и политический деятель, либерал; был сенатором, военным министром и президентом совета министров.
§ Сантим — монета, составляющая сотую часть песеты.
§ …шлифует линзы наподобие Спинозы… — Спасаясь от преследования, которым он подвергался со стороны руководителей еврейской общины за свои атеистические взгляды, Спиноза поселился в деревне и зарабатывал себе на жизнь шлифовкой линз.
ИСПАНИЯ
Состоящая из тридцати глав, с подзаголовком «Люди и пейзажи», эта книга впервые была опубликована в Мадриде в 1909 г. В 1929 г. переведена на французский язык.
§ …за Собором… — Имеется в виду перестроенный из мечети, заложенной в 785 г. эмиром Абдерахманом II и расширенной в 961–976 гг. Хакемом II, Кордовский собор. Мечеть была освящена как христианский храм в 1236 г. С этого времени внутри мечети начинается возведение часовен, которых сейчас более пятидесяти. Непоправимый урон художественной целостности памятника был нанесен строительством в центре мечети готической церкви по проекту Эрнана Руиса, начатой в XVI в. и завершенной уже в другом стиле — барокко — только в 1766 г. При начале строительства жители Кордовы протестовали, и архиепископ был вынужден обратиться за разрешением к Карлосу V. Увидев в 1526 г. и церковь и мечеть, король пожалел о данном разрешении: «Вы построили то, что можно возвести где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире».
§ Апельсиновый дворик. — Внутренний двор Кордовской мечети, засаженный ровными рядами апельсиновых деревьев; там же расположены пять фонтанов.
§ Святой Филипп — один из Двенадцати апостолов, замученный в 87 г.
§ Зеленый Сантьяго — так называют в Испании апостола Иакова Младшего (ум. ок. 62 г.). Его день — 3 мая — один из самых больших праздников весенней обрядности, праздник влюбленных и цветов с выборами майских короля и королевы.
§ Святой Рох (1293–1327?) — французский целитель, избавитель от чумы, покровитель паломников и врачей.
§ Кармелитки — католический монашеский орден, основанный во второй половине XII в. в Палестине.
§ Перико — уменьшительно-ласкательная форма имени Педро.
§ Лоран Франсуа (1810–1887) — бельгийский юрист и публицист, автор «Истории человечества» (1860–1870), в которой он требовал отделения церкви от государства.
КАСТИЛИЯ
Книга, состоящая из четырнадцати глав, впервые была издана в Мадриде в 1912 г. Асорин посвятил ее памяти испанского художника-импрессиониста, мастера кастильского пейзажа Аурелиано де Берруэте (1845–1911). Антонио Мачадо откликнулся на эту публикацию двумя стихотворениями: «Асорину за его книгу „Кастилия“» («Поля Кастилии», CXVII) и «Из моего угла» (цикл «Хвалы», CXLIII).
§ …некоей Селестины. — Описание Асорина точно соответствует тексту «Трагикомедии о Калисто и Мелибее» Ф. де Рохаса.
§ Сид (от ар.: господин) — прозвище испанского национального героя, рыцаря, прославившегося во время Реконкисты, Родриго Диаса де Вивара (ок. 1043–1099). Он стал прототипом героя испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде» и цикла исторических романсов.
§ …романс… о красавице Бланкафлор… — Романс о любви христианки, красавицы Бланкафлор, и мавританского принца Флореса.
§ «Братец-балагур» — плутовской роман, известный также под названием «Алонсо, слуга многих господ», принадлежащий перу испанского писателя и сеговийского врача Херонимо де Алькала Яньеса-и-Риверы (1563–1632). Первая часть романа увидела свет в 1624 г., вторая — в 1626 г. Автор имеет в виду следующий эпизод: «…и перепели все романсы, что пришли им на память, — и о доне Педро, и о доне Альваро де Луна, и о доне Санчо, и об осаде Саморы. Не забыли пропеть и о доблестных деяниях Сида, и о Бернардо дель Карпио».
§ Святой Григорий (ок. 540–604) — папа римский Григорий Великий, канонизированный католической церковью; молитва этому святому одна из самых длинных.
§ …великая революция… — Имеется в виду Великая французская революция 1789 года.
§ …как королю и королеве. — Людовика XVI и Марию Антуанетту казнили в 1793 году.
§ …Калисто и Мелибея поженились… — В «Трагикомедии…» Ф. де Рохаса герои гибнут.
§ «Менины» — картина Веласкеса, созданная в 1656 г. Ей отведен отдельный — пятнадцатый — зал музея Прадо.
§ «Приходи ко мне в сад». — Автор неточно цитирует Ф. де Рохаса. См.: Рохас Ф. де. Селестина. М., ГИХЛ, 1959. Действие XII, с. 157.
§ …и не жалей былого. — Строки из «Книги благой любви» (179, cd).
§ «…это зрелище жизни». — Строки из поэмы Рамона де Кампоамора «Колумб» (Песнь XII).
§ «…это смотреть вослед». — Строки из той же Песни.
§ Гильен де Кастро-и-Бельвис (1569–1631) — испанский драматург и воин. Автор цитирует слова отца Сида из 1-го действия пьесы «Юность Сида» (1618).
§ …проливающими слезы… — Цитата из испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде», сложенной около 1140 г.
ГОРОДОК
Книга «Городок (Риофрио-де-Авила)» впервые была опубликована в Мадриде (издательство «Студенческая резиденция») в 1916 г. Именно ей (и в меньшей степени «Кастилии») посвящена статья X. Ортеги-и-Гассета «Асорин, или Очарование обыденности».
§ …авторов «Ласарильо»… — Анонимная повесть «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554) без серьезных на то оснований приписывалась настоятелю ордена св. Иеремии Хуану Ортеге, а также Диего Уртадо де Мендосе, Лопе де Руэде и другим испанским писателям.
§ …и «Селестины»? — Первое издание «Трагикомедии…» (1499) появилось анонимно. Во втором (1501) имя автора расшифровывалось в акростихе — Фернандо де Рохас.
§ «…дал ему гроздь…» — См.: Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения. — В кн.: Плутовской роман. М., БВЛ, 1975, с. 31.
§ Эразм Роттердамский (1466–1536) — нидерландский ученый-гуманист, богослов, писатель и филолог.
§ Аттические беседы — иначе говоря, философские беседы, так как политическим и культурным центром Аттики был город Сократа и Платона — Афины.
§ …на этих простых людей. — Цитата из книги Монтеня «Опыты» (М., Наука, 1979. Книга вторая. Гл. XII, с. 424).
§ Фермин Кабальеро (1800–1876) — испанский политический деятель и географ.
§ Чуло — франт.
§ Эстебаньес Кальдерон Серафин (1799–1867) — испанский писатель, мастер очерка нравов, арабист, историк и военный.
§ …посылал привет милой Заике? — Имеется в виду письмо Проспера Мериме Эстебаньесу Кальдерону (т. XVI, доп., с. 223).
§ Пепа Ла Бандерильера — мадридская певица; о ней там же, т. XII, с. 278.
§ Бизе Жорж (1838–1875) — французский композитор. Разочаровавшись в новаторстве Р. Вагнера («Дело Вагнера», 1888), Ницше возложил свои надежды на высвобождение дионисийского начала на Ж. Бизе.
§ Бланшар Франсуа (1753–1809) — французский аэронавт, изобретатель парашюта.
§ Монгольфье, братья: Жозеф (1740–1810) и Этьен (1745–1799) — французские инженеры, изобретатели аэростата.
§ Торрес Вильяроэль Диего де (1693–1770) — испанский поэт, писатель и ученый, прославившийся как астролог; в литературе считал себя учеником Кеведо.
§ Тициан Вечелио (ок. 1477–1576) — итальянский художник венецианской школы.
§ …второй части «Дон Кихота». — Вторая часть романа была опубликована в 1615 г., когда Сервантесу исполнилось шестьдесят восемь лет.
§ «Персилес и Сихизмунда». — Имеется в виду последний роман Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды», изданный посмертно в 1617 г.
§ Рафаэль Санти (1483–1527) — итальянский живописец, скульптор и архитектор.
§ Гюйо Жан-Мари (1854–1888) — французский философ-позитивист, профессор лицея Кондорсе. Его работа «Происхождение понятия времени» напечатана посмертно в 1890 г. Идеи Гюйо, выраженные в этой работе, довольно близко к тексту пересказывает Юсте в «Воле».
§ Надар (наст. имя и фам. Турнашон Гаспар Феликс; 1820–1910) — французский журналист и график-карикатурист. Увлекался воздухоплаванием, первым в 1863 г. произвел аэрофотосъемку с воздушного шара «Гигант» (объемом 6000 м3), о путешествии на котором в 1864 г. написал книгу.
§ …во время осады 1871 г.… — В ходе франко-прусской войны 19 сентября 1870 г. Париж был окружен; осада города длилась до подписания 26 февраля 1871 г. предварительного мирного договора на тяжелых для Франции условиях.
§ Сарсе де Сютьер Франсиск (1827–1899) — французский литературный и театральный критик и публицист. Здесь речь идет о его книге «Осада Парижа. Впечатления и воспоминания».
§ Фанега — мера сыпучих тел, равная 55,5 л.
§ «…или своего сына…» — См.: Монтень М. Опыты. М., Наука, 1979. Книга третья, гл. XII, «О физиогномии», с. 242–243.
§ Фейхоо-и-Монтенегро Бенито Херонимо (1676–1764) испанский ученый и писатель-эссеист, монах-бенедиктинец, профессор Овьедского университета, прозванный «испанским Вольтером», автор «Ученых и любознательных писем» (1742–1760) и «Всеобщего критического театра».
§ «…не встали из-за стола насытившись…» — Цитата из XII речи 8 тома «Всеобщего критического театра» Бенито Херонимо Фейхоо.
§ Бернардо Эспинальт-и-Гарсиа — испанский литератор XVIII в., выпустивший с 1778 г. по 1795 г. четырнадцать томов географического описания Испании.
§ Месонеро Романос Рамон де (1803–1882) — испанский писатель, автор очерков о Мадриде и трудов по истории и археологии столицы.
§ Паломино Хуан Фернандо (? — 1793) — испанский график.
§ Миньяно Себастьян (1779–1845) — испанский священник, историк и писатель-сатирик; автор одиннадцатитомного географического словаря, пестрящего ошибками.
§ Мадос Паскуаль (1806–1870) — испанский ученый, автор «Испанского географического, статистического и исторического словаря».
§ Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон — церковь Вознесения Богоматери.
§ «…неизвестные им народы». — См.: Монтескье. Персидские письма. М., 1936. Письмо LXXVIII, с. 172.
§ …неправильно перевели?.. — Цитата точна, перевод верен.
§ Манна — согласно Библии, чудесная пища, которую израильтяне получали с неба во время сорокалетнего странствия по пустыне (Исход. 16, 15, 14, 31). Это вещество отождествляют с продуктом жизнедеятельности насекомых, обитающих на ветвях произрастающего в Синайской пустыне дикого тамариска.
§ Хуан Валера-и-Алькала Галиано (1824–1905) — испанский писатель, критик, литературовед и дипломат. Резко критиковал ницшеанство в книге «Сверхчеловек и другие новации» (1903), что и вызвало осуждение Асорина.
§ «Ave Maria» — «Богородице Дево радуйся», начальные слова молитвы. По преданию, так обратился к деве Марии архангел Гавриил, объявивший ей о рождении сына.
§ Флорес де Сетьен-и-Уидобро, фрай Энрике (1702–1773) — испанский теолог, монах-августинец, археолог и историк, автор двадцатидевятитомной «Священной Испании».
§ Полибий (ок. 210 — ок. 125 гг. до н. э.) — греческий историк, автор «Всеобщей истории», из которой до наших дней дошло пять книг.
§ Страбон (ок. 58–25 гг. до н. э.) — греческий географ и историк, автор «Географии».
§ Тиберий — второй римский император, правивший с 14 г. по 37 г.
§ Помпоний Мела — римский географ I века.
§ Плиний (Гай Плиний Секунд Старший; 23–79) — римский писатель и ученый, автор «Естественной истории» в тридцати семи томах. В средние века его «История» была основным источником сведений о природе, иногда фантастических.
§ Клавдий I (Тиберий Друз; 10 г. до н. э. — 54) — римский император.
§ Веспасиан — римский император с 69 г. по 79 г.
§ Птолемей Клавдий (II в.) — греческий астроном и географ, незыблемый авторитет для средневековой науки, создатель геоцентрической системы, просуществовавшей до Коперника.
§ Адриан Публий Элий (76—138) — римский император с 117 г. по 138 г., уроженец Испании.
§ Антоний Пий (86—161) — римский император с 138 г. по 161 г., при котором была составлена географическая опись Римской империи — упоминаемый далее «Путеводитель».
§ Абрахам Ортелий (1527–1598) — фламандский географ и картограф, придворный географ Фелипе II.
§ Хуан Альварес де Кольменар — испанский писатель конца XVII — начала XVIII вв. Упомянутая книга была издана в 1707 году.
§ …Геометрический шаг… — мера длины, равная 1,393 м.
§ …Стадий… — единица измерения расстояний, введенная в Вавилоне и затем получившая греческое название. Вавилонский стадий равен 194 м, римский — 185 м.
§ …шириною в три локтя открыто? — Вергилий. Сельские поэмы. М., 1933. Эклога третья (104–105). Пер. С. Шервинского, с. 104.
§ …замыкают ее холмы отовсюду. — Вергилий. Энеида (598–599). М., 1933. Пер. В. Брюсова, с. 219.
§ Великий год — период, в течение которого все планеты вместе завершают свой кругооборот, т. е. 25 800 обычных лет.
§ «Разверз камень и потекли воды». — Псалом 104, 41.
§ Гиппократ (ок. 460 — ок. 375 гг. до н. э.) — знаменитый врач Древней Греции, основоположник научной медицины и естествоиспытатель.
§ Фейхоо… пишет… — Включенная во «Всеобщий критический театр» речь называется «Медицинские парадоксы». О том же Фейхоо рассуждает в семнадцатом письме (т. IV).
§ Королевская резиденция Сан-Ильдефонсо, иначе Ла-Гранха (провинция Сеговия) — дворец, выстроенный при Фелипе V (1683–1746), короле Испании с 1700 г.
§ …назвал их «демониями». — Дословная цитата из речи Фейхоо «О чудесах природы», в которой говорится об Аристотеле (Всеобщий критический театр, т. VI).
§ Тоска Томас Висенте (1651–1723) — испанский священник и ученый: физик, физиолог, архитектор и математик, автор «Курса математики».
§ Пирронизм — скептическое направление в греческой философии, основоположником которого был Пиррон (ок. 365 — ок. 275 гг. до н. э.). В XVII–XVIII вв. термином пирронизм широко пользовались для обозначения скептицизма.
§ Диоскорид — греческий врач I века, знаток лечебных трав.
§ Лагуна Андрес (1494 или 1499–1560) — испанский писатель, ботаник и придворный врач Карлоса 1, знаток греческого языка, переводчик и комментатор античных сочинений.
§ Турнфор Жозеф Питтон де (1656–1708) — французский ботаник и путешественник.
§ Линней Карл фон (1707–1778) — шведский естествоиспытатель и ботаник, автор классификации растений и животных.
§ Соломон (ок. 965–928 гг. до н. э.) — третий царь Израильско-Иудейского государства, изображенный в ветхозаветных книгах величайшим мудрецом. Изрек три тысячи притчей и тысячу пять песен, в которых описал свойства всех растений, птиц и зверей.
§ Монтанья — народное название провинции Сантандер.
§ Кадальсо-и-Васкес Хосе (1741–1782) — испанский просветитель, писатель, поэт и драматург. Памфлет «Энциклопедия для салонных эрудитов» был написан в 1772 г. Гербам и геральдике в «Энциклопедии» отведено полстраницы в главе «Воскресенье».
§ …термины черной магии, коими щеголял клирик… — Здесь автор не точен: студент лишь похваляется, что сведущ в черной магии. См.: Сервантес М. де. Собр. соч., т. 4. М., 1961. Саламанкская пещера, с. 321.
§ …сам себе делал сандалии… — Цитата из «Одиссеи» Гомера (гл. XIV, 23–24).
§ …соорудил кровать. — История о кровати, которую нельзя было сдвинуть с места, известная только Одиссею и Пенелопе, изложена в гл. XXIII «Одиссеи» Гомера (185–204).
§ Магон — основатель карфагенского могущества в конце VI в. до н. э. Ему приписывают сочинение о сельском хозяйстве, переведенное на латинский язык. Римляне называли его «отцом сельского хозяйства». Магона обильно цитируют Барон, Колумелла, Палладий, Плиний.
§ Ксенофонт (ок. 430 — ок. 355 гг. до н. э.) — древнегреческий писатель-историк, философ и военный.
§ Катон Цензор, или Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, оратор, автор утраченного сочинения «Происхождение Рима» и трактата о сельском хозяйстве.
§ Варрон Марк Теренций (116—27 гг. до н. э.) — римский поэт и ученый. До нас дошли только три книги его «Сельской экономии».
§ Колумелла Луций — римский писатель I в., автор сельскохозяйственного трактата.
§ …с утра до вечера проводят в тавернах. — Отсылка к словам из книги пророка Исайи (5, 12): «И цитра, и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют».
§ Орфей. — В греческой мифологии певец и музыкант, завораживавший своим искусством не только людей, но и богов и природу.
§ Амфион. — В греческой мифологии сын Зевса и Антиопы. Возводя вместе с братом Зетом стену вокруг Фив, Амфион, играя на лире, приводил в движение камни, и они ложились на предназначенное им место (Гомер, Одиссея. Гл. XI, 260–265).
§ …Сатурн или Луна… — В астрологии действие Сатурна считается сильным и неблагоприятным, Луна же влияет благоприятно, но слабо, и не перекрывает действие Сатурна.
§ Астролябия — угломерный прибор, которым до XVIII в. определяли широты и долготы в астрономии.
§ Ревекка — по ветхозаветному преданию (Бытие, 24), жена Исаака, мать Иакова и Исава, одна из четырех прародительниц еврейского народа, защитница своих потомков перед небесным престолом.
§ Рахиль — по ветхозаветному преданию (Бытие, 29–35), жена Иакова, красавица, праматерь рода Израилева, прародительница царей, пророков, героев и судей.
§ Руфь — по ветхозаветному преданию (Книга Руфи), прабабка царя Давида, собиравшая во время голода на поле колосья для своей свекрови Ноэмини.
§ …играли при водружении статуи Навуходоносора. — Отсылка к Книге пророка Даниила (гл. III; 5, 7, 10, 15): «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь Золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор».
§ …вдову из города Наин… — Лука, 7, 12–15.
§ Флешье Эспри (1632–1710) — французский священник, писатель и оратор.
§ …было восемь мужей. — Злой дух Асмодей, любивший Сарру, умертвил одного за другим семерых ее женихов, пока архангел Рафаил не указал Товии способа изгнания Асмодея (Книга Товита).
§ Иероним Евсевий Софроний (331–420) — один из отцов церкви, переводчик Библии на латинский язык.
§ Тиссо Шарль Жозеф (1828–1884) — французский археолог и дипломат, автор многих книг о географии африканских стран.
§ Флери Клод (1640–1723) — французский священник, автор «Истории церкви», исповедник Людовика XV.
§ …посвящена Вознесению Богоматери… — Вознесение Богоматери празднуется 15 августа.
§ Эскориал — дворец-монастырь, выстроенный на пустынной возвышенности вблизи Мадрида по приказу Фелипе II. После смерти первого архитектора Эскориала Хуана Баутисты де Толедо в 1567 г. план архитектурного комплекса был кардинально переработан Хуаном Эррерой. Строительство, начатое в 1563 г., длилось двадцать один год.
§ …позор с ярмами. — Во время второй Самнитской войны в 321 г. четыре римских легиона, запертые в Кавдинском ущелье, были вынуждены сдаться и пройти в знак унижения под ярмом.
§ Двенадцать Таблиц — первое законоуложение римлян (449 г. до н. э.), основной источник всего римского права. Текст Таблиц до нас не дошел.
§ Децемвир — один из десяти участников коллегий, образовываемых в Древнем Риме для судебного разбирательства по гражданским делам.
§ Пандекта — часть Дигесты, или так называемого кодекса Юстиниана — собрание римских законов, сделанное при императоре Флавии Юстиниане в 533 г. и имевшего большое значение для формирования европейского права.
§ Семь Частей. — испанское законоуложение, свод испанских обычаев с элементами римского права, составленный при Альфонсо X Мудром между 1256 и 1265 гг.
§ Свод. — Имеется в виду свод законов, опубликованный по указу Фелипе II в 1567 году.
§ Фуэро Хузго (от лат.: forum judicum). — Судебник, кастильская версия «Законов вестготов» (середина VII в.), свода римских и готских законодательств, опубликованных в середине XIII в. по приказу Фернандо III Святого (1199–1252), короля Кастилии и Леона.
§ «…пьющие вино». — Псалом 68, 13.
§ В его праздник… — День Иоанна Крестителя празднуют 24 июня.
§ …изничтожил бы этих свирепых тварей. — Деяния апостолов, 28, 3–6.
§ Мольер (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622–1673) — французский драматург. Пьеса «Мнимый больной» была создана в 1673 г.; во время одного из представлений этой комедии драматург скончался.
§ «…переживают людей». — Цитата из произведения французского писателя-моралиста Жозефа Жубера (1754–1824) «Размышления» (гл. XIII, XXXV).
ВАЛЕНСИЯ
Первая мемуарная книга Асорина, состоящая из семидесяти четырех глав, была написана в феврале — марте 1940 года и вышла отдельным изданием в 1941 году.
§ «Руины Пальмиры». — Руины древнего города в Сирии, разрушенного Аврелианом в 272 г., открыты в 1678 г. и вскоре были описаны П. Вудом и Докинсом. Здесь речь идет об их богато иллюстрированной книге (Руины Пальмиры. Париж, 1912).
§ Хуан Альтимирас — испанский литератор XVIII в., автор знаменитой поваренной книги, опубликованной в 1745 году.
§ …из великолепного рассказа Бальзака… — Имеется в виду рассказ «Неведомый шедевр».
§ …натюрморт из коллекции Камондо… — В богатейшей коллекции, переданной в 1908 г. Лувру графом Исааком де Камондо (1851–1911), имелось несколько натюрмортов Сезанна, в том числе «Игроки в карты» (1885).
§ …рояль «Эрар». — Инструмент знаменитой фирмы, созданной Себастьяном Эраром (1752–1831).
§ Франсиско Асенхо Барбьери (1823–1894) — испанский композитор.
§ Пенья-и-Гоньи Антонио (1846–1896) — испанский музыковед, автор «Истории испанской музыки».
§ Битва при Ватерлоо. — 18 июня 1815 г. англо-голландские и прусско-саксонские войска под командованием А. Веллингтона и Г.-Л. Блюхера нанесли наполеоновской армии сокрушительное поражение при Ватерлоо близ Брюсселя.
§ Варфоломеевская ночь — расправа с протестантами, произошедшая в Париже 24 августа 1572 г. в день святого Варфоломея; с нее началась во Франции гражданская война.
§ Восстание в Картахене. — В 1873 г. в ряде городов Испании вспыхнули восстания с требованием учреждения автономных кантонов по образцу Швейцарии, вскоре жестоко подавленные. В Картахене восставших поддержал военный флот, что позволило мятежникам продержаться до января 1874 года.
§ Анхель Мариа Сеговия дель Валье (1848—?) — испанский писатель и драматург.
§ Висенте Бойкс (1813–1880) — испанский писатель и историк, профессор Валенсийского университета.
§ Лумиарес, граф (Антонио Валькарсель Пио де Савойя-и-Маура; 1748–1808) — испанский археолог, опубликовавший в 1852 г. описания древностей провинции Валенсия.
§ Кортес Хуан Лукас (1701 —?) — испанский языковед.
§ …родившимся в Испании. — Трое из римских императоров родились в Испании: Траян (род. в 53 г.), император с 98 г. по 117 г., Адриан (род. в 76), император с 117 г. по 138 г., и Феодосий Великий (род. в 346 г.), император с 379 г. по 395 г.
§ Амалфея. — В греческой мифологии, нимфа, по другой версии коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса.
§ Висенте Сальва-и-Перес (1786–1849) — испанский политический деятель, библиограф и лингвист, автор «Грамматики» (1847).
§ Бельо Андрес (1781–1865) — латиноамериканский писатель, поэт, общественный деятель и просветитель, автор знаменитой «Кастильской грамматики».
§ Куэрво Руфино Хосе (1850–1911) — колумбийский филолог, автор многотомного словаря. Прокомментировал и дополнил «Грамматику» Бельо.
§ Кероль Висенте (1837–1889) — испанский поэт, умер в Бетере, селении в окрестностях Валенсии.
§ Бретон де лос Эррерос Мануэль (1796–1873) — испанский драматург.
§ …едва тут матушка не умерла! — Неточная цитата: эти слова произносят в 8-й сцене третьего действия.
§ Горостиса Мануэль Эдуардо де (1789–1851) — мексиканский поэт и драматург.
§ Фальяс (на валенсийском диалекте — «костры») — народный праздник, на котором сжигают специально сооруженные по этому поводу из картона, дерева или папье-маше статуи, представляющие мифологических и современных персонажей. В Валенсии фальяс устраивают на день св. Иосифа (19 марта) и на Иванов день (24 июня).
§ …стихи Бодлера… — Имеется в виду стихотворение «Раздумье» (Поэзия Франции, век XIX. М., ИХЛ, 1985, с. 241).
§ Нория — водоналивное устройство; представляет собой вращающееся колесо с черпаками.
§ Джованни делла Каза (1503–1556) — итальянский поэт, государственный и церковный деятель.
§ …своих «Диалогов». — «Диалоги» Вивеса написаны в 1539 году.
§ Бласко Ибаньес Висенте (1867–1928) — испанский писатель и общественный деятель, депутат-республиканец.
§ Фильоль-и-Гранель Антонио (1870–1930) — испанский художник.
§ …«валенсианские» романы… — Романы, о которых идет речь, написаны: «Бесшабашная жизнь» — в 1894 г., «В апельсиновых садах» — в 1900 г., «Ил и тростник» — в 1902 г., «Хутор» — в 1898 г.
§ Сан-Висенте Феррер (1356–1419) — испанский теолог и проповедник, монах-доминиканец, профессор Мадридского университета, приор монастыря в Валенсии.
§ Бодегон — харчевня (исп. bodegón); здесь слово употреблено также и во втором значении: натюрморт.
§ Хоакин Соролья-и-Бастида (1863–1923) — испанский художник.
§ …уехал в Неаполь Хосе Рибера. — Имеется в виду испанский художник Хусепе де Рибера (1588–1652), который большую часть жизни провел в Неаполе.
§ Хосе де Висенте-и-Каравантес (ок. 1820–1880) — испанский юрист и писатель.
§ Эжен Фромантен (1820–1876) — французский художник, писатель и историк искусства.
§ …портрет роженицы. — Имеется в виду картина Сорольи «Материнство», хранящаяся в мадридском музее художника.
§ Хуан де Вальдес (род. в конце XV в. — 1541) — испанский писатель и ученый, секретарь Карлоса V, друг Эразма Роттердамского; спасаясь от преследований инквизиции, бежал в Италию.
§ Граф де Ребольедо Бернардино (1597–1676) — испанский поэт, воин и дипломат; исполняя должность посла, долго жил в Дании, где и выпускал свои книги.
§ Сааведра Фахардо Диего (1584–1648) — испанский писатель, политический деятель и дипломат, исполняя должность посла, долго жил в Италии.
§ Изгнанник в Лувене… — Испанский гуманист Х.-Л. Вивес учился в Париже и в Лувене у Эразма Роттердамского, затем преподавал в Оксфорде.
§ Корет-и-Парис Кристобаль (1683–1760) — испанский теолог, священник и переводчик с латинского языка; в 1723 г. выпустил перевод «Диалогов» Вивеса.
§ Рафаэль Мартинес де Висьяна (1502–1574 или 1582) — испанский историк и языковед, знаток диалектов.
§ Кампос-Готикос (от исп.: готские — благородные земли) — название, данное центральной и южной части провинции Валенсия, славящейся плодородием.
§ Мартинес де ла Роса Франсиско (1789–1862) — испанский писатель и драматург, один из лидеров партии умеренных.
§ Герцог де Фриас-и-Уседа и маркиз де Вильена (Бернардино де Веласко; 1783–1851) — испанский поэт.
§ От грустных Сены берегов… — Начальная строка «Послания». Стихи написаны в сборник «Погребальный венок» (1830), составленный друзьями герцога — поэтами, которым он покровительствовал; в них воспевались умершая герцогиня и скорбящий герцог.
§ Жак Баррелье (1606–1673) — французский ботаник, основатель ботанического сада в Риме при монастыре св. Сикста. Он собрал огромный материал для задуманной им всеобщей истории растений, частично использованный после его внезапной смерти Антуаном де Жюсье.
§ Антуан де Жюсье (1686–1758) — французский ботаник.
§ Эсколано-и-Ледесма Диего (1609–1672) — испанский священник и писатель.
МАДРИД
Вторая мемуарная книга Асорина, состоящая из пятидесяти одной главы, написана в апреле — мае 1940 года и вышла в свет в 1941 году.
§ Унамуно-и-Хуго Мигель де (1864–1936) — испанский писатель, философ, поэт и драматург, идейный вождь поколения 98 года.
§ …выслан… во Францию… — Унамуно был выслан в феврале 1924 г., однако вскоре под давлением общественного мнения ему было разрешено вернуться. И тем не менее Унамуно в знак протеста против диктатуры, установившейся в Испании в 1923 г., добровольно оставался в изгнании до падения диктатуры Примо де Риверы и возвратился на родину лишь в феврале 1930 года.
§ …ступать по земле Страны Басков… — Земли, населенные басками, находятся по обе стороны границы, разделяющей Францию и Испанию.
§ Валье-Инклан Рамон дель (1869–1936) — испанский романист, поэт и драматург.
§ …отправился в Аргентину. — Речь идет о второй поездке Валье-Инклана в Латинскую Америку (Парагвай, Уругвай, Чили, Боливия, Аргентина) вместе с театральной труппой, в которой играла его жена — актриса Хосефина Бланко.
§ Бенавенте-и-Мартинес Хасинто (1866–1954) — испанский драматург, лауреат Нобелевской премии (1921).
§ Эухенио Сельес-и-Анхель (1842–1926) — испанский поэт, драматург, политический деятель и журналист.
§ …отняли искалеченную руку… — В мае 1899 года во время ссоры в кафе Валье-Инклан поранил руку, которую вскоре пришлось ампутировать, так как началась гангрена.
§ Рубен Дарио (наст. имя и фам. Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто; 1867–1916) — никарагуанский поэт, основоположник латиноамериканского модернизма.
§ Рамон Перес де Айяла (1881–1962) — испанский прозаик, поэт и публицист.
§ Мелькиадес Альварес (1864–1936) — испанский политический деятель и оратор.
§ Рикардо Торрес Рейна (по прозвищу Бомбита Младший; 1879–1936) — испанский тореро, брат Бомбиты — Эмилио Торреса Рейны (1874–1947). Начал выступать в 1899 г., впоследствии организовал Ассоциацию помощи тореро, за что в 1923 г. был награжден Крестом Милосердия.
§ «Меркюр де Франс» — французский литературный журнал, издававшийся с 1890 г. группой французских символистов.
§ Нуньес де Арсе Гаспар (1832–1903) — испанский поэт и общественный деятель. Отзыв Асорина о Нуньесе де Арсе, опубликованный еще в 1897 г., получил широкую известность: «Не знаю, что гнуснее — его стихи или его речи в сенате».
§ Андре Жид Поль Гийом (1869–1951) — французский писатель.
§ Фукса, братья. — Видимо, речь идет о сыновьях испанского скульптора Мануэля Фукса-и-Леаля (1850–1927).
§ …истинно гамлетовское потрясение. — Имеется в виду Сан-Франсиско де Борха-и-Арагон (в миру герцог де Гандиа и маркиз де Ломбай; 1510–1572); испанский военный и государственный деятель, затем доктор теологии и, наконец, отринувший все чины и звания священник-иезуит, канонизированный католической церковью; сопровождая в Гранаду для погребения тело императрицы Исабели (1503–1539), жены Карлоса V, испытал перед лицом смерти во всех ее неизбежных проявлениях тяжелейшее душевное потрясение, которым началось его «перерождение» (по собственному его определению); после смерти жены, фрейлины императрицы, посвятил себя исключительно делам веры.
§ Матео Алеман-и-де-Энеро (1547 — ок. 1614) — испанский писатель, автор плутовского романа «Жизнеописание Гусмана из Альфараче» (I часть — 1599 г.; 2 часть — 1604 г.).
§ Салас Барбадильо Алонсо Херонимо де (1580–1630) — испанский поэт, драматург и романист, друг Сервантеса; автор романа о Педро де Урдемаласе.
§ Висенте Эспинель (1550–1624) — автор плутовского романа «Жизнь оруженосца Маркоса де Обрегона» (1618).
§ Клод Лоррен (наст. имя и фам. Клод Желле; 1600–1682) — французский художник; здесь имеется в виду картина «Пейзаж с кающейся Магдалиной», находящаяся в тридцать шестом зале музея Прадо.
§ Хаэс Карлос (1829–1898) — бельгийский художник-пейзажист, переселившийся в Испанию. В 1860 г. стал членом Испанской академии изящных искусств. Его картины хранятся в пейзажном зале испанской живописи XIX — ХХ вв. в мадридском музее Современного искусства.
§ Дарио де Регойос-и-Вальдес (1857–1913) — испанский художник-пейзажист, любимый художник поколения 98 года.
§ …средь тростника в долине! — Строки из «Послания о нравственности» (133–135).
§ Нарсисо Кампильо (1838–1900) — испанский поэт и драматург.
§ Риоха Франсиско де (ок. 1600–1659) — испанский священник, поэт, родом из Севильи. «Послание к Фабио» современные исследователи приписывают Педро (?) Фернандесу де Андраде.
§ …«горы на склоне»… — Имеется в виду «Уединенная жизнь» Луиса де Леона (Европейские поэты Возрождения. М., БВЛ, 1974, с. 568–570).
§ Хосе Иглесиас де ла Каса (1743–1791) — испанский священник и поэт.
§ …ветер средь ветвей. — Автор цитирует вторую строфу романса «Ночью».
§ Энрике де Меса-и-Росалес (1878–1929) — испанский поэт, публицист и театральный критик; его сборник «Тишина в картезианском монастыре» (1916) был удостоен премии Испанской академии.
§ Хоакин Коста-и-Мартинес (1846–1911) — испанский историк и социолог.
§ Масиас Пикавеа Рикардо (1847–1899) — испанский писатель, автор книги «Национальная проблема» (1891), важной для идейного формирования поколения 98 года.
§ Дамиан Исерн-и-Марко (1852–1914) — испанский писатель, журналист и политический деятель; автор книги «О национальном крахе и его причинах».
§ Лукас Мальяда (1840–1921) — испанский геолог, палеонтолог, инженер и писатель, друг отца Пио Барохи; автор книги «Беды отечества» (1890), о которой и говорится.
§ Рамиро де Маэсту (1875–1936) — испанский публицист. В начале века был настроен резко критически, впоследствии перешел на крайне правые позиции. Был расстрелян республиканцами во время гражданской войны.
§ …Ламанче по рождению и Саламанке по убеждению… — Луис де Леон родился в Бельмонте, учился в Саламанке и затем преподавал на различных факультетах Саламанкского университета.
§ …высказывались и Грасиан… — Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. М., Наука, 1981, с. 8.
§ Масдеу Хуан Франсиско (1740–1817) — испанский историк, автор «Критической истории Испании и испанской цивилизации» (1783).
§ Гарсиа де ла Уэрта Висенте Антонио (1734–1787) — испанский поэт и драматург, приверженец национальных драматургических форм. Здесь речь идет о прологе к составленной Уэртой семнадцатитомной антологии испанского театра.
§ Адольфо Кальсадо де Санхурхо (? — 1909) — испанский журналист и политический деятель.
§ Эдуард Казенав (Пьер-Мари Эдуард де Казенав де Праден; 1838–1896) — французский литератор и политический деятель.
§ Брат Барохи — художник. — Имеется в виду Рикардо Бароха-и-Несси (1871–1953), испанский живописец, график и писатель. Портрет Асорина кисти Рикардо Барохи висел в библиотеке писателя у него дома в Моноваре.
§ Пабло Руис Пикассо (наст. имя и фам. Пабло Руис Бласко; 1881–1973) — испанский художник, скульптор и график. Был главным художником журнала «Арте ховен» и автором ряда иллюстраций.
§ Сулоага-и-Сабалета Игнасио (1870–1945) — испанский художник.
§ Дидро Дени (1713–1784) — французский писатель, философ и теоретик искусства.
§ «…видят его глаза?» — Дидро Дени. Эстетика и литературная критика. М., ИХЛ, 1980. Опыт о живописи, с. 321.
§ Майянс-и-Сискар Грегорио (1699–1781) — испанский историк и филолог.
§ Лоренсо Касанова (1844–1900) — испанский художник. Около 1885 г. организовал в Алкое Академию живописи, затем преподавал в Аликанте; его учеников и последователей называют алькойской школой (Кабрера, Канто, Хисберт, Баньюльс, Арасиль).
§ Больница Святого Креста — больница в Толедо, построенная в 1484–1514 гг. Энрике де Эгасом (1455–1534) по приказу кардинала Педро де Гонсалеса-и-Мендосы (1428–1495), сына маркиза де Сантильяны. Автор ошибся: кардинал Тавера похоронен в другом месте.
§ Тавера (Хуан Пардо де Тавера; 1472–1545) — испанский кардинал, чьим именем называют построенную в Толедо по его приказу больницу Святого Иоанна Крестителя. Работы в 1541 г. начал архитектор Бартоломе Бустаменте (1492–1579), в 1549 г. продолжил Эрнан Гонсалес де Лара и закончили в 1559 г. отец (ок. 1510–1574) и сын (1540–1606) Николасы де Вергара. В часовне при этой больнице похоронен кардинал Тавера.
§ …прекраснейшее из творений Берругете. — Имеется в виду надгробие кардинала Таверы — последняя работа испанского скульптора Алонсо Берругете (1480–1561), законченная в 1561 г. его сыном и Парисом дель Нава.
§ Педро Саласар-и-Мендоса (? — 1575) — испанский воин и историк.
§ …среди останков героев Отечественной войны. — Речь идет о войне с США, проигранной в 1898 году.
§ «…суждено ль тебе проснуться?» — Вероятно, автор цитирует «Упражнения» Игнасио де Лойлы (1491–1556), испанского богослова, основателя ордена иезуитов, канонизированного католической церковью.
§ Гарсиласо… испытал на себе иностранное влияние. — Намек на влияние итальянской поэзии нового сладостного стиля, в частности Петрарки, на творчество Гарсиласо.
§ Кристобаль де Кастильехо (1490? — 1550?) — испанский поэт и дипломат, сторонник исконно испанских поэтических форм, автор сатиры против Боскана и Гарсиласо, реформаторов испанской поэзии согласно итальянским нормам.
§ «Эль Глобо». — В 1902 г. группа литераторов, близких к поколению 98 года, приобрела эту газету, вскоре ставшую заметным явлением в испанской журналистике.
§ …между Ницше и Грасианом. — Ницше, несомненно, был знаком с переведенным на немецкий язык трактатом Грасиана «Герой» (1637).
§ Артета (правильно: Арриета) Хуан Эмилио (1823–1894) — испанский композитор.
§ Аррин-и-Гоэнага Валентино (1854–1926) — испанский музыковед.
§ Боррель Феликс — испанский музыковед; 4 мая 1911 г. прочел в Мадриде публичную лекцию о «вагнеровских войнах» в Испании.
§ Маркиз де Сантильяна (Иньиго Лопес де Мендоса; 1398–1458) — испанский поэт, теоретик поэзии, фольклорист и воин.
§ Пьер Мишо — французский поэт XV в., автор поучений и сатирических стихотворений.
§ Ален Шартье (1385 — ок. 1433) — французский поэт.
§ Эмилио Феррари (1853–1907) — испанский поэт.
§ Расин Жан (1639–1699) — французский драматург. Источником его пьесы «Сутяги» (1668) были «Осы» Аристофана и отдельные главы «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле.
§ Антуан Фюретьер (1619–1688) — французский писатель и лингвист, автор толкового словаря; здесь речь идет о его «Мещанском романе» (1666).
§ …времен королевы Исабели… — Исабель II (Мария Луиса; 1830–1904) — испанская королева с 1843 г. по 1868 г.
§ Рафаэлли Жан Франсуа (1850–1924) — французский художник, график, скульптор и актер родом из Италии.
§ Педро Наварро (1460–1528) — знаменитый испанский капитан, отличившийся сначала на службе в испанской армии, а затем, попав в плен, во французской.
§ …уважения к себе… — Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. М., Наука, 1981, с. 15.
§ Все шестьдесят славных лет, что длилась Реставрация… — В декабре 1874 г. в Испании была реставрирована монархия: королем стал Альфонсо XII (1857–1885), в 1902 г., после семнадцати лет регентства Марии Кристины (1858–1929), на престол вступил Альфонсо XIII (1886–1941). В апреле 1931 г. Испания была провозглашена республикой.
§ Лискано-и-Монередо Анхель (1846–1929) — испанский художник, иллюстратор «Национальных эпизодов» Гальдоса. Здесь речь идет о картине «Арена у Пуэрта-де-Алькала», в настоящее время хранящейся в Мадридском музее корриды.
§ Сан-Пласидо (? — ок. 541) — католический святой, монах-бенедиктинец.
§ Тридентский собор (1545–1563) — вселенский собор римско-католической церкви, проходивший в Триденте (Италия) и принявший ряд постановлений по вопросам вероучения и внутренней организации церкви, явившихся реакцией католицизма на протестантскую Реформацию.
§ Антонио Диана (1585–1663) — итальянский религиозный писатель и священник, монах-театинец, автор многочисленных трактатов по вопросам морали, непререкаемый авторитет в этой области.
§ …портрет… женщины кисти… Эль Греко. — Видимо, речь идет о портрете придворной дамы Марии де Сильва, заказавшей художнику оформление церкви Святого Доминика Старого после перестройки, осуществленной в 1576 г. по плану Хуана де Эрреры архитектором Николасом де Вергарой. В церкви хранятся еще четыре картины Эль Греко, написанные в 1577–1582 гг.
§ Гонгора-и-Арготе Луис де (1561–1627) — испанский поэт.
§ Коссио Мануэль Бартоломе (1858–1935) — испанский педагог и искусствовед, автор книги об Эль Греко (1908).
§ Сальвадор Виньегра-и-Лассо (1862–1915) — испанский художник.
§ Пачеко дель Рио Франсиско (1571–1654) — испанский художник, теоретик и историк искусства.
§ Кинтана Мануэль Хосе (1772–1857) — испанский поэт и драматург.
§ «…бледное свеченье»… — Строка из «Пантеона в Эскориале» (74) Мануэля Хосе Кинтаны.
§ …куда идти? — Цитата из сонета Гонгоры «Об одном путнике, влюбившемся там, где его приютили».
§ Мартин Рико-и-Ортега (1833–1908) — испанский художник, которого Асорин причисляет к поколению 98 года.
§ …и лай ежеминутный… — Строка из того же сонета Гонгоры.
§ …полна воды умершей. — Строка из стихотворения Антонио Мачадо «В пути» (XXXII).
§ Франсиско Дуррио де Мадрон (1875–1940) — испанский скульптор и керамист.
§ Сантьяго Русиньоль (1851–1931) — каталонский поэт, драматург и художник.
§ Пабло де Уранга (1861—?) — испанский художник.
§ Ансельмо Гинеа (1855–1906?) — испанский художник.
§ Лопес Альен Франсиско — испанский портретист и график конца XIX в.
§ Висенте Берруэта Итурральде (род. в 80-х годах XIX в.) — испанский художник, ученик X. Сорольи.
§ Мигель Утрильо (1862–1934) — испанский художник, искусствовед, историк, археолог и путешественник.
§ Даниель Сулоага (1852–1921) — испанский художник-керамист.
§ Лукас Менендес (1716–1778) — испанский художник; коллекция его натюрмортов хранится в музее Прадо.
§ …были сии коренья… — Строка из поэмы Гонсало де Берсео «Жизнь Святого Доминика Силосского» (290).
§ …монастыря святого Мильяна… — Монастырь, в котором провел всю жизнь Гонсало де Берсео, — сначала послушником, затем дьяконом и священником.
§ Томас Санчес Антонио (1723–1802) — испанский священник, писатель и филолог, опубликовавший «Песнь о моем Сиде», сочинения Гонсало де Берсео в 1780 г. и Хуана Руиса в 1790 г.
§ Эчегарай Хосе (1833–1916) — испанский драматург, лауреат Нобелевской премии (1905). В связи с присуждением ему премии писатели поколения 98 года и деятели культуры, идеологически близкие к ним, опубликовали в «АВС» следующее заявление: «Не обременяя читателя подробностями и не вдаваясь в обсуждение достоинств произведений Хосе Эчегарая, считаем себя вправе заявить, что наши эстетические идеалы лежат в другой плоскости. Эчегарай не является для нас литературным авторитетом».
§ …подносили ему стакан вина… — Отсылка к строке «тем заслужил стаканчик доброго вина», давно ставшей пословицей, из «Жизни Святого Доминика Силосского» (1, 8) Гонсало де Берсео.
§ Моратин (Леандро Фернандес Моратин; 1760–1828) — испанский драматург, историк и теоретик театра. (В 1893 г. Асорин написал небольшую книжку о Моратине.)
§ …пшеничного хлеба матерь… — Строка из поэмы Гонсало де Берсео «Чудеса Богоматери», глава «Купец из Константинополя» (659).
§ …мора и язвы пуще. — Строка из поэмы Гонсало де Берсео «Жизнь Святого Доминика Силосского».
§ Камило Бархиела (1874–1910) — галисийский писатель, журналист, литературовед и дипломат.
§ Джозуе Кардуччи (1835–1907) — итальянский поэт и литературный критик, лауреат Нобелевской премии (1906).
§ …далекий от людского шума! — Строка из «Варварских од» (XXVIII) Джозуе Кардуччи.
§ Хосе Феликс де Лекерика-и-Эркиса (1891–1963) — испанский дипломат и адвокат, посол Испании во Франции (1934–1944), затем министр иностранных дел.
§ Эмилия Пардо Басан (1852–1921) — испанская писательница родом из Галисии; книга путевых очерков «По Франции и Германии» написана в 1889 году.
§ Вейга Иглесиас Паскуаль (1842–1906) — испанский композитор и дирижер, руководитель хора «Орфеон коруньес», получившего в 1889 г. на Всемирной выставке в Париже Большую золотую медаль, которую Вейге вручил Лоран де Рилье.
§ Лоран де Рилье Франсуа Анатоль (1828–1915) — французский композитор, автор комических опер и сочинений для хора.
§ Росалия де Кастро-и-Мурхиа (1837–1885) — галисийская поэтесса и романистка; писала также по-испански. «На берегах Сара» (1884) — ее последний поэтический сборник.
§ Ламас Карвахаль Валентино (1849–1906) — галисийский поэт.
§ …с высоты Геркулесовой башни в Ла-Корунье. — Геркулесова башня — расположенный на холме в двух километрах от города маяк, построенный при императоре Траяне и реставрированный в XVIII в. Эта башня, изображенная на гербе Ла-Коруньи, — эмблема города.
§ …тому бог дает. — Строки из Эклоги I (47–48) «На рождение Господа нашего» Лопе де Веги.
§ …о моей печали… — Строка из сонета Франсиско де ла Торре «О, сколько раз меня ты навещала…» (5).
§ Франсиско де ла Торре (1534—?) — испанский поэт, о жизни которого сведений не сохранилось; его произведения опубликовал Кеведо. Асорин посвятил поэту главу «Безымянный поэт» в книге «Мадрид».
НА ПОЛЯХ КЛАССИКОВ. ХУДОЖНИК И СТИЛЬ
Статьи, вошедшие в этот раздел, выбраны из книг, написанных соответственно в 1915 г. и в 1919 г.
§ «…летом же — прохладных». — Здесь и выше цитаты из аллегорического введения к «Чудесам Богоматери».
§ …в день Сан-Хуана… — В Иванов день, 24 июня.
§ Граф Арнальдос — герой одного из самых известных испанских романсов.
§ …одну беспросветную тьму… — Здесь и далее цитаты из «Романса об узнике».
§ …подобно паучку другого знаменитого узника… — Отсылка к «Шильонскому узнику» Д.-Г. Байрона (Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского. М., Радуга, 1986, с. 519).
§ …руке не расстаться с мечом… — Здесь и далее цитаты из романса «Верность».
§ Готье Теофиль (1811–1872) — французский поэт, романист и эссеист.
§ Саннадзаро Якопо (1458–1530) — итальянский поэт, автор пасторального романа «Аркадия» (1504); писал также на латинском языке.
§ «…светлою волной играя, плещешь»… — Здесь и выше цитаты из Третьей песни Гарсиласо.
§ …ему удалось победить. — Автор вольно обращается с фактами: в 1536 г. Гарсиласо был тяжело ранен и вскоре умер.
§ …«просторную, широкую долину»… — Строка из Второй эклоги (1043) Гарсиласо де ла Веги.
§ «…увитая плющом»… — Строки из той же эклоги. (58–59).
§ Лукреций Кар Тит (ок. 96 — ок. 53 гг. до н. э.) — римский поэт.
§ Андре Шенье (1762–1794) — французский поэт.
§ …крест святого Иакова. — Знак испанского военно-религиозного ордена, основанного в конце XII в.
§ Башня Хуана Аббата — поместье Кеведо.
§ …послание к графу-герцогу? — Речь идет о стихотворном послании Гаспару Кончильосу де Гусману, графу Оливаресу (1587–1645), испанскому государственному деятелю, свергнутому в 1643 г. Фелипе IV.
§ Марчена, аббат Хосе (1768–1821) — испанский философ и писатель, участник французской революции, друг Марата.
§ Стейнлейн Теофиль Александр (1859–1923) — французский рисовальщик и график, изображавший людей из народа.
§ …влюбленный в порядок, чистоту и книги. — Имеется в виду Монтень.
§ Роден Огюст (1840–1917) — французский скульптор.
§ «Отдохните, ваша милость, господин мой». — Цитата из сочинения Ф. де Кеведо «История жизни пройдохи по имени дон Паблос», гл. IV.
§ …осыпает его плевками. — Цитата из указ. соч. Кеведо, гл. V.
§ …всадник распаленный? — Цитата из «Послания графу-герцогу Оливаресу» (231–233) Франсиско де Кеведо.
§ Эрнандо дель Пульгар (1435 — после 1492) — секретарь и официальный историограф католических королей.
§ …останки дона Родриго… — Имеется в виду фаворит герцога Лермы Родриго Кальдерон, временщик Фелипе III, казненный вскоре после его смерти в 1621 г. по приказу Фелипе IV (1605–1665). Ему посвящена эпитафия Кеведо.
§ …«не вернутся назад»… — Здесь и далее цитаты из Г.-А. Беккера.
§ Кахаль (Рамон-и-Кахаль Сантьяго; 1852–1934) — испанский ученый, врач-гистолог, лауреат Нобелевской премии (1906), писатель.
§ Паласио Вальдес Армандо (1853–1938) — испанский романист.
§ «Одни» — так Алас назвал пять томов своих статей, написанных в 1890–1898 гг.
§ Менендес-и-Пелайо Марселино (1856–1912) — испанский историк и литературный критик, директор Национальной библиотеки.
§ Антонио де Вальбуэна (1844–1929) — испанский литературный критик; писал под псевдонимами Мигель де Эскалада и Венансио Гонсалес.
§ Мануэль де Мурхия (1833–1923) — испанский историк.
§ Мануэль де ла Ревилья (1856–1881) — испанский литературный критик.
§ Альфредо Висенти (1854–1916) — испанский поэт, прозаик и журналист.
§ …португальскую saudade… — Слово «саудаде» трудно переводимо — особое душевное состояние, тоска, ностальгия по прошлому; от этого слова произошло название литературного течения в Португалии «саудазизм».
§ Пиндар (521–441 гг. до н. э.) — греческий поэт.
§ Эспиноса Диего (1502–1572) — испанский кардинал, великий инквизитор.
§ Рибальта Франсиско (ок. 1560–1628) — испанский художник; здесь речь идет о картине «Видение ангела Святому Франциску».
§ Йорданс Якоб (1593–1678) — фламандский художник.
§ Пор-Руаяль — женский монастырь в Париже, куда Расин намеревался отдать свою дочь; центр янсенистской общины, оппозиционного течения внутри католицизма.
§ Сендаль — тонкая ткань из шелка или льна.
Примечания
1
«День гнева» (лат.) — начальные слова заупокойной молитвы.
(обратно)2
Болезнь века (фр.).
(обратно)3
Бальзамом доброты твоей исцели удрученные сердца; и елеем милосердия твоего утоли скорби наши (лат.).
(обратно)4
Святой Иоанн (лат.).
(обратно)5
Святой Матфей (лат.).
(обратно)6
Святой Варфоломей (лат.).
(обратно)7
Святой Петр, Святой Павел, Святой Симон (лат.).
(обратно)8
Св. Франциск де Паула; верная копия с оригинала, который хранится в собрании Ватиканского дворца (лат.).
(обратно)9
Рождаясь, мы умираем (лат.).
(обратно)10
«Спаси» — начальное слово молитвы (лат.).
(обратно)11
«Картина царства небесного» (лат.).
(обратно)12
Никакое рассуждение, никакой диспут, никакую тему нельзя считать чуждыми богословию как профессии и науке (лат.).
(обратно)13
Науки, ведающие нравственностью людей, как богословие и философия, вмешиваются во все; нет такого поступка, сугубо личного и тайного, который укрылся бы от их бдительности и суда… (фр.).
(обратно)14
«Род человеческий» (лат.).
(обратно)15
Ужасающий взрыв (ит.).
(обратно)16
Потрясающие открытия (ит.).
(обратно)17
Перевод Михаила Соловьева.
(обратно)18
Желаемое (лат.).
(обратно)19
Наставник поколений (лат.).
(обратно)20
Право пользоваться и тратить (лат.).
(обратно)21
Преславная владычица, над звездами сидящая, творец священным млеком наполнил грудь твою… (лат.) (обратно)22
Молись за нее, святая матерь божья (лат.).
(обратно)23
Дабы стала она достойной забот Христа (лат.).
(обратно)24
Помолимся тебе, Господи, который именем Святой Девы и матери Марии смиренный орден, для служения тебе избранный, столь дивно украсил (лат.).
(обратно)25
Господь, приведший тебя к нам, да приведет тебя сам к совершенству. Ради Христа господа нашего (лат.).
(обратно)26
Да совлечет с тебя господь ветхого человека с деяниями его (лат.).
(обратно)27
Господи боже, обрати нас к добродетелям (лат.).
(обратно)28
И яви лик свой и будем мы искуплены (лат.).
(обратно)29
Господь с вами (лат.).
(обратно)30
И с духом твоим (лат.).
(обратно)31
Помолимся, господи Иисусе Христе, единственный сыне вечного отца… (лат.).
(обратно)32
К сему присоединяем мольбы наши, всемогущий боже… (лат.).
(обратно)33
Приди Творец, дух святой, посети умы рабов твоих… (лат.). (обратно)34
Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш… (лат.).
(обратно)35
«Господь, смилуйся над нами» (лат.).
(обратно)36
Трест (англ.).
(обратно)37
Б[огу] В[сесовершенному] В[еличайшему]. Тезисы по гражданскому праву, защищенные… (лат.).
(обратно)38
«Из глубин» (лат.) — начальные слова заупокойной молитвы.
(обратно)39
Ты же, Господи, смилуйся над нами (лат.).
(обратно)40
Благодарение Богу (лат.).
(обратно)41
Да будет святая вода мне во спасение (лат.).
(обратно)42
Стезя мучеников, стезя монахов, стезя девственниц, стезя супругов, стезя бедняков, стезя богачей, стезя целомудрия и воздержания, стезя священнослужителей, стезя прелатов (лат.).
(обратно)43
Гора совершенства (лат.).
(обратно)44
Разгром (фр.).
(обратно)45
«Ле Фигаро» (фр.).
(обратно)46
Отойди! (лат.).
(обратно)47
Для брачного ложа (фр.).
(обратно)48
Работа не в радость и труд не навек, Пора отдохнуть, молодой дровосек, Под деревом лежа (фр.). (обратно)49
Не время, приятель, полно еще дел, Я дерево это себе приглядел Для брачного ложа (фр.). (обратно)50
Здесь покоится служитель господа нашего Франциск Миранда, отец-наставник… (лат.).
(обратно)51
В общем деле всякий воин (лат.).
(обратно)52
В дорогу! Пароход, раскачивая тали, Рванется с якоря на зов нездешней дали. Стефан Малларме. «Морской ветер» (фр.). (обратно)53
Со всем этим людом, который моется в Гвадиане (ит.).
(обратно)54
«Карманный справочник для путешествующих по Испании» (англ.).
(обратно)55
«О разном» (лат.).
(обратно)56
«Пропалладиа» (лат.).
(обратно)57
Как в Испании теряешь время (англ.).
(обратно)58
Член Королевского общества хирургов (англ.).
(обратно)59
Лучший в мире! (англ.).
(обратно)60
Стрелок (англ.).
(обратно)61
Фиш-стрит-Хилл (англ.).
(обратно)62
Все алькальды от Толосы до Гуадалете сойдут с ума (фр.).
(обратно)63
По меньшей мере неосмотрительно делать такие заявления в 1905 г., сеньор Асорин. Сдержитесь (Примеч. Асорина, 1914 г.).
(обратно)64
Сеньор Асорин, вы дважды назвали в этой главе Гуадалете многострадальным и трагическим. Предупреждаю вас, что… (Примеч. Асорина, 1914 г.).
(обратно)65
Риофрио (исп.) — холодная речка.
(обратно)66
Я видел на своем веку сотни ремесленников и пахарей, которые были более мудры и счастливы, чем ректоры университетов, и предпочел бы походить на этих простых людей (фр.).
(обратно)67
«Воспоминания о „Гиганте“» (фр.).
(обратно)68
В Амстердаме и в Лейпциге у Аркстея и Меркуса (фр.).
(обратно)69
В землях каких, скажи (Аполлон ты мне будешь великий), Неба пространство всего шириною в три локтя открыто? (лат.).
(обратно)70
По преданью отцов, священная, и замыкают ее холмы отовсюду (лат.).
(обратно)71
Великолепные, верткие, вареные, вкусные. Но лучше те, что с пятью: верные.
(обратно)72
Об изделиях мастерства судить мастерам (лат.).
(обратно)73
Рука Христа (лат.).
(обратно)74
От холода застывает кровь в груди (лат.).
(обратно)75
Я запамятовал, что к востоку от нашего городка есть часовня, и не маленькая, ибо в ней умещаются все наши жители. Так оно и бывает 3-го мая, когда тут справляют праздник Братства Честного Креста. В часовню эту приходят поклониться Распятию Христову, столь дурно сделанному, что, будь я епископом, я бы приказал его закопать в землю во исполнение наказа Канонов в отношении подобных случаев. Осуществить такое дело на свой страх и риск я все же не посмел, опасаясь разозлить здешний люд. На стенах часовни — барельефы Страстей Христовых, о чем можно узнать не столько по изображениям, сколько по надписям.
(обратно)76
Non aliis certius contigit scientia, quam hujus modi rei peritis hominibus (лат. — Ничьим познаниям не следует верить больше, чем познаниям людей, в подобном деле опытных).
(обратно)77
Вот почему поет побежденный, А также скованный раб-землекоп (лат.). (обратно)78
«Примечательные изречения Филиппо Оттоньери» (ит.).
(обратно)79
Любая толпа блуждающих От дороги вреда отступает (лат.). (обратно)80
Сов — в Афины (лат.). Поговорка, равнозначная русской «Ездить в Тулу со своим самоваром».
(обратно)81
Мысленно (лат.).
(обратно)82
«Размышления» (ит.).
(обратно)83
Будь у меня гений Сервантеса… (ит.).
(обратно)84
Зд.: специально (лат.).
(обратно)85
Навеки (лат.).
(обратно)86
Полностью (лат.).
(обратно)87
«Опыт о живописи» (фр.).
(обратно)88
Перевод Н. Игнатовой.
(обратно)89
Ничто (лат.).
(обратно)90
«Философия Ницше» (фр.).
(обратно)91
Кория — город, центр небольшой области того же названия в провинции Касерес.
(обратно)92
«Уложение, или Свод моральных предписаний» (лат.).
(обратно)93
Не покидать монастыря и в случае болезни, даже если доподлинно известно, что остаться — значит умереть (лат.).
(обратно)94
«Варварские оды» (ит.).
(обратно)95
О желанный зеленый мир уединенья, далекий от людского шума! (ит.). (обратно)96
«После фельетона» (фр.). Речь идет о так называемом «романе-фельетоне», который печатается главами в газете.
(обратно)97
В конце концов, не стоит ценить свои выдумки настолько высоко, чтобы сжигать за них человека живьем (фр.).
(обратно)98
Перевод Б. Дубина.
(обратно)99
Перегородка в гранате (исп.).
(обратно)100
Яичная кожица (исп.).
(обратно)
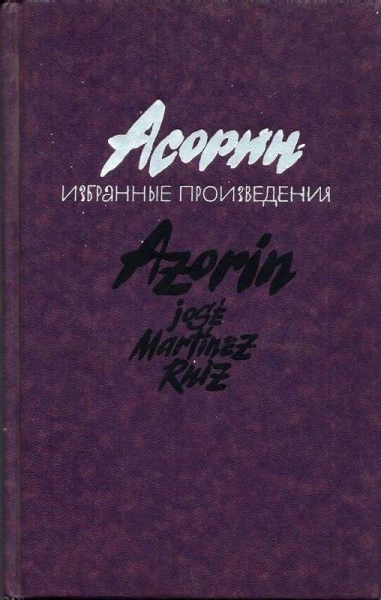

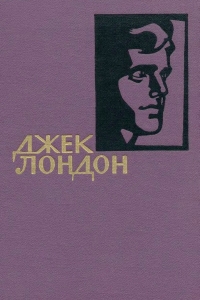
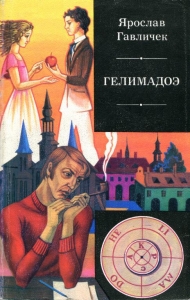
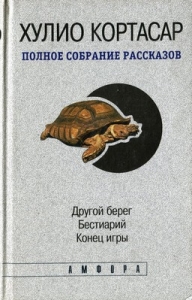
Комментарии к книге «Асорин. Избранные произведения», Асорин
Всего 0 комментариев