Жан Рэй СЕМЬ ЗАМКОВ МОРСКОГО ЦАРЯ Романы, рассказы
СВЯТОЙ ИУДА-НОЧНОЙ (Saint-Judas-de-la-nuit) Роман
Несколько слов о посвящении
Я сочинял посвящение истории Святого Иуды-Ночного моему большому другу Анри Верну, когда он неожиданно остановил мое перо, сказав:
— Послушай, Жан Рэй, говорят, что ты заменил свое воображение чем-то вроде суперлогики; твои коллеги, математики, утверждают, что она близка воображению… Впрочем, какое мне до этого дело!.. Но мне кажется, что история святого Иуды-Ночного усеяна множеством реальностей, вызывающих замешательство. Добавь об этом пару слов в твое доброжелательное посвящение.
И Жан Рэй ответил:
— Гримуар Штайна действительно существует, но хранители, как религиозные, так и светские, оберегают его от праздного любопытства.
Иуда Штайн фон Зиегенфельзен не маг, не придуманный кем-то колдун. Он автор гримуара, носящего его имя, по крайней мере, значительной его части. Порицки, автор знаменитой Gespenstergeschichte[1] часто цитирует его.
Ад (не к ночи будь упомянут) имеет своих избранников и своих святых, хотя они и встречаются весьма редко, что можно допустить, основываясь на высказываниях Святого Бонавентуры.
Среди известных случаев колдовства в прошлом часто упоминается знаменитая рака[2] святого Себальда в Нюрнберге.
«Знак» юного Югенена соответствует многочисленным стигматам, появляющимся на лбу как «одержимых», так и «посвященных». Последним они дают временные способности, странные и опасные.
Итак, я передаю Анри Верну эту историю, насыщенную жутким светом, в знак моей нерушимой дружбы.
Предупреждение
Существуют истории, наполненные вымыслом, от которого они освобождаются по мере того, как их рассказывают, достигая в итоге приводящей в замешательство реалистичности.
Тот, кто хотя бы временно пользуется легендарным гримуаром Штайна, неизбежно оказывается втянутым в адский круговорот.
Почти с абсолютной уверенностью можно утверждать, что эта проклятая книга хранится в Бодлианской библиотеке в Оксфорде.
Однако, вы не найдете в Англии ученого, библиофила или высокопоставленное университетское лицо, которое подтвердило бы это мнение; напротив, они всячески будут стараться опровергнуть его.
Иная ситуация существует в таких приморских странах, как Франция, Германия и Голландия.
Основываясь на слухах, можно сказать, что за последние несколько столетий его похищали два или три раза; в числе похитителей был один безумец, однажды использовавший гримуар для дурных целей, но впоследствии не представлявший, что с ним делать[3].Тем не менее, после каждого случая похищения гримуар всегда оказывался на своем месте на полке в Бодлианской библиотеке. Как происходило это загадочное возвращение? Впрочем, нет ничего удивительного в том, что гримуар, как творение черной магии, обладает свойствами, которые отсутствуют у слитков золота и драгоценных камней.
Одним этим можно объяснить важность предупреждения для читателя, но описываемые нами события происходят на гораздо более высоком уровне, и нам не приходит в голову составить что-нибудь другое, кроме обычного документа.
Гримуар Штайна датируется началом XV века; подчеркнем сомнительность этой оценки, тем более, что сомнения относятся и к характеристике эпохи, в которую жил автор этого зловещего пергамента.
Еврей Штайн фон Зиегенфельзен, его предполагаемый автор, был, согласно мнению святого папы Пия V, всего лишь «посредником», простым слугой или наемником. Но о ком в действительности идет речь?
Его Святейшество не добавил ничего сверх этого во время реформы монашеского ордена Сито[4] в XVI веке, когда он обвинил гримуар в том, что этот манускрипт «представляет черную угрозу, которая на протяжении веков будет нависать над людскими головами».
Еврея Штайна фон Зиегенфельзена, уроженца Палатината[5], не принимали всерьез его современники, доктора оккультных наук, хотя сам он утверждал, что является реинкарнацией святого Иуды, то есть близким Иисусу человеком.
В весьма многочисленных в то время процессах колдовства его имя упоминается в документах только один раз, в период, когда церковь готовилась к передаче своих репрессивных функций светским властям: «В некоторые дни на его лбу появляется дьявольский знак, дающий ему ужасную безграничную власть».
Но он исчез прежде, чем началось следствие; «вместе с ним исчезла и часть его трудов. Уцелевшие листы пергамента редкого качества были переданы…». Имя получателя кто-то соскоблил с таким старанием, что в пергаменте на этом месте осталась дыра.
Впрочем, чтобы сохранить логику нашего повествования, мы должны обратить внимание читателя на несколько строчек, торопливо написанных одним из наиболее известных религиозных деятелей того времени, а именно отцом Транквилленом, о пергаменте, попавшем ему в руки на несколько минут, и который, можно не сомневаться, был знаменитым гримуаром Штайна: «…увидел разукрашенный саркофаг из золота и серебра, поддерживаемый огромными улитками, сверкающими, словно огонь, на его поверхности были изображены фигурки детей, окруженных псами, терзающими летающих или ползающих насекомых, а также статуи двенадцати апостолов с мечтательным или грозным выражением на лице.
Эти изображения производят впечатление скорее ужаса, чем благочестия, так как несомненно, что нечистые силы создали эти лики по образу и подобию живых существ…»
Разве этот текст не соответствует описанию знаменитой раки святого Себальда, хранящейся в церкви его имени в Нюрнберге, и созданной членами местного семейства скульпторов, резчиков и литейщиков, а именно Пьером Вишером (Старшим) (1455–1529) и его сыновьями Германом, Гансом и Пьером (Младшим)?
Это описание сохранилось — по крайней мере, частично — в туманной и неполной биографии Карла V, которую написал Уртадо де Мендоза, и в других произведениях той эпохи, а также в работе первой половины XIX века «Искусство Древней Германии», написанной французским ученым Ж.Б. Фортулем. Приводим для сравнения:
«Рака святого Себальда в Нюрнберге, так называемый „Памятник Святому Себальду“ находится в клиросе небольшой церкви, носящей его имя. Она облицована пластинками из золота и серебра. Ее основание поддерживается громадными улитками, и на ней изображены фигурки детей, окруженных псами и играющих с насекомыми.
Двенадцать статуй апостолов, прислонившихся к колоннам, на которые опирается рака, изображают существ испуганных или грозных, возможно, потому, что расположенные по четырем углам раки канделябры поддерживаются стройными телами обнаженных сирен, пробуждающих нечестивые желания…»
I Расстановка действующих лиц на шахматной доске
На берегу неизвестного я повстречал след странной ноги. Этой находке я посвятил научные теории. Наконец, мне удалось реконструировать существо, оставившее этот след, и я установил, что это был след моей собственной ноги!
Ж.А. ЭддингтонЭта книга предназначается тем, кто поверил в свои сны как в единственную реальность.
Эдгар Аллан ПоДеброш (изучает окрестности с помощью очков): — Так вот! Насколько я могу верить своему слабому зрению, это весьма приятное местечко!
Делиль: — А что я тебе говорил? Посмотри на этот городок, расположенный на косогоре…
Деброш: — Кажется, что его нарисовали на склоне холма.
Делиль: — А эта речка, омывающая его стены!
Деброш: — Как она струится по этим чудным лугам!
— Ах, этот «Городок», — любил повторять монсеньор Дюкруар. Он был рад, что Бенуа Пикар, автор комедии, полной очаровательного юмора, избежал ужасов Девяносто третьего года, иначе эта вещица никогда не была бы написана. — Именно таким я и увидел его впервые с вершины этого холма. С той поры…
Эти воспоминания каждый раз заканчивались вздохом.
С той поры городок лишился своего очарования: холм превратился в жуткий бугор, заросший овсюгом; епископский дворец, в котором монсеньор Дюкруар заканчивал святую карьеру, катился к завершению своей истории, быстро превращаясь в развалины, изъеденные дождями и ветрами.
Задолго до того, как добрый Бенуа Пикар описал эту прелестную картину, городок назывался Ла-Рош-сюр-Оржет из-за присутствия скалы и с учетом названия реки. Позднее он превратился в Ла-Рюш-сюр-Оржет в связи с частично сохранившимся на одной из городских дверей гербом, на котором местному археологу почудился улей[6], окруженный тучей пчел. Впрочем, это не имело значения; монсеньор Дюкруар продолжал называть его «городком», и даже чаще «моим городком», несмотря на некоторые уродливые названия, которыми награждали городок его обитатели.
Что касается аббата Капада, секретаря монсеньора, то он — неизвестно, почему — называл городок «дьявольским яйцом». Он имел в виду при этом фальшивое яйцо, которое подкладывают курам, чтобы они лучше неслись. Ну и что?..
Существует много вещей, по поводу которых аббат Капад может дать рациональное объяснение, но о «дьявольском яйце» он помалкивал. Впрочем, никто и не пытался его расспрашивать.
Этим днем в конце марта, то есть одним из дней ранней весны, в окна стучался дождь с мелким градом, и резкие порывы ветра приносили с собой неожиданные волны холода.
— Очень плохой ветер, — сказал аббат Капад. — Наши друзья из Шести Башен называют его «морским вампиром», и это очень удачное название.
— Ах, эти Шесть Башен… — пробормотал монсеньор Дюкруар.
Они устроились в темноватой, но теплой дворцовой кухне, так как во всех других помещениях просторного здания можно было замерзнуть. Кроме того, приближалось время обеда.
Повар, брат Аделен, подбодрил огонь в печи несколькими ударами кочерги.
Время от времени он распахивал дверцу, из которой распространялся приятный аромат жаркого.
— Подобный аромат не свойственен времени поста, — заметил аббат Капад.
— Это профитроли, — буркнул Аделен.
— А как насчет мясной начинки? — несколько обеспокоенно поинтересовался монсеньор Дюкруар.
— Утиное мясо, — ответил повар. — Последнее подношение из Шести Башен.
— Да, это постное мясо, — подтвердил аббат Капад.
Профитроли — это выпеченные на открытом огне небольшие булочки с мясной начинкой, обычно щедро приправленной пряностями, или с рыбой в постные дни.
— Последний презент из Шести Башен, — вздохнул епископ. — Брат Аделен правильно отметил это.
Секретарь пожал плечами.
— Аббатство Шести Башен, достойно просуществовавшее несколько столетий, распадается сегодня камень за камнем. И в значительной степени благодаря вашему вмешательству, монсеньор. Рим разрешил преподобнейшему отцу аббату Багэ, его прелату, а также всем монахам покинуть аббатство, предоставив ему разрушаться дальше.
Брат Аделен энергичным кивком подтвердил слова секретаря.
— Шесть Башен! Удачное название! — ухмыльнулся он. — Я уже говорил, что в Шанделере осталось не больше двух башен, и я не удивлюсь, если из-за этого адского ветра последняя из них уже присоединилась к своим разрушенным раньше сестрам.
За окном, находящимся на уровне мостовой, появилась красная ухмыляющаяся рожа пьянчуги. Послышался хриплый голос:
— Не стану молчать, что в Великий пост епископ ест скоромное!
— Клермюзо, проваливай отсюда! — рявкнул брат Аделен, бросаясь к окну.
Монсеньор Дюкруар печально покачал головой, стараясь успокоить рассерженного брата.
— Подумать только, что Клермюзо едва не стал церковником, — вздохнул он.
Пьянчуга уже удалялся в прекрасном настроении, смеясь и что-то громко распевая.
— Виноваты хозяева таверны, дающие ему спиртное бесплатно, потому что посетители находят его забавным, — проворчал брат Аделен.
— Действительно, он никогда не платит за выпивку, — сказал аббат Капад. — Хозяева боятся, что их упрекнут в нехристианском отношении к бедолаге.
— Если владельцы таверны действительно руководствуются подобными мотивами, то это означает, что они не совсем глухи к нашим проповедям, — сказал монсеньор Дюкруар. У него резко улучшилось настроение, когда на столе появилось большое блюдо с извлеченными из печи дымящимися золотистыми профитролями.
— Кстати, насчет Шести Башен… — начал аббат.
— Мы поговорим о них попозже, — ответил епископ, протягивая повару тарелку.
Бронзовые человечки на городских часах громко возвестили наступление полдня.
— Конечно, серьезные дела делаются post meridiem[7], — ухмыльнулся Капад.
Дело с осужденным на гибель аббатством действительно оказалось серьезным, причем, гораздо серьезнее, чем можно было подумать вначале.
* * *
Когда первые предрассветные проблески зари забрезжили над морем, а язычки пламени свечей все еще колебались за низкими окнами аббатства Шести Башен, большие ворота распахнулись, чтобы пропустить скрипящий фургон для перевозки мебели.
— Не знаю, есть ли смысл закрывать их, — проворчал брат Себастьен, пиная ногой ржавую петлю, отошедшую от створки.
— А что еще здесь остается! — фыркнул брат Ирене, кучер. — Не только от ворот, но и от самого аббатства… Сегодня утром мне пришлось поделиться хлебом и последним яблоком с лошадью…
Аббатство Шести Башен, после четырех или пяти столетий существования с переменным успехом, навсегда закрывало свои ворота. Вернее, оно оставляло их распахнутыми настежь для ветра, дождей и сорняков, растущих на свалке.
— Мы готовы! — заорал Себастьен.
Дом Бонавентура, настоятель, и два младших брата устроились на повозке среди мешков и корзин.
— Мы увидимся с Преподобнейшим Отцом аббатом Баге в аббатстве Моркур, — промолвил настоятель, изобразив легкий поклон в адрес отсутствующего прелата.
— В Моркуре они делают отличное пиво и выращивают свиней, — с восторгом заявил брат Ирене. — Прощайте, Шесть Башен, от которых после полуночи не осталось ни одной.
Фургон тронулся с места и довольно быстро набрал скорость благодаря попутному ветру.
Вскоре после этого, четверо монахов и их фургон навсегда исчезли из мира смертных, потому что в двух лье от Моркура, при въезде на дамбу, лошадь внезапно вырвалась из оглобель, и фургон рухнул в море.
Следует добавить, что брат Ирене, находясь в плохом настроении, обзывал свою лошадь Дьяволом или Сатаной, что, возможно, объясняет гибель людей и спасение животного…
Тем не менее, прошли часы или даже целые сутки, прежде, чем известие об этом несчастном случае достигло городка и ушей монсеньора Дюкруара.
* * *
Сдвинув в сторону пустые тарелки, брат Аделен поставил на стол графин с простым красным вином. Монсеньор немного отхлебнул, и у него тут же началась сильная икота; аббат Капад слегка смочил губы и не смог удержать гримасу отвращения. Брат Аделен повернулся к ним спиной, чтобы скрыть ухмылку. Не важно, был ли в это время пост, или нет, но он все равно не выпил бы ни капли этого жуткого пойла, предназначенного для дней покаяния. Он любил хорошее свежее вино, и в подвале его ожидал кувшин с прекрасным божоле.
— Поскольку мы должны вернуться к гибели Шести Башен, — снова заговорил аббат Капад, — из архиепископства сообщили, как мне стало известно, что каноник Сорб, в монашестве отец Транквиллен, не должен присоединиться к остальным в аббатстве Моркур. Не знаю, идет ли речь о его присоединении к нам в Шапитре.
Монсеньор Дюкруар покачал головой.
— Нет, когда этот вопрос был задан Его Превосходительству, тот коротко ответил, что канонику Сорбу дано особое поручение.
— Следовательно, он сохранит свое богатство, как говорят, весьма значительное, и будет иметь свободу действий, — сказал аббат с блеснувшей в его глазах завистью. — Не стану утверждать, что у него будет заключено соглашение с небесами, но что оно состоится с Римом, так это точно.
Монсеньор Дюкруар, не любивший поддерживать подобные рассуждения, сказал, что ему нужно уединиться на несколько часов в Салоне Ангелочков. Так называли небольшой зал со стенами, увешанными картинами, изображавшие райские сцены, где жаровня давала тепло без особого дыма, и где в укромном местечке надежно хранились флаконы с выдержанной айвовой водкой и вербеновым ликером.
Когда епископ удалился из кухни, брат Аделен направился в подвал, а аббат Капад вступил в настоящий лабиринт спиральных лестниц и узких переходов со странными резкими поворотами.
Во времена древних королей один из протоиереев, сказочно богатый и на три четверти безумный, построил этот огромный епископский дворец, настоящее архитектурное уродство.
У аббата Капада ушло много терпения и времени на то, чтобы разобраться в лабиринте дворца. Во время своих исследований он наткнулся на странную круглую комнатку, в которую свет проникал только через небольшое слуховое окно. Он превратил эту комнату в известный одному ему наблюдательный пункт.
Круглое оконце, размером не больше корабельного иллюминатора, выходило на хаос задних двориков, из которых аббата интересовал только один. За этим темным сырым пятачком возвышался узкий фасад с единственным широким окном, ничего не скрывавшим из происходящего в комнате.
Хотя эта комната и находилась в довольно бедном строении, она была достаточно просторной, и мебель в ней оказалась неожиданно комфортабельной, в мягких пастельных тонах, что говорило аббату — и, разумеется, только ему — что комнатой владело неизвестное существо, с прелестью которого была связана какая-то тайная опасность.
— Ах!
Аббат вздрогнул, посмотрев в окно.
В комнате напротив на большой постели снежной белизны возлежало изящное гибкое создание.
— Господи, и почему Вы оставляете подобному существу жизнь и свободу?
С большим усилием Капад отвел взгляд от восхитительного создания. Девушка в этот момент встала, и ее почти не прикрывала ни прозрачная ткань, ни струившаяся по обнаженному телу волна рыжих волос.
— Юдит, дочь ада!
Когда аббат снова посмотрел в комнату напротив, девушка уже исчезла.
В это время в соседнем дворике распахнулось слуховое окно и из него высунулась голова с морским биноклем у глаз.
— Черт возьми! — проворчал аптекарь Помель. — Ее разоблачил этот поп, мерзкий шпион!
* * *
Одинокий мужчина стоял на берегу моря.
Небольшое голландское суденышко маневрировало у самого горизонта, слегка окрашенного зарей в розовый цвет. В воздухе продолжалась отчаянная, непонятно чем вызванная схватка морских птиц. Казалось, что в ночи, неохотно покидающей темное море, происходит нечто ужасное, о чем говорилось в Библии.
Воздух рассекли острые крылья олуши, безуспешно охотящейся на сардин. Ее жадный клюв был разинут, и в черных глазках светился жестокий голод.
Мужчина закричал, и ответное эхо никогда не воспроизводило столь душераздирающий вопль.
Вблизи прибрежных бурунов огромный поморник атаковал с помощью клюва и когтей черноглазую олушу.
Мужчина вытянул руку, и воздушный пират мгновенно рухнул в воду, словно сбитый зарядом дроби.
— Мой братец-пират, зачем тебе связываться с таким же как ты, крылатым существом, да еще и добывающим, подобно тебе, пищу из морских вод? — спросил мужчина у жалких останков, уносимых волнами.
В этот момент послышалось ржание коня, внезапно появившегося из-за склона дюны. Заметив мужчину, он резко остановился. Заметив перед собой пучок морской травы, конь принялся жадно хрустеть сочными стеблями.
— Братец-конь, — промолвил мужчина, — утопив своих хозяев, ты избавил от голода многих своих собратьев.
То появляясь, то исчезая между волнами, в воде плавали тела в монашеских плащах из грубой ткани.
Мужчина прижал руку ко лбу, с трудом сдержав гримасу страдания.
— Можно подумать, что море и ветер созданы из огня, — простонал он.
* * *
В этот утренний час, отмеченный серебряным перезвоном больших часов, созданных братьями Висшер из Нюрнберга, Преподобнейший отец, аббат Баге, бывший прелат аббатства Шести Башен, прощался с каноником Сорбом.
— Отец Транквиллен, — начал он, но тут же спохватился. Помолчав, он продолжал: — Господин Сорб… Его превосходительство поручил вам миссию, о природе которой я не должен вас спрашивать, но которая считается крайне важной. Я желаю вам полного успеха и даю вам свое отеческое благословение.
Транквиллен не обратил внимания на грохот, с которым брат-привратник закрыл за ним большую дверь, что он всегда проделывал, провожая самых неприятных посетителей.
Транквиллена ждал элегантный кабриолет с голубым верхом…
Небольшое отступление
Как-то трое ребятишек Собирать пошли колосьяКогда трое студентов на последнем году учебы оказались с пустыми кошельками, они решили одалживать в научных библиотеках книги и рукописи, за которые некоторые библиофилы были согласны платить им небольшие деньги.
— Одалживать!.. Воровать!..
— Ну, в человеческом языке многие слова имеют одно и то же значение…
Однажды вечером, когда эта тройка разбирала при свете лампы очередную добычу, на дом неожиданно налетела сильная буря. Пергамент, который в это время небрежно изучал один из студентов, внезапно свернулся в трубку, потом развернулся, затем увеличился и тут же уменьшился, словно кожа, на которой была написана рукопись, оказалась живым существом.
— Боже мой! — воскликнул студент, в скором времени доктор теологии.
Висевшее на стене распятие внезапно сорвалось и упало, разлетевшись на множество осколков и попутно превратив в щепки табурет.
— Не стоило произносить эти слова, — пробормотал другой студент, изучавший медицину. — Я отнесу эти страницы туда, откуда мы их взяли. Не думаю, что в них найдется что-нибудь полезное для нас.
— Но сначала их нужно расшифровать, — заявил теолог. — Ведь это гримуар, а в подобных проклятых документах…
— …можно обнаружить весьма полезные вещи, — ухмыльнулся третий студент.
Буря снаружи постепенно успокаивалась, и листы пергамента оставались спокойно лежать на столе под внимательными взглядами студентов.
— Полезные… Возможно…
— Если ты собираешься прочитать рукопись, тебе на это потребуется вся ночь!
— Не думаю, что при этом возникнут затруднения. Меня поражает, что в произведениях этого жанра всегда отсутствуют бесполезные и витиеватые рассуждения…
— Их авторы сразу начинают с in medias res[8]!
— Текст начинается со странного обращения к похитителям гримуара.
— Следовательно, к нам…
— Вот именно, к нам. Говорится, что однажды, независимо от нашего желания, мы познаем ЗНАК и приобретем необыкновенные способности.
— Знак?
— Это слово написано большими буквами. Но я разберусь во всем только при дальнейшем изучении рукописи, если мне это удастся. Мне кажется, это будет опасным занятием.
Несмотря на успокоившуюся бурю, в комнату ворвался ледяной ветер, пошевеливший листы пергамента. Лампа внезапно погасла.
Ее сразу же зажгли, и студенты увидели, что гримуар исчез.
— Мне кажется, — медленно произнес теолог, — что мы оказались втянутыми в необычное приключение. Мы трое…
Вот эта тройка: Даниель Сорб, Полей Текаре и Жюстен Помель.
II Добрый день, господин Помель!
Отец Транквиллен оставил свой кабриолет на попечение слуги кабачка «Оловянный горшок», пересек под дождем аллею и толкнул дверь в аптеку Помеля, вывеска которой с надписью «Сладкая горечь» поскрипывала на ветру.
— Рогоносец! — заорал кто-то хриплым голосом, и священник едва не наткнулся на клетку, за медными прутьями которой забавно топтался попугай.
— Он явно ошибся, простите его!
Фармацевт улыбнулся своему бывшему университетскому товарищу.
— Какое оскорбление вместо приветствия! Конечно, оно не имеет отношения к тебе, Даниель. Или ты предпочитаешь, чтобы я обращался к тебе, используя твое церковное имя? Я не знал, что монахи встают раньше монашенок; тем не менее, я ожидал тебя спозаранку, и кофе уже на столе!
— Слушай, Помель! — обратился к хозяину священник, едва отхлебнув из чашки. — Я давно знаю, что ты человек опытный, и что это дело должно закончиться на тебе. В конце концов, случай…
— Что за вздор! — воскликнул аптекарь. — Это слово слишком легко приходит на ум. Конечно, оно было бы одним из первых в словаре нашего Текаре, останься он до сих пор в нашем мире…
— Бедный толстяк… — вздохнул отец Транквиллен.
— Толстяк? Последнее время он выглядел иначе, спиртное сожгло весь его жир! Так что теперь, мой дорогой коллега и…
— И сообщник!
— …теперь ничего нельзя изменить, особенно с того момента, когда один высокопоставленный церковник кое-что рассказал тебе и поручил важное задание. Ты ведь помнишь, что странная давнишняя история с одним здешним малышом закончилась ничем!
— Так ты знал его? — спросил Транквиллен.
— Да, конечно… но я не мог предвидеть, что… Каждый раз, проходя мимо моей аптеки, он кричал: «Добрый день, господин Помель!» И я уверен, что он больше никому не желал доброго дня от всего сердца. Повторяю, если бы я мог предвидеть, что он однажды войдет… Гм, в круг, что ли? Судя по тому, как быстро ты появился у меня, мое письмо основательно взволновало тебя.
— Взволновало! — вскричал отец Транквиллен. — Этот эвфемизм стоит запомнить! Ты открыл передо мной адские врата такого ужаса, который можно встретить только в книге Еноха! Те несколько страниц, что ты прислал мне, содержат кошмарные пробелы, и, если бы в последние годы мир слуг господних не был обеспокоен ничем более серьезным, я не обратил бы на эти обрывки внимания, сколь бы не была велика фантазия того, кто их написал.
— Ничем более серьезным? — хитро улыбаясь переспросил Помель. — Неужели малыш Иуда одержал верх над Иудой великим?
— Шутки в сторону, Жюстен! Как к тебе попали эти проклятые страницы, и кто такой юный Пьер-Иуда Югенен?
— На эти два отдельных вопроса потребуется дать два отдельных ответа. Давай допьем кофе и закурим наши трубки. Снаружи свирепствует дождь, и ветер постепенно меняется на северо-западный, так что соседство с доброй жаровней становится весьма желательным.
Разожжем огонь в печи, друзья, И вспомним о давно прошедших временах…Что-то в этом духе когда-то, во времена нашей студенческой юности, пела красавица Мирет Галлант, королева кабаре.
Так вот, я сидел в своей аптеке, составляя в соответствии с требованиями Кодекса мыльную мазь Жадело: маковое масло, белое мыло, сульфат калия, летучее масло чабреца — осмелюсь утверждать, что должно было получиться прекрасное средство против чесотки. И тут в аптеку вошла дама, чихая и сморкаясь, поскольку она сильно промокла под дождем.
«Чем могу быть вам полезен?» — спросил я, не сводя с посетительницы восхищенного взгляда, поскольку она была удивительно красива.
«Я хочу кое-что передать вам, — ответила она. — Меня зовут Хильда Ранд, я работаю в цирке Пфефферкорна, сейчас он остановился в этом городе. Много лет назад вы были знакомы с юношей, похоже, очень любившим вас, с Жюдом Югененом…»
«Добрый день, господин Помель!» — воскликнул я, рассмеявшись.
«Действительно, он рассказал мне, что никогда не сказал вам ни одного слова, за исключением этой фразы, хотя ему и доводилось повторять ее по нескольку раз за день. Так вот, он поручил мне передать вам тетрадь, в которой им было что-то написано…
К сожалению, вскоре в цирке Пфефферкорна случился пожар, и я с трудом спасла вместе с частью моих животных лишь несколько страниц из этой тетради. Как я обещала своему знакомому, я передаю эти страницы вам…»
В этот момент в аптеку вошел, отфыркиваясь, словно морская корова, доктор Кранц, которому теперь принадлежал кабинет Полена Текаре. Он пробубнил:
«Помель, налей поскорее мне рома, коньяка или чистого спирта!.. Этот дождь вреден для моего желудка… Кроме того, я хочу опять потребовать, чтобы ты перестал советовать клизму с ртутным медом пациентам, страдающим запорами! Они слишком быстро излечиваются, и у меня уменьшается клиентура!..»
Пока он расправлялся с полупинтой рома, Хильда Ранд ушла, оставив на прилавке несколько страничек с обгоревшими краями. Я запихнул их в выдвижной ящик и вспомнил о них только через три или четыре дня. Но тогда я был очень занят, и мне довелось просмотреть эти странички только на следующий день.
— Увы! — простонал отец Транквиллен. — Столько времени потеряно!
— Едва я познакомился с остатками тетради, — продолжал аптекарь, — как тут же помчался на музейную эспланаду, где цирк Пфефферкорна раскинул свои шатры.
Циркачи сворачивали свое имущество, и я долго бродил между повозками и клетками, из которых на меня рычали дикие звери, прежде, чем мне удалось найти директора. Он сказал мне:
«Хильда Ранд ушла от нас, и теперь я сам вынужден показывать животных публике. У нас их немного: два льва, два тигра, одна пума. Представление хуже не стало, потому что в последнее время Хильда сильно сдала. Куда она уехала? Я не знаю, здесь люди приходят и уходят, и их ни о чем не спрашивают, тем более, что ответы могут быть лживыми. Думаю, что она, как девушка симпатичная, легко найдет себе туфельки по ноге».
В тот же день я отправил тебе, Транквиллен, все, что осталось от тетради.
— Может быть, ты расскажешь мне что-нибудь о молодом Югенене? — спросил священник.
— Это имя было переделано на французский лад, не знаю, когда, кем и почему. В действительности, у Югенена было патрицианское голландское или немецкое имя: Югенхольц или что-то вроде этого. Его семья жила в портовом квартале, в большом уродливом здании. Думаю, что они были довольно богатыми. Глава семьи, Каликст Югенен, не расставался с морем; он был одновременно контрабандистом, пиратом, береговым разбойником и специалистом по морскому праву.
Мать, красивая креолка, проводила дни в наведении макияжа или валялась на диване, забавляясь с макакой и ручным вороном, одновременно употребляя в большом количестве анисовую водку и наркотики. Она ожидала ребенка, когда Каликст Югенен не вернулся из очередного плавания.
Гадалка предсказала ему рождение сына, и он, перед тем, как отправиться на встречу со своей загадочной судьбой, решил, что сын должен быть назван… Иудой. Это вполне соответствовало постоянно проявлявшемуся отвратительному характеру моряка.
У креолки действительно родился сын; неожиданно сразу за ним на свет появился его брат: гадалка не смогла предвидеть рождение близнецов; следовательно, в ее предсказании содержалась только половина правды. Мне довелось отстаивать волю отца близнецов. Чиновник отдела гражданского состояния отказался записывать в книги имя Иуда, несмотря на возмущение доктора Текаре, согласившегося стать крестным отцом. Текаре позвал меня на помощь, и я, вооружившись Новым Заветом, объяснил чиновнику, что существовал и святой Иуда, брат святого Жака. Тем не менее, малыш Югенен был зарегистрирован в книге родившихся как Пьер-Иуда Югенен.
— Эти два имени прекрасно согласуются! — признал Текаре, ухмыляясь. — Иуда предал своего господина, а Пьер или Петр отрекся от него. Первый стоил второго.
Второй ребенок был назван в честь святого Альдеберта в соответствии со святцами. Что касается прекрасной креолки, то она быстро потеряла интерес к новорожденным.
Ее часто можно было видеть в городе, где она часами дегустировала ликеры на террасах кафе, с презрением отворачиваясь от ловеласов, пытавшихся заигрывать с ней. Ухаживать за близнецами она поручила своей то ли кузине, то ли просто дальней родственнице, которую дети позднее стали называть тетушка Фараильда. Это была красотка с пышной фигурой, словно сошедшая с картины Рубенса, особа легкого поведения, но остававшаяся доброй женщиной. Креолка первая покинула город, исчезнув в неизвестном направлении. Немногочисленные наиболее доброжелательно относившиеся к ней горожане полагали, что она отправилась к своему безалаберному супругу.
Тетушка Фараильда осталась ухаживать за детьми.
Прошли годы. Когда близнецам исполнилось двадцать лет, их дом был продан на торгах. Незадолго до этого случился небольшой скандал.
Рассказывают, что Пьер-Иуда был обручен с молодой учительницей по имени Перрина Жене. Однажды утром ученики напрасно ждали ее в классе. Оказалось, что она бежала с Альдебертом.
Странное совпадение, но как раз в это время в пригороде появились палатки бродячего цирка. Когда цирк свернул палатки и отправился искать удачи в другом месте, тетушка Фараильда и Пьер-Иуда покинули город.
Я больше ничего не могу сказать тебе о семействе Югененов, мой друг. Да и то, что я знаю, никак не проясняет появление страниц, переданных мне Хильдой Ранд, которые я послал тебе.
— Я сейчас прочитаю их тебе в надежде, что они, может быть, помогут тебе вспомнить какие-нибудь подробности.
Хотя фактор времени не имеет существенное значение для интересующих нас событий, я хотел бы знать, сколько лет было молодому Югенену в то время, когда он посещал школу Сидуана Кюха, и где находится… ну, скажем… предмет с улицы Старого Земляного Вала?
— Добрый день, господин Помель! — воскликнул аптекарь. — Это было время его ежедневных вечерних молитв, и если я скажу, что тогда ему исполнилось лет тринадцать, то, думаю, не сильно ошибусь.
— Это совпадает с моим заключением, — кивнул отец Транквиллен. — А теперь предоставим слово Пьеру-Иуде!
III Все, что уцелело от огня
В то время, как Альдеберт всегда с нетерпением ожидал начала занятий в классе, старательно выполнял домашние задания и с блеском отвечал на уроках, я проявлял необъяснимое отвращение ко всему, имевшему отношение к школе.
Я был плохим учеником, классическим лодырем. Тетради с моими домашними заданиями были усеяны чернильными кляксами и жирными пятнами; моя память категорически отказывалась запомнить самое простое двустишие, и я никогда не мог усвоить правила и законы, обязательные для школьной братии.
Мой преподаватель, Сидуан Кюх, не любил ни меня, ни моего брата; я частенько замечал, как он бросал на нас людоедские взгляды. Ходили слухи, что эта лысая жирная обезьяна в молодости была безумно влюблена в нашу матушку. Конечно, во время школьных торжеств он был вынужден водружать венок из фальшивых лавровых листьев на напоминавшую мочало шевелюру Альдеберта, так как ничто не могло затмить его прилежание и его знания. Тем паче, он со свирепой радостью обрушивался на меня за мои многочисленные прегрешения и недостатки.
Неплохой полиглот, Сидуан Кюх обзывал меня на разных языках: дурная башка, Schafskopf[9], Оruga[10], Monkey[11]. Таким образом, я становился на немецком, испанском и английском попеременно то бараном, то червяком, то обезьяной…
Он обязательно побил бы меня, не пригрози я воткнуть ему в живот циркуль. Поэтому он, человек весьма хитрый, добился того, что занятия в школе стали для меня невыносимыми, превратившись в ежедневную пытку.
Самым сильным в нашей школе был некий Гласс, коренастый верзила, настоящая глыба костей и мускулов, но весьма ограниченный. Его поведение и привычки мало чем отличались от моих; тем не менее, я иногда ухитрялся — не иначе, как с помощью везения — решить какую-нибудь задачу или правильно ответить на вопрос преподавателя, тогда как Гласс всегда только ухмылялся и пожимал плечами, демонстрируя таким образом полное незнание. Кюх постарался превратить верзилу в своего союзника; он перестал делать ему замечания и наказывать дополнительными заданиями. Иногда он даже хвалил его.
Кюх никогда не поднимал на меня руку, тогда как Гласс безжалостно избивал меня на переменах или после окончания уроков. Я отчаянно сопротивлялся этому чудовищу, но с таким же успехом я мог бороться с паровой машиной.
Чтобы избежать постоянных пыток, мне пришлось прибегнуть к более радикальному средству: я начал пропускать занятия.
Особого удовольствия от этого я не получал, потому что был вынужден проводить часы тайной свободы в полном одиночестве, стараясь никому не попадаться на глаза. Я или скрывался в зарослях бересклета и калины в старом ботаническом саду, или же, в плохую погоду, укрывался в небольшом заброшенном особняке, где с помощью крошек хлеба и печенья приручил несколько мышей.
Но Кюх продолжал внимательно следить за мной. С помощью полувельты[12]пива он запустил по моим следам одного типа по имени Кнопс, известного жулика и попрошайку. Кнопс быстро выявил мои укрытия; он неожиданно появлялся там, хватал меня за воротник и тащил в школу, не жалея при этом ни ругательств, ни пинков.
Любой другой мальчишка на моем месте быстро потерял бы всякую надежду на спасение, но я никогда не погружался в пучины отчаяния.
Конечно, я не любил Кюха, Гласса и Кнопса, но никогда не испытывал подлинной ненависти к ним.
Слава Богу, если бы подобное чувство родилось во мне, я мог бы навсегда превратиться в жуткое порождение ужаса. И, если так и случилось, то это произошло вопреки моему желанию, благодаря рабской покорности судьбе.
Могу даже сказать, рискуя удивить тех, кто повстречался на моем пути, что я испытывал к своим палачам нечто вроде жалости, словно предчувствуя цену, которую им когда-нибудь придется заплатить за свою жестокость и за мои мучения.
Долгое время ничто не предвещало этот день невероятных событий.
Погода была замечательной; апрель разукрасил деревья белым пухом; на пустырях среди зарослей сорняков гудели шмели, опьяневшие от солнца; небесная лазурь вибрировала от песен жаворонков. Мы с Альдебертом расстались на углу улицы Прачек.
— Разумеется, ты не идешь в школу, — сказал он.
— Разумеется…
— Но еще ни разу не случалось, чтобы Кнопс не обнаружил тебя.
Не знаю, почему, но я ответил:
— Тем хуже для него!
Я направился дальше новой дорогой, уводившей меня далеко в сторону от старого ботанического сада. Я пересек сначала площадку, где работали бочары, затем несколько небольших зеленых лужаек, на которых женщины развешивали белье и, в конце концов, очутился в квартале, известном под названием Старый Земляной Вал.
Его пересекала улочка с жалкими домишками. Она оказалась совершенно безлюдной.
Отец Транквиллен отложил обгоревшие страницы, свернувшиеся от огня.
— Похоже, что здесь отсутствует целая страница, если не больше. Полагаю, мы пропустили описание небольшого заброшенного особняка.
— Думаю, так оно и есть, — ответил Помель. — Заметим, что этот особняк не существует уже много лет. Значительная часть улицы Земляной Вал, на которой он находился, попала под снос.
— Ладно, предоставим снова слово Пьеру-Иуде, — сказал священник и принялся осторожно разглаживать мятый обгоревший лист.
Я не страдаю болезненным любопытством; меня иногда даже упрекают, что я ничем не интересуюсь. Тем не менее, я смотрел через окно со стеклом, покрытым тонким слоем грязи и матовым от паутины. Мне казалось, что в доме кто-то есть.
Кто-то? Достаточно ли этих кратких слов, чтобы описать увиденное мной лицо?
Да, всего лишь лицо, выделявшееся белым пятном на фоне сумеречной темноты. Оно слегка колебалось, словно от легкого дыхания ветерка, сохраняя при этом ледяное выражение мраморной маски, на которой живыми казались только глаза невыразимой красоты, сияющие, и в то же время ужасные.
Эти глаза следили за мной, и мне показалось, что я прочитал в них радость, жалость и одновременно — да простится мне абсурдный контраст — гнев отчаяния.
Внезапно лицо приблизилось к окну, расширилось, стало огромным — и я увидел перед собой один громадный рот.
Он был красным, словно бенгальский огонь.
Стекло разлетелось на куски, и к моему лбу прикоснулись губы.
Я почувствовал сильнейший ожог, превратившийся в нежную ласку после вспышки острой боли, продолжавшейся всего одно мгновение.
Лицо исчезло, передо мной снова находилась пустая темная комната.
Я повернулся и покинул улицу Старого Земляного Вала.
Я возвращался той же дорогой, по которой пришел, пройдя сначала через площадки для сушки белья, затем мимо мастерских бочаров. Неожиданно из-за пирамиды бочек передо мной возник Кнопс. Заметив меня, он зарычал от радости, так как понял, что заработал очередную порцию пива, и бросился вперед, вытянув руки с растопыренными пальцами. В этот момент пирамида бочек зашаталась; огромная бочка из дуба описала в воздухе траекторию пушечного ядра и рухнула на Кнопса.
Оборванец дико взвыл, и передо мной в груде обломков бочки мелькнули его судорожно дергающиеся ноги. К месту происшествия устремились работники мастерской, а я незаметно скрылся без особой спешки.
Я уже был далеко, когда до меня долетели возгласы бочаров:
— Ему разнесло вдребезги башку!
— Что он делал здесь? Не сомневаюсь, он пришел, чтобы спереть что-нибудь!
— Все закончилось, как надо, и потеря для города невелика!
Я согласился с этим мнением, повторив про себя:
— Не велика потеря!
Затем мне вскоре попались две дерущиеся собаки, и я стал с интересом наблюдать за их схваткой.
Откуда-то до меня долетели звуки отбивавших время часов.
Я удивился тому, что занятия в школе еще продолжались, хотя мне показалось, что с момента, когда мы расстались с братом, прошло много времени.
Зазвонил школьный колокол, извещавший о начале перемены. Я находился в двадцати шагах от школы, ее черепица блестела на солнце. Последние ученики выходили из дверей.
Находившийся среди них Альдеберт бросил на меня хитрый одобрительный взгляд, а Кюх, выбивавший трубку перед открытым окном, воскликнул:
— Господин Югенен!.. Странно, что вы появились — значит, вас не соблазнила прекрасная погода! Готов поспорить, что вы выполнили задание!
В особенно плохом настроении учитель торжественно называл меня Югененом Вторым, и я знал, что в этом случае мне нужно было держать ухо востро.
Тем не менее, он сегодня не стал спешить. Облизывая губы, он заранее наслаждался ожидающим меня испытанием. Он оставил меня в покое до конца перемены.
Чувствуя себя спокойно и как будто не обращая внимание на окружающих, я обдумывал случившееся сегодня утром. Лицо за окном на старой улице Земляного Вала, смерть Кнопса; но о нем я думал без малейшей эмоциональности и чувствовал всего лишь легкое удивление перед невероятным поведением времени при этих событиях.
Зазвонил колокол, отмечая прошедшие пятнадцать минут отдыха школьников.
Едва я сделал несколько шагов во дворе школы, как кто-то грубо схватил меня сзади за плечи и швырнул на землю.
Возле меня, ухмыляясь, топтался Гласс, переваливаясь на коротких ножках, словно медведь.
— Еще один кувырок, мой маленький червячок?
Я попытался ударить его, но он легко уклонился, одновременно отвесив мне оглушительную оплеуху.
— Югенен Второй, вы дважды проспрягаете мне фразу: «я плохо обращаюсь с моим товарищем!» — вмешался учитель Кюх.
Следующие четверть часа я провел в углу под шутки соучеников и ухмылки Гласса.
— Вам придется продекламировать «Осла», — сказал Кюх. — Надеюсь, эта тема близка вам.
Класс дружно захохотал.
Я начал бесцветным голосом:
— «Осел»…
— Замечательно, — подбодрил меня Кюх. — Продолжайте… Вы так хорошо декламируете!
Неожиданно я услышал, как я декламирую глупый стишок доброго аббата Делиля:
Не такой живой, не такой отважный, как лошадь, Осел замещает его, а не соперничает с ним. Он оставляет гордому скакуну его чудесную стать, Его богатую упряжь и великолепный аллюр…Класс ошеломленно затих; я увидел, что Альдеберт недоверчиво таращился на меня; другие ученики тоже смотрели на меня круглыми глазами.
А я продолжал с невероятной скоростью декламировать скачущие александрийские строфы, словно они были молодыми дикими осликами, а не невероятной безвкусицей:
Подобно Буцефалу, он служит робкой красавице И вместе с ней посещает разные города, Неся на себе слегка увядшие прекрасные цветы…— Стоп! — неожиданно заорал учитель Кюх.
Его лицо походило цветом на кирпич; он тяжело дышал.
— Не знаю, сплю я, или бодрствую, — промямлил он наконец. — Похоже, вы выучили заданный урок… Но один раз не в счет… Теперь скажите мне, что значит слово «Буцефал», так эффектно произнесенное вами.
Я сразу же ответил:
— Так называлась лошадь Александра Македонского. Это имя состоит из двух греческих слов, «голова» и «бык».
— Что? — закричал Кюх. — Какого черта вы…
Его лицо из багрового стало фиолетовым, а глаза были готовы вывалиться из орбит.
— Не возражаете, если я продолжу? — поинтересовался я.
Не дрогнув, он проходит краем бездны…— Замолчите! — рявкнул он. — Краем бездны!.. Мне кажется, что это я оказался на краю пропасти!
Глубоко вздохнув, он немного успокоился и сказал:
— Все это прекрасно, но мы не должны ограничиваться одной декламацией. Посмотрим, как вы разбираетесь в арифметике…
Это чудовище прекрасно представляло, что я не способен рассказать без ошибок таблицу умножения.
Немного помолчав, он спросил:
— Скажите, юный ученый, как вы понимаете выражение: аликвотные части или делители данного числа?
С моих губ тут же полилось четкое и ясное определение, как если бы я читал его на странице учебника.
После этого в классе воцарилась мертвая тишина. Можно было подумать, что его заполнили обездвиженные священным ужасом соляные статуи; не шевелился даже Гласс, и у него на шее вздулись большие синие вены.
Господин Кюх совершенно онемел. Краски исчезли с его лица, словно с тщательно смытой акварели, и на его щеках появился неприятный землистый оттенок.
Он дрожал, но в его зловещем взгляде промелькнул огонек вызова.
— Хорошо, раз уж мы имеем дело с чудо-ребенком, расскажите нам о тригономии!
Подняв брошенную мне перчатку, я пристально посмотрел ему в глаза.
— Рад доставить вам это удовольствие, господин учитель. Но, должен сказать, этот термин используется достаточно редко, к тому же, он неточный. Лучше использовать выражение «тригонометрические функции», которые, как вы знаете — или должны знать, — являются функциями угла. Это синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс и косеканс…
— Югенен, — прошипел Кюх, — немедленно убирайтесь, или я сойду сума!
По его лицу стекал крупными каплями пот, и на него было страшно смотреть.
— Урок окончен, — с большим усилием пробормотал он. — Школа закрыта до конца дня. Я чувствую себя… весьма неважно.
Ученики покинули класс в зловещей тишине, без радостных криков и даже не перешептываясь.
— Гласс! — окликнул я своего врага, когда мои соученики расходились, бросая на меня полные ужаса взгляды.
Верзила с побелевшим лицом обернулся.
— Станьте на колени и попросите у меня прощения!
Он тяжело рухнул на колени, ободрав их до крови о камни мостовой.
— Прости… простите меня, — заикаясь, пробормотал он.
— Бросьте свою фуражку в канаву, и пусть она валяется там!
Фуражка из плотной шерстяной ткани в шотландскую клетку была предметом его постоянной гордости.
Громко всхлипнув, он немедленно подчинился, после чего внезапно взвыл:
— Только не бейте меня!.. Пожалуйста, не делайте мне ничего плохого!
Я ничего не сделал ему.
Альдеберт ни о чем не спросил меня, ни в этот день, ни позднее, даже после того, как ужасная новость стала известна всем, и о ней поползли по городу сплетни.
Господин Кюх скончался этим же вечером. По крайней мере, вечером служанка, старая Трюда, обнаружила в углу комнаты его тело с жутко искаженным лицом и со стекавшей на подбородок слюной.
— Можно подумать, — сказала она, — что господин Кюх увидел нечто невыразимо страшное.
Примерно то же сказал и врач, констатировавший смерть.
Вместо Кюха нашим учителем стал молодой преподаватель, только что закончивший Высшую нормальную школу в Париже.
Это был мягкий рассеянный юноша, нередко сочинявший на уроках стихи.
Я интересовал его не больше, чем остальные мои одноклассники, и я быстро превратился в того же лодыря, что и прежде. Но теперь мне нравилась учеба, и я перестал прогуливать занятия.
Гласс надолго исчез из моего поля зрения, так как его приковал к постели острый менингит. Избавившись с большим трудом от менингита, он превратился в неизлечимого идиота, так что его в конце концов отправили в приют для отсталых детей.
Я совершенно не интересовался небольшим домом на улице Старого Земляного Вала. Тем не менее, однажды я вернулся туда.
Домик оставался заброшенным, как прежде, в нем не было ничего таинственного, и в нем поселились бродячие коты.
* * *
Знак обнаружила женщина.
Эта немка, говорившая с мекленбургским акцентом и всегда очень серьезная, руководила небольшим бродячим цирком, в одно ветреное мартовское утро воздвигшим свои убогие шатры на городском пустыре.
Наша непродолжительная ветрена сопровождалась писком шарманок и воплями мегафонов, обеспечивавших беседе звуковые декорации.
Энергично жестикулировавшая немка старалась соблазнить безразличную толпу тайнами своего дворца из досок и брезента.
Через час бесплодных усилий она решила вернуть деньги дюжине потерявших терпение зрителей.
Я покидал шатер одним из последних, когда она остановила меня, положив на мое плечо белую слегка полноватую руку.
— Минутку, — пробормотала она, продолжая крепко держать меня за плечо.
Несмотря на полноту, она была красива, и я почувствовал гордость, так как она выделила меня из толпы.
Она отвела меня в фургон, стоявший между двумя ярко раскрашенным палатками; уютное местечко с раскалившейся докрасна жаровней и несколькими мягкими креслами.
— Как вас… Кто вы? — спросила она, запинаясь.
Мне не понравилось ее любопытство; я нахмурился и у меня появилось желание промолчать.
Но она, не обращая внимания на мою недовольную гримасу, не сводила расширенных глаз с моего лба.
— Das Zeichen… Знак!.. — пробормотала она хриплым голосом.
Я повернулся к зеркалу, не понимая, что могло так заинтересовать ее на моем лице. И я увидел розовую, словно плохо заживший шрам, извилистую линию, похожую на ветку дерева, присмотревшись к которой можно было различить даже мелкие листочки.
— Знак! — повторила она.
Снаружи раздался грубый мужской голос:
— Фрау Пфефферкорн, все уже собрались, вас ждут!
Она вздохнула, словно с сожалением, и отвела взгляд в сторону.
— Вы не могли бы зайти ко мне сегодня вечером?.. Умоляю вас…
Выбравшись из фургона, я столкнулся с клоуном, ярмарочным зазывалой, верзилой с агрессивным выражением на лице.
Он прошипел какое-то ругательство, но не стал меня останавливать.
Я действительно вернулся, но только через неделю. Площадка опустела, цирк мадам Пфефферкорн уехал.
Очередная страница манускрипта выглядела мятым куском бумаги с обгоревшими краями.
Разобрать можно было только то, что речь шла о некоей Хильде, и что клоуна звали Хаген.
Упоминалась также Иннерст, небольшая речка, протекавшая через находившийся недалеко от Ганновера замечательный старинный городок Хильдешейм.
Ожидавшая меня Хильда явно была встревожена.
— Где Хаген? — спросила она.
Я ответил, пожав плечами:
— Я прогуливался по берегу Иннерст, глядя на серебристые стрелы усачей, проплывавших мимо. Хаген держал в руке какую-то дубину. Он высоко поднял ее, и вода словно вскипела…
— Вода вскипела, — повторила Хильда, и волнение перехватило у нее горло.
— Что-то вынырнуло из воды… Не могу объяснить, что имен-но… Странный предмет, похожий на кисть руки с предплечьем; он казался нечетким, словно его окутывала туманная дымка. И эта рука схватила Хагена… Он не закричал, не стал вырываться, а медленно погрузился в воду вместе со своей дубиной. Поверхность воды разгладилась, и на ней не осталось никаких следов.
— Gott im Himmel![13]— простонала Хильда, не сводя безумный взгляд с моего лица.
Я чувствовал легкое жжение, словно кто-то коснулся моего лба горячими и страстными губами.
* * *
Священник впервые пристально посмотрел на своего бывшего одноклассника.
— Послушайте, Помель, с чего бы это Югенен стал так откровенничать с вами?
— Не знаю. Возможно, он объяснил свои мотивы на какой-нибудь из полностью испорченных страниц.
— А почему вы прислали мне эти обрывки текста?
Помель попытался изобразить улыбку, но у него получилась всего лишь жалкая гримаса.
— Основанием для этого, отец Транквиллен… Или все же вас лучше называть Даниелем Сорбом? Так вот, как сказал бы Тюрен, наш старый профессор философии, причина заключается в множественности…
Священник остановил его властным жестом.
— Тюрен был дураком, способным изрекать только пустые фразы; не пытайтесь подражать ему.
— Я пока и не пытаюсь, — пробормотал Помель. — Время для этого еще не пришло. А пока вместо ответа я могу только задать вопрос: насколько мы можем понять из откровений Пьера-Иуды, он, по-видимому, пользовался оккультной защитой какого-то мстительного существа? Но, какова была природа… Что это было за существо?
— У вас есть основания опасаться его? Или вы хотели бы познакомиться с ним поближе? — резким тоном поинтересовался отец Транквиллен.
Звякнул дверной колокольчик, и на прилавок облокотился вошедший посетитель, что избавило аптекаря от необходимости отвечать. Священник повернулся и молча, не попрощавшись, вышел под дождь. Быстро зашагав прочь, он остановился на повороте аллеи, обернулся и посмотрел на вывеску с надписью «Сладкая горечь».
— Вот как, значит?.. Добрый день, господин Помель!.. Ну, мы еще посмотрим!
Разумеется, он не знал, что в этот самый момент, человек, которому он адресовал эту угрозу, тоже посмотрел в его сторону, сопроводив этот взгляд тройным ругательством:
— Тартюф! Лицемер! Чертов монах!
IV Аббат Капад ночью
Мне кажется, — вздохнул аббат Капад, — что я, подобно доброму Филопатрису, только что спал на Белом Камне среди обитателей снов, и вернувшись оттуда захватил с собой тщетные и преступные воспоминания.
В действительности он задремал в кресле, подперев голову рукой, и его сон нарушил какой-то шум, причину которого он сейчас пытался установить.
Сделать это было легко, потому что нескромные законы акустики, способные обрадовать даже подозрительного сиракузского тирана, без помех действовали в епископском дворце.
— У тебя хорошее крепкое вино, брат Аделен, и я охотно соглашусь на добавку, — прогремел веселый голос. — Но завтра, если только это не будет неподходящий день недели, достойный хозяин кабаре «Семь звезд» откроет бочку «Королевского» вина.
— Я не смогу, чего бы мне это не стоило, заглядывать в столь близко расположенную таверну, — ответил ему жалобный голосок.
— Я принесу тебе вина в кувшине из фландрского песчаника, долго сохраняющего вино свежим и бархатистым, брат Аделен. потому что ты никогда не оставлял мою жажду неутоленной.
— А, понятно, это брат Аделен и Клермюзо объясняются друг другу в любви под символом Бахуса. И это происходит в доме монсеньора Дюкруара! — пробормотал Капад. — Но могу ли я удивляться этому? Более того, вправе ли я возмущаться?
Тишину ночи нарушил более отдаленный звук, серебряный и гармоничный, как будто кто-то задел гитарную струну.
В мягкой тишине Салона Ангелочков потерявшая уверенность рука монсеньора Дюкруара звякнула о толстое стекло бутылки старого шартреза великолепным, словно покрытым инеем хрустальным тюльпаном.
— Разве Святой Бонавентура не утверждал с горячностью, что существует народ снов, к тому же, не в виде теней, но как божественных созданий, служащих вящей славе господней?
Вот что открыло мне мое пробуждение: жалкий мусор, мертвую траву и пыль!
Но что я могу сказать о существах, покинувших меня с уходом сна? Разве не были они дымом, туманом? Были ли они разновидностями греха или, по крайней мере, его сообщниками?
Неужели всего лишь отголоски беседы двух пьяниц и приверженность епископа излишествам могут пробуждать в этом доме идею греха?
Вздор! Щепетильность ростовщиков! Глупость святош!
Холодное, всепожирающее пламя пышной рыжей шевелюры…
Триумф обнаженной плоти, предающейся любви…
А если они могут, подчиняясь таинственным путям природы, превращаться в звуковые колебания, достаточно сильные, чтобы быть в состоянии извлечь меня из сна и тишины, и гораздо более громкие, чем звуки голосов на кухне?
Ах, Юдит, порождение ада!
Вспышка пламени ранила его глаза, и он осознал, что задремал в комнате с иллюминатором, и что свет выходил из будуара с обстановкой в пастельных тонах.
Грех! Грех подлинный! Грех реальный! Заключающий в себе все возможные гнусности, все наслаждения! Но нельзя же считать, что он рождается под крышей епископского жилья, едва затронутого невинной слабостью гурманства.
Капад увидел лестницу, способствовавшую нескромным действиям аптекаря Помеля, прислоненную к стене напротив.
— Надеюсь, сегодня она пригодится в последний раз, — ухмыльнулся он. — Я сожгу ее!
Его охватило неприятное ощущение головокружения, когда он стал карабкаться по ступеням лестницы. Затем он почувствовал, что плиты двора проваливаются в чудовищную бездну…
По мере того, как к нему приближалось освещенное окно, свирепая лихорадка желания освобождала его от застарелых ограничений, отрывала от традиций, которые он до настоящего момента уважал, как священные.
Он прижался разгоряченным лицом к стеклу, которое хотел выбить. С другой стороны стекла к нему устремилось нечто непонятное…
* * *
— Ха-ха-ха!
Громкий хохот заполнил комнату.
— Ха-ха-ха! Ах, Капад… Бравый Капад!.. Можно полагать, что для тебя больше не существует Бога?
Пришла безмолвная ночь с плотной густой темнотой; Кападу показалось, что она соответствует его думам.
И тогда он тоже рассмеялся почти таким же смехом, каким был встречен на вершине лестницы.
— Заключить договор можно не только с дьяволом…
Если бы в этот момент появился Клермюзо с багровой рожей, пропахший кислым молодым вином и кричащий, что он викарий, и если не сам папа, то по меньшей мере епископ, тогда Капад охотно последовал бы за ним в кабачок «Семь звезд», чтобы распить бутылочку.
Но ставни таверны были закрыты и укреплены большими дубовыми штырями, тогда как ее вывеска с семью звездочками Колесницы Давида[14] негромко, но злобно поскрипывала на ночном ветру.
Небольшое отступление
Преподобнейший отец аббат Баге, прелат Моркура, предпочитал тихую жизнь, и трагический конец обитателей Шести Башен почти не нарушил покой его дней и даже ночей, когда неожиданно появился новый повод для огорчения. Ему приказали «расшевелить» отца Транквиллена, получившего задание исключительной важности.
Отец Сорб проводил спокойные дни в уютном кабачке «Оловянный горшок».
В определенное время ему подавали прекрасно приготовленные блюда, и ему не нужно было даже пересекать аллею, чтобы увидеться со своим старым компаньоном Помелем в его аптеке.
После короткой встречи с преподобнейшим отцом аббатом Баге, отец Транквиллен все же позаботился принять необходимые меры.
— Рано или поздно, мне все равно пришлось бы двинуться в путь без тебя, моя верная подруга, заменив тебя отвратительным железным огнедышащим созданием, пожирающим пространство со скоростью ветра, — сказал он однажды вечером своей кобыле, ласково похлопав ее по крупу.
Перелистав тонкую брошюру «Советы путешественникам», он выдрал из нее страницу с изображением локомотива, изрыгавшего дым и огонь из высокой трубы и влачившего за собой через мрачное пространство длинную вереницу вагонов. Картинка сопровождалась текстом:
Рекомендации особам, путешествующим по железной дороге.
Никогда не выходите из вагона и не садитесь в него, если поезд не остановился.
Старайтесь как можно реже выходить из вагона.
Не высовывайтесь из окна, когда поезд движется.
Не переходите без особой необходимости железнодорожные пути.
В крайнем случае, делайте это с большой осторожностью.
Специальные поезда более опасны, чем обычные.
Старайтесь, по мере возможности, садиться в вагоны в средней части состава.
Никогда не пересекайте железную дорогу без разрешения сторожа[15].
«Интересно, — подумал Транквиллен, — какой ангел-хранитель прислал мне эти мудрые советы, и как он ухитрился подсунуть его мне?»
Хозяин «Оловянного горшка» не представлял, каким образом брошюра оказалась на столе посетителя. Ее появление было тем более странным, что железная дорога никогда не проходила через Ла-Рюш-сюр-Оржет, и только много лет спустя паровоз начал оплевывать дымом и огнем живописный пейзаж, столь дорогой монсеньору Дюкруару.
V Остановка в Гейдельберге
— На вас возлагают большие надежды, отец Транквиллен… Преподобнейший аббат Баге ненавязчиво подчеркнул неопределенность тех, кто возлагал надежды, словно хотел обратить таким образом внимание отца Транквиллена на высокое звание лиц, представителем которых он являлся.
— Да, большие надежды, господин Сорб, — повторил аббат.
Его стремление к равноправию религиозного и светского положения было настолько очевидно, что отец Транквиллен был поражен обращением аббата Баге, как упреком — или иронией. Его слова, простые и даже банальные, преследовали Транквиллена, когда он возвращался в «Оловянный горшок», когда он находился в поезде, увлекавшем его через мрачную лесную область Германии, и даже когда он покинул Мангейм вместе с группой швейцарских эмигрантов из Базеля, направляющихся в Австралию. Он выяснил, что в Мангейме отвратительные отели, что в нем нужно остерегаться менял и ничто здесь не оказывается менее определенным, чем расписание поездов и пароходов.
В итоге Транквиллен решил, что «Советы путешественникам» не так уж бесполезны, как можно было сначала ожидать, так как узнал, что железные дороги Франконии[16] уже давненько переживают трудные дни.
Таким образом, он задержался в Гейдельберге, и нельзя сказать, что ему пришлось жалеть об этом.
Обвалы в горах, многочисленные лесные пожары, виновниками которых считались выбрасывающие искры паровозные трубы — все это позволяло противникам железнодорожного сообщения останавливать поезда. Студенческие таверны дружелюбно встречали посетителей, а в «Золотой щуке», к тому же, подавали великолепное золотистое вино, которое когда-то так любил Гете, и которое позволило Музеусу[17] написать «Volksmarchen»[18]. У Транквиллена остались бы самые приятные воспоминания о его кратком пребывании в этом старинном городе, не почувствуй он вмешательство враждебной силы, явно противодействующей его планам.
Он ушел из «Золотой Щуки» поздно вечером, потому что студенческая компания настойчиво угощала его великолепными местными винами, пока он не остановился на самом лучшем.
Путешественники, также вынужденные прервать путешествие, штурмовали немногочисленные отели; благодаря своим новым друзьям-студентам, он смог снять комнату у владелицы галантерейной лавки в старом квартале университетского городка.
Запасшаяся сальной свечой хозяйка ожидала его в лавке, пропитанной запахами материи и средства от моли.
— Ночь будет очень темной, герр пастор, — сказала она, поднимая перед Транквилленом подсвечник. — Луны не будет, и тучи спустились так низко, что едва не задевают макушки холмов.
Старушка-хозяйка оказалась горбатой карлицей с руками, странно похожими на обезьяньи лапы.
— Не стану желать вам доброй ночи, герр пастор. Это было бы пустое и бесполезное пожелание, потому что сегодня ночь принесет с собой много зла. Не понимаю, почему эти лоботрясы посоветовали вам провести ночь в доме, который местные жители стараются обходить стороной, как и живущую в нем вашу покорную служанку.
Этот вопрос показался Транквиллену весьма закономерным, но раздавшийся удар грома не позволил ему задуматься над ответом.
Старуха, оказавшаяся способной передвигаться со скоростью спасающейся крысы, взлетела наверх по спиральной лестнице, распахнула перед Транквилленом дверь, поставила подсвечник на пол и исчезла в длинном, словно туннель, коридоре.
Злобно громыхающая гроза не ослабила воздействие коварного вина из «Золотой щуки» и не смогла соперничать с просторной мягкой постелью; Транквиллен быстро погрузился в сон без сновидений.
Без сновидений? Проснувшись невзначай ночью, он не мог определить, происходит ли с ним то, что он видит, во сне или наяву.
Карлица ошиблась, когда говорила, что ночью луны не будет, потому что жидкий янтарно-желтый свет сочился в комнату через застывшую снаружи ночь.
Накануне вечером священнику показалось, что там, где исчезала уходящая в ночь улица, виднелись отблески вод Некара с небольшими светлыми пятнами от фонарей. Теперь же он видел в том направлении контуры деревьев общественного парка, развалины небольшого особнячка и залитую грязью площадку, на которой громоздились штабеля досок и пирамиды бревен.
— Это напоминает мне… Нет, это заставляет меня вспомнить кое-что, — пробормотал он.
Но вино «Золотой щуки» еще не отказалось от власти над его сознанием, и сон незаметно вернулся к нему.
* * *
— Герр пастор, сегодня днем ожидается поезд в Ротембург, и, возможно, еще один поезд в Нюрнберг, хотя в этом пока нет особой уверенности.
Многообещающая фраза, произнесенная звонким радостным голосом, вырвала Транквиллена из пучин абсурдных снов. Он поднялся, выспавшийся и готовый к действиям. До него долетел дружелюбный запах кофе, он услышал позвякивание кофейных чашек и остановился, ожидая появления хозяйки с завтраком.
Транквиллен едва сдержал удивленный возглас, потому что поднос с разными деликатесами опустила на столик перед ним не угрюмая горбатая карлица, а ослепительная блондинка.
— Бог на вашей стороне, герр пастор, потому что сегодня впервые за год у нас появился spickgans[19]. Справедливо считается, что нет ничего более вкусного в наших краях, если не в целом свете, — сказала она, пододвигая ближе к священнику большие ароматные ломти копченой гусятины.
— Благодарю за столь приятное пробуждение. Мне не позволяла надеяться на это несколько странная физиономия встретившей меня вчера почтенной дамы, — весело ответствовал Транквиллен.
Красивое девичье лицо помрачнело.
— Чтоб ей повстречаться с чумой, этой Регентруде. Готова поспорить, что вчера она обещала вам беспросветную ночь без луны и с адской непогодой.
— Но гроза действительно была, моя фройляйн, да еще какая! Весь дом дрожал от ударов грома.
— Нет, что вы… Напротив, ночь была спокойной. Это все фокусы Регентруды, которые она проделывает для людей, излишне увлекающихся местным вином с берегов Некара.
— Да что вы! И как это ей удается? Должен признать, что все происходящее показалось мне удивительно правдоподобным.
Девушка пожала плечами и ответила уклончиво, словно ей не нравился разговор на эту тему:
— Регентруду нельзя назвать злой, но она все же немного колдунья. Впрочем, в наших краях колдуньи встречаются довольно часто. А теперь, герр пастор, мне остается пожелать вам хорошего аппетита. Но прежде чем расстаться, я попрошу вас передать кое-что моей сестре в Нюрнберг, если, конечно, вы не будете против.
— Весьма охотно!
— Один из тех студентов, что привели вас сюда, сообщил мне, что вы собираетесь остановиться в отеле «Святой Себальд», расположенном напротив церкви с тем же названием…
— Да, я действительно намеревался остановиться в нем.
Девушка улыбнулась.
— Этот отель принадлежит моему свояку и моей сестре Мариельде. Сейчас это далеко не то заведение высшего класса, каким оно было когда-то, но вас все равно обеспечат в нем надлежащим уходом, да и Мариельда — прекрасная повариха.
После того, как Транквиллен отдал должное копченой гусятине и вкуснейшим ломтикам готской колбасы, он распрощался с красавицей-хозяйкой.
— У меня к вам, герр пастор, будет просьба, которая может показаться вам странной, — сказала она неуверенным тоном, — но, можете не сомневаться, речь пойдет не о пустяках. Передайте Мариельде, чтобы она не кормила золотых улиток. Я больше не могу ничего сказать вам, но она поймет… А поскольку вы священник…
Она отвернулась, чтобы скрыть стекающие по ее щекам слезы.
Но она не могла знать, что слова, только что ею произнесенные, произвели на Транквиллена эффект удара дубины.
…Золотые улитки…
Эти небольшие чудовища, на которых покоилась рака святого Себальда, были невероятно загадочными созданиями!
Он понял, что сказанное следует расценивать, как знак судьбы, но не мог надеяться, что оно поможет выполнить его задание.
Издалека долетел металлический звон; это огромные башенные часы университета принялись отсчитывать время.
«Нужно проверить, относятся ли общественный парк, разрушенный особняк и груды строевого леса к реальности, или это порождения сна?» — подумал отец Транквиллен. Ему оставалось провести в Гейдельберге еще несколько часов.
Это был не сон; в конце улицы, где ночью ему почудились облицованные серебряными лунными полосками волны Не-кара, действительно находилось все, что он видел тогда.
Общественный парк, лишенный какой-либо таинственности, походил, скорее, на большую свалку, усыпанную гниющей листвой и заросшую сорной травой.
Но в нескольких шагах от развалин особняка перед ним открылся тупичок, и Транквиллен невольно остановился перед домиком с низкими окнами; за их стеклами можно было различить пыльные комнаты, населенные тенями.
Это был не тот похожий на ночной колпак домик, что когда-то увидел удравший с уроков Югенен, но он достаточно близко напоминал его, и к священнику вернулись воспоминания о давнем жутковатом приключении школьника.
Неожиданно что-то шевельнулось за мутным стеклом одного из окон; бледное лицо возникло из сумеречной комнаты и стало приближаться к окну.
Транквиллену показалось, что он уже различает мрачное пламя злобно смотрящих на него глаз, но внезапно он сообразил, что видит всего лишь блики на грязном стекле.
Всмотревшись, он действительно увидел темные горящие глаза на желтой маске, испещренной морщинами.
Внезапный испуг тут же прошел, и он громко рассмеялся.
Он взмахнул рукой, жестом человека, старающегося прогнать собаку или кошку. Регентруда бросилась в сторону, изрыгая ругательства и проклятья.
* * *
Когда поезд тронулся, Schaffner[20] повесил на стенку зажженные масляные лампы и сообщил, что дорога отремонтирована. Поезд скоро оставит позади Ротенбург и поздно вечером будет в Нюрнберге.
— Там вас ожидает довольно влажный прием, герр пастор. Вот, уже начинается!
Действительно, яростный ливень принялся хлестать по стеклам вагона. Транквиллен пододвинулся к лампе, чтобы прочитать страничку требника, когда внезапно почувствовал сильнейшую боль — кто-то укусил его. Он сразу же поднес руку ко лбу и с отвращением смахнул на пол большое красноватого цвета насекомое, тут же скрывшееся в трещину между досками пола.
— Кусающаяся сколопендра!
Он узнал ядовитую тысяченожку, очень редко встречающуюся в старинном аббатстве Шести Башен.
Почему же, когда мерзкое насекомое исчезло, ему вспомнилась фраза из рукописи Югенена: «… я увидел извилистую линию, розовую, словно плохо заживший шрам…»?
Этими словами он вполне мог описать и противное насекомое…
— Все заставляет меня лить воду на мельницу дьявола, когда я сталкиваюсь с опасными аналогиями, — сердито пробурчал он.
* * *
Наконец, он увидел из окна красневшие в сумерках крыши Нюрнберга.
Небольшое отступление
Годы жизни святого Себальда, уроженца этих краев и покровителя Нюрнберга, приходятся на период с VIII по X век.
Точную дату установить невозможно, и все, сказанное о нем, является или предположениями, или ложью.
Его праздник отмечается в августе; в действительности, он приходится не на день, а на ночь: St-Sebaldusnacht[21] находится между Mercredi des Cendres[22] и днем Sainte-Gertrude[23] римской церкви.
* * *
Эти четкие и сжатые фразы можно было бы, наверное, прочитать в любой обычной энциклопедии; однако, они извлечены из кодекса черной магии XIV века, приписываемого Захариусу Зентлю. Известны его прозвища: «Маг», «Халдеец», «Властелин звезд», «Советник дьявола» и другие.
VI Розовый салат-латук
— По правде говоря, ты был крещен как Генрих, но более достойно называть тебя Карл-Хейнц — так зовут курфюрста Франконии, когда его представляют иностранцам.
Так говорил бывший судья Пробст, единственный в этот вечер гость гостиницы «Sankt Sebaldus» в Нюрнберге, и Генрих, хозяин гостиницы, согласно кивал головой, как он это делал всегда и по любому поводу.
Пробст, пожилой мужчина с лысым черепом, придвинулся поближе к огромному камину, стараясь не потерять ни одной частички тепла. Он терпеливо дожидался вечернего меню.
Неожиданно он указал на потолок из массивных дубовых балок и сказал, наклонив голову набок, словно прислушивающийся попугай:
— Твой новый клиент передвигается тяжело, как человек солидного веса. И он наверняка увеличит его, когда познакомится с кухней Мариельды…
— Он пастор, и он кажется мне человеком благородного происхождения, — сказал Карл-Хейнц.
— Он папист, этот пастор. Как правило, эти люди хорошо выглядят, и у них всегда прекрасный аппетит. Не сомневаюсь, это не тот человек, который за обеденным столом удовлетворится супом с капустой, жареной сосиской и картофельным салатом, как наш пастор Ранункель, добрый лютеранин и трезвенник, словно он святой.
— И такой скупердяй, что забывает о чести, — проворчал Карл-Хейнц. — Этой осенью он принимал здесь епископа, тоже гугенота, как он сам. И что я ему подал, как вы думаете?
— Так рассказывай же, — взмолился старый Пробст, во взгляде которого наряду с огоньком любопытства вспыхнула зависть. — Люблю слушать аппетитные истории.
— Вот меню: суп из жирного каплуна, горка раков, шартрез из телятины и свинины, паштет из куропатки…
— Прошу вас, Карл-Хейнц, хватит!.. Я просто умру от зависти…
— Я подавал им вина, рейнское, французское и некарское, а также персиковую настойку, на персиках, выдержанных тридцать лет в старой водке. Так вот, за этот царский обед Ранункель не заплатил мне ни одного су!
— Надо было обратиться с жалобой в суд! — воскликнул Пробст.
— Увы! Вас там уже не было, чтобы обеспечить справедливый суд… Да и кто, будь он судья, или кто угодно, решился бы взяться за это дело, потребовав деньги от Ранункеля, благородного пастора и тайного колдуна!
— Мариельда сегодня не торопится разводить огонь, — пробормотал старый юрист. — Может быть, я расскажу тебе о некоторых моих экспромтах, которых у меня скоро наберется на целую книгу? Потом ее можно будет напечатать и продавать за хорошую цену!
Карл-Хейнц кивнул. В юности он знавал добрых владельцев гостиниц, покровительствовавших поэтам и платившим им за декламацию поэм кувшином белого вина и поджаренной сосиской.
Герр Пробст извлек из кармана длинный лист и принялся громко читать:
— Я прошел по Бэрмуттерштрассе в компании с типом по клинке Пудель, потому что больше никто в университете так не походил на собачонку, маленькую и толстую…
— Остановись, герр Пробст! — вскричал Карл-Хейнц. — Уже много лет, как этой улицы не существует, о чем, разумеется, не стоит жалеть, потому что на ней встречалась весьма недостойная публика. А Пудель… Кажется, я когда-то знавал его, маленького, толстого и глупого… Не знаю, куда он потом исчез.
— Дослушайте мой экспромт до конца, Карл-Хейнц. Мне кажется, он объяснит вам кое-что…
— Было темно и холодно, и когда мы проходили мимо харчевни Флейшфрессера, не сводя с ее дверей голодных глаз, этот неприятный тип крикнул нам: «У меня сегодня нет для вас еды, нет ничего!»
Мы направились к рыбному рынку, и пока я безуспешно искал хотя бы остатки от сухой селедки, Пудель исчез. Вернувшись на Бэрмуттерштрассе, я удивился, почувствовав сильный аппетитный запах жаркого, доносившийся из заведения отца Флейшфрессера.
Я распахнул дверь ударом ноги и крикнул: «Жратвы, да побыстрее, мерзкий лгун!»
Флейшфрессер тут же поставил передо мной большое блюдо жареного мяса в соусе, и когда я сообщил ему, что буду есть в кредит, он ответил, что я могу и выпить таким же образом. И он тут же налил мне полвельты коричневого пива.
Я никогда больше не встречал Пуделя; впрочем, мне было наплевать на это до того дня, когда юный Флейшфрессер появился перед нами в уголовном суде Нюрнберга в ходе рассмотрения довольно зловещего дела. Его обвиняли в том, что он использовал для приготовления жаркого, тушеного мяса, паштетов и колбас некоторых своих достаточно откормленных клиентов.
Тогда я вспомнил о Пуделе и нашем обильном пиршестве; ругая себя за неблагодарность из-за предоставленного тогда кредита, я все же ничего не сделал, чтобы спасти Флейшфрессера от знакомства с палачом.
— Я вспоминаю эту жуткую историю, — сказал Генрих, — хотя я только слышал разговоры о ней, потому что моя матушка, святая женщина, еще не позволила мне увидеть солнце и познакомиться с оплеухами к тому моменту, когда людоеду отрубили голову. Позднее я знавал одного мелкого торгаша, который утверждал, что никогда не пробовал ничего вкуснее, чем паштет из кухни Флейшфрессера.
Герр Пробст свернул лист бумаги, засунул его в карман и посмотрел на качавшиеся под порывами ветра ставни.
— Нет лучше барометра, чем твоя вывеска, Карл-Хейнц. Только прислушайся, как она скрипит!.. Она на сутки опережает любое хитроумное устройство с ртутью. Видать, наступающая ночь будет ужасной.
— С каких это пор, — печально вздохнул Карл-Хейнц, — ночь святого Себальда оказывается не ужасной?
Примерно то же самое сказала вполголоса Мариельда, достававшая из печи золотившиеся там, как и полагается, три гусиных тушки. В этот момент отец Транквиллен осторожно толкнул дверь на кухню.
— Фрау Мариельда, — негромко произнес он, — я пришел с посланием от вашей сестры, что живет в Гейдельберге…
— Я знаю это, как знаю и то, что вы хотите передать мне, герр пастор.
— Серебряные улитки на раке святого Себальда… — растерянно пробормотал священник.
Он думал, что увидит неряху, пожилую дурнушку, увядшую в кухонном пекле, но к нему подошла женщина необычной красоты, хотя и в зрелом возрасте.
— Осенний салат только что был срезан, — сказала она. — Его посеяли в конце сентября, а в середине ноября пересадили в тень монастырской стены. Его срезали, как и полагается, в день начала поста.
— Я не знаю… — начал Транквиллен.
Но женщина продолжала, не слушая его:
— Вы увидите розовую каемку на листочках. Это именно то, что требуется, иначе улитки откажутся от салата. Они получат его из ваших рук, отец Транквиллен… Или доктор Даниель Сорб, если угодно, и тогда… Тогда произойдет то, что должно произойти, и да поможет вам Бог!
Священник вздохнул и медленно кивнул несколько раз.
— Я должен выполнить здесь одно поручение, но…
— Все эти слова не имеют смысла. Я давно ждала вас. И вот, сегодня вы пришли, и завтра исполнится то, что предназначено судьбой. Завтрашняя ночь святого Себальда будет вашей.
Я больше ничего не могу сказать вам. Вы прошли по пути, заранее определенному волей, судить о которой мне не дано. Я могу только повторить: завтрашняя ночь святого Себальда будет вашей.
Небольшое отступление
На следующий день вечером, в тот же час, что и накануне, Карл-Хейнц повторил сказанную накануне фразу:
— С каких это пор ночь святого Себальда оказывается не ужасной?
Он разлил по бокалам красное вино из винограда, созревшего на небольшом, но широко известном винограднике Бараша на Рейне, и судья Пробст отдал ему должное.
— Далеко отсюда на берегах Рейна это достойное вино справедливо называют Drachenblut, то есть «Кровь дракона»…
— В ночь святого Себальда не стоит упоминать адские существа, к которым относятся и драконы, — сказал Карл-Хейнц с укоризной, — даже, если их название присвоено вину высшего качества. Вспомните историю трех пьянчуг, сожранных драконом в ночь святого Себальда за то, что они поносили святое имя в своих песнях.
— Агиографии[24] не уделяют должного внимания нашему святому Себальду, — задумчиво произнес бывший судья, — хотя в истории его жизни все же нашлось — наряду с чудесами, между нами говоря, несколько сомнительными, — небольшое место для демонов, саламандр, драконов и прочих адских существ.
— Что такое агиография? — поинтересовался Карл-Хейнц, никогда не упускавший возможности стать немного умнее.
— Агиография — это святая наука, занимающаяся изучением жизни праведников. Увы, я не слишком хорошо разбираюсь в ней по сравнению с этим гнусным Ранункелем!
— Надеюсь, эта наука дает знания, способствующие честной выгоде?
— Выгоде, разумеется… Но можно ли назвать честными тех, кто помогает демонам?
Где-то в стороне по улице прошествовала компания детворы, распевавшей песенку:
«Фонарики, фонарики мои, Горите же фонарики, не угасая! Ведь наш Себальд, святой Себальд, Не позволит дьяволу задуть вас…»— Эта песня известна с XIII века, — сказал бывший судья. — Она полна глубокого смысла. Под фонариком в ней подразумевается жизнь или душа человека, и поющий просит святого Себальда не дать дьяволу похитить ее. Я подозреваю, что в песне имеется в виду одна из чудесных способностей святого Себальда, умевшего поднимать со смертного ложа умирающих и даже возвращать с того света умерших.
— Со своей стороны, — произнес Карл-Хейнц, — я могу только повторить, что эта ночь не может не быть ужасной. Но святой Себальд — истинный святой, и он не может оставить истинных христиан без защиты от происков Зла. Вот я и говорю… Боже, что это еще?
У судьи Пробста была привычка лепить из хлебного мякиша человечков и расставлять их на столе рядом с тарелкой. Но сейчас одна из фигурок внезапно принялась кувыркаться, словно акробат, и закончила свои кульбиты в стакане трактирщика, вызвав удивленный возглас у Карла-Хейнца.
— Это один из трюков пастора Ранункеля, — сказал судья. — Вот увидишь, он сейчас появится здесь.
Действительно, дверь с грохотом распахнулась, и в помещение вместе с дождем и мокрым снегом ворвался невероятно тощий человечек.
— Налей мне побыстрей кружечку доброго красного вина, Генрих, — крикнул он. — Нет более действенного лекарства против козней природы, особенно этой ночью.
Вино тут же появилось на столе.
— Прекрасно! — ухмыльнулся Ранункель, осушив стакан. — Не вредно бы и повторить… Ох, что это со мной? Ой-ой-ой…
Вместо того, чтобы взяться за очередной стакан, сразу же наполненный трактирщиком, он закружился на месте, держась за живот и издавая жалобные стоны. Потом бросился к дверям и исчез в темноте.
— Вот и хорошо, нашла коса на камень, — сказал судья Пробст. Его ничуть не удивило случившееся с посетителем, тогда как позеленевший Карл-Хейнц съежился на стуле, дрожа от страха.
Надо уточнить, что только теперь судья Пробст заметил отца Транквиллена, перегнувшегося через перила верхней галереи и уставившегося с мрачным видом на пастора Ранункеля.
При этом, священник почувствовал, как в кармане его пальто нервно шевельнулись листочки розового салата.
* * *
Эта ночь была такой же мрачной и дождливой в городке Ла-Рюш-сюр-Оржет, и крыша старинного епископского дворца пожертвовала прожорливому ветру немало черепиц.
Город спал. Ночные сторожа и даже вооруженные алебардами солдаты разбрелись по укромным местам, чтобы малость подремать.
Какие заботы в эти часы владычества мрака могли заставить две тени блуждать по темным коридорам дворца?
Монсеньор Дюкруар не был скрягой или стяжателем, он всегда считал, что небольшие деньги обычно способны избавить от многих забот как его, так и добрых прихожан. Поэтому в салоне с ангелочками у тайника с тонизирующими настойками был дубликат, еще более тщательно замаскированный, более потайной, в котором помещался солидный запас золотых и серебряных монет. О существовании этих сокровищ знали, не считая Бога и монсеньора Дюкруара, только два существа на всем белом свете. Но, к счастью для прелата, они до последнего времени не представляли серьезной опасности. Клермюзо, старинный друг дома, довольствовался тем, что время от времени, обуреваемый невыносимой жаждой, похищал из клада одну-единственную монетку; этот грех он затем искупал благодарственными молитвами.
А второй?.. Если бы он не оказался на одном из тех странных поворотов судьбы, полностью меняющих жизнь, он никогда бы не подумал похитить хотя бы один мараведи[25] из сокровищницы Дюкруара. Тем не менее, этой ночью он набил карманы стопками золотых монет и наполнил большую сумку звонким серебром, когда свет его фонаря упал на печальное лицо Клермюзо.
— Значит, вы тоже? — пробормотал бывший писец. — Но вы немного перестарались. Это надо вернуть.
И он протянул руку к богатой добыче.
— Никогда! — рявкнул второй, и нанес страшный удар по голове Клермюзо массивным медным фонарем. Бедняга рухнул, едва успев прошептать грабителю:
— А я… Я считал вас едва ли не святым… Ах, Иуда…
Так благодаря невероятному совпадению случайностей этой преступной ночью три слова: святой, Иуда и ночь не только оказались рядом, но и слились в одно целое.
Действительно, тут имело место совпадение случайностей… Но можно ли быть уверенным?
VII Ночь святого Себальда
Только в двух церквях можно уловить присутствие оккультных сил, чуждых всему, что мы находим в учении Христа; это церковь святого Себальда в Нюрнберге и церковь Мармор в Копенгагене.
— Церковь открыта… Не отпускайте мою руку… Позвольте мне помочь вам… Если вас пугает темнота, вам лучше закрыть глаза.
Транквиллен сильнее стиснул руку Мариельды; ни обычная темнота, ни густой мрак никогда не пугали его, но сейчас он чувствовал исходящую от тьмы угрозу.
Он попытался прогнать охватывавший его приглушенный страх, негромко заговорив со своим гидом.
— Почему церковь открыта в такое время?
— Это ночь святого Себальда.
— Это достаточный повод?
— Возможно… Я не знаю… Вы слишком много говорите. Мариельда помогла ему подняться по ступенькам, затем провела переходом, погруженным в чернильную темноту, где его то и дело задевало нечто мягкое и непонятное.
Неожиданно он увидел раку; казалось, что она не столько купается в молочном свете, сколько сама испускает его; сооружение, похожее на ограду для певчих, обрамляло три устланных бархатом ступени, и с возвышавшейся над ними раки распространялось странное сияние.
— Что, рака освещается снаружи? — спросил Транквиллен.
— Нет, свет исходит от нее… Ведь это ночь святого Себальда…
Молодая женщина усадила Транквиллена на сиденье из полированного дуба.
— Больше я ничем не могу помочь вам, герр пастор. Я должна уйти из церкви. Как только вы услышите звон серебряного колокольчика, доносящийся из клироса, вам нужно будет отдать салат-латук серебряным улиткам.
— Скажите, Мариельда, почему вы оставляете меня в неведении, хотя я вижу, что вы полностью доверяете мне?
Странный лунный свет достаточно хорошо освещал молодую женщину, и священник смог увидеть, что она стиснула руки жестом отчаяния.
— Да защитит вас Господь от ужаса, блуждающего в ночи! — простонала она и скрылась в темноте.
— От ужаса, блуждающего в ночи… — повторил Транквиллен. — Это фраза из песнопения Давида, из его бессмертного псалма…
Где-то в глубине церкви пронзительно зазвенел колокольчик, замолчавший после трех отчетливых нот.
«Теперь, или никогда! — подумал Транквиллен, доставая из кармана листочки розового латука. — Все это настоящий бред, и я скоро буду упрекать себя за совершенные глупости».
Но он уже протягивал салат большой серебряной улитке. Через мгновение он перестал думать об упреках; ему только огромным усилием удалось удержать листочки в дрожащих руках, когда он увидел, что улитки принялись поедать салат.
Они жадно и очень быстро пожирали листочки салата, протянутые им священником.
В это мгновение ему почудилось, что на поверхности раки зашевелились и другие фигурки; вероятно, они пытались привлечь его внимание. Затем он почувствовал, как кто-то хлопнул его по плечу.
* * *
Тот, кто молча оказался рядом с Транквилленом на неудобном сидении из полированного дуба, отнюдь не обладал способностью вызывать ужас.
Рассеянный свет, исходящий от раки, позволил священнику разглядеть человека неопределенного возраста и совершенно обычного вида, с тревогой смотревшего на него.
— Господин Сорб, — сказал незнакомец, — или, может быть, я должен называть вас отец Транквиллен, что мне кажется предпочтительным? Итак, сейчас настала одна из печальных ночей святого Себальда, и именно в церкви этого незначительного святого, имеющего мало отношения к вечному свету, заканчивается приключение, похожее на странную историю. Начнем с переделки известного…
— Переделки? — с недоумением пробормотал священник.
— Точнее, перескажем известное с использованием мира виртуальных образов… Вот так…
Он медленно коснулся своего лба, и Транквиллен не смог сдержать испуг: на бледном лбу незнакомца появился рисунок ветки, изображенный красными линиями.
— Югенольц! — воскликнул он. — Малыш Югенен второй!
— Который благодаря вам, мой отец, должен вновь обрести покой с незначительной помощью вашего старинного друга Помеля!
— Причем здесь я?.. И Помель?.. — воскликнул Транквиллен. — Я ничего не понимаю…
— Разумеется! Беседы по этому поводу состоялись у нас в одном из кабаков Нюрнберга, да и в других местах, с одинаковым результатом, но он… Он надеется на магию этой ночи, на тайные колдовские свойства этой раки, изображенные на которой улитки едят салат, собаки лают и кусаются, а обезьяны кривляются!
— Он… — неуверенно повторил Транквиллен. — Это демон?
Его собеседник едва не рассмеялся.
— Да, это тот, кого так несправедливо называют Дьяволом, но кого я назвал бы — с уважением и болью — Грустным Ангелом. Ах, нет, Транквиллен! Конечно, вы скоро повстречаетесь с ним, потому что таково его желание, да и я тоже хочу этого… Не буду отрицать, что он обладает некоторой властью, свойственной силам ночи. Разве это не является одним из жалких доказательств?
С этими словами Югенен прикоснулся к красному знаку, украшавшему его лоб, и продолжал:
— Прежде, чем он появится в жутком и одновременно прекрасном облике, который он принял перед удравшим с уроков жалким мальчуганом в квартале Старого Земляного Вала, я должен несколько освежить вашу память. Однажды в руках у трех студентов оказался пергамент, обладавший, как они решили, поразительными магическими свойствами.
— Это был гримуар Штайна! — воскликнул Транквиллен.
— Вот именно, мой отец…
Вы завладели документом, обладавшим невероятной силой, но он исчез, воспользовавшийся своими свойствами. С тех пор…
— С тех пор?
— Люди не переставали искать его, прежде всего, люди церкви, обладающие большой властью. В том числе и те, кто поручил теологу Сорбу любой ценой отыскать этот манускрипт!
Транквиллен печально понурился.
— Следовательно, Иуда Югенен, вы хотите сказать, что моя миссия потерпела неудачу. Очень жаль, потому что я считал, что она должна была принести пользу церкви.
— Я не сказал ничего подобного, отец Транквиллен. Скорее, наоборот…
— Я могу завладеть гримуаром Штайна?
В этот момент на знаменитой раке проявилась необычная активность. Серебряные улитки зашевелились и приподняли раку на несколько дюймов, а незаметные до сих пор фигурки, появившиеся на ее поверхности, принялись резвиться.
— Полночь… — прошептал Югенен. — Постарайтесь не двигаться… А вот и он…
В беспредельном мраке проявилась фигура, более темная, чем ночь, с лицом, словно посеребренным луной, и на этом идеально правильном лице свирепым красным светом горели глаза.
Транквиллен узнал его по описанию, содержащемуся в одной из тетрадок юного Югенена: это было дьявольское явление из дома на улице Старого Земляного Вала, наградившее мальчишку жутким и могущественным красным знаком. Священник, не удержавшись, осенил себя крестным знамением.
Но он не изгнал демона, и не разрушил колдовство.
Жуткое создание переводило взгляд своих горящих глаз с Югенена на Транквиллена и обратно.
— С этого момента, Иуда Югенен, — произнесло чудовище мощным, но мелодичным голосом, — Знак и предоставляемая им власть покинут вас. Ваш друг, отец Транквиллен, скоро узнает, что он унаследовал плоды своих темных исканий. Он станет тем, чем вы перестали быть, Святым Ада, Святым Великой Бесконечной Ночи, Сестры Света. Встань, Даниэль Сорб, новый избранник Мрака, наследник Иуды Югенена по праву! Встань, Святой Иуда-Ночной!
Несмотря на атмосферу, насыщенную колдовским могуществом, Транквиллен попытался противостоять злу с отвагой священника.
— Я ничего не просил у Проклятого, и я ничего не приму от него! — закричал он.
Раскаты жуткого хохота заставили вздрогнуть стены церкви.
— Проклятого? Бедный отец Транквиллен! Узнай же, что нет и никогда не будет Проклятого. Вы конечно имеете в виду Дьявола… Ладно. Я не дьявол, я просто жалкий книжник, получивший доступ к знаниям, более обширным, чем его невежественные коллеги. Я Штайн фон Зиегенфельзен, автор гримуара, который весь мир будет продолжать искать, пока это не надоест мне… или, возможно, дьяволу…
Церковь сотряс чудовищный удар грома. Транквиллен почувствовал, как что-то обожгло ему лоб, и безумный вихрь увлек его в бесконечность.
* * *
— Герр пастор!
Ласковая рука касалась лица, стараясь разбудить его, но отец Транквиллен уже пришел в себя.
Он хотел спросить у Мариельды, как он очутился спокойно лежащим в этой удобной постели, тогда как ему чудилось, что свирепый торнадо увлекает его от одной пропасти к другой, от одного безумия к другому.
— Спасибо, Мариельда… Я не собираюсь долго валяться в постели…
Он пытался что-то сказать этому нежному созданию, сказать все равно, что девушке, смотревшей на него с выражением привязанности, близкой к любви. Когда до него дошло понимание этого, ему тут же захотелось, чтобы она вышла из комнаты.
Под одеялом, вплотную к его телу, ощущался холод пергаментного свитка. Как только он остался один, он тут же развернул его дрожащей рукой. Сомнений не осталось: это был жуткий манускрипт, «рукопись могущества», которую он когда-то держал в руке под вопрошающими взглядами его университетских друзей, Текаре и Помеля.
Свиток был с ним, он вел себя спокойно, не содрогаясь от дьявольского трепета, предварявшего в прошлом его таинственное исчезновение.
Неужели Штайн фон Зиегенфельзен, демиург, вручил ему этот свиток вместе с могуществом, способным нарушить законы жизни?
— Святой Иуда-Ночной!
Это имя, сопровождаемое яростным колокольным звоном, вырвалось из глубин его памяти.
— Святой Иуда-Ночной!
Существовали мудрецы, разбирающиеся в теологии, которые не решались отрицать, что Ад, не к ночи будь упомянут, имеет право избирать своих собственных святых.
Внезапно он почувствовал уколовшую его в лоб боль, подобную тому, что он почувствовал ночью.
Поднявшись, он подошел к зеркалу и вгляделся в его глубину, еще не утратившую остатки мрака.
Да, на лбу у него был виден Знак… Das Zeichen… Огненная ветвь… Печать демиурга, символ власти.
Гримуар в его руке зашевелился, словно живое существо, и Транквиллен произнес твердым голосом:
— Великий опус, благодетельный или пагубный, возвращайся в железный ларец, в котором тебе предписано отдыхать и ждать. Ты вернешься ко мне, когда я позову тебя.
Невидимая рука сжала руку священника, и гримуар исчез.
Послышался глухой стук, и Транквиллен увидел за стеклом верхушку лестницы, прислоненную кем-то к окну. Тут же послышался треск, сопровождаемый грохотом падения и отчаянным воплем.
Среди обломков лестницы лежало безжизненное тело пастора Ранункеля. Его мертвая рука продолжала сжимать рукоятку острого ножа…
Небольшое отступление
На земле Англии, за столом в таверне «Большая лошадь», находящейся между Эйлесбери и Оксфордом, сидели три джентльмена и одна дама. Перед ними стоял кувшин с элем.
— Я сказал: завтра, а не сегодня, — бросил джентльмен в каскетке жокея и модном костюме в большую клетку. — Значит, сейчас я могу заказать еще этого эля, такого свежего и питательного, но я героически отказываюсь от него в рабочие дни.
Имя этого джентльмена широко известно в английской истории, и когда-то он гордился этим, хотя и был обязан своей известностью случайным совпадением имени у двух разных людей: его звали Уильям Рамзай[26].
Его друзья и знакомые по Уоппингу, Шедуэллу и Уайтшепелю дали ему более живописное прозвище: Билл Тонг[27] или Билл-клещи.
— Нам придется ждать еще один день, — проворчал его сосед, сидевший с мрачным видом мужчина в черном.
— Мы теряем один день из осторожности, джентльмены. Я хорошо знаю Бодлианскую библиотеку, потому что с большой пользой провел два года в Оксфорде. Завтра библиотека с полумиллионом книг ровно в полдень закроет свои двери, и все сотрудники за исключением старины Майкла радостно разлетятся, словно стая птиц, выпущенных из клетки. Утром я покажу вам надежное укрытие в небольшом зале с коричневыми томами — мне всегда хотелось узнать, что это за книги, — куда никогда не заходит ни один библиотекарь. Когда часы в капелле пробьют два раза, я присоединюсь к вам.
— А ваша работа? Она затянется надолго? — спросил мрачный джентльмен.
— Не очень, сэр; во время моей серьезной подготовки мне пришлось основательно похлопотать, на что у меня ушло много времени. Но вы достаточно хорошо оплатили мои хлопоты, чтобы я стал терзать вас долгим ожиданием. Золотые французские монеты будут весьма кстати, потому что я рассчитываю быстро перебраться на континент.
Бодлианская библиотека полна тайн и загадок. Говорят, что ее посещает привидение, и встреча с ним не всегда хорошо заканчивается. Это утверждали Спенсер и Штерн, и вряд ли кто-нибудь осмелится противоречить подобным авторитетам… Но в ней имеется и множество ценнейших манускриптов и инкунабул, хранящихся в пятидесяти громадных сейфах, то есть, столь же надежно, как пачки банкнот в банке.
— Вам удалось выяснить, где находится интересующий нас сейф? — живо поинтересовался мрачный тип.
— Неужели я потребовал бы от вас такой большой задаток, если бы не знал этого? — высокомерно бросил Билл Тонг. — Но раз уж вы, джентльмен, проявляете такое любопытство, то я расскажу вам все более подробно.
За массивными томами «Глобуса», которые никто никогда не спрашивает, я однажды заметил слабый серебристый отблеск. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что тома в тяжелых переплетах связаны друг с другом стальной цепочкой, образуя своего рода защитный барьер.
Можно было не сомневаться, что эта хитрая система должна скрывать нечто очень важное. Более того, мне показалось, что я узнаю руку искусного мастера, создавшего эту защиту.
Кто еще мог создать ее, как не старина Фразиль, специалист по замкам с секретами, француз с ловкими руками и хитроумными мозгами, к сожалению, слишком приверженный к потреблению отличного джина?
Я без особого труда отыскал Фразиля. Мне пришлось потратить не слишком много времени и джина на то, чтобы добиться его откровенности.
Когда большие тома были освобождены от стальных оков, я увидел настоящий сейф.
Билл-клещи протяжно свистнул и продолжал:
— Без помощи Фразиля я мог бы бесконечно долго трудиться над этим сейфом без уверенности справиться с ним. Но теперь, леди и джентльмены, вы увидите, что мне будет достаточно использовать небольшой изящный приемчик… Так что нам остается только договориться о встрече и провести спокойную ночь. Возможно, ваши сны будут наполнены сбывшимися надеждами. Бай-бай!
* * *
— Старина Майкл, привлеченный запахом свежего пива, долетевшим из расположенного поблизости кабака «Соломенная корона», тоже поднял все паруса. За работу!
Если француз Фразиль славился ловкими руками, то сходными качествами обладали и руки Билла-клещи.
Один за другим капитальные тома «Глобуса» были избавлены от оков, и вскоре перед зрителями появился небольшой, но выглядевший весьма солидно сейф.
Несколько секунд пальцы Билла исполняли странный менуэт на дисках с цифрами, и стальная дверца сейфа распахнулась с сухим щелчком.
— Готово, леди и джентльмены! — воскликнул Билл с приглашающим жестом.
Женщина протянула руку к рулону коричневого цвета, находившемуся внутри сейфа.
Едва она прикоснулась к свитку, как что-то отшвырнуло ее назад с заломленной какой-то свирепой силой рукой.
— Боже мой! — в ужасе крикнул Билл Тонг, падая на колени.
Свиток, сопровождаемый свистом, напоминающим работу ракетного двигателя, взлетел на воздух и исчез. Но крик взломщика был вызван не этим происшествием. Он успел увидеть, как сейф мгновенно захлопнулся, а тома «Глобуса» сами собой вернулись на место, тут же связавшись стальной цепочкой.
— Я не останусь здесь за все сокровища Английского банка! — заорал Билл, спасаясь бегством вдоль бесконечных рядов книжных полок.
Одному ему довелось увидеть, что с верхней галереи, склоняясь над перилами, за грабителями наблюдал небольшой человечек в зеленом плаще, с пылающим жутким пламенем взглядом.
Это был призрак Бодлианской библиотеки.
* * *
— Мы должны поговорить, и поговорить очень серьезно…
Эту фразу произнес Жюстен Помель после того, как сообщил, что им осталось мало времени до отправления поезда в Дувр.
— Все пропало. Гримуар Штайна навсегда потерян для нас, даже, если он находится в руках Транквиллена.
После смерти Клермюзо не может быть и речи о возвращении Капада во Францию. Не исключено, что он начнет новую жизнь с Хильдой Ранд.
Молодая женщина, до сих пор хранившая унылое молчание, дико расхохоталась.
— Я проиграла, поставив на Югенена… Он мог бы овладеть невероятным могуществом, будь он настоящим мужчиной, а не жалкой тряпкой.
Тогда я решила, что аббат Капад… Особенно, после того, как он, не колеблясь, завладел деньгами способом, о котором вы знаете. Я не стану обрушивать на его голову поток ругательств, хотя мне очень хотелось бы вылить ведро с помоями на его грязную рожу предателя. Тьфу!..
Она затряслась в припадке истерического смеха.
— По сути, Транквиллен все еще принадлежит к нашему миру! — сказала она наконец.
Вскочив, она вышла, не попрощавшись и оставив двух мужчин.
— Она уже видела себя владычицей всего мира! — пробормотал Помель.
— Я отыщу ее, — проворчал Капад. — Это она виновата в том, что я очутился в аду. Так вот, я добьюсь, чтобы она оказалась там вместе со мной!
VIII Святой Иуда-Ночной
— Вы не первый проигравший, отец Транквиллен, — сказал магистр Баге. — Церковь уже очень давно не предпринимает действий подобного рода. Будем надеяться, что благосклонные к нам могущественные силы будут противостоять силам ада и одержат верх над ними.
Транквиллен молча кивнул. Он решил категорически, раз и навсегда, отказаться от каких-либо дискуссий и даже от обмена мнениями, если беседа хотя бы косвенно относилась к гримуару.
— Это правда, отец Транквиллен, что вы решили хотя бы частично возродить обитель Шести Башен? Вы же знаете, что вас по-прежнему ждет место здесь, в аббатстве Моркур.
— На территории Шести Башен осталось несколько помещений, которые можно восстановить и сделать жилыми. Монсеньор, я рассчитываю поселиться в одном из них в ожидании, пока не возродится аббатство…
Монсеньору Баге ничего другого и не требовалось. Он считал отца Транквиллена большим путаником, за которым, не переставая, пристально и встревоженно наблюдали церковные авторитеты.
Транквиллен с радостью вернулся в свою белую, чудом сохранившуюся от действий оккультных сил, келью.
Узнавшие о его возвращении рыбаки с радостью встретили его и окружили, как и прежде, своей заботой.
— С тех пор, как монахи покинули строение, — рассказывали они, — море стало таким же бедным, как и заброшенный монастырь. Но теперь снова можно ловить рыбу на прежних местах, и еще какую рыбу!
Транквиллен посмотрел на море, над которым сгущались сумерки.
— Если я действительно превратился в Святого Иуду-Ночного… — пробормотал он…
Неожиданно он нахмурился.
— Ладно! Тогда пускай вместо мщения и смерти — это могущество вернет сюда жизнь и счастье!
На следующий день рыбаки сообщили ему, что длинноперые альбакоры, эти великолепные белые тунцы, так высоко ценящиеся на рынке, снова вернулись к побережью. Говорили даже о поимке нескольких огромных палтусов.
* * *
— Мой дорогой Транквиллен, что вы скажете об этих профитролях? Они не с начинкой из постного мяса, а с телятиной и курицей.
Монсеньор Дюкруар заботился, как мог, о преподобнейшем аббате Даниеле Сорбе, прелате аббатства Шести Башен, с таким великолепием возродившемся на развалинах.
— Ах, — воскликнул епископ, когда профитроли оказались на столе, — я все время думаю о несчастном Кападе, так любившем их. Надеюсь, что Господь признал его безумие и сжалился над ним.
Прелат провел рукой по лбу. Он знал, что Капал мирно покоится на небольшом кладбище в Сассексе под тихо шепчущими лиственницами и тисами… Иногда гримуар Штайна обеспечивал своим жертвам милосердный конец.
Монсеньор Дюкруар наполнил стаканы «Королевским» вином.
— Именно его подают в таверне, что на углу, которая называется «Колесница Давида», — сказал он, рассмеявшись.
— Да, конечно, в «Колеснице Давида» с семью звездочками, — согласно кивнул прелат.
Но его мысли в этот момент были далеко отсюда.
Кто-то во мраке прошептал ему на ухо, словно самое важное предупреждение, священные слова царя Давида:
— Господь защитит вас от ужаса, блуждающего в ночи.
— Герр пастор! — пробормотал кто-то далеко отсюда.
Транквиллен поднял свой бокал.
— Позвольте мне, монсеньор, выпить за одно весьма дорогое мне воспоминание.
— Я охотно присоединюсь к вам, мой дорогой прелат.
Хотя добрый епископ не мог видеть образ Мариельды, внезапно явившийся его собеседнику из прошлого, но слеза, скатившаяся по щеке Транквиллена, не осталась незамеченной монсеньором Дюкруаром. Он решил, что виновато в этом молодое и слегка кисловатое «Королевское» вино, а не тихая печаль воспоминаний.
Конец.
ДЖЕК-ПОЛУНОЧНИК (Jack-de-Minuit) Роман
Предисловие
Я считал, что мои исследования закончены, что в искрящемся талантом, огромном по объему творчестве Жана Рэя не осталось белых пятен. Я был уверен, что за исключением отдельных среднего качества новелл Джона Фландерса или Джона Сейлора великое черное солнце Жана Рэя никогда больше не выбросит обнаруженные в архивах протуберанцы, способные поразить и восхитить нас.
Конечно, жизненный опыт должен был сделать меня мудрее. Ведь мне уже случалось встречаться с неожиданными подарками волшебника из Гента! Прежде всего, это был, конечно, Гарри Диксон! «Гарри Диксон — ведь это я!» — когда-то бросил мне Жан Рэй, сверкнув тигриным взглядом. Я вспоминаю, с каким восторгом и трепетом когда-то погружался в чудо узнавания Гарри Диксона, чьи приключения были описаны человеком, позднее ставшим моим другом.
Потом без какого-либо предупреждения появились черные истории про гольф. Миниатюрные шедевры фантастики и черного юмора, достойные пера О'Генри или Джона Кольера. Наконец — по крайней мере мы тогда так считали — на закате жизни Жана Рэя вспыхнул зеленый луч Святого Иуды-ночного.
Потом Жан Рэй скончался, и мы решили, что Неожиданность (с прописного Н) умерла вместе с ним. Конечно, то тут, то там обнаруживали какой-нибудь рассказик, затерявшийся на страницах французской или голландской малотиражной газетенки; конечно, то и дело вспоминали про Жана Рэя либреттиста, критика или поэта, что, разумеется, ничего не добавляло к его славе. Но ничего серьезного давно не встречалось, если не считать черновика «На границе мрака», романа, являющегося прообразом «Мальпертюи» и «Великого Ночного», который я обнаружил в старых, давно заброшенных Жаном Рэем тетрадях. Добавлю, что «На границе мрака» до сих пор не изданы.
И вот появился этот Джек-полуночник, через двадцать пять с лишним лет после смерти Жана Рэя всплывший на поверхность подобно неоднократно описанным писателем останкам кораблекрушения. Сначала я не поверил. Я сразу подумал про апокриф, про перевод с нидерландского какого-нибудь давно известного произведения. Но вскоре, после того, как я увидел в печати в «Бьен пюблик»[28] опубликованные отрывки и познакомился с ними, мне пришлось признать очевидное. Ошибки быть не могло: это действительно оказался Жан Рэй. С указанием дат.
Все началось с открытия, сделанного Андре Вербрюггеном, фанатиком Жана Рэя, любителем копаться в рукописях и давно всеми позабытых черновиках. Своего рода археологом творчества Жана Рэя. Именно он наткнулся на Джека-полуночника во время очередных раскопок. Затем рукопись прошла через руки Альберта Ван Хагеланда, потом попала к мадам Мориссе де Леенер, литературному агенту Жана Рэя. Она передала бумаги известному бельгийскому издателю Клоду Лефранку, который и опубликовал роман.
При первом же прочтении выявилась связь между Джеком-полуночником и Гарри Диксоном. Практически Джек-полуночник — это Гарри Диксон, только без Гарри Диксона. Такая же запутанная интрига, насыщенная множеством вопросов, в том числе остающихся без ответа, множество развилок и тупиков сюжета. Те же самые странные здания, те же герои с сомнительным прошлым. Действие романа происходит в Лондоне, и роман насыщен фогом[29], то есть лондонским туманом (в прямом и переносном смысле). В конце все чудесным образом объясняется одним махом, хотя и не становится, честно говоря, таким уж понятным.
Перейдем к датам. Если верить отрывкам, что появились в «Бьен пюблик», «Джек-полуночник» был написан в Барселоне и Гибралтаре в 1922 году, но был опубликован только в 1932 году. Если первая дата правильна, то что делал Жан Рэй в 1922 году в Барселоне и в Гибралтаре? Гибралтар находится вблизи от Марокко, а в романе идет речь об оружии, проданном мятежникам Абд-эль-Крима. Начало восстания последнего приходится на 1921 год, так что даты совпадают. Или Тигр-Джек уже тогда начал создавать свою легенду? А эта легенда, если погрузиться в пробелы в его биографии и сопоставить с фактами, считающимися вымышленными, постепенно теряет свою мифологичность. Лично я всегда верил в легенду — разумеется, допуская возможность отдельных преувеличений — и продолжаю верить в нее. Мне не нравится, когда пытаются разрушить мои мечты.
Первый отрывок из романа, появившийся в «Бьен пюблик» 20 мая 1932 года, позволяет устранить последнюю неопределенность. Жан Рэй упоминает в нем Гарри Диксона. Но первое приключение «американского Шерлока Холмса», признанное принадлежащим Жану Рэю как переводчику, или же полностью переписанное им (это «Отшельник с болота Дьявола»), датируется 1933 годом. Следовательно, за год до появления этого «Отшельника» Жан Рэй уже имел дело с Гарри Диксоном. От этого заключения остается сделать один шаг к выводу о его работе над Гарри Диксоном. Почему не согласиться с мнением, что это он создал этот персонаж и придумал ему имя, как, впрочем, он неоднократно сам говорил мне? Гордость, с которой он всегда упоминал Гарри Диксона, как свое дитя, позволяет верить этому. Никто никогда не гордится чужими детьми.
«Гарри Диксон — ведь это я!» — сказал мне Жан Рэй. Флобер тоже говорил: «Мадам Бовари — это я!» И никто никогда не сомневался, что Флобер был автором, создавшим мадам Бовари.
У меня остается вопрос о названии этого романа. Джек — это уменьшительное от Джона. А Джон — это Жан. Но почему Жан Рэй захотел дать свое имя этому пугалу?
Анри Верн.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I Ночь в Адене
Роуланд Харлисон готовился к смерти.
У него не оставалось ни малейшей надежды; тонкая, но прочная как стальная проволока веревка связывала его, словно саксонское филе.
Два араба, минуту назад склонившиеся над ним — он все еще ощущал их тошнотворное дыхание, насыщенное запахом чеснока и прогорклого растительного масла — отошли в сторону, продолжая то и дело окидывать его злобными взглядами, откровенно говорившими о дальнейшей судьбе пленника.
Один из них перебирал неопытной, не привыкшей к бумажкам рукой банкноты, плотно заполнявшие бумажник пленника; второй проверял остроту кинжала на ногте большого пальца руки. Это занятие сопровождалось тонким, еле слышным металлическим поскрипыванием.
— Я… я-я… — произнес первый араб, закончив считать. Его сообщник вернулся к неподвижному Харлисону и принялся неторопливо нащупывать кончиком кинжала положение его сердца под шелковой рубашкой.
Харлисон извлек из глубин своей памяти слова второго помощника капитана, дававшего последние советы пассажирам, спускавшимся на землю.
«Не заходите в туземные кварталы, джентльмены. Времена сейчас неспокойные, и вряд ли вам стоит рассчитывать на достаточно эфемерную защиту полиции. Не забудьте, что в пять часов должен состояться концерт в Сейлор-хаузе, и доклад полковника Пинча об Афганистане».
Он не последовал добрым советам, в особенности, тем, в которых шла речь о докладе; теперь ему придется расплатиться за свое легкомыслие, хотя цена оказалась неожиданно высокой.
Он не закрывал глаза, продолжая смотреть на окружавшую его мерзкую обстановку, отнюдь не украшавшую последние минуты его пребывания на этом свете.
Он находился в заднем помещении убогой еврейской лавчонки в одном из подозрительных кварталов Адена; его окружали стены, заклеенные рваными обоями, по которым стекала жидкая грязь; по потолку лениво шествовала процессия огромных клопов, выписывая на буром фоне нечто вроде буквы «зет».
Лампа, заправленная соевым маслом, казалась тусклой желтой звездочкой в окружающем полумраке. В комнате царила полная тишина, нарушаемая только нежным музыкальным звучанием стального клинка и почти неслышным комариным звоном. Взгляд пленника пробежал по жалкой обстановке и остановился на небольшом квадратном окне.
Роуланд уже обратил внимание на это окно с деревянной крестовиной после того, как на него набросились на улице, схватили и швырнули на пол в грязной лавочке, но тогда оно было окрашено чернилами темной ночи. Сейчас рама обрамляла бледную желтую физиономию, темные глаза которой рассматривали его с неопределенным выражением.
Может быть, это была жестокая радость соучастника преступления?
Харлисон ничего не мог сказать с уверенностью; иногда ему казалось, что он читает на этом лице нечто похожее на невероятную тупость.
Его мысли работали с необычной скоростью, словно они спешили появиться на свет до того, как их навсегда поглотит пустота.
«Китаец», — подумал он, и сильнейшая горечь пронизала все его существо.
Но, разумеется, надежда на спасение не могла посетить его, если считать, что спасителем мог оказаться Чинк.
Находившийся рядом с ним араб хихикнул.
— Ту-лутт! Утт!
Острие кинжала легонько кольнуло его.
Роуланд почувствовал холодную боль и закрыл глаза.
— Я… я… — очень тихо произнес второй араб.
«Хлоп!»
Глухой, но удивительно четкий звук.
Харлисон застыл в ожидании смертельного удара кинжала.
«Хлоп!»
Странный звук повторился, после чего все стихло.
Тишина тянулась очень долго, и Харлисон продолжал лежать с закрытыми глазами в ожидании страшного конца, гораздо более ужасного, чем все случившееся до этого в его достаточно бурной жизни.
Неожиданно у него возникло банальное состояние — ему неудержимо захотелось чихнуть, потому что комнату заполнил отвратительный едкий запах, раздражавший его нос. Благодаря этому запаху он вернулся в реальность и открыл глаза.
Он увидел нечто как минимум в высшей степени необычное.
Араб, собиравшийся заколоть его, по-прежнему находился рядом с ним, он почти касался его, но у него в руке не было кинжала, лежавшего теперь на полу; он продолжал сидеть на корточках, и поза его выглядела неловкой и очень странной. Второй, немного наклонившись, опирался с меланхоличным видом на стену. Он начал странный жест, но почему-то не закончил его; странно застывшая рука, в которой он сжимал открытый бумажник, была нелепо вытянута вперед. Объяснение необычным позам арабов Роуланд тут же прочитал на их лицах: лица у них были залиты красным, и красное спускалось к подбородку и терялось в длинных черных бородах.
— Они мертвы! — заикаясь, пробормотал Роуланд. — Господи, да они же мертвы!
Его взгляд скользнул к окну; оно было приоткрыто, и длинный ствол плоского револьвера с глушителем медленно отодвигался в тень, оставляя после себя тонкую струйку дыма, поднимавшегося к потолку.
Прошло несколько минут, прежде чем Харлисон смог выдавить из себя хотя бы одно слово. Впрочем, это было единственное соответствующее ситуации слово:
— Спасибо!
— Не за что! — ответил ему писклявый голос.
Через несколько мгновений одна из полос обоев приподнялась, и в комнату проник китаец в европейском костюме.
— Благодарю вас, мсье! — повторил Харлисон. — Без вашего удачного дублета я сейчас был бы таким же мертвецом, как оба этих смуглых типа.
Китаец ничего не ответил. Он продолжал внимательно изучать Харлисона пронзительным взглядом узких черных глаз.
— Как вас зовут? — поинтересовался он наконец.
— Роуланд Бенжамен Харлисон, инженер австралийской торговой компании «Мидас» в Брисбене.
— Эта компания обанкротилась, — пожал плечами китаец.
— Именно поэтому я и возвращаюсь в Англию.
— Возвращаетесь? Значит, вы не австралиец?
— Не совсем. Я родился в Дурхеме, небольшом унылом английском городке, из которого уехал в Австралию в возрасте пятнадцати лет, чтобы разделить судьбу с единственным оставшимся у меня родственником, чудаковатым двоюродным братом, решившим сколотить состояние на австралийских золотых россыпях. Впрочем, он вскоре скончался бедным, как вошь.
— А вы? Вам удалось разбогатеть?
Харлисон рассмеялся.
— Все мое богатство должно было перейти в руки этого только что скончавшегося араба. Триста фунтов в английских банкнотах. У меня есть еще чековая книжка на сто фунтов, переведенных в Мидленд-банк в Лондоне. Надеюсь также, что в кармане моих брюк можно нагрести пригоршню шиллингов и полукрон.
— Неплохо, — кивнул китаец.
— Кстати, сэр, этот способ беседовать вам, вероятно не кажется неудобным, тогда как мне…
— Вы правы.
С быстротой, поразившей инженера, китаец развязал пленника, и тот смог подняться на ноги, хотя и с большим трудом.
— Проделайте несколько гимнастических упражнений, — посоветовал китаец. — Несколько приседаний, затем выбрасывание рук сначала вбок, затем вверх. Медленно повращайте запястьями.
— Замечательно! — воскликнул Роуланд, наслаждаясь возможностью двигаться после того, как потерял надежду остаться в живых.
— В этой бутылке виски. Она еще не открывалась, и, поскольку у меня нет штопора, можете отбить горлышко.
Харлисон подчинился, не раздумывая; острый край бутылки немного порезал ему губу, но он все равно сделал несколько больших глотков.
— Вот уже не думал, что еще раз удастся попробовать этот виски. — признался он. — Отличный напиток, это же настоящее «Белое и черное». А вы не хотите отхлебнуть?
— Нет.
В резко прозвучавшем отказе явно послышалось нетерпение. Роуланд мгновенно посерьезнел.
— Я обязан вам жизнью, — сказал он. — Хотелось бы знать имя человека, благодарность которому я сохраню до конца своих дней.
— Меня зовут Ванг.
— Вот как! — пробормотал несколько разочарованный инженер, и его спаситель понял реакцию собеседника, так как для многих европейцев имя Ванг было едва ли не синонимом слова «китаец».
— Я — Ванг, — сухо повторил он.
— Еще раз благодарю вас, господин Ванг. Не знаю, чем я смогу отплатить вам ваше вмешательство в мою судьбу, вашу помощь… Да, конечно, это не очень подходящее слово… Но в австралийских пустынях, где мне пришлось провести столько времени, существует своего рода соглашение между спасенным от смерти человеком и его спасителем. Жизнь спасенного фактически становится принадлежащей спасителю. Думаю, что аналогичная ситуация реальна и в нашем случае.
— Именно так я ее и понимаю, — негромко проговорил китаец.
Ролуланд с несколько озадаченным видом посмотрел на китайца, потом поклонился.
— Хорошо, — сказал он.
— А теперь уходите, господин Харлисон. «Джервис Бей»[30] заканчивает набивать свои трюмы углем, и он явно собирается отчалить до восхода солнца. Кстати, полагаю, что вам не стоит рассказывать симпатичным пассажиркам о вашем приключении.
Харлисон покраснел. До сих пор во время его плавания флирт был одним из весьма существенных компонентов…
Высокий симпатичный молодой человек, едва переваливший за тридцать лет, с ранних лет лишенный женской заботы и нежности, как он мог не откликнуться на улыбки привлекательных блондинок и брюнеток с пышными прическами, в соблазнительных легких нарядах, когда звучало медленное танго корабельного оркестра?
Сначала ему показалось, что замечание жителя Небесной империи было несправедливым, и он бросил на него недовольный, едва ли не сердитый взгляд. Это презрительное замечание глубоко затронуло его чувства, так как он ревностно хранил в своем сердце образ Бетти Элмсфильд, очаровательной пассажирки «Джервис Бей».
Но он тут же подумал, что не будь вмешательства Ванга в его судьбу, и он никогда бы не увидел изящную блондинку Бетти кроме как в еще не до конца оформившихся мечтах, которые неизбежно должна была прервать близкая смерть, и он молча поклонился.
— Полагаю, что это приказ… — сказал он.
Китаец молча посмотрел на него.
— …И я могу полагать, что получу от вас и другие приказания, — закончил Роуланд.
— Вы весьма проницательны, господин Роуланд Харлисон.
— Моя жизнь принадлежит вам…
— Вы это уже говорили. Но, не хотите ли вы поменять место для нашего разговора? — улыбнулся китаец, бросив беглый взгляд на лежавшие рядом тела.
Роуланд явно смутился.
— Я хотел бы… Впрочем… Поймите меня правильно, господин Ванг… Я хочу сказать… Я считаю долгом чести…
— О, разумеется! Я ожидал от вас подобной фразы, — небрежно бросил Ванг. — Вы сейчас можете уйти, но не забывайте…
— Никогда!
Роуланд протянул китайцу руку.
Но китаец, глубоко поклонившись, кажется, не заметил ее. Потом он прошел в сопровождении Роуланда через пустые помещения лавки, населенные неясными тенями, и они вышли на темную улочку.
Инженер проделал несколько шагов по скользкой мостовой, заваленной отбросами; воздух, насыщенный запахом мускуса, показался ему приятнее морского бриза с открытого моря. Он глубоко вдохнул его, едва не застонав от удовольствия.
Со стены перед ним свисала реклама фирмы «Хэмтли & Палмерс».
— Именно в тот момент, когда я посмотрел на соблазнительные бисквиты, выпавшие из коробки, эти северо-африканские бандиты набросили на меня лассо, словно на дикого мустанга, — воскликнул он, весело рассмеявшись.
Но эти слова услышала только пестрая реклама, осыпавшаяся кирпичная стенка и скупо освещенные окна; обернувшись, он увидел, что Ванг исчез.
Когда Харлисон поднялся по трапу на борт, «Джервис Бей» загружал последние корзины кардиффского угля.
Матросы поспешно смывали угольную крошку с палубы мощными струями воды, выбрасываемой из брандспойтов.
Вода подхватывала мусор и шпигаты с шипением и бормотаньем переполненных водосточных труб сбрасывали грязную воду в море.
Ночь была трудной; волны горячего воздуха вырывались из недр корабля. Юноша не стал закрываться в душной парилке каюты, и остался на палубе. Он облокотился на планширь правого борта и задумался.
Скупо освещенные улицы Адена были охвачены дремотой; в порту, задыхаясь, грохотали моторы кранов и лебедок погрузчиков; тощий серп полумесяца срезал, словно колосья, звезды над отвратительной лысой горой, ограничивающей азиатское побережье.
«Подумать только, что в этом кошмарном месте мне едва не пришлось уснуть вечным сном, — содрогнулся Харлисон. — Смерть в Адене можно было бы посчитать за две…»
На несколько секунд перед его внутренним взором возник образ китайца.
— Странный человечек, — пробормотал он. — Интересно, потребует ли он что-нибудь от меня в будущем? В каждом китайце скрывается какая-то тайна…
Вызывающее тревогу желтое лицо сменилось прекрасным обликом Бетти Элмсфильд.
Интересно, как она восприняла бы его неожиданное исчезновение?
Никто не остается добровольно на аденской набережной, если только этого не потребовала английская полиция.
— Господи, что я, собственно, представляю в ее глазах? — меланхолично пробормотал Роуланд. — Временный компаньон для развлечений, обеспечивший легкую болтовню и танцульки во время перехода через Индийский океан, который иначе показался бы ей слишком пустынным… При том, что я танцую танго и бостон ненамного лучше, чем дрессированный кенгуру…
Не сомневаюсь, что она забыла бы меня уже на Мальте, где на судно поднимаются офицеры Ее Величества, собирающиеся провести отпуск на родине. Оказавшись в Лондоне она в лучшем случае вспомнила бы обо мне, как о джентльмене с фамилией на «сон», то ли Джонсоне, то ли Вильсоне…
О дуралее, сошедшем на какой-то промежуточной остановке, не известно, на какой именно…
Ладно, что-то я загрустил… Хорошо, что благодаря храброму малышу Вангу этого не случилось…
На набережной мелькнул свет слабого фонаря и приблизился к судну. Харлисон разглядел защищенный от ветра и дождя фонарь, высоко поднятый в темной руке. Потом он увидел хрупкие контуры небольшой кареты, запряженной парой лошадей.
— Эй, на судне! Эй, на «Сюрвис Бей»!
— Это здесь, — заорал в ответ матрос, — если, конечно, тебе нужен «Джервис Бей», мускатная рожа!
— Это мемсаиб, начальник! — крикнул на средиземноморском жаргоне высокий тощий парень, подъехавший к трапу.
— Как раз время для чая в светском обществе! — пробурчал матрос. — Твоей принцессе случайно не нужна моя фотография?
— Я хочу увидеть судового комиссара, — прозвучал мелодичный голос. Из легкой кареты выпрыгнуло невысокое гибкое существо.
— Он спит, и его будильник зазвонит не раньше, чем в восемь часов!
— Нет, он не спит! — прогремел суровый голос. — Не лезь не в свое дело, соленая ты треска! Чем могу быть вам полезен, мадам?
Судовой комиссар «Джервис Бея», явно не наслаждавшийся сном в жаркую аденскую ночь, спустился со спардека.
— Меня прислала к вам компания «Бингли и сыновья». Я стюардесса, которой не придется продолжать маршрут на «Императрице», так как я должна буду вернуться в Европу с вами.
— Ладно, — пробурчал офицер. — Вы появились вовремя. Еще немного, и мы ушли бы без вас, мисс Нэнси Уорд! Вас ведь именно так зовут? Бингли прислал мне ваши документы, они в порядке.
— Все так. К сожалению, сэр Дугторби потребовал, чтобы я вернулась в связи с болезнью его дочери.
— Да, разумеется, сэр Дугторби! — почтительно произнес комиссар. — Поднимайтесь на судно, мисс, и будьте осторожны. Этот трап предназначен для кули, он узкий и скользкий.
Некоторое время борт и набережная продолжали перекликаться, пока стюардесса выгружала свой багаж из кареты и рассчитывалась с носильщиком.
— Будьте осторожны! — повторил офицер, когда молодая женщина стала подниматься по грязному и скользкому трапу.
В этот момент произошел несчастный случай, нелепый и жуткий.
Женщина поскользнулась, сделала неверный шаг и с криком упала в пустоту.
Для тех, кто падает в щель между стеной набережной и бортом судна, гибель практически предрешена: случаи спасения при этом происшествии неизвестны. Судовой комиссар дико заорал, но внезапно возникшая тень быстро скользнула по свисавшему сверху канату и мгновенно исчезла в мрачном промежутке.
Раздался громкий всплеск, после которого сразу же послышался крик мужчины:
— Я выловил даму! Пожалуйста, помогите нам подняться наверх!
Сначала два, затем четыре матроса ухватились за канат и принялись медленно вытаскивать его.
— А, это вы, мистер Харлисон! — воскликнул офицер, когда спасатели схватили висевших на канате людей и перетащили их на палубу. — Вы совершили нечто невероятное!
— Мне кажется, у дамы закружилась голова! — заметил один из матросов.
— Отнесите ее в салон офицеров и вызовите к ней старшую стюардессу, миссис Хиншлифф, — приказал комиссар.
Роуланд с сожалением рассматривал свой белый фланелевый костюм, выглядевший так, словно его решили почистить гуталином.
— Идите переоденьтесь, Харлисон, — засмеялся комиссар. — А потом поднимитесь ко мне, вам надо продезинфицировать горло после купания в здешней водичке! У меня найдется виски и лед. Отчаянный вы, однако, парень! Вам удалось вернуться оттуда, откуда никто никогда не возвращается!
— Еще бы! — весело откликнулся Роуланд, подумав при этом об арабах и Ванге.
Он повернулся к лежавшей без сознания женщине, освещенной ацетиленовым фонарем.
Один из матросов поднял ее легко, как перышко, и Роуланд увидел смуглое лицо в обрамлении тяжелых прядей черных волос; глаза скрывались в тени густых темных ресниц.
Комиссар заметил его взгляд и засмеялся.
— Красивая девушка, Харлисон! В этой ситуации хотел бы я оказаться на вашем месте и, конечно, быть таким же симпатичным парнем, как вы!
Роуланд покраснел, словно школьник.
— Так мы идем пробовать ваш виски, комиссар? — пробормотал он, словно оправдываясь.
Когда на востоке появилась широкая полоса, расцвеченная оранжевым и пурпурным, и выглянувшее из-за горизонта солнце залило огнем неподвижно свисающий с верхушки мачты «Юнион Джек»[31], Харлисон и комиссар заканчивали третью бутылку виски.
— Послушайте, Харлисон, — ухмыльнулся комиссар, — у меня сейчас появилась забавная мысль… Я подумал, что мисс Бетси умрет до Марселя…
— Вы что, сошли с ума?
— … Она умрет от зависти, чертов Харлисон, всего лишь от зависти, а это страшная болезнь.
* * *
Но вот за кормой осталась Мальта, а красавица Бетти все еще чувствовала себя, как летучая рыбка, и постоянно доводила до отчаяния бедного Харлисона своими насмешками.
Этим вечером светящиеся зеленым фосфором волны Тирренского моря с плеском разбивались о борт парохода, когда Харлисон, еще более несчастный, чем обычно, попытался найти забвение на носу «Джервиса».
Острый форштевень судна разрезал волны с легким звуком распарываемого шелка.
— Что за кокетка! — простонал он. — Ведь она сказала мне…
Он попытался привлечь в свидетели парочку ночных дельфинов, оставлявших за собой огненный след на коротких волнах.
— Она сказала, что только безумец может принять всерьез легкий флирт на корабле, пересекающем несколько океанов…
— Господин Харлисон! — произнес кто-то в ночном сумраке, и женская ручка опустилась на его руку.
— Ах, Бетти!..
— Я не Бетти, — прозвучал ответ с ноткой печали.
В свете появившейся из-за облака луны он увидел смуглое лицо, обрамленное волной черных волос под кокетливой шапочкой стюардессы.
— Мисс Уорд!
— Да, это всего лишь Нэнси Уорд, стюардесса, — ответил ему нежный голосок. — Мы не имеем права обращаться к пассажирам, мистер, если нас не попросили, но никакие правила не запрещают мне поблагодарить вас.
И она протянула ему руку.
Харлисон в этот момент переживал тяжелый период в жизни мужчины, когда ему кажется, что сердце разбито навсегда. Поэтому женская рука показалась ему якорем спасения.
— О, мисс Уорд…
Гласа Роуланда странно блеснули, и Нэнси увидела, что они наполнились слезами.
— Мисс Элмсфильд заставляет вас страдать, — пробормотала она, забыв о том, что собиралась поблагодарить Харлисона.
Он не ответил, продолжая сильно сжимать небольшую прохладную руку.
— Я понимаю, — сказал он наконец, — что веду себя, словно большой ребенок.
Он был рад, что темнота позволила ему скрыть написанное на его лице отчаяние.
— Да, вы действительно ребенок, причем очень большой, — согласилась она.
Неожиданно она нежным, но очень решительным движением притянула к себе юношу и поцеловала его в лоб. Потом четким, словно военным движением повернулась и, не оборачиваясь, исчезла.
Взволнованный Харлисон направился к своей каюте. Когда он взялся за ручку, кто-то дернул его за рукав.
Обернувшись, он увидел стоявшую рядом Бетти Элмсфильд, смотревшую на него с ироничным презрением.
— Мистер Харлисон, — сказала она, отчетливо произнося слова. — В моей стране только слуги и носильщики позволяют целовать себя служанкам.
«Почему только я не остался навсегда в буше!» — подумал рассвирепевший Роуланд, бросившись через пару минут, не раздеваясь, на свою постель.
Под подушкой оказался листок бумаги. Харлисон развернул его и поднес к лампе.
«Вы должны остановиться в Лондоне на Найтрайдер-стрит, в доме номер 1826. Ванг».
К записке был привязан с помощью латунной проволочки плоский стальной ключ знаменитой фирмы «Ял».
Глава II Судьба мистера Теда Соумза
Пароходы, почтовые суда и суда со смешанным грузом, прибывающие в Лондон, освобождаются от пассажиров во время короткой остановки в Саутгемптоне. Отсюда за пару часов поезд доставляет их в центр Лондона; таким образом, они экономят целый день и одновременно избавляются от пересечения Ламанша и неудобной высадки в Грейвзенде.
Поэтому задолго до конца путешествия пассажиры «Джервис Бея» завалили палубу и коридоры судна сумками и чемоданами.
Набивая огромный кожаный кофр вперемешку пижамами, бельем и книгами, Харлисон чувствовал, как в его сердце возникает пустота. Бездомный бродяга, он быстро, даже слишком быстро привязывался к людям и местам, и на протяжении последних дней путешествия почувствовал смутную нежность к «Джервис Бею».
Он не осмеливался признаться самому себе, что Нэнси Уорд что-то значит для него, потому что он почти не видел прелестную стюардессу после их короткой и эмоциональной ночной беседы. Девушка, к тому же, всегда проявляла сдержанность, и Роуланд понял, что возможность приятного приключения исчезнет с концом путешествия.
Приближался берег, с которого неизвестное махало ему рукой; инженер смотрел на побережье с непонятным чувством если не страха, то досады.
До сих пор его жизнь отличалась полной свободой. Фирма «Мидас» посылала его геологом-разведчиком в дикие пустынные края в центре Австралии. Там он мог направиться на восток, но мог и на запад; годилось любое направление. И где бы он не разбивал свою палатку — под обрывами высохшей реки, на вершине забавного конического холмика, на опушке зарослей буша — все они могли оказаться стражами золотых россыпей — никто никогда не вмешивался, чтобы заставить его выбрать другой маршрут или изменить планы.
Сегодня он хорошо представлял, что его свобода стала иллюзорным понятием, и тревожные мысли непрестанно терзали его сознание.
Ему было предписано определенное жилье, словно он, как наемный работник, получил ордер на квартиру; начиная с Адена, мысли об этом отравляли ему самые невинные удовольствия, и английский берег, который пассажиры приветствовали радостными криками, внезапно показался ему неприветливым и даже враждебным.
— Лучше бы «Джервис Бей» шел вокруг мыса Горн, через северный полюс или через чистилище, — ворчал он, придавливая коленом свитер из белой шерсти, упорно вылезавший из чемодана.
Дверь в каюту была открыта, и в дверном проеме возник коренастый силуэт, отчетливо выделившийся на фоне молочного неба. Харлисон узнал своего приятеля Чермана, комиссара корабля.
— Ну, что, будем прощаться, Харлисон? — спросил офицер.
— Увы, придется, — пробурчал юноша. — А, может, на «Джервисе» найдется хорошее местечко для безработного инженера? Например, погрузчика угля.
— Или стюарда, — предложил Черман.
— Черман, вы самое необыкновенное создание из всех, кого мне приходилось встречать, если не считать одного мошенника-дамана, — их еще называют скальными кроликами, так один даман как-то спер мою шляпу и сожрал ее! — воскликнул Харлисон.
— Похоже, в Австралии не густо с населением, — сделал моряк философское замечание. — Кстати, приятель, название Саутгемптон говорит вам что-нибудь?
— К сожалению, ничего. Для меня это просто город.
— Самая большая примечательность города заключается в том, что здесь всегда идет дождь. Вот, например, сейчас над нами синее небо и Ламанш чист, как слеза. Но стоит только катеру лоцмана причалить к старине «Джервису» и опустить свою волосатую лапу на руль, как немедленно начнется дождь. Саутгемптон обладает и другими прелестями, рассчитанными, прежде всего, на высаживающихся здесь невежд. Сойдя на берег, вы увидите перед собой множество лавчонок, в которых продают костюмы, считавшиеся модными во времена наших отцов, причем по цене черной икры или золотого порошка. Виски был бы здесь замечательным, не добавляй в него бармены столько морской воды. Таксисты ошибаются адресом, словно они в Сахаре, куда попали первый раз в жизни, а в трамваях вы не найдете свободного места, кроме как на сиденье, на котором уже устроилась тухлая селедка.
— Вы могли бы работать прекрасным гидом, — уныло отозвался Харлисон. — Зачем вы рассказываете мне все это? Может, вы надеетесь, что я сейчас сигану за борт и отправлюсь вплавь назад в Брисбен?
— Лучше сопроводите нас до Лондона! Вы сможете пообедать с нами в моей каюте. Радист сегодня заказал свежую камбалу, и она окажется на столе, хотя это и будет единственная камбала во всей Англии.
— Согласен! — весело ответил Харлисон, обрадованный, что сможет еще на некоторое время остаться на судне и отложит, хотя и ненадолго, свое появление в Лондоне.
— Ну, тогда до встречи! Мне еще нужно передать несколько коносаментов[32] типам, что ждут меня на набережной. Но постарайтесь не проговориться о свежей камбале! Иначе все захотят остаться на борту и поплывут с нами до моста Тауэр!
На рейде неторопливо маневрировали суда плимутского флота, когда трижды проревела сирена «Джервис Бея». После этого сигнала немедленно пошел дождь.
В Саутгемптоне дождь создал между судном и берегом серую завесу, за которой пассажиры выглядели унылыми тенями.
Через час опустевшая палуба оказалась во власти угрюмо бродивших во всех направлениях таможенников, укутанных в длинные непромокаемые плащи.
Через открытую дверь курительной комнаты Харлисон наблюдал за неторопливой жизнью порта, за механическими движениями кранов, испускавших при каждом рычании струи пара и сопровождавших свою тяжеловесную деятельность пронзительными свистками.
— Англия! — пробормотал инженер. — Вот я и вернулся в Англию! И встречают меня не лучше, чем промокшего под дождем пса. С приездом, Харлисон!
— С приездом! — крикнул кто-то на набережной, обращаясь отнюдь не к Харлисону, а к тонкой фигурке, закутанной в зеленый плащ, стоявшей возле наружного трапа.
Харлисон узнал Бетти Элмсфильд.
«Как интересно, она тоже останется на борту до Лондона?» — подумал он.
После резкой фразы, произнесенной Бетти поздно вечером, когда Хрлисона поцеловала стюардесса, она полностью игнорировала молодого инженера. Вначале среди пассажиров появилось несколько издевательских слухов, но вскоре все успокоилось. Страдал ли от этого Харлисон? Он явно затруднился бы с ответом; по сути он был скорее задет, чем удручен этим безразличием Бетти.
В Гасконском заливе во время встречи их парохода с великолепным парусником из Бордо Харлисон случайно оказался рядом с ней на верхней палубе.
— Вы несправедливы, мисс Элмсфильд, — начал он. — Я хотел бы объяснить вам…
— Я не жду от вас никаких объяснений, сэр! — бросила Бетти и отошла в сторону. После этого они больше не общались.
Харлисон заметил, что через открытую дверь салона для пассажиров первого класса за этой сценой наблюдала Нэнси Уорд, и почувствовал раздражение.
— Смотри-ка, она остается! — буркнул он. — Но какое мне до этого дело! Даже если «Джервис Бей» будет болтаться по морям до последнего дня, словно новый Летучий Голландец, я не взгляну на нее больше ни разу.
Тем не менее, он с интересом наблюдал за джентльменом, с трудом поднимавшимся по трапу. Бетти встретила его и подставила лоб для поцелуя.
— Здравствуйте, дядюшка! Вы собираетесь забрать меня с собой?
— Нет, Бетти! Думаю, морской воздух прибавит мне здоровья. С вашего позволения, я хочу дойти с вами до Лондона.
— Конечно, дядюшка! — ответила без особого энтузиазма Бетти.
— Как прошло ваше путешествие?
— Очень хорошо, дядюшка.
— Я рад за вас.
Харлисон, оказавшийся невольным свидетелем этой беседы, подумал, что красавица встретила вновь прибывшего ненамного дружелюбнее, чем его, окажись он на месте этого дядюшки. Ему даже стало немного жаль ее.
«Возможно, девушка с детства видела столь же мало ласки, как и я», — подумал он.
Бетти, направлявшаяся с дядюшкой в салон, прошла вплотную мимо Харлисона.
Он поприветствовал джентльмена, тот ответил прохладно и чопорно. Бетти сделала вид, что не заметила его.
— Кто это? — поинтересовался джентльмен немного охрипшим голосом.
— Его зовут Харлисон.
— Как вы сказали? Дэвидсон?
— Нет, Харлисон. Хар-ли-сон. Впрочем, не имеет значения. Это типичный невежа. Он не проявил должного уважения ко мне.
— Действительно? — поинтересовался дядюшка с вежливым безразличием. — Я могу найти здесь стакан молока, Бетти?
Они скрылись в салоне в тот момент, когда таможенники заявили, что на судне все в порядке и «Джервис» может двигаться дальше.
— Через час камбала будет готова! — сообщил Черман, появившись из-за груды канатов. Было заметно, что палуба начинает терять свою сверкающую чистоту, постоянно поддерживавшуюся во время плавания. — Через четверть часа дождь должен закончиться. А пока можете полюбоваться на этот крейсер, идущий мимо. Это «Инфлексибль», один из победителей Фолклендской войны. Вы помните о ней?
Харлисон рассеянно глянул на мачты, возвышавшиеся над корпусом плавучего мастодонта; он никак не мог выбросить из головы худощавый силуэт дядюшки Бетти, его гладко выбритое морщинистое лицо, на котором холодным интеллектом ярко светились большие глаза.
— Этот новый пассажир… Кто он?
— Похоже, что вы не просматриваете исторические материалы в прессе, приятель?
— Разумеется! Я даже не имею понятия, что об этом что-то публикуют… Так о чем же идет речь?
— Журналы полны материалов, обеспечивших известность лорду Эдвину Элмсфильду, крупному ученому-ориенталисту, главным образом, египтологу, но не только. Он брат скончавшегося отца мисс Бетти, старый оригинал, невероятно богатый и скупой. Он сможет обеспечить своей племяннице наследство в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.
— Неужели? — удивился Харлисон.
— Говорят, что Элмсфильд, которого называют императором Индий, богаче английского короля. Что, малыш, тебе, видно, жаль?
— Жаль чего?
— Мне казалось, что вы произвели некоторое впечатление на мисс Бетти в начале нашего путешествия, Малышка старается вести себя как можно демократичнее с тех пор, как начала скитаться по миру. Она любит повторять, что готова выйти замуж за любого мужчину, который ей понравится, будь он даже посыльным в гостинице. Для дядюшки, конечно, важнее всего, чтобы кандидат в мужья племяннице не путался в перечне фараонов Раннего царства.
— Я бы не смог запомнить их даже за двадцать миллионов фунтов, окажись эта абракадабра ключом к такому богатству. — проворчал инженер.
— На моей памяти одна лиса сказала примерно то же самое, когда смотрела на высоко висевшие виноградные гроздья, — ухмыльнулся Черман.
К его сожалению, инженер был плохо знаком с Лафонтеном.
Вокруг парохода, идущего под всеми огнями на полной скорости, словно скакун, почуявший конюшню, Ламанш был плотно заполнен множеством судов.
Броненосцы с плимутской военно-морской базы, рыболовецкие шхуны, небольшие густо дымившие приземистые пароходики, торговые суда, оставлявшие за кормой приятный запах пряностей, над которыми развевались флаги всех стран мира…
Из-за туч ненадолго выглянуло солнце, позолотившее верхушки мачт и осыпавшее блестящими конфетти крутую волну.
Харлисон следил за этой суетой с возродившейся в его душе надеждой. Незнакомец удалился. Краем глаза он заметил Нэнси Уорд, оставшуюся без работы и наблюдавшую рядом с миссис Хиншклиф за праздничной обстановкой на море.
— Харлисон!
Инженер обернулся. Палуба вокруг него казалась совершенно пустынной.
— Харлисон! — его снова окликнули негромким, строгим голосом, похожим на военную команду.
Инженер повернулся несколько раз, но никого не заметил возле себя. Он уже подумал, что над ним кто-то подшучивает, когда заметил торчавшую рядом с ним большую вентиляционную трубу. Он из любопытства наклонился к широкому раструбу.
— В чем дело?
Некоторое время из металлической трубы доносилось только негромкое гудение, которое можно услышать, если приложить к уху раковину. Харлисон уже собирался отойти в сторону, чтобы избавиться от навязчивого шума, когда на его вопрос откликнулся мрачный голос.
— Вы на палубе, и это хорошо. Я уже начал думать, что Гровер добрался до вас.
— Гровер? Кто такой Гровер?
— Очень хорошо, продолжайте прикидываться дурачком. Мне нравится ваша осторожность. Вентиляционная труба искажает голос иначе, чем телефон, не так ли?
— Какого черта, кто вы?
— Никогда не задавайте этот идиотский вопрос, — прогремел голос с раздражением и угрозой. — Лучше поторопитесь добраться до Лондона. Вас ждет работа.
— На Найтрайдер-стрит?
— Какого черта, зачем лишний раз называть этот адрес? Я и так хорошо помню его, впрочем, мне кажется, что и вы тоже.
— Еще бы! — проворчал Харлисон, решивший больше не пытаться понять, что происходит вокруг него, и отдаться течению событий.
— Скажите, зачем вы перекрасили волосы? В этом не было необходимости.
— Я перекрасил волосы? — недоуменно пробормотал инженер, проведя рукой по своей густой шевелюре.
Внезапно голос приобрел требовательное звучание.
— Харлисон, некоторые изменения были необходимы… Муха слетела со шлема. Она села на крест.
Последовало молчание.
— Алло? — негромко произнес Харлисон.
Но вентиляционная труба продолжала молчать. Инженер заметил, что к нему направляются две стюардессы и отошел от трубы.
Обед в компании Чермана оказался на редкость удачным, и Роуланд быстро забыл окружавшие его загадки.
Заставшая их в устье Темзы непогода вынудила «Джервис Бей» стать на якорь.
— Вам придется провести еще одну ночь на койке в вашей каюте! — сказал Черман, сохранявший хорошее настроение. — Не переживайте, вполне возможно, что ваша постель в Лондоне окажется менее удобной… Кстати, там вам никто не предложит коктейль!
Горячий коктейль принесла Нэнси Уорд, остановившаяся перед дверью в его каюту, так как стюардессам запрещалось заходить в каюту пассажира. Правила на борту были весьма строгими.
Роуланд быстро расправился с напитком. Ему показался приятным аромат апельсина, вкус корицы и гвоздики.
«Возможно, благодаря этому коктейлю, я увижу во сне блаженные острова…» — подумал он.
Но его сны оказались не такими приятными. Роуланд почувствовал, что находится на грани какого-то мрачного кошмара.
Насекомое, похожее на громадную муху, то и дело пыталось сесть ему на голову, и он, как ни старался, не мог отогнать ее.
Когда, наконец, мерзкое насекомое улетело, из ночной тьмы возник огненный крест.
— Муха… Крест… — простонал Харлисон, безуспешно пытаясь избавиться от зловещих теней.
Но крест приблизился и внезапно опустился ему на грудь.
Роуланд закричал и сбросил с себя одеяло.
Луна заглядывала через иллюминатор в сонную каюту. Ее призрачный свет четко выделял даже самую незначительную деталь интерьера. Неожиданно чья-то тень закрыла иллюминатор, и в каюте резко потемнело.
— Ванг! — выдохнул Харлисон, бросаясь к иллюминатору.
На палубе не было ни души; все было залито голубым светом луны; в густой тени, характерной для лунных ночей, скрывались бесформенные предметы. Инженер почувствовал сильнейшую боль в груди, словно его сон с огненным крестом продолжался наяву. Он щелкнул выключателем, и каюта осветилась ярким электрическим светом. Он увидел, что рубашка у него на груди распахнута, перламутровые пуговицы оторваны и на его груди появилось красное пятно, словно от ожога; это пятно имело форму креста.
— Мне крупно повезет, если мои приключения не закончатся в сумасшедшем доме, — простонал он, подходя к висевшему на стене каюты зеркалу.
Бросив взгляд на зеркало, он вскрикнул от удивления.
Его волосы стали черными!
* * *
Мистеру Теду Соумзу, эсквайру, никак не удавалось уснуть.
Он попытался перевернуться на левый бок, хотя хорошо знал, что при этом ему был гарантирован кошмар, потом снова перевернулся на правый бок, но результат был таким же.
— Завтра я уеду из этой гостиницы, — проворчал он, — но до этого я сформулирую несколько критических замечаний, в особенности, касающихся работы персонала, на который мне есть за что пожаловаться. Я уже одиннадцать месяцев торчу в этом отеле. Все это время я вел себя абсолютно корректно по отношению к заведению, был полностью верен ему. Так, к примеру, я ни разу не завтракал и не обедал вне гостиницы. И я могу поклясться, что ни разу не ночевал за ее пределами.
Правда, я вряд ли смог бы найти более дешевое жилье. Здесь у меня есть электрическое освещение, центральное отопление, холодная вода, внимательное обслуживание… Но это не важно! Мне будет полезно переменить обстановку. Здесь я просто заплываю жиром…
Покопавшись в ночном колпаке, он достал из него листок рисовой бумаги, щепотку грубого табака и спички. Действительно, мистер Соумз был большим оригиналом.
— Я возвращаюсь к привычке курить в постели! — сообщил он самому себе. — Как приятно вспомнить эти добрые старые привычки! — И он пустил к потолку струю густого дыма.
За дверью послышался легкий шум, и освещенный квадрат окошечка в двери потемнел.
— Номер 170! Я отмечаю, что вы курите в камере! Я сообщу об этом в завтрашнем докладе!
— Это невозможно, — флегматично откликнулся мистер Соумз.
— Как это невозможно, дьявольское вы отродье! Наверное, мне придется сделать дополнительную запись о вашем наглом поведении!
— Я сказал, что это невозможно потому, что Его Милость главный судья из Центрального уголовного суда решил, что завтра я буду освобожден, а по действующему законодательству освобождение должно состояться на восходе солнца. Доклад директору, как известно, поступает в десять часов утра, тогда как солнце встает гораздо раньше.
— Ладно, — пробурчал из-за двери надзиратель, бросив недовольный взгляд через окошечко в камеру, заполненную дымом. — Будем считать, что я ничего не видел. Только я должен заметить, что вы все одинаковы, и в последний день заключения не знаете, что придумать, чтобы досадить честным надзирателям.
— Лучше помолчите, Джо Партнер, — примирительно посоветовал мистер Соумз. — Вы не должны жаловаться на меня. Первое, что я сделаю, когда двери в ваше заведение закроются за моей спиной — я подчеркиваю — за моей спиной! — я закажу три пинты эля в «Синей голове» на площади Патерностер, чтобы выпить за здоровье некоторых надзирателей, моих друзей.
— Очень хорошо, Тед, только не пускайте дым в сторону дверей. В полночь этот коридор должен навестить шеф, и он может унюхать дым. А тогда поднимется большой шум.
— Исключительно для того, чтобы доставить вам удовольствие, — ответил мистер Соумз, пуская дым в сторону окна. — И я еще добавлю к вашей премии стоимость десятка сигарет.
— Что, у вас на свободе сразу найдется выгодное дельце? — с иронией спросил надзиратель.
— Пять тысяч фунтов, — небрежно бросил арестант.
— Неужели? Наверное, чтобы оплатить авансом очередное пребывание у нас?
— Я не шучу. Я знаю, о чем я говорю.
— Я не детектив и не судья, — пожал плечами Джо Партнер, — но правила предписывают мне давать хорошие советы заключенным. Так вот, Тед Соумз, не наделайте глупостей, если, конечно, тюрьма Ньюгейт не кажется вам курортом.
— Спасибо, Джо. Этот совет можно оценить по меньшей мере в полпинты джина. Я оплачу ее авансом в «Синей голове»… Спокойной ночи!
— Я начинаю думать, что у вас серьезные планы, — заключил Партнер. — Но, в конце концов, это не мое дело. Спокойной ночи!
Окошечко закрылось со звуком резко захлопнувшихся челюстей, и номер 170, он же Тед Соумз, остался один со своими мыслями и своими мифическими надеждами.
— Конечно, — пробормотал он, — пять тысяч фунтов — это несколько больше, чем один пенни, насколько мне известно. Если повезет, то… Лондон — большой город, но нигде нужная встреча не случается чаще, чем в Лондоне.
Он докурил сигарету. Внутренние тюремные часы отбили двенадцать ударов.
— Полночь! — ухмыльнулся мистер Соумз. — Это час, приносящий мне удачу, но на этот раз она заявится ко мне в двадцать две минуты первого.
Эти слова могут показаться загадочными, но мистер Соумз произнес их с явным удовольствием, и тут же перестал думать о них. Он ухитрился найти удобное положение и, в конце концов, спокойно уснул.
* * *
Когда англичанка начинает наводить красоту…
То же самое можно сказать и о Лондоне. Грязный, укутанный в желтый фог, заливаемый дождями, утопающий в грязи и саже, гигантский город все же иногда переживает часы, украшающие его солнцем и весельем.
Именно в один из таких редких дней «Джервис Бей» поднимался вверх по Реке.
После Гринвича оба берега выглядели, как наглая демонстрация нищеты. Потом по правому борту появился Лаймхаус[33], кривой и скрытный, как лицо осужденного.
Китайский квартал, лишенный экзотического престижа, перенявший у востока только его пороки, его преступления и его крайнюю бедность.
Затем последовал Шедуолл[34] с убогими закопченными домами с облезшей штукатуркой, с отдельными выделяющимися на общем унылом фоне новыми зданиями, уже заметно пораженными проказой несмотря на свою молодость; Шедуолл вскоре перешел в выпачканный в жирной саже Уоппинг[35].
На границе нижнего бассейна, соседствующего с казармами, «Австралийская судовая компания» обладает причалом, у которого становятся на отдых такие пароходы, как «Джервис Бей» и другие ему подобные суда, дожидающиеся очередного рейса.
Кварталы морского Лондона, бедного и живописного, очаровали Харлисона, и на протяжении двух часов, пока судно поднималось вверх по Темзе, он наслаждался зрелищем новой для него жизни.
— Мой дорогой Роуланд, — сказал Черман, — сегодняшний и завтрашний дни для меня далеко не праздничные. Мне придется разобраться с множеством бумаг в конторе компании, и я не смогу быть вашим проводником на суше. Где вы хотите сойти?
Харлисон заколебался. Какое-то время сообщенный ему китайцем адрес буквально обжигал ему язык, но он, сам не понимая, почему, сдержался. Он вспомнил загадочное изменение цвета его волос и ему на ум тут же пришла нейтральная отговорка.
— Я вспоминаю, что мой кузен иногда рассказывал мне о старом отеле в Ковент Гардене. Он назывался «Под гербом Грэнтема»; не знаю, существует ли до сих пор эта уютная таверна.
— О, разумеется, она существует, и наверняка собирается просуществовать еще не одно столетие! — воскликнул Черман. — Пока на рынках будет продаваться птица и не пересохнет доброе английское вино, этот герб будет существовать!
Харлисон прикусил губу: ему не нравилось лгать простому и жизнерадостному моряку.
— Возможно, — уклончиво сказал он, — что я сразу же устроюсь в этом трактире, хотя я и обещал, что буду вести себя осмотрительно. В любом случае, я оставлю там свой адрес, если мне придется обосноваться в другом месте.
Поблизости от старой грязной набережной находилась стоянка такси, машин не слишком элегантных, поскольку ими пользовались преимущественно офицеры королевского военного флота с не слишком высокой зарплатой.
Стоявший у трапа матрос пронзительно свистнул три раза, и три машины немедленно выстроились возле трапа в очередь.
В первой разместился лорд Элмсфильд, холодный и сосредоточенный, а также его племянница Бетти, еще более высокомерная, чем обычно. Она по-прежнему не замечала своего прежнего обожателя, хотя едва не задела его, когда проходила мимо.
— Прощайте, мисс Бетти! — прошептал Харлисон. — Надеюсь, мне больше никогда не доведется встретить вас, наглое вы создание!
— Куда отвезти вас, сэр? — спросил шофер второй машины, повернувшись к Харлисону.
Немного поколебавшись, молодой человек назвал адрес таверны «Под гербом Грэнтема» на Майден-Лейн. При этом, ему показалось, что у него за спиной захлопнулся иллюминатор.
Дребезжа изношенным кузовом, такси тронулось с места и направилось к выезду в город.
На Хиг-стрит, заполненной пестрой толпой докеров, матросов и мелких торговцев, их обогнало третье такси.
Харлисон посмотрел на проезжавшую мимо машину, и у него сжалось сердце. Он увидел Нэнси Уорд и сидевшего рядом с ней джентльмена с невыразительной физиономией мелкого служащего Сити.
Они оживленно болтали и, казалось, были довольны общением. Потом Нэнси махнула рукой в обратном направлении, и Харлисон увидел, как ее сосед наклонился к заднему стеклу такси и посмотрел на него с презрительным видом.
Он вздохнул, откинулся на спинку сиденья и неожиданно Лондон показался ему не таким светлым и гораздо менее приветливым, чем в первые минуты пребывания на английской земле.
Он с угрюмым видом толкнул дверь в тамбур харчевни и приказал сгрузить свой багаж в угол вестибюля, сказав, что в течение дня пришлет за ним. Потом он сел за столик и заказал стакан пунша.
— Неблагодарная особа! — пробурчал он. — Маленькая неблагодарная девчонка; вот что я думаю о тебе.
— Что вы сказали, сэр? — спросила его официантка, великолепная ирландка с огненной шевелюрой.
— Я сказал, что это крайне неблагодарная особа!
— Что вы, сэр, чем я провинилась перед вами? — воскликнула встревоженная официантка.
Харлисон понял, что ведет себя глупо, но обвинил в этом опять же Нэнси Уорд.
— Простите, мадемуазель… Мои мысли сейчас были за сто лье отсюда… Будьте добры, принесите мне план Лондона.
— Жаль, что этот симпатичный парень настоящий псих, — подумала рыжая Китти, когда принесла ему план города.
Харлисон быстро разглядел, что Найтрайдер-стрит находилась неподалеку от трактира.
Через полчаса он неторопливо шел по живописной набережной Темзы в центре города, пытаясь успокоиться и восстановить интерес к интенсивной жизни города. Это ему в некоторой степени даже удалось.
Это был тихий и самый спокойный за все утро час, когда для заполнявших улицы горожан наступает пятнадцатиминутный отдых. Прохожие останавливаются, чтобы выкурить сигарету или трубку, возницы перестают на несколько минут реагировать на клиентов, а некоторые посылают мальчишку в ближайший бар за кружкой свежего пива. Лошади мирно похрустывают овсом, засунув морды в подвешенные к ним мешки.
Сориентировавшись по плану, Харлисон направился к продуваемой всеми ветрами Тюдор-стрит и углубился в путаницу небольших торговых улочек.
Очутившись на углу Ладгейт-Хилл и сообразив, что вряд ли сможет детально познакомиться с Лондоном, заглядывая в яркий розовый гримуар[36], он обратился за помощью к полисмену, чтобы узнать, как ему добраться до Кэннон-стрит.
На всякий случай он избегал произносить название нужной ему улицы, но с помощью плана ему удалось выяснить, что она идет параллельно Кэннон-стрит.
Это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе совсем другого человека.
После того, как Харлисон поблагодарил любезного полисмена, вежливо приподняв шляпу, мужчина, сидевший за стаканом насыщенного пряностями грога за столиком в баре «Страшный суд» на углу Ладгейт-Хилл и услышавший разговор Харлисона с бобби, с невнятным восклицанием опрокинул неловким движением стакан с напитком, залив посыпанный светлым песком пол таверны.
— Надо же! Я никогда даже не мечтал о такой удаче! — пробормотал он, не сводя глаз с полицейского.
Он бросил на стойку шиллинг, забрал сдачу и выскочил на улицу.
— Я слишком часто проигрывал, — ухмыльнулся он. — А вот сейчас, дружище Джо Партнер, этот прохожий возродил во мне надежду удачно провернуть дельце на пять тысяч фунтов!
Мистер Тед Соумз, подобно большинству вышедших на свободу заключенных, любил проводить первые часы прежней жизни в окрестностях покинутого им пенитенциарного заведения. Сегодня он вполне мог поздравить себя за соблюдение этого обычая.
— Центральный уголовный суд и тюрьма Ньюгейт в очередной раз приносят мне удачу! — ухмыльнулся он, пристраиваясь в кильватер Харлисону.
Харлисон, изображая праздношатающегося, спрятал в карман карту Лондона и двинулся дальше, основываясь на том, что ему удалось запомнить, когда он рассматривал план, а также руководствуясь указаниями полисмена.
В результате он, не разобравшись, нечаянно проделал несколько кругов вокруг квартала Картер-Лейн, что заставило мистера Соумза с разочарованием подумать, что его жаворонок не собирается опуститься в гнездо.
В это время они очутились в многолюдном месте, где в хорошую погоду скапливались торгующие с тележек зеленщики.
Роуланд углубился в скопище тачек и тележек, нагруженных апельсинами, овощами, устрицами и другими дарами моря; место оказалось населено крикливыми и обидчивыми островитянами.
Мистер Соумз поскользнулся на листе салата, чуть не сбил на землю лоток продавщицы сыров, заработал пару оплеух, был обруган сердитым продавцом устриц и потерял из виду Харлисона.
Он едва не взвыл от разочарования, бросившись бегом в сторону, показавшуюся ему наиболее перспективной.
Но Судьба следила за ним, и на углу Картер-Лейн он едва не столкнулся лоб в лоб с преследуемым.
Взгляд Роуланда безразлично скользнул по его лицу, но Тед мгновенно почувствовал, как холодный пот выступил из всех пор на его теле.
«К черту… — подумал он. — Я никогда не решусь…»
Но в глубине его сознания коварный голос упрямо твердил: «Пять тысяч фунтов! Пять тысяч фунтов!»
— Какая жалость, что я пока один… — заколебался он.
Но он тут же оборвал свою мысль, решив:
— Тем хуже!.. Я все равно возьмусь за него!.. Этот секрет явно стоит дороже, чем пять тысяч фунтов! — добавил он, чтобы одобрить свои действия.
Харлисон в этот момент завернул за угол Найтрайдер-стрит, и его сердце забилось сильнее. Сейчас всего несколько шагов отделяло его от неизвестного, от его судьбы.
Сухой и горячей рукой он сжимал в кармане небольшой плоский ключ, словно опасался, что неожиданное колдовство даст ключу крылья, и он вспорхнет и улетит. На ухоженных чопорных фасадах медленно чередовались номера: 44… 46… 48… 50…
Начиная с сотого номера к цифрам стали добавляться буквы, удлиняя вереницу зданий: 170а… 170б… затем 180а… 180б…
Дом с номером 182б оказался из розового кирпича; на перрон, к которому вели семь ступеней, выходила покрытая лаком дубовая дверь, оформленная в стиле прошлого века.
Харлисону неудержимо захотелось дернуть за ручку звонка, висевшую на металлической спирали, или воспользоваться медным молотком.
Распахнутые ставни позволяли видеть окна, завешенные шторами из легкой кисеи. На одном из подоконников стоял дешевый кувшин в виде сапога, вероятно, копилка для монет.
Во всем облике старого здания сквозила беспричинная грусть и, в то же время, чувствовалось нечто бодрящее, утешительное.
На верхних этажах окна были наглухо закрыты тяжелыми шторами.
«Если у этого дома есть хозяин, то он должен быть или пастором-уэстлианцем[37], или полковником Армии спасения», — подумал молодой человек.
Мистер Соумз торчал перед книжным развалом на противоположной стороне улицы, изображая страстный интерес к дешевому изданию Библии и рассматривая отвратительный портрет Гая Фокса[38]. На самом деле он внимательно наблюдал за Харлисоном, отражавшемся в витрине.
Затаив дыхание, он смотрел, как Харлисон медленно поднялся на перрон, вставил ключ в замочную скважину и, секунду поколебавшись, вошел в темный коридор.
Дверь захлопнулась за ним с глухим стуком.
«Вот птичка и оказалась в гнезде, — заключил Тед Соумз. — Я дам ему время осмотреться там, а пока мне не остается ничего другого, как малость подкрепиться стаканчиком доброго виски. Чувствую, что это мне крайне необходимо».
Он быстро вернулся на Кэннон-стрит и остановился перед вывесками баров, выбирая самое удобное место для подготовки.
Но, когда он остановился перед весьма достойной таверной «Старый странник», его кто-то окликнул:
— Эй, номер 170!
— Да? — отозвался Соумз, недовольный тем, что ему напомнили о его недавнем положении, весьма мало достойном настоящего джентльмена.
Оглянувшись, он увидел мощный автомобиль, остановившийся вплотную к тротуару, с приоткрытой задней дверцей. Сидевший за рулем шофер в темных очках смотрел прямо перед собой с совершенно нейтральным видом.
— Часы недавно пробили полночь, — сказал кто-то из находящихся в автомобиле. — Если быть точным, то сейчас двадцать две минуты первого.
Это ложное утверждение оказало совершенно неожиданный эффект на мистера Соумза.
Он пошатнулся, лицо его побледнело, приняв восковой оттенок постоянного обитателя тюремной камеры, и он задергался, расшаркиваясь и изо всех сил изображая почтительность.
— Садитесь! — прозвучал негромкий и, казалось бы, мягкий приказ, в котором, в то же время, ощущалась железная решимость.
Мистер Тед Соумз нырнул в машину, запотевшие стекла которой не позволяли видеть находившихся внутри. Машина тронулась, пересекла Верхнюю Тим-стрит, выехала на набережную и, набрав скорость, помчалась вдоль реки.
Мистеру Теду Соумзу оставалось только гадать, куда теперь приведет его судьба?
Позади остались Нижний Бассейн, затем Лаймхаус, потом Гринвич с его мачтами, реями и трубами с длинными шлейфами дыма над рекой. В общем, машина повторила в обратном направлении путь, проделанный «Джервис Беем», когда пароход поднимался по Темзе.
За Гринвичем с его шумными арсеналами эстуарий заметно расширился; широкие пляжи светлого песка улеглись между водой и сушей, словно дремлющие животные. О близости моря говорила катившаяся вверх по реке пенная волна, омывавшая сваи причалов.
— Вам знакомы эти глубины, мистер Соумз? Это речное кладбище, так как именно здесь река оставляет мертвецов, которых днями, может, неделями она несла на своих медленных водах.
Но вам нечего опасаться, мистер Соумз, мы уже оставили позади этот речной мавзолей.
Дальше начинаются морские пески, и они больше интересуются вами. Даже если это еще не само Северное море.
Машина продолжала мчаться к одиноким дюнам, над которыми вились только чайки, существа, мало занимающиеся человеком и его делами.
Тед Соумз, находившийся в машине, был бережно уложен на кожаный плед, чтобы не было риска оставить пятна на роскошных подушках из бежевого бархата.
Из его груди торчала рукоятка кинжала, и кровь уже перестала вытекать из раны…
Глава III «Сердце Бхавани»
Несмотря на тысячу и одно уродство, у Лондона есть и один положительный момент: он сохранил в своих границах нетронутыми пятачки уцелевшего прошлого, незаметно приютившиеся у подножья многоэтажных гигантов в пятнадцать этажей, скопированных с чикагских небоскребов и жилых казарм прусского образца.
В этих заповедных уголках, таких, к примеру, как Ковент Гарден и его ближайшие окрестности, продолжают существовать небольшие домики и даже сады с лилиями и настурциями.
Можно только поблагодарить за это Господа, потому что иначе гигантский город стал бы, подобно Нью-Йорку, творением без души, гигантским трупом, которому только кошмарная аккумуляторная батарея обеспечивает внешние признаки живого существа.
Здесь дух Диккенса все еще носится над водами, подобно духу на время задремавшего божества. Мистер Пиквик опять возбуждает дело о водевиле перед большими париками Центрального уголовного суда. Сквирз[39] продолжает заглядывать в харчевню «Голова сарацина», и это достойное заведение все еще освещается масляными лампами и свечами. Микобер[40] с удивлением соображает, что его не собираются посадить в Маршалси[41] за то, что он задолжал своему булочнику семь шиллингов. Тоби Вэк[42] продолжает разносить письма с поздравлениями по случаю Рождества или Нового года. Грайд[43] продолжает обворовывать папенькиных сыночков, а Монтегю Тигт[44] все еще пытается стрельнуть монету в полкроны, подпрыгивая в своем рединготе из Вероны.
Сказанное выше вполне могло объяснить неожиданное ощущение покоя, родившееся в тревожном сердце Харлисона, когда он швырнул свою шляпу на великолепный сервант из черного дерева, полки которого заполняли вереницы фламандских пивных кружек из голубоватой глины, а потом осмотрел идеально, до блеска, чистую столовую, радушно встретившую его в доме на Найтрайдер-стрит. На столике стоял графин, точнее, кувшин, наполовину заполненный вином, сохранившим игру солнечных лучей. Это оказался великолепный портвейн, и Харлисон опрокинул, один за другим, два стакана.
Этой дозы ему оказалось почти достаточно, но, чтобы гарантировать себе великолепное настроение, он решил наполнить третий стакан, чтобы отпраздновать удачное завершение своего длительного путешествия.
— Эй, есть тут кто-нибудь? — крикнул он.
Лестничная клетка и анфилада комнат откликнулись гулким эхом, после чего восстановилась мертвая тишина, такая устойчивая, словно в доме кроме нее никогда ничего другого и не было.
«Действительно, так оно и должно быть, — подумал он. — Ответить мне может разве что только тот, кто сидит в шкафу — ведь я не видел в доме ни одной живой души».
Он прошел по четырем комнатам на первом этаже, заглянул в прачечную, потом поднялся сначала на второй этаж из пяти комнат, затем на третий из четырех. Везде царила пустота, и он нигде не обнаружил ни малейшего намека на таинственность, в том числе и в подвале. Небольшой садик, обнесенный высокой стеной, выглядел куском зеленого туннеля.
«Наверное, завтра появится служанка, чтобы заняться хозяйством, — подумал он. — Надо будет поблагодарить ее за такой тщательный уход за домом».
«Интересно, — продолжал размышлять он, рассматривая развешанные на стенах картины, — кто живет — или жил? — в этом доме? Не иначе, как человек с простыми привычками и хорошим вкусом; возможно, с художественными наклонностями, если иметь в виду картины, которые, судя по их свежему облику, являются довольно недавними копиями.
В библиотеке много книг, но их набор ничего не говорит об особенностях характера их владельца: Шекспир, Вальтер Скотт, Диккенс, Шелли… Два явно случайных тома Теккерея, полная подшивка журнала „Стрэнд“[45] — две сотни книжек по 6 пенсов. Короче, именно то, что положено читать и перечитывать любому англичанину.
Ящики письменного стола пустые, в них не завалялось ни одной бумажки, ни одного документа. Наверное, хозяин сжигал ежедневно приходившие счета, что свидетельствует о спокойном характере, любви к порядку и состоянии идеального душевного равновесия.
Если бы я действовал по методу полицейских знаменитого автора детективов Эдгара Уоллеса, я бы начал составлять список всего вокруг меня, что представляется примечательным, и это неизбежно привело бы меня к разгадке тайны.
Итак, попробуем.
В погребе почти две сотни бутылок вина: портвейн, херес, мадера; отсутствие французских вин; большой запас виски хорошего года, полдюжины бутылок джина.
На кухне отличные консервы: фрукты, джем, паштеты из телятины и птицы. В лакированных коробках все, что может потребоваться живущему одиноко мужчине, чтобы в случае необходимости быстро приготовить что-нибудь съедобное.
Вывод: где-то рядом находится весьма толковый поставщик.
Спальни: самая шикарная, несомненно, принадлежит хозяину. Низкая кровать, тонкие, словно из дворца, простыни, три великолепных шкуры тигра, медный набор для курения на арабском столике. Комната для друзей, которой, по-моему, почти не пользовались; комнаты для бонны и для камердинера отсутствуют.
Кабинет: библиотека, уже описанная выше; все до уныния чисто, словно в ней никто никогда не работал. В то же время может показаться, что кто-то в ней курил, и очень долго: на специальной полочке разложены хорошо обкуренные трубки из Гуды и стоит большая миска, наполненная голландским табаком; в хрустальной коробочке — глиняная трубка, вероятно, очень ценная. Просто чудо!
Шкафы: пустые или почти пустые.
Гостиные: удобные, но с немного обветшалой мебелью.
Ванная комната: весьма современная; ванна из мрамора с прожилками, двойной душ, электрический подогрев воды в ванне, умывальники, заставленные хрустальными флаконами с одеколоном и незнакомыми духами, сосуд с сухой лавандой.
Телефон».
— Черт, как я об этом не подумал!
Харлисон отбросил список, составляемый им на выдранной из блокнота страничке. Поднявшись в несколько прыжков по лестнице, застланной толстым ковром, он ворвался в туалет и схватил объемистый телефонный справочник. Номера абонентов в нем были сгруппированы по улицам. Он быстро перелистал массивный том и нашел Найтрайдер-стрит.
— Теперь я знаю, — буркнул он, с отвращением отбрасывая справочник, — что моего невидимого хозяина зовут, как три четверти жителей Англии и миллионы китайцев, просто Вангом.
— Почему бы ему не назваться Джоном Смитом…
Он пнул на прощанье ногой ни в чем не виноватую телефонную книгу и вернулся в спальню. Здесь ему пришлось заморгать в растерянности: на мраморной полке камина он увидел свой портрет в художественно оформленной рамке!
* * *
Устав от нервной суеты, он отключился, едва опустив голову на подушку, и проспал мертвецким сном до утра.
Постель была удобной, и он прекрасно отдохнул, хотя время от времени чувствовал сквозь сон легкую качку, как это бывает со всеми морскими путешественниками в первую ночь на суше.
Его разбудил луч солнца, резвившийся в зеркале.
Окна спальни выходили в сад. Солнце заглядывало в них только в короткие утренние часы, так как за высокими стенами возвышались унылые фасады с множеством равномерно расположенных оконных проемов.
Один из этих фасадов находился ближе остальных, и его окна без занавесок и штор, затянутые пленкой пыли и сажи, были верным признаком пустого, заброшенного жилья.
Харлисон с отвращением посмотрел на него; ему показалось, что бедность и заброшенность этого печального здания каким-то образом распространялись на дом, в котором он находился.
Тем не менее, вскоре его внимание привлекли более приятные ощущения.
С кухни до него долетел хорошо знакомый бодрящий аромат жареного сала и подогретых тостов.
— Мадам Икс или Зет уже за работой! — воскликнул он. — Я должен срочно познакомиться с ней!
Он облачился в отвратительный домашний костюм, приобретенный им в Мельбурне в качестве последнего крика лондонской моды, и спустился на первый этаж.
Стол в столовой был накрыт, на небольшом спиртовом примусе подогревался омлет с ветчиной; под специальным ватным чехлом уютно пыхтел чайник из черного фаянса, выпуская легкий ароматный парок.
— Эй, есть здесь кто-нибудь? — позвал Харлисон.
Ему ответили то же эхо и та же тишина, что и накануне.
— Значит, моя хозяйка уже ушла, — недовольно пробурчал он. — Видать, она побывала здесь ранним утром, потому что стаканы, из которых я пил вчера, уже вымыты, а графин снова наполнен портвейном. Конечно, все домработницы имеют ключи, так что…
Неожиданно он подпрыгнул на стуле, задев упавший с примуса омлет, оказавшийся на белоснежной скатерти. Ведь накануне вечером он запер все двери на задвижки, а наружную дверь закрыл еще и на цепочку!
— Значит, ко мне можно спокойно войти, как в любое общественное заведение! — проворчал он. — Или кто-то действует по методу, описанному в романах Энн Радклифф[46]. Очевидно, хозяйством у меня занимается призрак, умеющий проходить сквозь двери, закрытые на три задвижки!
Ему так не понравилась эта ситуация, что он едва дотронулся до завтрака.
«Если бы я написал об этом в своем детективном списке, то должен был бы решить, по примеру полицейского, героя романов Уоллеса, что в квартиру есть тайный вход, — подумал Харлисон. — Впрочем, мне следовало ожидать столь романтической стороны у моего приключения… Что стало бы с тайной, не существуй шкафы с двойным дном или фальшивые стены… Мне стоило давно догадаться об этом, вспомнив странные приказы, что я получал после Адена. Об этом же мне напомнил и мой портрет, так деликатно продемонстрированный мне на каминной доске…»
Его размышления прервал раздавшийся на втором этаже, пронзительный трезвон с металлическим тембром.
Телефон!
Он почувствовал себя не таким одиноким, раз кто-то хотел поговорить с ним, и, значит, еще чей-то голос должен был прозвучать в пустом доме.
— Алло! — произнес он, сняв трубку.
— Отлично, вы уже на месте. Давно пора. Телефон вам наверняка покажется более удобным средством связи, чем вентиляционная труба, не так ли?
— А, так это вы, — сказал Харлисон только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.
— А вы надеялись услышать кого-нибудь другого? — с недоброй иронией произнес голос. — Конечно, на «Джервисе» все было иначе. Вы симпатичный парень, и ваша всегдашняя скромность мне очень нравится.
— Очень рад, — пробормотал инженер.
— Вы всегда казались мне весьма проницательной личностью. Значит, вы уже знаете, что старушку Слиппер вычеркнули? Вы не теряли время даром.
— Что вы сказали?
— Неужели этот чертов телефон работает так плохо, что мне приходится повторять? Ладно, я не буду спрашивать у вас, кто и как провернул дельце. Это ваше дело, и вам положено это знать в соответствии с вашей ролью. Иначе, зачем бы вы запирались на задвижки?
— Да, это так, — осторожно согласился Харлисон. — С чего бы мне поступить иначе?
— Гровер и его банда давно крутились вокруг нее. Я говорю про Слиппер. Следовательно, было нужно, чтобы она упала с лестницы, выпив вчера вечером свою обязательную порцию джина. Кстати, весьма приличную порцию! Когда ее подняли, у нее череп оказался разбит вдребезги, и она уже замолчала навсегда, хотя была известна, как большая любительница поболтать. Я сразу не смог отправить к вам другую служанку, и вы хорошо понимаете, почему. Вы же не считаете меня агентом по трудоустройству?.. Может быть, вы смогли бы некоторое время самостоятельно заниматься своим хозяйством? Вы не представляете, сколько проблем создают нам ваши холостяцкие привычки!
Харлисона осенило.
— Конечно, не представляю, — сердито буркнул Харлисон.
— Осторожней! — в голосе собеседника прозвучали угрожающие нотки. — Вы начинаете вести себя слишком независимо. Учтите, мне такое не нравится!
Прочувствовав линию своего поведения в игре, Харлисон решил продолжать демонстрировать упрямство.
— У меня есть права! — проворчал он.
— Маньяк! Мелкий буржуа! Конторщик! Все вы одинаковы! — злобно прошипел голос на другом конце провода. — Вы не способны видеть происходящее в целом. Может быть, мне придется придушить вас в постели?
— Я подумал и об этом, — спокойно сообщил Харлисон.
— Мне не нужна другая такая старая карга, как эта Слиппер, которая постоянно будет совать свой нос в то, что ее не касается… Послушайте! На этот раз я снова постараюсь закрыть глаза на вашу глупость, но дальше контакт будет осуществляться только через моего посредника. Это будет означать, что если вам взбредет в голову провести расследование обо мне, то я должен буду вмешаться.
— Ха-ха! — бросил Харлисон, не нашедший лучшего ответа.
Но незнакомец рассвирепел.
— Я убью тебя, слышишь? Я убью тебя, клоун!
— Как хотите, — согласился Харлисон. — Мне наплевать на ваши угрозы.
— Тем лучше. А пока можете курить голландский табак и читать «Квентина Дорварда».
Послышался щелчок брошенной трубки, и разговор прервался.
Харлисон немного подумал, а потом набрал номер телефонной станции.
— Скажите, мисс, кто сейчас звонил мне? — спросил он телефонистку.
Девушка некоторое время разбиралась с его вопросом, потом ответила с некоторым удивлением:
— Но сейчас, сэр, вам никто не звонил.
Роуланд задумался. Потом пожал плечами и продолжил заниматься утренним туалетом.
Снова зазвонил телефон.
Он услышал снова голос своего только что положившего трубку собеседника, но теперь тот буквально кипел от ярости.
— Что, вы продолжаете свою игру каналья? Вы что, круглый идиот? Когда вам звоню я, на телефонной станции никто об этом не может знать! А уж вы-то должны хорошо представлять это! Вы знаете, когда вам станет известно то, что вам хочется узнать обо мне? Так вот, малыш, ровно за две или три секунды до вашей смерти!
Разговор опять оборвался, и Харлисон вернулся к мылу и зубной щетке.
«Интересно, что за жизнь ожидает меня в этом доме?» — подумал он.
Он решил повидаться с Черманом, и одна только мысль о скорой встрече с человеком, в котором не скрывается никаких тайн, быстро вернула ему обычное хорошее настроение.
Очередной взгляд в зеркало заставил его нахмуриться.
Это же черт знает, что! Он сразу представил, что ему неизбежно придется столкнуться с недоуменными взглядами добряка-комиссара «Джервис Бея».
Конечно, он мог придумать множество объяснений, небрежно заявить о случайном капризе, но ему очень не хотелось лгать этому простому открытому человеку.
Он не сомневался, что Черман легко прочитает ложь на его лице и в его глазах, сразу все поймет по его поведению.
Озабоченный этими неприятными мыслями, он вышел из странного дома и двинулся по Найтрайдер-стрит.
В Люгейте он наткнулся на парикмахерскую и попросил сделать ему как можно более короткую прическу, после чего постарался еще плотнее пригладить волосы.
«Хорошо, если он подумает всего лишь об отсутствии у меня вкуса», — подумал он.
Черман, некоторое время внимательно изучавший меню таверны «Под гербом Грэнтема», почти не обратил внимания на некоторые изменения в облике приятеля.
— Я вижу, что вы пожертвовали своей роскошной шевелюрой, поддавшись очередному веянию моды, — сказал он. — Эта новая прическа вас очень сильно меняет… И мне казалось, что вы всегда были блондином? Но, как говорится, о вкусах не спорят, и я не собираюсь добиваться изменений в небесной механике. Меня вполне устраивает то, каким образом Земля вращается вокруг Солнца. Что вы скажете о телячьей отбивной и спарже со сливками? Я мечтал об этом еще до Коломбо…
Лондонские рестораны — довольно отвратительные заведения, предназначенные исключительно для набивания желудка, но таверна «Под гербом Грэнтема» известна даже на континенте как редкое исключение из этого достойного сожаления правила.
Когда Черман назвал официанту какое-то вино континентального происхождения, Роуланд попытался вспомнить, какое пойло пытались всучить ему в Сиднее или Мельбурне под названием «французское вино».
За сотерном[47], которым они запивали лангуста, последовал пойяк[48], темная бутыль которого сопровождала жаркое.
Хозяин ресторана, доброжелательно следивший за прекрасным аппетитом своих клиентов, шепнул по секрету, что у него можно заказать настоящий шартрез, этот знаменитый французский ликер, а из коньяков у него найдется бутылочка наполеона.
— Давайте и то, и другое! — распорядился Харлисон.
Черман с энтузиазмом заявил, что ему давно не приходилось слышать такие замечательные слова.
Они долго вспоминали перипетии путешествия из Австралии в Европу, и на языке у Роуланда то и дело крутилось имя Нэнси Уорд, но он сдерживал себя, поскольку заметил, что его компаньон с трогательной неловкостью избегает упоминать красавицу-стюардессу.
Наконец, он не выдержал, и с небрежным видом поинтересовался:
— Кстати, девушка, спасенная мной в Адене, не собирается проделать путешествие на «Джервисе» в обратном направлении?
Черман помотал головой.
— Нет, она уволилась, и теперь на ее месте будет работать одна рыжая дылда из Шотландии.
— Я видел, как Нэнси покинула судно с каким-то джентльменом, — сказал Харлисон. — Не иначе, ее возлюбленный?
Моряк поерзал на стуле со смущенным видом.
— Не думаю, — выдавил он наконец.
Роуланд внимательно посмотрел на него.
— Вы действительно так не думаете?
Смущение Чермана заметно усилилось, и он, чтобы замаскировать свое состояние, поспешно опрокинул бокал шартреза, даже не почувствовав его вкуса.
— Роуланд, мне кажется, что мы с вами люди прошлого века. Мы не умеем лгать. Поэтому я скажу то, что думаю. По правде говоря, я считаю, что мисс Уорд не совсем та дама, за которую вы ее принимаете.
Инженер нахмурился.
— Я не понимаю вас, — сухо произнес он.
— Дело в том, Харлисон, что я немного знаю этого типа, что ожидал прибытия нашего судна… Это сотрудник полиции…
— Господи! — воскликнул Харлисон. — Это же ни о чем не говорит!
— Конечно, это так, если бы он не принадлежал к верхушке. Его зовут Каннинг, он суперинтендант[49] и занимается криминальными расследованиями в Скотленд Ярде. И он никогда не станет отвлекаться по пустякам.
Приятели некоторое время сидели молча, пока не догадались обратить внимание на содержимое своих стаканов, чтобы развеять тревожные мысли.
— Я простой человек, Черман, — возмутился, наконец, инженер фирмы «Мидас», — и я не понимаю, на что вы намекаете.
— Я буду откровенным, друг мой, — ответил моряк, — вы мне очень симпатичны. Хотя я всего лишь бывший морской пехотинец, я не собираюсь уступать кому-либо ни пяди в том, что имеет отношение к долгу и чести. Я предпочел бы лишиться зарплаты за три месяца в море, чем видеть, как такой парень, как вы, строит облачные замки, увлекшись обычной авантюристкой, если не сказать хуже.
— О, Черман!
В восклицании Харлисона прозвучала такая боль, что комиссар не мог не посочувствовать своему приятелю.
— Харлисон, мы получили строжайшее указание молчать, но я все же расскажу вам все, что знаю. Это первый случай, когда я не подчиняюсь категоричному требованию начальства.
Я не начну, как это делают старые сплетницы, с требования, чтобы вы сохраняли полное молчание об услышанном от меня. Я знаю, что вы будете молчать без просьбы с моей стороны. К тому же, мой рассказ будет достаточно коротким. А теперь слушайте!
На борту нашего судна находилась весьма ценная посылка, которую нам скрытно передал в Коломбо сам губернатор Цейлона, и которая была адресована лорду Чаттерли, хранителю частного музея Букингема.
Это был огромный рубин в виде сердца, поэтому его назвали «Сердце Бхавани», а Бхавани — это одна из самых свирепых богинь индуистского пантеона.
Рубин был подарком Его Величеству Королю Англии, Императору Индий, и подарил его один махараджа-бунтовщик в знак своего решения подчиниться власти англичан.
Подарок должен был оставаться в тайне, потому что решение туземного царька о покорности полагалось осуществить не в виде одномоментного акта, а постепенно, едва ли не подпольным образом.
В общем, здесь в игру вступают государственные интересы, в которых я мало что понимаю.
Фантастически дорогая драгоценность была помещена в деревянный ящичек весьма примитивного вида, и капитан «Джервиса» спрятал ящичек в своем личном сейфе.
В Саутгемптоне лорд Чаттерли должен был забрать посылку. Но тут произошли неожиданные события; прежде всего, машина лорда по дороге в порт попала в автомобильную аварию в какой-то деревне неподалеку от пристани. Оттуда он телеграфировал на судно, предложив доставить драгоценность в Лондон на «Джервисе».
Думаю, вы обратили внимание на то, что дорога от Саутгемптона до Лондона прошла не без мелких происшествий. Прежде всего, вышел из строя радиопередатчик, что никого особенно не обеспокоило, поскольку путешествие практически завершилось.
А в Лондоне выяснилось, что ящичек исчез из капитанского сейфа, словно просочившись сквозь толстую стальную дверцу.
Дорожное происшествие, в которое попал лорд Чаттерли, как выяснилось позже, было подстроено; что касается телеграммы лорда, то оказалось, что он ее не посылал.
— А причем здесь Нэнси Уорд?
— Не торопитесь, сейчас узнаете. Я должен изложить все последовательно, в точном соответствии с хронологией отдельных событий.
Жуткая пропажа была обнаружена в тот момент, когда «Джервис» причалил к набережной Нижнего Бассейна.
Наш старик еще толком не осознал, что случилось, а на палубу с набережной уже перепрыгнул непонятный тип, заявившийся в каюту капитана, как в свою собственную.
— Меня зовут Каннинг, — представился он.
— А меня зовут сапог или туфель, — заорал капитан, — и я постараюсь поскорее прислать вам мою визитку!
— Не стоит так волноваться, капитан, — ответил тип слащавым голосом, — потому что я одновременно работаю суперинтендантом в Скотленд Ярде. — И он сунул капитану под нос металлическую бляху.
— Насколько я понимаю, вы обнаружили, что у ящичка для лорда Чаттерли выросли ноги, — загробным голосом сообщил полицейский.
— Лучше бы я проглотил свои морские сапоги! — взвыл капитан.
И он принялся жаловаться, что теперь его карьера погублена, что он не сможет пережить это бесчестье. Его остановил Каннинг, попросив немного помолчать.
— Все не так страшно, капитан, как вам показалось.
— Я старый боевой конь, — возразил старина, и я ничего не понимаю в ваших полицейских штучках. Но сможете ли вы узнать, куда пропал этот чертов ящичек?
— Это вполне возможно; во всяком случае, для начала ознакомьтесь с этой бумагой, которая избавляет вас от какой-либо ответственности за случившееся. Я всего лишь попрошу вас и вашего судового комиссара соблюдать абсолютное молчание об этом… происшествии.
И суперинтендант уехал на такси, устроившись на заднем сиденье рядом с…
— С Нэнси Уорд!
— Вот именно, приятель!
Роуланду показалось, что стены ресторана начали медленно вращаться вокруг него; не исключено, что в этом эффекте было виновато если не французское вино, то слишком крепкий коньяк.
— Подождите! — воскликнул он, цепляясь за последнюю надежду. — Мне кажется, что уехавшие вместе на такси мисс Уорд и полицейский общались совершенно по-дружески!
— Почему бы и нет? — пожал плечами Черман. — Парни из Скотленд Ярда всегда ведут себя как джентльмены с теми, кого им приходится задерживать. И если преступники оказываются хорошими игроками, общение с ними происходит вполне дружелюбно.
— Я допускаю, что Нэнси Уорд может быть хорошим игроком, но могу только догадываться, является ли таким игроком Каннинг…
— Каннинг — серьезный человек, — продолжил Черман. — Про него говорят, что он занимается бандой Джека-полуночника.
— Кто это — Джек-полуночник? — поинтересовался Харлисон, стараясь показать свою заинтересованность рассказом Чермана.
— Джек-полуночник? Это спрашивает человек, очевидно, проживший все последние годы на Луне! Но весь Лондон и значительная часть земного шара только о нем и говорят, невежественный вы человек! Говорят о том, как он занимается вымогательством, грабит, убивает всех, кого захочет!
Вчера он полностью очистил за одну ночь банк Вольфсона и Барра, не оставив в нем денег даже на покупку пачки сигарет. Почти одновременно от полумиллиона фунтов был избавлен банк Сток-Эксшанж, ограблен ювелирный магазин Хартмана, а его владельцу было перерезано горло. Недавно он похитил дочерей нескольких лондонских аристократов и вернул их только за поистине царский выкуп. Потом он очистил витрины Британского музея, где Его Величество не досчитался полотна Греза, двух картин Уистлера и дюжины невероятно дорогих изделий из благородных металлов. В обмен этот проклятый Джек оставил непочтительную и весьма ироничную расписку.
Ему приписывают также кражу нескольких секретных документов из военного министерства, за которые ему в Берлине с радостью выложат мешок золотых марок.
И что вы думаете? Он хотя бы раз попал в руки правосудия? Нет конечно. Его молва уже прозвала Джеком-призраком, это настоящее привидение из тумана и дыма, нечто неуловимое!
Можно не сомневаться, что у него в подчинении находится огромная банда, хотя полиции ни разу не удалось задержать ни одного ее члена. Напротив, Скотленд Ярд потерял нескольких своих ценных сотрудников. Негодяй придумал отвратительную игру — время от времени он присылает суперинтенданту Каннингу только что отрубленную голову одного из его детективов.
— Значит, вы полагаете… — пробормотал Харлисон и замолчал.
— Пока у меня нет ничего, кроме предположений, но я умею связывать одни факты с другими по законам логики.
Если Каннинг лично побеспокоился, чтобы встретить обычную стюардессу… Если он через несколько часов официально сообщает нам, что украденная драгоценность обнаружена… Делайте сами выводы из этих фактов!
— Я не решаюсь, — вздохнул Харлисон. — Все это просто ужасно.
— Тогда я сделаю это вместо вас в надежде, что это излечит вас. Так действует хирург, удаляя с помощью скальпеля опухоль или вскрывая нарыв. Нэнси Уорд совершила кражу на «Джервисе» и она является членом банды Джека-полу-ночника!
* * *
Выйдя из ресторана, он некоторое время стоял и смотрел вслед Черману, хромавшему немного больше, чем обычно. Он с наслаждением почувствовал больно хлеставшие его по лицу струи дождя.
Потом он долго бродил по городу и, наконец, остановился под водопадом из водосточной трубы к радости небольшой группы бродячих продавцов газет.
— Посмотрите на этого пьянчугу! Посмотрите на него! Гип-гип-ура! Да здравствует виски! Купите «Таймс», сэр! Там рассказывают о джентльмене, выпившем еще больше, чем вы, а также о беседе Остина Чемберлена с Джеком-полуночником!
— К черту Джека-полуночника! — заорал Роуланд.
— Вы должны сказать это ему самому! — выкрикнул кто-то из мальчишек. — Он разберется с вами! Наградит вас орденом Подвязки из пеньки!
Парижский гаврош, заслуживший за много лет репутацию существа остроумного и, по сути, не слишком зловредного, можно сравнить с его собратом из Лондона примерно также, как ужа с гадюкой.
Харлисон очень быстро понял это.
Через несколько секунд его окружила орда грязных и сопливых карликов, с дьявольскими ухмылками размахивающих самыми разными газетами и выкрикивающих совершенно нелепые новости.
— Смотрите, вот портрет джентльмена, который собирается откусить нос Джеку-полуночнику!
— Миледи, возьмите его в мужья! Вам не придется особенно тратиться на его еду, лишь бы было достаточно виски!
— Кто этот пьянчуга? Да это же приятель Джека-полуночника! Он только что украл у лорда-канцлера двенадцать су и, купив на эти деньги марок, отложил их на старость!
Его стали дергать со всех сторон. Он почувствовал острую боль от коварных щипков; чья-то грязная лапа принялась выуживать шиллинги из его карманов.
— Берегись, полиция! Смываемся! — заорал кто-то из малолетних бандитов. — Сейчас бобби одолжит тебе свой шлем, если ты пообещаешь выдать ему Джека-полуночника вместе с порриджем[50]!
И банда жестоких воробьев разлетелась во все стороны.
Полисмен дружески взял Харлисона за руку.
— Все в порядке, сэр, постарайтесь взять себя в руки. Вас проводить?
Алкоголь жестоко кружил голову бедняге Роуланду. Поступок Нэнси превратил отважного искателя приключений в тряпку. Лондонская улица внезапно показалась ему более бурным морем, чем Бискайский залив.
— Где вы живете, сэр?
— Я… По-моему, я… — пробормотал заплетающимся языком Харлисон.
В этот момент к ним подошел какой-то мужчина, и полисмен внезапно вытянулся по стойке «смирно».
— Каннинг! — воскликнул Роуланд.
Мужчина заметно удивился, но на этом общение с внешним миром для Харлисона закончилось.
* * *
Он очнулся в такси, резко тронувшемся с места, хотя шофер даже не попытался узнать у него адрес. Мимо заскользили незнакомые улицы. Роуланд со стыдом стряхнул с себя отвратительную хватку алкоголя.
— К вашим услугам, сэр.
Такси остановилось, и Харлисон шагнул на тротуар, сознавая некоторое просветление в голове и чувствуя себя более устойчиво на ногах.
— Доброго вам вечера, сэр!
И такси энергично рвануло с места, хотя таксист почему-то не стал требовать платы за проезд. Роуланд ошеломленно помотал головой и принялся протирать глаза, словно только что очнулся после глубокого сна.
Он находился на Найтрайдер-стрит.
* * *
— Я же не назвал ему адрес! — пробормотал Харлисон, тупо глядя, как красные задние фонари такси скрылись за поворотом. — Похоже, что теперь моя жизнь будет состоять из сплошных загадок!
Он ощущал тупую боль в висках, но алкогольный хмель полностью рассеялся, и он твердой рукой толкнул входную дверь своего странного убежища.
После первых же шагов он уловил, что в вестибюле что-то изменилось непонятным, но, как ему показалось, тревожным образом.
У него возникло смутное ощущение опасности, свойственное тем, кто побывал в краях постоянной борьбы за выживание.
Войдя в гостиную, он замер на несколько секунд, положив руку на выключатель, но не решаясь включить свет, вслушиваясь в таинственные ночные шорохи.
Он сразу же уловил звуки торопливых легких шагов.
Потом услышал приглушенное восклицание, шорох шелкового платья или меха.
Его пальцы инстинктивно нажали на клавишу выключателя; вспыхнул свет.
Он застыл, не в состоянии произнести ни слова: столовая исчезла! Вместо нее перед ним находилось странное помещение, со стенами, обтянутыми ярко-красной тканью, с необычной мебелью — большим черным диваном, столиком из полированного черного дерева, и на столике…
Харлисон не смог удержать крик: на столике лежал небольшой открытый ящичек из черного дерева, и внутри него на обивке из темного шелка находился ослепительно яркий огненно-красный предмет…
Рубин, похищенный из сейфа «Джервис Бея»! «Сердце Бхавани»!
Роуланд зашатался, словно внезапно разбуженный человек, потом ущипнул изо всех сил себя за руку и вырвал с головы клок волос.
Обстановка в комнате не изменилась, зловещая мебель осталась на прежнем месте вместе с похищенным драгоценным камнем.
Внезапно давящую тишину таинственного здания нарушила пронзительная трель телефона на втором этаже.
Харлисон с трудом стряхнул охватившее его оцепенение, вышел из странно изменившейся гостиной и поднялся на второй этаж.
— Это «Луна-Театр»? — спросил мужской голос в телефонной трубке. — Я хотел бы заказать два места на сегодняшний вечер.
— Готов предоставить вам два электрических стула! — рявкнул Харлисон. — И отправить вас обоих к дьяволу!
Он сердито швырнул телефонную трубку на аппарат, разозленный такой неожиданно банальной интермедией.
Перепрыгивая сразу через несколько ступенек, он спустился в столовую, где на накрытом столе его ожидали кувшин с питьем и блюдо с холодным мясом.
— Это уж слишком! — воскликнул он и бросился, как безумный, по анфиладе комнат сначала на втором, потом на третьем этаже, проверяя каблуками и кулаками реальность стен и полов.
Он не смог обнаружить кроваво-красный салон, но, вернувшись в столовую, увидел пачку банкнот рядом с бутылкой портвейна.
Он машинально пересчитал бумажки. Пятьсот фунтов стерлингов.
Странно, но единственной его реакцией был горький смех.
«Голос в телефоне обещал мне мою обычную долю, к тому же, доставленную обычным способом, — подумал он. — И теперь мне остается только радоваться участию в деле „Джервиса“. И я все равно ничего не понимаю.
Допустим, что „Сердце Бхавани“ было украдено мной — ведь теперь мне не остается ничего другого, как заподозрить самого себя в участии в мошенничестве века.
Вероятно, так же думает и Каннинг, отправивший меня домой на такси. Но почему он отправил меня сюда, вместо того, чтобы запереть в каталажке?
Куда я попал? Странный мир, странные люди… А тут еще эта Нэнси Уорд… Нет, я окончательно перестал понимать что-либо».
Он прижал кулаки к горячим вискам; ему почудилось, что его раскачивают волны океана непонятных сил, марионетку без воли, ничего не понимающую, игрушку в руках неизвестных коварных кукловодов.
В веренице этих беспорядочных обрывочных мыслей внезапно вспыхнула одна мысль, заглушившая все остальные, словно произнесенная громким голосом:
— Какого черта, куда пропал красный салон?
Глава IV Дама под вуалью
Как вы думаете, много ли лгали о новом Скотленд Ярде, главной полицейской цитадели Англии?
Детективные истории обеспечили этой организации громкую славу, изображая ее подлинным воплощением добра и справедливости, всегда и везде побеждавшей зло.
Если когда-либо вам придет в голову отложить в сторону книги Конан Дойля, Уоллеса или Сакса Ромера, выбросив их из своих библиотек, обратитесь к Скотленд Ярду.
Это некрасивое мрачное здание, заметно пострадавшее от времени, как и все остальное, имеющее отношение к британскому правосудию.
Вы можете надеяться, что увидите выходящими из его дверей, пропахших канцелярским клеем, Шерлока Холмса с его острым профилем, или олицетворяющий справедливость силуэт Гарри Диксона; не исключено, что за вашей спиной мелькнет тревожная тень знаменитого историка, основателя Сингапура сэра Стэмфорда Раффлза.
Как бы не так! Из любого административного учреждения Франции, включая находящееся на набережной Орфевр[51], во время обеденного перерыва выходят менее ординарные личности, чем те, что Ярд посылает на набережную охотиться за сандвичами и чем-нибудь более съедобным.
Но это совсем другая история, рассчитанная на Киплинга, и не имеющая отношения к сегодняшнему Скотленд Ярду.
Сегодня на его высоких окнах опущены синие шторы, задерживающие горячие солнечные лучи и заволакивающие строгие кабинеты мрачноватыми тенями.
В кабинетах на третьем этаже, отданных бригаде, в чьем ведении находятся наиболее важные уголовные дела, сегодня господствует нечто, смахивающее на грозное обаяние.
Здесь преступления, а именно преступления «красные», то есть такие, когда была пролита кровь, описываются и классифицируются; на вещественные доказательства наклеиваются этикетки, а дела переплетаются в черный перкаль. Жуткие фотографии, на которых расплывчатые изображения с трудом различаются на светло-сером фоне, заполняют массивные папки, захватанные тысячами рук за многие годы.
Коридор с грязными стенами, покрашенными охрой, ведет к убогим чердачным помещениям, которые торжественно называют исследовательскими лабораториями. Экспонаты из музея дамы Тюссо, если бы он стал жертвой очистительного огня, можно было бы присоединить к ним и превратить в объект внимания новых посетителей.
Здесь нет ничего поддельного или фальшивого. Этот нож, покрытый ржавчиной, действительно пробил человеческую грудь; этот револьвер двадцать раз выплевывал смерть из своей тупой морды; этот орган, плавающий в желтоватом спирте, был отделен от невероятно изуродованного трупа; эта отрезанная рука отнюдь не сделана из папье-маше, а бледное видение в зеленоватом аквариуме — это не копия, сделанная из воска.
Эти зловещие предметы входили в число объектов, подлежащих осмотру суперинтенданта Каннинга, и на его лице прочно обосновалось выражение печали и подавленности.
— Мой дорогой, мой старинный друг, — пробормотал он дрожащим голосом.
Он протянул руку, словно собираясь приласкать кого-то; потом его рука задрожала, и он отдернул ее.
— Я старею, — негромко сказал он. — Я постарел лет на двадцать с тех пор, как… Боже, я не хочу умереть до того, как…
— Вы опять смотрите на него, Каннинг, — глухо произнес кто-то в глубине помещения.
Полицейский вздрогнул, словно его застали за ненадлежащим занятием.
— Да, — ответил он, не оборачиваясь. — Я не в состоянии противиться.
— Вы должны быть сильнее.
— Я для этого и пришел сюда. Я прошу силу у него.
— Я делаю то же самое.
— Да, конечно, я знаю.
— Ничего не поделаешь, Каннинг, большой начальник постепенно сходит с ума.
— Я понимаю, — пробормотал Каннинг.
— Каннинг!
В голосе говорившего почувствовалась неуверенность.
— Да?
— Ей удалось бежать!
Не поворачиваясь к темному углу, откуда с ним говорили, Каннинг устало махнул рукой.
— Как всегда! Кто она? Это известно только дьяволу. Она принимает тысячу форм. Это призрак, и я не надеюсь, что самые надежные камеры Ньюгейта смогут удержать ее. Наши люди загоняют ее в тупик, она выглядит, как загнанное животное, смирившееся с гибелью… И вдруг… Пффф!.. Дым, туман… И ее нет!
— Наш враг могущественен, Каннинг, но он уже лишился одного из своих преимуществ.
Каннинг согласно кивнул головой.
— Всего одного, но очень важного.
— Это случилось впервые с тех пор, как мы начали борьбу с ним.
Телефон негромко задребезжал на столе. Каннинг поспешно схватил трубку.
Он молча выслушал тихий далекий голос и содрогнулся.
— Морроу будет здесь через несколько минут.
— Это правда? У него был приказ не появляться до тех пор, пока у него не будет возобновлен контакт с ней…
Хлопнула дверь, и Каннинг остался один.
Он вернулся к предмету, которым только что интересовался, и заговорил умоляющим голосом:
— Ты видишь… Да, ты видишь, кое в чем мы преуспели. Там, где ты находишься, тебе это должно быть понятно… И там ты спокойно существуешь, но для нас покой наступит только тогда, когда будет достигнута наша великая цель.
Тяжелыми шагами Каннинг отошел от места, внушавшего ему ужас. Ему казалось, что в сумраке коридора раздалось приглушенное рыдание, но он шел, не оборачиваясь. Он ограничился тем, что задумчиво покачал головой в обычной для него манере, неторопливо шагая по коридору. За многие годы Каннинг был несколько раз ранен, и эти раны отразились на его походке.
Он остановился перед высокой дверью со звукоизоляционной обивкой, посмотрел какую-то запись в блокноте и осторожно постучался.
Ему открыл сам главный начальник Скотленд Ярда, сэр Дембридж. Странная внешность: мощная голова на тщедушном теле, словно изъеденном нервным и беспокойным существованием.
— А, Каннинг! Люди Морроу почти окружили ее, но…
Каннинг отреагировал с должным почтением, но при этом жестом попросил слова.
— Я знаю, сэр, но не стоит осуждать его… Он исправил свою ошибку, и он скоро прибудет сюда.
— Если он подаст признаки жизни, это будет означать, что он восстановил контакт с ней, — закончил шеф с прозвучавшими в его голосе нотками горечи. — Это давно известная игра — выиграть или умереть, не так ли?
Каннинг попытался буркнуть что-то, но шеф продолжил:
— Я коротко поговорил с Морроу по телефону. Мне показалось, что он нервничал, но при этом явно был чем-то обрадован. Всего несколько слов, Каннинг, потому что мы должны быть крайне осторожны, когда речь идет о Джеке — полуночнике. Кто он? Это вы, я, кто-то другой, кто скрывается здесь, в нашем окружении? Где именно? Может быть, в чернильнице? Господи, этот негодяй вынуждает меня произносить очевидные нелепости; а Морроу сообщил: «Она растеряна, потеряла голову… Похоже, что она полностью утратила контакт со своим убежищем. Она скрывается в верховьях Темзы, в районе Снейк-хауза…»
— Я подозревал это, — пробормотал Каннинг. — А речную полицию предупредили?
— Разумеется… Морроу умело прикрывает свои тылы… Не исключено, что Снейк-хауз — всего лишь очередной ящик с сюрпризом, и ничего сверх этого.
— Весьма справедливое мнение, — согласился Каннинг.
Стенные часы пробили тридцать минут. Сэр Дембридж с удивлением посмотрел на серебристый циферблат.
— Он сильно опаздывает!
Каннинг с унылым видом принялся нервно шагать взад и вперед по просторному кабинету.
— Не нравятся мне эти опоздания, сэр. — произнес он. — Очень не нравятся…
Послышался негромкий свист, словно от закипающего чайника.
Сэр Дембридж слегка побледнел.
— Трубка капитана Гровера! Боже, Каннинг, у меня всегда мурашки бегут по всему телу, когда я слышу советы этого призрака!
Каннинг мрачно посмотрел на шефа.
— Призрак… — медленно произнес он. — Может быть, это и призрак… Позволю себе напомнить вам, сэр, что это вы подписали соглашение с ним на определенных условиях.
— Конечно, конечно! — нервно воскликнул сэр Дембридж. — Я полностью полагаюсь на вас в этой необычной ситуации. И дело даже не в том, что мои нервы превращаются в желе, когда я общаюсь с ним исключительно с помощью этой трубки, которая никуда не ведет. Меня крайне угнетает то, что к материальным делам Скотленд Ярда оказывается примешана определенная доля фантастики!
— У нас могущественный и ужасный враг, в борьбе с котором нельзя пренебрегать даже… — пожал плечами суперинтендант.
Снова послышался свист. Каннинг наклонился к цветочной вазе, стоявшей на каминной доске, коротко свистнул в ответ и прислушался. Через несколько секунд он выпрямился. На лбу у него выступили капли холодного пота.
— Случилось что-то очень нехорошее, — пробормотал он.
— Что-то пошло не так, как надо, Каннинг? — недовольно поинтересовался шеф.
— Раз уж в дело вмешался Гровер, значит, дело крайне серьезное.
— Черт возьми! Только этого нам не хватало!
В дверь постучали, и голос дежурного секретаря сообщил из-за двери:
— Сержант Морроу!
— Как вовремя! — дружно воскликнули сэр Дембридж и Каннинг, вздохнув с облегчением, словно до этого грудь у них была сдавлена какой-то тяжестью.
Они замолчали, не отводя глаз от входной двери, почему-то остававшейся закрытой.
— Что за дурацкие шутки! — недовольно пробурчал Дембридж.
Каннинг, стряхнув с себя оцепенение, подошел к двери и распахнул ее.
Перед ним простирался совершенно пустой коридор, и только в его дальнем конце на скамье дремал дежурный сотрудник.
— Эй, — крикнул Каннинг. — Кто-нибудь сейчас подходил к кабинету начальника?
— Нет, никто не подходил, сэр, — ответил дежурный.
— А где сейчас секретарь шефа?
— Это я, сэр, меня зовут Перкинс.
— Это вы сейчас стучались в дверь кабинета начальника?
— Нет, сэр, я даже не подходил к ней.
Неожиданно взгляд суперинтенданта остановился на незамеченном им до этого предмете, лежавшем перед дверью. Его глаза расширились от ужаса.
На полу перед ним лежал небольшой черный чемоданчик.
— Что все это значит? — взорвался шеф. — Что, никто не подходил к дверям? Никто, и, тем не менее…
Каннинг повернулся к нему, и движения у суперинтенданта были такими механическими, что он напомнил шефу заводную игрушку.
— Кое-кто подходил к двери, — прошептал он, держа на вытянутых руках небольшой темный предмет. — Это Морроу… Он здесь…
— Что!?
Каннинг молча кивнул, и сэр Дембридж в ужасе отшатнулся.
В Скотленд Ярде хорошо знали эти небольшие черные чемоданчики! Чемоданчики, в которых Джек-полуночник присылал властям головы их сотрудников.
* * *
До сих пор Харлисон был всего лишь нелепой игрушкой судьбы и неизвестных сил. Это действовало ему на нервы, и ему страстно хотелось плюнуть на все и сбежать.
Но откуда он мог сбежать? Из невидимой тюрьмы, в которой он, судя по всему, оказался? В его сознании бегство должно было проявиться в виде бунта против лиц, дергавших за веревочки и управлявших им, словно безвольной марионеткой.
И вот, наконец, сегодня он приступил к решительным действиям.
Он не был уверен, что не кидается, очертя голову, в самую гущу преступных махинаций, но он предпочитал ввязаться в пусть и достаточно сомнительную историю вместо того, чтобы оставаться мягкотелым, безвольным созданием.
В течение последнего месяца телефон на Найтрайдер-стрит молчал.
Обслуживание дома происходило так же загадочно, как и вначале, прежде всего, во время отсутствия Роуланда дома.
Он напрасно старался появляться дома в самое разное время, но ему ни разу не удалось застать служанку на рабочем месте.
Однажды он не выходил весь день. Сначала он занялся уборкой и стер пыль с мебели; потом приготовил на кухне кое-что съестное и даже подремал на оставшейся смятой после ночи постели. Ему эта деятельность не понравилась, и он решил больше не заниматься хозяйством. Оказалось, что он поздно спохватился; с этого момента его посчитали его собственной домработницей. Впрочем, он не расстраивался, так как хлопоты по хозяйству позволяли ему незаметнее проводить время.
Он начал находить удовольствие в мелких заботах. Он познакомился с владельцем книжного магазина напротив и с дорожным полицейским на перекрестке.
Все это продолжалось до дня, когда…
Весь день гроза бродила в окрестностях Сити, громоздя массивы фиолетовых туч и то и дело вспыхивая молниями. Потом она приблизилась и набросилась на Лондон, словно хищник на жертву.
На Вестминстер внезапно посыпались молнии; отражение зданий опрокинулось в реку с такой убедительностью, что можно было подумать, будто здания оказались унесены водой.
Безумные картины, порожденные адской фантазией, зароились в небе, меняясь слишком часто, чтобы напугать уличную толпу, стремившуюся поскорее найти укрытие.
Роуланд, у которого не было никаких дел снаружи, уютно устроился в кресле и занялся прореживанием стройных рядов курительных трубок, пробуя их одну за другой.
Он открыл давно начатую книгу, но внезапно пропавшее электричество позволило сумраку захватить комнату.
— Авария на линии, не иначе, — проворчал инженер.
И он предался мыслям без цели и без воспоминаний.
Телефонный звонок заставил его подпрыгнуть.
Это оказалась сотрудница телефонной станции, которая яростно обрушилась на него:
— Вы сошли с ума! Разве можно звонить по телефону в такую погоду? Вы же устроите себе пожар! — И она замолчала.
— Мистер Смит?
— Да, мадам…
Женский голос показался инженеру знакомым.
— Уже полночь…
Харлисон в первый момент отшатнулся от телефона, но тут же с усилием укротил свое желание говорить.
— Очень хорошо.
— Скорее! Электричество отключено во всем секторе. Никакая техника не работает. Я не могу скрыться. Гровер постарается схватить меня. Нужно опередить его. Верхняя Темза, дом 90.
Тон был одновременно умоляющий и повелительный, и явно хорошо знакомый. Роуланд не стал терять время на лишние вопросы.
— Отлично! — бросил он и положил трубку.
Верхняя Темза находилась неподалеку. Достаточно было пересечь несколько параллельных улиц, и он проделал это бегом, настолько его подхлестывал ужас в голосе той, которую он пока называл для себя незнакомкой.
Грозовое небо успешно очистило улицы от пешеходов. Харлисону неожиданно почудилось, что он очутился в покинутом жителями Лондоне, оказавшемся во власти безымянного ужаса.
Его протрезвила сильная пощечина внезапного порыва ветра, горячего, словно он только что покинул доменную печь.
Он помчался еще быстрее. Сейчас он был обычным прохожим, спасающимся от бури.
На улице Королевы Виктории ему почудилось, что наряду с угрозой природных стихий вокруг него возник какой-то новый враждебный элемент. Обычно заполненная плотной толпой улица оказалась почти совершенно пустынной, и только отдельные торопливые силуэты время от времени мелькали на перекрестках. Казалось, что странные тени подчиняются каким-то общим приказам; то тут, то там возникали небольшие группы, позволяющие предполагать наличие стадного инстинкта.
— Проклятье! — злобно ухмыльнулся Роуланд. — Столько шпиков!
Ему было наплевать на все; он мчался на выручку Нэнси Уорд, преступницы, вырвавшейся из когтей городской полиции.
Он удачно уклонился от столкновения с группой хулиганов, притворившихся, что они не заметили его. Впереди разверзся вход в подземку… Он успел заметить остановившиеся на нем косые взгляды укрывшихся там людей.
Полиция!
Он бежал, подталкиваемый в спину мощными порывами ветра, обрушивающегося с крыш. Его охватила глухая ярость: он сознательно оказался на стороне преступления!
— Ах, Нэнси, Нэнси! Хоть ты и воровка, но я люблю тебя!
Этот крик, казалось, вырывался из самой глубины его сердца.
Прямо перед ним возникла улочка — небольшая щель между стенами домов, но она должна была привести его прямо к Верхней Темзе.
Переулок был залит тенью; Харлисон устремился в него. Чья-то рука вцепилась в его пальто в тот момент, когда полыхнула молния и грянул чудовищный грохот.
Яростным движением инженер высвободился; он услышал крик боли, и, едва пробиваясь сквозь треск разрядов, до него долетели слова:
— Уже полночь! Пора начинать… Что, будем стрелять?
Харлисон чувствовал, что переживает роковые минуты своей жизни. Он не представлял, что ему сказать, но неожиданно услышал свой голос:
— Конечно, стреляйте! Но, черт возьми, пропустите меня!
И он помчался дальше, услышав позади громкие отрывистые звуки выстрелов, но гром гремел с такой силой, что эти звуки показались ему жалкими и бессмысленными.
Позади раздался крик смертельно раненого человека. Потом второй, третий… Роуланд бросился к дверям дома номер 90.
Сильнейшим ударом ноги он вышиб дверь, и она, распахнувшись, ударилась в стену с металлическим звоном гонга.
В вестибюле, предметы в котором он с трудом различал, он заметил прижавшийся к стене силуэт, закутанный в плотную вуаль.
— Смит… Харлисон.
Сердце Роуланда остановилась.
— Это вы! — прошептал он.
— Спасите меня! — глухо поговорила женщина в вуали.
— Я для этого и пришел.
Он увидел, как женщина зашаталась, и тогда он схватил ее, словно какой-то обычный груз, поднял и прижал к груди. Она вскрикнула от боли.
— Я вывихнула ногу, — сказала она.
Харлисон замер в растерянности. Все мысли разом как будто покинули его голову.
— Нам нужно действовать быстро, — сказала женщина прерывающимся голосом. — Мы должны добраться до воды, перейдя набережную. Одна я не смогу сделать это. Они еще там?
— Полиция? Да, они везде.
— Нет, наши люди! — отчаянно закричала она, словно потеряв голову от ужаса.
— Да! Они там!
— Значит, он меня услышал! — радостно воскликнула она. — Идем! Помогите мне выбраться отсюда! — потребовала она.
Они оказались снаружи под настоящим водопадом; струи дождя вертикально обрушивались с неба.
Молодая женщина радостно воскликнула:
— Машина! Она дождалась меня! Я знала это! Я знала!
— Это он! — буркнул Харлисон, и свирепое чувство ревности сжало ему сердце.
Мощный автомобиль прорвался к ним через завесу жидкого тумана, заполнившего улицу.
— Скорее!
Не совсем соображая, что с ним происходит, инженер почувствовал, как у него из рук вырвали его ношу и втолкнули ее в машину, сразу же рванувшуюся с места на полной скорости.
Он остался один под дождем, растерянный, ничего не понимающий. Внезапно его окружила толпа свирепых и что-то кричащих людей.
— По крайней мере, этого мы все-таки схватили!
Он не успел поднять руку, чтобы защититься. Жесткий холодный металл обхватил ему оба запястья.
Через пять минут его, избитого кулаками и дубинками, закованного в наручники и истекающего кровью, затолкали в какое-то темное помещение. Потом резкий удар швырнул его на грязный пол; это была камера полицейского участка Верхняя Темза.
* * *
Дежурный полицейский не успел ничего спросить у разгоряченных и бешено жестикулирующих полицейских, когда яростно затрезвонил телефон.
— Это Скотленд Ярд! Что у вас?
— У нас убито пять человек, сэр. А они… Эти черти смылись без единой царапинки!
— Женщина у вас?
— Какая женщина, сэр?
— Тройной идиот! Женщина из Снейк-хауза!
— Это не женщина, сэр, это мужчина!
— К черту! Вы последний болван!
Разговор на этом резко оборвался.
* * *
Гроза продолжалась всю ночь. Харлисон, избитый и замерзший, едва различал фиолетовые лампочки, горевшие за металлической решеткой его камеры.
Он услышал слабый скрип. Дверь в камеру отворилась и кто-то подошел к нему, совершенно неразличимый в полной темноте. Наклонившись над Харлисоном, он осторожно нащупал наручники на его запястьях и легко снял их.
— Идемте!
Ему напялили на голову шляпу так энергично, что закрыли ему глаза, и ему приходилось передвигаться вслепую.
Их шаги гулко прозвучали в пустом коридоре; кто-то подталкивал его, придерживая за плечи. Споткнувшись, он упал лицом вперед, почувствовав под собой мягкие подушки автомобиля.
— Что вам нужно? — спросил он неизвестно у кого.
Вместо ответа он почувствовал, как его руки снова обхватили стальные наручники.
Машина рванулась с места. Харлисон чувствовал толчки на рытвинах, торможение на поворотах. Наконец, машина остановилась.
— Выходите!
Что-то быстро скользнуло, словно змейка, по его рукам, и он почувствовал, что наручники исчезли.
Первым делом он сорвал с голов шляпу, закрывавшую ему глаза.
Он стоял в полном одиночестве перед перроном своего дома на Найтрайдер-стрит. Резко обернувшись, он увидел быстро удаляющуюся машину, доставившую его к дому. Неожиданно яркая вспышка залила все вокруг него.
Харлисон успел увидеть прижавшееся к заднему стеклу автомобиля неподвижное лицо китайца Ванга, пристально смотревшего на него.
Глава V Долина царей
Едва лорд Карнарвон нашел усыпальницу Тутанхамона, как индустрия развлечений немедленно ухватилась за эту новинку тысячелетней давности. Появились фокстрот, духи, галстуки и шляпы в стиле Тутанхамон, а заодно и бары с этим же названием.
Мода преходяща, и фокстроты вскоре получили другие названия, не более и не менее дурацкие, духи в очередной раз стали называться «Вечер в Сингапуре» или «Розы любви».
Но заведение «Долина царей» в Лондоне сохранилось — это был шикарный дансинг, расположившийся в глубине одного из дворов Ковент Гардена, сияющий тысячей электрических лампочек, окруженный зеленой стеной лавролистной калины, бересклета и разных экзотических растений. Ходили слухи, что принцы королевской крови не стеснялись проникнуть за зеленую стену и отдать свой вечерний плащ портье из Африки или из Бирмы.
Танцевальный салон, хотя и уменьшенный до предела — танцующим приходилось тесниться на площадке в двадцать квадратных ярдов[52], — выглядел весьма необычно.
Потолок салона вздымался на невероятную высоту, образуя сказочный свод, по периметру которого плясали языки багрового пламени.
Сам салон представлял собой площадку из розового мрамора, обрамленную странными, вызывающими беспокойство статуями. Она спускалась широкими ступенями к панораме золотых песков с редкими пальмами; вдали пески ограничивались полоской воды с папирусами и камышами — это был Нил.
Пейзаж создавался игрой зеркал и выглядел весьма захватывающе в центре Лондона, насыщенного желтым туманом и копотью.
— Моя дорогая Бетти, ваша «Долина царей» мне понравилась. Особенно мне хотелось бы отметить постоянное стремление к точности. Эти надписи, несомненно, заслуживают изучения; мне показалось, что мраморная пластина с иероглифами, похоже, подлинная.
Все в целом выглядит более чем сносно. Я поздравляю вас.
Лорд Элмсфильд одобрительно кивнул головой и улыбнулся своей красивой племяннице, после чего обратил все свое внимание на шербет с дынями.
Бетти ничего не ответила дядюшке. Ее взгляд рассеянно скользил по лицам посетителей, сидевших за столиками из розового и зеленого мрамора.
Между столиками скользил бармен в белом смокинге, то и дело наклоняясь к столикам и наполняя из шейкера бокалы, подернутые изморосью.
— Это царский коктейль; знаменитый здешний бармен, Джим Хастон, никому не позволяет прикасаться к нему, — негромко сказал кто-то за соседним столиком.
Когда бармен оказался поблизости от столика лорда, Бетти жестом подозвала его. Подойдя, он почтительно поклонился.
— Вы сказали, Джим, что этот джентльмен бывает здесь почти каждый вечер?
— Именно так, миледи.
Синие глаза Бетти вспыхнули.
— Тогда пусть все будет так, как я сказала.
Хастон молча поклонился.
Опаловые лучи осветили центральную часть террасы, и невидимый оркестр негромко заиграл экзотическую мелодию.
На танцевальной площадке появились первые пары; помещение заполнилось ароматом восточных благовоний.
Бетти что-то шепнула дядюшке на ухо. На мраморном лице пожилого мужчины появилось удивленное выражение.
— О, Бетти! Стоит ли…
— Я все обдумала, я знаю, что мне нужно, и я хочу этого, — ответила девушка.
Наблюдателю со стороны могло показаться, что изящный профиль девушки на протяжении нескольких мгновений принадлежал таинственному сфинксу, явившемуся из мрака тысячелетий.
— Вы можете совершенно свободно распоряжаться своим поведением — и своей судьбой, Бетти, — спокойно произнес лорд и вернулся к своему шербету, словно ледяной ликер был для него гораздо важнее прихотей племянницы.
В этот момент появившийся в зале незнакомец пересек танцевальную площадку и расположился за небольшим столиком поблизости. Бетти, казалось, не заметила его; притворно неловким движением руки она сбросила на пол бокал.
Джим Хастон поспешил заменить его.
— Очень хорошо, миледи, — прошептал он, хотя никто ни о чем его не спрашивал.
— Мсье?
Роуланд Харлисон поднял взгляд и увидел, что бармен пристально смотрит на него.
— А, это вы, Джимми! Принесите мне, пожалуйста…
Хастон почтительно улыбнулся.
— Одна дама здесь просит вас научить ее новому танцу царей, который только что представил публике наш маэстро.
Харлисон встал.
— Скажите даме, Хастон, что я к ее услугам.
Зал погрузился в розовый сумрак. Только танцевальная площадка была залита ослепительным светом.
— Танец царей! — возвестил чей-то голос.
Кабильские флейты начали мелодию на высокой ноте.
Великолепная белоснежная рука, казавшаяся полупрозрачной, опустилась на плечо Роуланда.
Взгляд юноши скользнул по обнаженной руке вверх, к плечу, перечеркнутому полоской белого шелка, потом поднялся еще выше, к светлому лицу, на котором сияли самые прекрасные в мире глаза.
— Харлисон, я ждала тебя, — сказала Бетти Элмсфильд, увлекая молодого человека к центру танцевальной площадки и подчиняя его движения странной томной мелодии.
— Я была несправедлива… Я вела себя мерзко, отвратительно… Я хочу, чтобы ты простил меня… Я надеюсь на это!
Роуланд больше, чем когда-либо, почувствовал себя ребенком, свалившимся с Луны.
— Я не могла забыть тебя после нашего путешествия на «Джервисе»!
Она задыхалась. Ее речь звучала прерывисто, невыразительно; ее глаза сверкали невыносимо ярко. Она обращалась к нему так непринужденно, словно они были давно и близко знакомы, хотя подобной близости между ними никогда не существовало.
— Мисс Элмсфильд, все, что вы говорите, настолько неожиданно… — неловко пробормотал Харлисон.
Он замолчал и прикусил губу; ногти девушки вонзились, подобно небольшим лезвиям, в его руку.
— Ничего не говори, Роуланд… Слышишь? Ты, как всегда, говоришь глупости…
Короткое рыдание вырвалось из ее горла, словно произносимые слова были для нее пыткой.
— Независимо от того, что я издевалась над тобой, я всегда любила тебя… Ты слышишь, я любила тебя!
Харлисон подчинялся ритму, навязываемому флейтами, двигаясь под влиянием синкоп, что окончательно делало смешным его поведение.
«Все-таки, — подумал он, — Англия — это страна сюрпризов, загадок и безумия».
— И я хочу…
Один из прожекторов повернулся, свет быстро поменялся, став белым, и, как показалось Роуланду, проник в его мозг.
— Я хочу, чтобы ты женился на мне, Харлисон!
Замечательно! Да, ему довелось потанцевать с ней три раза во время перехода через Индийский океан. После этого она оскорбила его, облила безграничным презрением.
А теперь она заявляет:
— Я хочу, чтобы ты женился на мне, Харлисон!
«Долина царей», площадка для танцев из розового мрамора, сумасшедшие танцы, горячечные ритмы, бархатные и одновременно огненные ликеры… На его предплечье сейчас наверняка видны красные полосы, оставленные ее ногтями…
— Подождите, — сказал Харлисон, и он не представлял, говорил ли он громко, или твердил про себя то, что хотел сказать. — Мне не впервые приходится переживать то, что может показаться бессвязным сном. Я плохо представляю, что я ответил бы вам, даже находясь во сне.
— Я должна уехать, Харлисон.
Голос Бетти прозвучал пылкой мольбой.
— И я хочу уехать с тобой!
— И куда же, мисс?
«Господи, до чего же он глуп…»
— Все равно, куда… Прочь отсюда… Уведи меня скорее отсюда, дуралей!
Харлисон машинально следовал за торопливым ритмом арф, ксилофонов, крикливых тамтамов. Обнаженные руки партнерши казались ему холодными, словно покрытые инеем бокалы на столах, а ее ладони, казалось, раскалились от внутреннего жара.
Внезапно чья-то рука резко схватила его за локоть и заставила остановиться. Через мгновение он уже сидел на стуле перед джентльменом с лицом аскета и холодным взглядом.
— Мой дядюшка, лорд Элмсфильд, — прошептала Бетти.
Казалось, что она измотана до предела. Харлисону бросились в глаза темные круги у нее вокруг глаз, которые выглядели озерами, полными печали.
— Вы действительно инженер Харлисон, приплывший в Англию на пароходе «Джервис Бей»? — спросил лорд так громко, что люди за соседними столиками замолчали и оглянулись.
Не дожидаясь ответа, он продолжал:
— Желание моей племянницы — это закон, мсье. Все знают, что я никогда не стану противиться ее намерениям. Надеюсь, что вы тоже знаете это.
Роуланд уловил, что из-под оболочки внешне вполне вежливых слов проглядывает нечто оскорбительное. Но одновременно он почувствовал, что рука Бетти сильно сжала его запястье, и опустил взгляд.
— С завтрашнего дня вы, мсье, можете посещать особняк Элмсфильдов в качестве жениха моей племянницы Элизабет Элмсфильд, моей единственной наследницы.
Бармен поставил на столик бокал со свежим шербетом, и пожилой джентльмен принялся увлеченно отхлебывать питье с кусочками льда.
От притихшего окружения до Харлисона долетела произнесенная шепотом фраза: «Жених Бетти Элмсфильд».
Таким образом, Харлисон, не сказав ни единого слова, стал женихом самой богатой невесты Англии, с которой он совсем недавно расстался, как с врагом.
— Из любви к вашей усопшей матери, Роуланд!
Это было сказано тихо, так тихо, что Роуланд мог подумать, что эти слова произнес его внутренний голос, но, когда он посмотрел на Бетти, он понял по ее глазам, что это сказала она.
Он встал. На определяющие его жизнь события ушло всего несколько минут.
— Милорд…
— Ладно, ладно, поговорим завтра, — сказал лорд, кивнув головой. — Сказано то, что было сказано, решено то, что было решено, сделано то, что было сделано.
И он проглотил небольшой кусочек розовой дыни.
Оказавшись снаружи, Харлисон остановился. Может быть, это Джим Хастон помог ему выйти? Он помотал головой и устремился в туман, словно безумный.
Его остановили две сильных неожиданных пощечины.
Неясная фигура, очевидно, автора пощечин, возникла перед ним, но тут же отступила и пропала в непрозрачном тумане.
Рассвирепевший Харлисон метнулся направо, потом налево, в безуспешной попытке догнать призрак.
— Эй, ты не собираешься объяснить мне, в чем дело? — закричал он, ухватив мелькнувшую перед ним полу пальто.
— Что вам нужно объяснить? — спросил чей-то нетрезвый голос. — Где можно купить самый дешевый виски? Я бы тоже хотел знать это!
Из тумана вынырнула красная смеющаяся рожа, и Харлисон с гневом и отвращением оттолкнул незнакомца.
В тумане, в нескольких шагах от него, раздались отчаянные рыдания. Рыдала женщина.
«Только этого не хватало!»
Как можно скорей!
Колесо судьбы продолжало вращаться, набирая скорость… Бетти Элмсфильд… Забытая, вновь встреченная, в одно мгновение ставшая его невестой и опять оставленная им…
Как можно скорей! Жизнь мчалась без остановок!
Это странное нападение… Этот жалобный плач в ночи…
Душераздирающий плач продолжался.
— О, мой Роу!
Он кинулся влево, но плач послышался справа.
Он раздавался все громче и громче. Окутавший его желтый туман превратился в сплошное рыдание.
Плакала женщина…
Но Харлисон, как ни пытался, так и не смог найти ее.
* * *
Он спешил… Ему казалось, что сейчас каждую минуту может произойти нечто невероятно важное… Его нервы обжигали, словно провода под слишком высоким напряжением…
Вернувшись на Найтрайдер-стрит, он рухнул в кресло с болью в сердце, растерянный, ничего не понимающий, но подозревающий, что оказался игрушкой в руках загадочных сил.
Откинувшись в кресле, он увидел муху.
Глава VI Крест и муха
На Скотленд Ярд опустилась ночь, но мрачный улей продолжал трудиться.
Пример своим подчиненным подавал сам сэр Дембридж; он не покидал кабинет, несмотря на давно прошедшую полночь.
Перед ним стоял Каннинг, царапавший карандашом белую карточку. Время уходило. Кабинет, казалось, был заполнен усталостью. Неожиданно лорд Дембридж взорвался: — Хватит! Я решил! Не хочу больше ждать!
Каннинг опустил карандаш, но не сказал ни слова.
— Я слишком долго терпел, Каннинг. Я уступал вашим желаниям — точнее сказать, вашим фантазиям. И вот ваши действия лишили меня нескольких прекрасных сотрудников.
Каннинг попытался возразить, но шеф не позволил ему заговорить.
— У вас давно было достаточно информации, чтобы начать операцию. Сегодня я приказываю вам перейти к самым энергичным действиям.
— Вы позволите мне сначала проконсультироваться…
— Разумеется, с Гровером? Так вот, приятель, я в последний раз повторяю вам, что доверяю только детективам из плоти и крови, а не призрачным сыщикам.
— И все же, милорд…
— Я обещал вам, Каннинг. Я обещал, что не буду расспрашивать вас о Гровере. И я не собираюсь возвращаться к этому вопросу. Я ошибся, когда поверил вашим волшебным сказкам, но пусть первым бросит в меня камень тот, кто никогда не верил в удивительное.
Сегодня я больше не хочу верить. Гровер мертв; он был прекрасным работником. Англия оплакивала в его лице своего лучшего детектива, но я больше не могу рассчитывать на его советы, даже, если они действительно приходят к нам из иного мира.
У вас есть свой секрет. Я уважаю ваше право иметь секреты, и сожалею, что заговорил об этом. Но сейчас я должен немедленно перейти к действиям. Немедленно, слышите?
— Хорошо, милорд, — ответил Каннинг решительным тоном. — Мне остается только подчиниться вашему приказу. Наша операция закончилась неудачей; будем двигаться дальше. Очередной план будет не первым из числа тех, что нам дорого обойдутся и потребуют многих жертв до того, как мы получим требующиеся нам результаты.
Но я уверяю вас, что только завершив то, что было начато мной… и Гровером…
— Гровер мертв!
— Это так, сэр, но я все же повторяю: мной и Гровером. Эта операция позволила бы нам схватить самого Джека-полуночника, тогда как, если мы будем торопить события, то у нас останется всего лишь возможность захватить кого-нибудь из его второстепенных сообщников — этот результат будет равен почти нулю.
— Неважно; даже в этом случае у меня будет несколько кандидатов на виселицу.
— Это так. Вы их получите. На несколько дней публика будет удовлетворена, и пресса станет петь вам дифирамбы. Джек-полуночник тоже сможет повеселиться, после чего спокойно продолжит свое любимое занятие.
Лорд Дембридж, судя по всему, не слушал Каннинга, и тому оставалось только замолчать.
Каннинг поклонился:
— Будет так, как решила ваша милость.
Слова покорности смягчили гнев начальника.
— Ладно, Каннинг, даже если вы всего лишь на некоторое время успокоите публику, это уже будет хорошим результатом. Не забывайте, что мы нуждаемся в доверии со стороны общественности, иначе ближайшие выборы станут катастрофой для некоторых наших друзей.
Каннинг постарался скрыть горькую улыбку.
— Хорошо, мы бросим кое-что на съедение публике, пусть будет так. А потом, кто знает, может быть…
— Кто знает, может быть, — повторил лорд Дембридж с улыбкой, — мы все же сможем схватить чудовище. Прошлой осенью, когда я месил болото в надежде наткнуться хотя бы на какую-нибудь жалкую шилохвостую утку, у меня из-под ног взлетела канадская казарка, и я подстрелил ее!
По комнате как будто пронеслась струя пара.
— Опять! Чтоб это было в последний раз, — проворчал шеф с потемневшим лицом.
Каннинг схватил предмет, похожий на необычную вазу для цветов.
— Ну и что? — нетерпеливо бросил лорд, удивленный молчанием суперинтенданта. — Что с вами, Каннинг?
— Мне кажется, что это действительно будет в последний раз, как вы только что потребовали!
Полицейский швырнул необычную вазу для цветов, выполнявшую роль динамика, на стол, и, не говоря ни слова, кинулся к дверям.
Каннинг лишился своей обычной флегматичности! Каннинг передвигался бегом!
Лорд Дембридж часто говорил, что его знаменитый детектив способен делать записи на манжетах на горящем пороховом складе.
Сейчас он перестал заботиться о соблюдении правил этикета, и если служащие Ярда не смогли увидеть шефа, бегущим за Каннингом, то только потому, что суперинтендант выбрал весьма необычный маршрут, плохо знакомый сотрудникам и совершенно неизвестный шефу.
В стенах Скотленд Ярда скрывался настоящий лабиринт запутанных коридоров, спиральных лестниц, пустых кабинетов, кладовок для всякого барахла и настоящих крысиных нор.
Шеф сто раз заблудился бы в этом лабиринте, но Каннинг передвигался по нему с уверенностью трамвая, идущего по рельсам.
Наконец, Каннинг распахнул дверцы какого-то шкафа и полицейские проникли в комнату с низким потолком, с которого свисала небольшая люстра с хрустальными подвесками.
На полу лежала разбитая ваза для цветов, ничем не отличавшаяся от той, что осталась в кабинете лорда Дембриджа.
— Хлороформ! — сказал со сдержанной яростью Каннинг.
— Кого-то насильно увели из этой комнаты, усыпив хлороформом, — предположил лорд Дембридж. — Здесь произошла схватка, но очень короткая, иначе вместо черепков осталась бы крошка… Естественная самооборона… Но кто находился здесь, и где мы очутились?
У суперинтенданта опустились плечи, его лицо с каждым мгновением становилось все более и более старым. Он сгорбился, и его мощное тело дряхлело на глазах. Он что-то пробормотал плаксивым голосом, и Дембридж почувствовал, как у него внезапно сжалось сердце перед столь мгновенным распадом этой энергичной личности.
— Где мы, Каннинг? — повторил он.
— Мы в личном кабинете капитана Гровера. Это его укрепленное убежище против таинственных бандитов, наводнивших Лондон. Но они все-таки добрались до него.
— Каннинг! Гровер был убит Джеком-полуночником некоторое время назад! Тогда вы пришли ко мне с совершенно удивительной просьбой… Вы сказали: «Гровер убит, но я прошу вас считать его по-прежнему живым. Оставьте ему удостоверение детектива и сохраните его права. Распорядитесь, чтобы подчиненные продолжали выполнять его приказы».
— Я понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Вы должны принять, что его призрак, находившийся в этом кабинете, продолжал работать на нас.
Для шефа это было чересчур. Он грохнул кулаком по столу.
— Хватит тайн и загадок! Говорите понятней!
Каннинг уселся в кресло и холодно глянул на начальника.
— Я могу немедленно передать вам прошение об отставке, сэр. Вы также вправе отправить меня в тюрьму за отказ выполнять ваш приказ, отданный в интересах правосудия. Но хороший адвокат быстро освободит меня. Я позволю себе предупредить вас об этом. Пока же, с учетом всех обстоятельств, я буду молчать в интересах этого же правосудия.
Лорд Дембридж до крови прикусил губу.
— Полагаю, что мне стоит остановиться на второй возможности, — буркнул он.
— Замечательно, сэр. Вы посадите меня под замок на трое суток. После этого я выберу…
Они замолчали, забыв закрыть рот. Взгляд Каннинга застыл на стене напротив.
Послышались шаги; судя по всему, они раздавались из-за стены.
Дембридж увидел, что Каннинг целится из своего револьвера в висящую на стене гравюру, созданную способом процарапывания рисунка на металлической пластинке.
Стена затряслась. Открылась хорошо замаскированная дверь.
Каннинг навел револьвер… Внезапно его лицо посерело.
— Что происходит? — пробормотал лорд.
Суперинтендант тяжело дышал, словно ныряльщик, оказавшийся на поверхности после погружения на большую глубину.
— На этот раз я подчинюсь вам, милорд, — произнес он бесцветным голосом.
* * *
Будет не совсем правильно сказать, что Харлисон обнаружил странное существо, сыгравшее решающую роль в его судьбе, в момент своего печального возвращения на Найтрайдер-стрит.
Он рухнул в кресло, чувствуя невероятную вялость, и почти сразу же заснул. Потом он проснулся, и его взгляд, по-видимому, совершенно случайно упал на муху. Но он опять заснул тем же болезненным сном с горячечными видениями, столь часто посещавшими его после возвращения в Европу.
Он проснулся в очередной раз, когда за окнами ночь сменилась предрассветной серостью; вероятно, именно эти первые признаки начинающегося рассвета заставили его обратить внимание на висевшую на стене напротив картину.
Прекрасная репродукция полотна Гильдебрандта «Воин и его сын», напоминающая по манере Ван Дейка. Картина в глубоких тонах была широко известна в Германии в прошлом веке.
Взгляд Харлисона нередко задерживался на суровом лице воина, смягчившемся благодаря присутствию рядом с ним улыбающегося толстощекого ребенка.
В композиции присутствовало немного предметов: рукоятка меча на фоне спинки дубового кресла, большой глиняный кувшин, книга, шлем…
«Шлем!»
Слова, исторгаемые трубой воздухозаборника, вспыхнули в памяти австралийского инженера.
«Муха слетела со шлема. Она села на крест».
«Крест!»
Харлисон полностью проснулся, и его взгляд жадно скользил по картине. Да, на ней был изображен и крест — это было перекрестие в окне с витражом.
И на кресте… Да, на кресте сидела муха, обычная комнатная муха, готовая к полету после ночного отдыха.
Ему понадобилось несколько секунд, чтобы подойти к картине.
Картина была воспроизведена на доске из твердой древесины, слегка вибрирующей при нажиме, словно кнопка электрического звонка из слоновой кости.
Харлисон попытался улыбнуться, но вместо улыбки его лицо исказила гримаса.
Он плохо разбирался в детективной литературе. Хотя вполне достаточно для того, чтобы узнать те более или менее гротескные предметы, которые передают тайные сигналы действующим лицам или играют роль загадочных сезамов.
С сильно бьющимся сердцем он сильно нажал на муху; насекомое выскользнуло из-под его пальца и исчезло.
«Неужели она живая?» — подумал он, но тут же догадался, что это было невероятно искусное механическое изделие.
Его ожидало разочарование — ничего не изменилось.
В романах часть стены тут же начинает медленно поворачиваться, открывая темный проход, ведущий в мрачные подземелья.
Какое-то время Харлисон ожидал, что перед ним появится загадочная красная комната, но столовая осталась такой же, какой была всегда в своей буржуазной примитивности.
Достаточно подозрительная картина по-прежнему висела на стене, не собираясь сдвигаться и упорно сопротивлялась попытке снять ее.
Если же муха не включала никакое устройство, она могла отдавать какую-нибудь электрическую или механическую команду. Но почему тогда она исчезла?
Роуланд машинально потрогал нарисованный крест и внезапно почувствовал под рукой какую-то шероховатость. Оказалось, муха перебралась на крест!
В это же время комната осветилась необычным светом. Харлисон обернулся; несмотря на темноту снаружи, одно из окон светилось желтым светом. Окно в неизвестно откуда появившуюся вплотную к его окну комнату.
Через несколько секунд свет погас.
У Харлисона пробудился инстинкт инженера.
Он снова нажал на металлическое насекомое, внимательно наблюдая за ним. Муха быстро скользнула в сторону, но ему все же удалось заметить, что она спряталась в небольшую щель.
Очевидно, только небольшая часть картины была подвижной, и она поворачивалась так быстро и незаметно, что самый внимательный взгляд не мог уловить перемещения.
Он посчитал время реакции: через двенадцать секунд свет за окном появился снова.
«Значит, часовой механизм, — подумал инженер. — Очевидно, это сигнал… Возможно, что-то вроде светофора, указывающего, что путь свободен».
Путь свободен! Как привлекательно это звучит!
Через пять минут он вскарабкался на промежуточную стену и спрыгнул с нее в неуютный дворик, заросший сорняками, открыл дверь, запертую на простую задвижку и очутился в пустом здании.
«Что стал бы делать здесь полицейский Эдгара Уоллеса?»
Он подумал об этом, блуждая по грязным комнатам с толстым слоем пыли на полу.
«Он, разумеется, стал бы искать следы и отпечатки пальцев».
Ничего похожего здесь не было, если не считать его собственных следов, отпечатавшихся в толстом слое пыли.
В комнате, в которой загорелся свет с интервалом в двенадцать секунд, когда он нажал на муху, с потолка свисала пыльная лампочка. Харлисон попробовал нажать на выключатель сбоку от двери; свет не загорелся. Он потрогал лампочку — она все еще была теплой.
Этот выключатель не связан с лампочкой; попытавшись включить с его помощью свет можно подумать, что лампочка перегорела, или что провода не в порядке.
«Слишком много сложностей непонятно для чего. Тщательная проверка сети неизбежно привела бы меня к правильному выводу. Детектив Уоллеса стал бы действовать примерно так же, но у него на выяснение истины ушло бы несколько часов».
Поскольку ступени, ведущие наверх, тоже были покрыты нетронутой пылью, Харлисон решил продолжить разведку в подвале. Там он оказался в гуще событий, связанных с сюжетами черных романов, с тайными проходами и коварными ловушками.
Интересно, неужели его опасное лондонское приключение не могло обойтись без устройств, более достойных королевского театра Друри-Лейн, чем реально существующих лондонских районов Уайтчепел и Лаймхаус?
Конечно, эти выдумки были бы необязательны, если бы Лондон не обладал подземной системой канализационных труб, заброшенных туннелей, забытых коридоров, сохранившихся с того времени, когда Иниго Джонс[53] создал Уайтхолл.
Великий город видел разрушение дворца Генриха VIII и Елизаветы, но никто и никогда не пытался избавить его от невероятно протяженных подземных туннелей. Совсем недавно один из горожан сообщил, что он мог пройти от своего особняка в Холбоме до дома друзей в Кингсвей не боясь тумана и дождя. Просторный туннель длиной восемьсот ярдов, проходящий под Линкольнс Инн, соединял подвалы двух зданий.
Скотленд Ярд обладает весьма подробным планом этих мрачных лабиринтов, и этот план широко используется силами правопорядка, но существуют и другие, более сложные лабиринты, неизвестные Ярду, но доступные для воровского мира.
Харлисон вскоре оказался перед металлической дверью, перемещающейся по вертикали, подобно ножу гильотины. Дальше продолжался коридор, освещенный жалкой лампочкой, вероятно, включенной после того, как он нажал на муху.
«Свободный путь!» — повторил он. Не теряя времени на бессмысленные рассуждения и полагая, что освещение вскоре может отключиться, а туннель может оказаться перекрытым, Харлисон устремился вперед. Ему крупно повезло: лампочка оставалась шагах в десяти впереди, когда дверь за его спиной обрушилась вниз с лязгом металлических челюстей.
«Кости брошены», — подумал он.
Если не считать нескольких поворотов, туннель оказался прямым и совершенно сухим; судя по всему, он хорошо вентилировался и, очевидно, старательно содержался в порядке. Воздух в нем почти не отличался от воздуха в неглубоком погребе для хранения продуктов, разве что в туннеле улавливался слабый запах грибов.
Харлисон двигался осторожно, и даже думал, не закурить ли ему сигарету, чтобы чувствовать себя более уютно, когда услышал крик. Был ли это действительно крик?
Голос, знакомый ему (он не представлял, где и когда мог слышать его), казался неуверенным; так мог крикнуть человек, увидевший страшный сон и проснувшийся в испуге.
Откуда он доносился? Туннель продолжался, совершенно пустой, освещенный очередной лампочкой, появившейся после поворота. Тем не менее, голос, казалось, звучал вокруг него; он сопровождался звуками торопливых шагов. Роуланду, похоже, достаточно было вытянуть руку вперед, чтобы коснуться спины того, кто шел впереди него.
«Очевидно, чисто акустические явления», — подумал инженер Харлисон.
В этот момент его сердце забилось сильнее, когда голос, затухая, простонал:
— Роу! Ах, мой Роу!
Это был голос, прозвучавший ночью, в тумане, когда он вышел из ресторана «Долина царей». Голос, полный болезненной нежности.
Роуланд бросился дальше бегом.
Коридор закончился тупиком, но в свете далекой лампочки поблескивала фаянсовая ручка.
И он нажал на эту ручку.
* * *
— Мне кажется… Это Харлисон… — пробормотал лорд Дембридж, вытаращивший глаза на внезапно появившегося перед ним человека.
Ослепленный светом люстры, пораженный этой неожиданной встречей в финале своего путешествия, Харлисон замер на месте.
Инспектор Каннинг встал, и в его глазах промелькнул странный блеск.
— Я арестую его! — произнес он дрогнувшим голосом.
— Кого? Харлисона? — спросил шеф.
— Нет, сэр… Джека-полуночника!
Глава VII Финал одного эпизода
К грязным стеклам пустого дома приникла тень, жадно следящая за особняком на Найтрайдер-стрит.
Эта тень тоже прошла туннелем, закончившимся в подвалах Скотленд Ярда. Перед ней тоже поднялась металлическая дверь, похожая на гильотину; она постояла, прислушиваясь, перед последней дверью, а потом осторожно повернула фаянсовую ручку.
Люстра с хрустальными подвесками продолжала гореть, но секретный кабинет Гровера был пуст.
— Слишком поздно! — прорыдала тень.
Она бегом проделала в обратном направлении путь до дома на Найтрайдер-стрит, и оказалась в столовой.
Здесь она самым тщательным образом проверила картину Гильдебрандта, после чего в отчаянии заломила руки.
— Слишком поздно! Я уже не могла спасти его любой ценой!
* * *
Каннинг тоже погрузился в подземный лабиринт, обеспокоенный и сердитый, с тяжелым грузом неудач на сердце.
Разумеется, его меньше всего удивило существование подземного прохода; он хорошо помнил слова знаменитого шефа лондонской полиции:
«Самые важные учреждения королевства, даже запертые на три оборота ключа, всегда остаются столь же доступными, как Гайд-Парк днем!»
Каннинг оказался в пустом доме, обстановка в котором удивила его не больше, чем все остальное.
Он посмотрел на заднюю сторону особняка Харлисона и почувствовал глухую ярость.
«Слишком серьезно для нас! Кто играет с огнем…»
Он внезапно прижался к стене. К призрачному утреннему свету добавился красноватый свет. Этажом выше зажглась лампа.
Дом оставался молчаливым; самые чуткие нервы смогли бы определить, что это молчание продолжалось много лет.
Суперинтендант поднялся по лестнице мягкими бесшумными шагами, характерными для сотрудников Скотленд Ярда, когда они идут по следу преступников, и оказался наверху в тот момент, когда лампочка на потолке совершенно пустой комнаты моргнула несколько раз и погасла.
Но детектив хорошо представлял назначение этой одинокой лампочки; не вдаваясь в рассуждения придуманной Уоллесом ищейки, на действия которой опиралось поведение Харлисона, он осмотрел проводку, покачал головой с понимающим видом и спустился в подвал.
Здесь он уловил чье-то присутствие.
Присутствие существа, сидящего в засаде; он почувствовал, что два глаза, не отрываясь, следят за ним. Конечно, он напрасно бросился один в преследование, не подумав о возможной опасности.
«Взять этот особняк на Найтрайдер, — подумал он. — Его давно нужно было обыскать. Я начинаю соглашаться с Дембриджем — к черту дурацкие фантазии! А заодно и этого болвана Харлисона!»
Когда он появился в этом загадочном здании, он увидел не столовую с блестящим буфетом и картинами классиков на стенах, а красный салон с мебелью черного дерева. И Каннинг исчез из этого мира. Лорд Дембридж напрасно прикажет искать его в Лондоне, да и во всей Англии. Тайный туннель и пустой дом не откроют свои секреты сыщикам из Скотленд Ярда, которые не поймут их назначения. И пусть эти ищейки продолжат обшаривать днем и ночью Лаймхаус, Шедуолл, Уоппинг и Уайтчепел! Пусть они проверят от трюма до макушки мачт все суда, проходящие по Темзе! Стены Сити будут заклеены объявлениями о денежном вознаграждении за любые сведения о детективе Каннинге…
«Разыскивается! Разыскивается!»
Но найти его никто не сможет.
Лорд Дембридж будет крайне озабочен.
У него в руках оказался Харлисон, человек без прошлого, который провел всю жизнь в австралийском буше и очутился в Лондоне всего несколько месяцев назад, в то время, как Джек-полуночник годами грабил Лондон и проливал кровь его обитателей.
Но Каннинг сказал, когда арестовал Харлисона: «Вот Джек-полуночник!» Может быть, это решило сознание Каннинга? Но почему Харлисон возник из загадочной тьмы через тайный ход, весьма подходящий для воровского люда?
Ярд начнет терпеливо создавать систему доказательств и, несмотря на все возражения, эта система превратится в нечто основательное.
Харлисон — это Джек-полуночник; разумеется, это необходимо доказать.
Разве это проблема для Скотленд Ярда? Было бы желание…
К вящей славе лондонской полиции неизвестное в формуле X = Джек-полуночник = Роуланд Харлисон быстро станет известным.
«Наконец-то, — вздохнет с облегчением шеф полиции, — мы нашли, кого можно повесить в связи с этим делом».
Действительно, тощий набор аргументов устоял перед критикой.
* * *
Вы вправе удивиться скудости сведений об этом периоде жизни Роуланда Харлисона, обвиненного английской полицией в совершении множества преступлений, автором которых в действительности был Джек-полуночник, сутенер, грабитель, шантажист, убийца.
«Что делать, если вас обвинят в краже башен собора Нотр-Дам…»
Обвиненному в таком преступлении придется долго размышлять над этим ироничным и жестоким афоризмом.
В самом начале у лорда Дембриджа было совсем плохо с фактами для строительства системы обвинений:
«Так сказал Каннинг!»
Но каждый полицейский Ярда принес свой камень, и скоро было построено сооружение, свод которого явился основанием для виселицы. Изучим эти камни и, одновременно, бесплодные попытки Харлисона разрушить их.
Харлисон: Я двадцать лет прожил в Австралии. Я только полгода, как приехал в Лондон. Этого достаточно, чтобы разрушить любое обвинение.
Обвинители: Когда газеты опубликовали фотографии Харлисона, то есть Джека-полуночника, жители квартала Найтрайдер-стрит сразу узнали в нем горожанина Джона Смита, проживавшего в доме номер 1826 последние четыре года. Именно четыре года назад началась кровавая серия безнаказанных преступлений, вернее, она достигла апогея.
Харлисон: Я прошу опросить моих бывших работодателей из фирмы «Мидас и С°», а также офицеров и пассажиров парохода «Джервис Бей» и, в первую очередь, бортового комиссара Чермана.
Обвинители: Это самый больной пункт обвинения. Пожалуй, следует признать, что он говорит в пользу Харлисона. Не будем забывать также, что это одновременно ключ к разгадке тайны Харлисона — Смита — Джека-полуночника. Поясним, что в детективном романе читатель в этом месте очутился бы перед неизбежной неожиданной развязкой, и нам остается только пожалеть о скудости анналов Скотленд Ярда, раскрывающих без барабанного боя и без особых деталей эту почти финальную загадку.
Любой великий человек рано или поздно встречает своего двойника и пытается использовать его. Свидетели этого — некоторые абсолютные монархи, в том числе, русские цари.
Смит, король преступления, встретил своего двойника и использовал его особым образом. Ниже мы расскажем, как именно.
Тем не менее, есть существенная разница между Харлисоном австралийским и Харлисоном лондонским. Первый был шатеном, тогда как второй — брюнетом.
Харлисон: Рассказывает о странном изменении за одну ночь. Потом он стал краситься, полагая, что поступает в соответствии с желанием своего загадочного спасителя, китайца Ванга.
Обвинители: Минуточку, мы сейчас разберемся с этим! Смита можно было увидеть в Адене, где он ни от кого не прятался. В это время Харлисон пересекал Индийский океан.
Смит, он же Джек-полуночник, должен был встретиться с Харлисоном на суше. Он столкнулся со своим двойником, случайно или специально — это будет установлено позднее. Он использовал эту встречу быстрым и ужасным способом, чтобы создать себе весьма необычное алиби.
Харлисон: Легко установить, что мои волосы покрашены. Следовательно, я шатен Харлисон из Австралии.
Обвинители: Смит тоже мог давно начать красить волосы. Правда, обвинители признают, что это довольно слабый довод. Но, почему Харлисон продолжал красить волосы после своего возвращения в Аден? Он объяснил это мероприятие тем, что парикмахер не мог подобрать ему краску, которой он красил волосы в Австралии. Джек-полуночник хорошо знал о важности мелких деталей, он даже придавал им слишком большое значение, как это часто бывает в воровском мире среди специалистов по неуязвимым алиби.
Ночная операция? Полиции вполне достаточно придумать призраков.
К тому же, в Адене не обнаружили никаких следов ни Ванга, ни убитых арабов.
Это типичная волшебная сказка, придуманная легендарным Джеком-полуночником, известным специалистом создавать фантасмагории. Это крайне изощренное создание, обожающее невероятные и странные ситуации. Об этом говорят его многочисленные фантастические и романтические преступления.
Здесь обвинители начислили себе очко.
Харлисон: Потребовал встречу с представителями компании «Мидас» и с Черманом. Заметим, что это фактически вызов свидетелей защиты, что уже предлагалось обвиняемым ранее в несколько ином виде. Полиция очень опасалась этого мероприятия.
Обвинители: Несмотря на все опасения, эти свидетельства оказались в пользу обвинения.
Инженер почти постоянно жил в буше один. То же самое можно сказать и о ряде уточнений, которые невозможно проверить из-за его жизни в одиночестве.
Смит мог узнать множество подробностей от Харлисона во время путешествия. Еще более вероятно, что бандит знал о существовании Харлисона, своего двойника, на протяжении ряда лет, и что он с еще неясной ему самому целью постоянно старался быть в курсе всех его привычек и поступков.
Представитель фирмы «Мидас» слегка заколебался при опознании инженера; он был готов признать возможность подмены. Но он сообщил, что Роуланд Харлисон, человек спокойный, сдержанный и молчаливый, никогда не пустился бы добровольно в приключения, в которых его обвиняют.
Черман не общался тесным образом с инженером после Адена, когда Харлисон мог быть Смитом или Джеком-полуночником.
Харлисон: Не вспоминает о «Сердце Бхавани», тогда как Дембридж упоминает о нем. Высокое начальство считает операцию с легендарным рубином спектаклем. Это преступление, запланированное Джеком, было в действительности совершено, но преступник завладел всего лишь очень хорошей имитацией. В этой ситуации Каннинг обыграл негодяя.
Харлисон: …молчит, так как не хочет впутывать в это дело Нэнси Уорд. Он так никогда и не упомянул ее.
Обвинители: Неохотно признают, что в комплексе доказательств имеются большие пробелы, но молчание обвиняемого они с энтузиазмом трактуют в свою пользу. Считают, что в этом вопросе они загнали обвиняемого в угол. Его молчание рассматривается как почти признание.
Харлисон: Рассказывает про картину Гильдебрандта, про крест и муху.
Обвинители: Считают, что это россказни любителя фантастики. Это выдумки, которые не способны никого одурачить. Картина, о которой шла речь, была тщательно исследована. При этом не было обнаружено никакой металлической мухи, встроенной в написанное красками полотно, никаких тайных механизмов. Соответственно, отсутствовали устройства для подачи таинственных сигналов.
В особняке на Найтрайдер-стрит не было никаких подделок. Голос в телефоне? Расскажите что-нибудь поумнее. Проводка была проверена сантиметр за сантиметром — никаких ответвлений!
Харлисон: До сих пор ничто не доказывает, что, если я даже являюсь Смитом, что Смит — это Джек-полуночник.
Обвинители: А что вы скажете о побоище в районе Верхней Темзы? Вас опознало человек десять полицейских!
Харлисон: Согласен.
Обвинители: Этого достаточно, чтобы повесить вас. Харлисон, честный и лояльный сотрудник «Мидаса», никогда не смог бы иметь что-либо общее с бандитами. Харлисон — это не Харлисон, а Джон Смит, а Смит — это Джек-полуночник, которому подчиняется множество неуловимых преступников. Не исключено, хотя и не вполне очевидно, что одним из сообщников является женщина. Кстати, где она, эта женщина?
Харлисон: Не отвечает.
Обвинители: Вся совокупность доказательств выдерживает самую стогую критику. Весь набор аргументов является достаточно надежным. У нас в руках именно Джек-полуночник. Пока он содержится в заключении, на прочной цепи, в ожидании неизбежной виселицы.
Доктор Парди, сосед Смита, лечил его несколько месяцев назад от бронхита. Он вспомнил, что у его пациента на правой стороне груди имелся шрам в виде креста.
Действительно, этот шрам был обнаружен на груди у Смита или Харлисона.
Инженер рассказал странную историю той ночи, когда стигмат был отпечатан на его теле.
— Очередная басня! — ухмыльнулись обвинители.
— Я требую провести медицинское исследование! — заявил обвиняемый. Но наука, хотя она, конечно, может заблуждаться и ошибаться, сделала вывод, что этому шраму много лет.
Не представляя, что это ему даст, Харлисон потребовал участия в процессе Бетти Элмсфильд. Тут же с места вскочил лорд Элмсфильд, гневный, удрученный, обвиняющий:
— Бетти Элмсфильд пропала!
Роуланд Харлисон падает без сознания.
Его энергия разом иссякла, словно лопнула струна.
У него закончились аргументы, у него больше нет сил сопротивляться. Мужественный авантюрист верит в рок. Он склоняет голову перед неизбежностью.
Перед обвинителями теперь находится отчаявшийся молчаливый человек.
Здесь мы должны добавить, что лорд Дембридж всегда считал, что главным доказательством вины Роуланда Харлисона является его появление в подвалах Ярда. Но, поскольку обвиняемый молчит об этом событии, шеф полиции также ничего не рассказывает, поскольку эта история может основательно дискредитировать его организацию. Таким образом, между ними существует нечто вроде молчаливой договоренности об этом происшествии, и Дембридж не может не быть благодарным преступнику за его молчание. Хотя молчит Харлисон, как всегда, только потому, что не хочет упоминать Нэнси Уорд…
* * *
Обвинение торжествует. Вряд ли человек, выдувший мыльный пузырь и внезапно увидевший, что он превратился в хрустальную сферу, радовался бы больше.
Они считают Джека-полуночника достойным противником, признавшим свое поражение и мужественно воспринявшим завершение своей судьбы. Еще немного, и они начнут петь ему дифирамбы. Именно в этом обличье Смит-Харлисон-Джек-полуночник появится перед судьями.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава VIII Перлмуттер вмешивается
А теперь, как когда-то говорили авторы, мы вернемся на несколько лет назад.
Многие читатели в этой ситуации сразу же закрывали книги с криком:
— Нет, ни за что!
Приключение требует, чтобы сюжет двигался вперед, не оборачиваясь на оставшийся позади текст.
Поэтому мы очень бегло вернемся к ушедшему из жизни мистеру Теду Соумзу, убитому, а затем брошенному в воды Реки, о чем говорилось в начале этого повествования.
Мы оставили бы покоиться бывшего заключенного номер 170 на кладбище утопленников в Ширнессе, где были извлечены из воды его останки, если бы не Сол Перлмуттер.
У Теда Соумза на свете был всего один друг, и это был Сол Перлмуттер, но, поскольку математический закон взаимозаменяемости не всегда может быть применен в жизни, то будет более правильным сказать, что у Сола Перлмуттера был единственный друг, и это был Тед Соумз.
Что касается внешности, то это был довольно противный тип.
Маленький, плохо сложенный, с желтой, словно лимон, физиономией.
Он продавал с тележки всякие мелочи в Сохо, а вечерами добирался до театров на Друри-Лейн, где открывал и закрывал дверцы автомобилей и подбирал брошенные в грязь монетки.
И вот, Перлмуттер, слабый, больной, трусливый, первым получавший от кого угодно тумаки по любому поводу, вздрагивавший, если рядом с ним пролетала ночная бабочка и до полусмерти боявшийся муравьев, разработал великий проект, сотканный из фантазий и жутких снов, заполненных кровью и огнем: он решил отомстить за Теда Соумза.
Потому что этот пария имел одно божество, и этим божеством был Соумз.
Однажды он встретил человека, никогда не избивавшего его: это был Соумз! Человека, который иногда спасал его от голодной смерти, а то и вытаскивал из воды, когда хулиганы хотели утопить его, словно запаршивевшего кота. Это был Соумз! Кто праздничными вечерами мог налить ему стаканчик джина или виски? Соумз! Кто время от времени обращался к нему с грубым, но ласковым словом? Соумз!
Его божество было убито; кто, как не он должен был отомстить за него?
Кто, кроме Сола Перлмуттера был способен отомстить за Теда Великолепного?
Вероятно, в редкие часы кратковременной расслабленности, карлик Сол становился доверенным лицом бывшего каторжника. Во всяком случае, многое из случившегося позднее позволяет допускать это.
Когда в газетах появилась новость об аресте Джека-полуночника, Перлмуттер позволил себе покупать ежедневно одну-две газеты.
Он просматривал их с необычным вниманием, отмечая и даже комментируя отдельные статьи понятными только ему значками. Он часто по несколько раз перечитывал то или иное фантастическое сообщение с непонятным упорством.
Через две недели, когда лондонцы окончательно увенчали лавровым венком Ярд и его агентов, когда во всех головах в качестве преступника утвердился Харлисон, уже безоговорочно осужденный, повешенный и выброшенный в яму с негашеной известью, Сол Перлмуттер закончил чтение последней газеты, свернул скопившуюся за это время стопку в большой ком и поджег его. Потом он, понаблюдав некоторое время за торжествующим огнем, пробормотал с неприкрытым презрением, имея в виду журналистов и полицейских:
— Нет, все-таки они ничего не понимают. Или почти ничего.
Из уничтоженного огнем архива у него сохранилась только одна страничка с фотографией австралийского инженера. Сделанная в полиции, в отделе антропометрии, бледная и нечеткая фотография Харлисона, сидящего на стуле ростомера.
«Бедный дурачок, — подумал Перлмуттер с некоторой симпатией к обвиняемому. — Подумать только, что сам Тед встрял в это дело…»
И он погрузился в мрачные мысли.
«Это был человек с добрым сердцем, хотя и не слишком проницательный, — заключил он, думая о своем благодетеле. — Если бы только он послушался меня… Он получил бы свои пять тысяч фунтов, или даже, кто знает, гораздо больше… Но с чего бы он стал слушать меня? Я же был для него жалкой гусеницей, а он был божеством… Но это не повод для того, чтобы те, кто убил его, не поплатились шкурой…»
Так выглядели мысли, еле слышно высказанные вслух Перлмуттером, потому что даже у плохо побеленных стен мансарды есть уши.
Потом он покопался в древнем комоде и извлек из него старинные медные часы.
Положив забавную реликвию в карман, он направился в Чипсайд.
Лавочка, выбранная им, на одной из новых улиц, проложенных через старинный квартал, была насыщена духом обновления и соответствовала современному стилю.
Когда-то привлекавшая посетителей вывеской «Часы из Женевы», она теперь гордо называлась «Выставка-продажа швейцарских часов».
Перлмуттер некоторое время наблюдал за суетой вокруг прилавков продавцов и покупателей, рассматривавших дорогие хронометры.
— Нам ничего не нужно! — сообщил ему один из продавцов, поморщившись при появлении убого выглядевшего посетителя.
— Но мне нужно кое-что, — вежливо возразил Перлмуттер.
— Наверное, вам пригодился бы новый костюм и пара обуви без дыр, — проворчал продавец.
— Мне нужно починить часы.
— Наша фирма этим не занимается, — соврал продавец, торопившийся избавиться от непрезентабельного клиента, заполнившего помещение магазина запахом конюшни.
— Может быть, вы предупредите обо мне вашего шефа? — поинтересовался Перлмуттер с подчеркнутой вежливостью.
Продавец был готов возмутиться, но все же сдержался и спросил ядовитым тоном:
— И о ком же я имею честь сообщить?
— Ну… Можно назвать герцога Глочестерского или короля Марокко, если хотите. Но прошу вас, действуйте быстрее, друг мой, если вы не хотите получить расчет.
Разумеется, Перлмуттеру пришлось бы познакомиться с лакированным ботинком продавца хронометров, если бы полный низенький человечек, красный, словно рождественское яблоко, не появился за прилавком.
— В чем дело, Мэлоун? — поинтересовался он с недовольным видом.
Перлмуттер не позволил продавцу ответить. Он почтительно поклонился мистеру Далмейеру, директору и владельцу фирмы.
— У нас зашел разговор о часах, мсье.
И он извлек из кармана медную луковицу.
Электричество в магазине еще не включили, несмотря на начавшиеся сумерки, иначе продавец увидел бы изменившийся цвет лица своего шефа, лишившегося румянца, с посеревшими губами.
— Какой редкий образец! — воскликнул мистер Далмейер. — Ах, сэр, как я счастлив, что вы позволили мне увидеть его! Прошу вас, пройдемте в мой кабинет!
— Мистер должен был предупредить меня, что он принес к нам коллекционную модель, — поспешно сказал продавец, смущенный и одновременно испуганный, потому что кошмар немедленного увольнения мог сейчас стать для него реальностью.
Но Перлмуттер не воспользовался своей победой и дружелюбно сказал продавцу:
— Извините меня, но я хотел показать часы только патрону. Надеюсь, вы простите мне мою самонадеянность?
Мистер Далмейер отвел необычного клиента не в свой кабинет, а в соседнюю комнату, которую закрытые ставни и тяжелые шторы превратили в надежно защищенное место для важных переговоров.
Перлмуттер положил свои часы на стол.
— Они остановились в двадцать две минуты первого, — сказал он. — Я хотел бы, чтобы они пошли.
Далмейер вытер лоб огромным оранжевым платком.
— Ни одни часы этого типа никогда не смогут пойти, — с трудом произнес он.
Сол Перлмуттер пристально посмотрел на него.
— Если я хорошо понимаю суть происходящего, все часы этой модели, показывающие от одной до двадцати пяти минут первого, вернулись к вам и сейчас находятся здесь, в сейфе, обнаружить который было бы весьма затруднительно. Это так?
Директор магазина тяжело рухнул в кресло и ошеломленно уставился на собеседника.
— Да, это так, — наконец проговорил он непослушным языком.
— Тогда, Дали, нам придется сделать соответствующий вывод, что банда распущена и рассеялась по всем сторонам света.
— Ради Бога, не говорите так!
Перлмуттер ухмыльнулся.
На стене кабинета висела великолепная карта полушарий. Взгляд Далмейера некоторое время упорно блуждал по ней. Наконец, он сдержанно поинтересовался:
— Что вы думаете об Америке?
— Ах, да, конечно, я понимаю… Минуты взяли и смылись… Нет, дядюшка Сэм не скажет мне ничего толкового.
— Буэнос-Айрес? Я дам вам пятьсот фунтов мелкими купюрами.
— Слишком далеко и слишком жарко, — сухо бросил карлик.
— Барселона? Но там уже есть кто-то, и я не знаю, смогу ли я…
— Не говорите лишнего, мой дорогой друг, — слащавым голосом проговорил друг Теда Соумза. — Я назову Англию. И, более конкретно, Лондон!
Далмейер всплеснул руками.
— Несчастный, вы, значит, ничего не знаете?
— О, как же… Именно потому, что я знаю, я выбрал столь близко расположенное место для отпуска…
— Итак, чего вы хотите? Я не могу выделить вам большую сумму, если вы не удалитесь, как все остальные.
— Мне не нужны деньги, и я не собираюсь уезжать!
— Но чего вы тогда хотите? — с мольбой в голосе воскликнул директор.
Сол Перлмуттер наклонился к нему и, вытянув вперед руку, нацелил свой тонкий грязный палец, словно кинжал, в сердце собеседнику.
— Мне нужны часы, которые показывают полночь.
Далмейер отшатнулся. В его выпученных глазах промелькнула тень безумия.
— Я… Я не знаю… Действительно…
Но Перлмуттер в этот момент уже не был жалким червяком, которого увлекает поток грязной дождевой воды. Он превратился в демона с горящими, словно уголья, глазами, с приоткрытой полной клыков пастью и согнутыми, словно когти, пальцами.
— Они здесь, Дали! Мне нужны они, Дали! Даже если они вернулись… Например, из Адена!
Часовщик превратился в жалкую тряпку; нервная икота сотрясала его желеобразное тело.
Сол Перлмуттер злобно расхохотался.
— Ах, простофили! Они купились на болтовню этой рыжей и репортеров, и вы вместе с ними, грязное животное! Вы сунули им несколько крупных бумажек, которые сохранились в ваших лапах, и показали страну на этой карте. Короче, отдавайте часы, старина!
— Их здесь нет! — простонал толстяк.
— Если даже это правда, с подобной проблемой можно справиться, — с издевкой сказал Перлмуттер. — Вы найдете их для меня. Вы, лично!
— Но где? — взвыл Далмейер. — Может быть, вы знаете где?
— Я не знаю. Может быть, в одном из ваших кошельков или в кармашке для часов, в Британском музее или в Букингемском дворце… Неважно где, но я собираюсь повсюду сопровождать вас во время поисков, куда бы вы не направились, даже к дьяволу, который, впрочем, так или иначе ждет вас.
Далмейер закрыл лицо руками. Он понимал, что проиграл по всем статьям.
— А как насчет денег?
— Нет, нет и еще раз нет!
— Вы хорошо понимаете, что это грозит мне смертью.
— Потому что он скоро будет повешен! — продолжал издеваться Перлмуттер. — Ах, это почему-то не успокаивает вас, приятель? Так что давайте часы, и поскорее!
Подавленный, дрожащий, словно лист на осеннем ветру, Далмейер встал и принялся ощупывать неуверенной рукой мрамор камина. Перлмуттер подчеркнуто отвернулся.
— Меня не интересуют ваши секретные сейфы, — сказал он. — И я не боюсь, что вы убьете меня.
— Мне наплевать на секреты! — сердито заявил Далмейер. — С меня хватит! Пусть после меня все идет к дьяволу!
Перлмуттер повернулся на каблуках и с любопытством посмотрел на свою жертву.
— После вас?! Ха-ха! Господин Далмейер, вы же умный человек. Вы смотрели на карту. Полагаю, что в мире имеется немало мест, где такой состоятельный человек, как вы может жить без забот, не сталкиваясь с людьми и их дурацкими законами.
— Вот!
Перлмуттер сдержал нервную дрожь.
Далмейер протянул ему великолепный хронометр, ничуть не похожий на уродливое медное изделие, заставившее подпрыгнуть увидевшего ее часовщика. Стрелки на часах сошлись на двенадцати.
— Я знал, — пробормотал словно для себя Перлмуттер. — Это часы, указывающие полночь. И…
— И что еще? — закричал часовщик. — Не спрашивайте меня больше ни о чем! Я ничего кроме этого не знаю! Тайна часов, указывающих полночь? Вы сошли с ума! Как будто вы не знаете, что это означает смерть! А я люблю жизнь! В конце концов, я даже рад, что вы забрали их у меня, потому что теперь вы останетесь в Лондоне один!
— Один… Да, действительно, — ответил с иронией Сол Перлмуттер, посмотрев на карту полушарий. — Один, но с часами, показывающими полночь, Дали!
Снова превратившись в незаметного хилого человечка, он вышел из кабинета, не попрощавшись. Проходя по магазину, он с подчеркнутым почтением поприветствовал ошеломленного продавца.
После ухода Перлмуттера Далмейер принялся судорожно выбрасывать содержимое из всех ящиков стола и набивать чемоданы.
Глава IX Многоквартирный дом Стангерсона
В центральном уголовном суде судорожно занимались оформлением досье Харлисона, создавая множество его копий. Скотленд Ярд готовился отдать последние почести суперинтенданту Каннингу; весь Лондон впервые после многих месяцев ужасов наслаждался спокойной жизнью. И вот неожиданно разразилось дело Стангерсон-флит.
Стангерсон-флит — это великолепное многоквартирное здание на Фаррингтон-роуд, построенное в месте схождения двух старых улочек Клеркенвелла, сильно пострадавших во время эпидемии перестроек последних лет.
Его владелец Александр Стангерсон сдал десять этажей богатым клиентам за исключением первого этажа, где обосновались «Клуб восьми» и знаменитый гриль-бар.
Александр Стангерсон сохранил за собой одиннадцатый и последний двенадцатый этажи, что позволило ему устроить великолепные висячие сады на верхней террасе.
Этим утром, когда он дышал свежим воздухом перед изящным вечнозеленым кустиком, сохранившим листву несмотря на позднее время, он увидел письмо, лежавшее на скамейке, использовавшейся им для ежедневной сиесты.
Письмо не было запечатано, но оказалось пришпилено к скамейке гвоздиком; утренний туман увлажнил бумагу и сделал трудночитаемым адрес на конверте.
Ему все же удалось разобрать, что письмо было адресовано «Сэру Александру Стангерсону, эсквайру».
«Странный способ пересылать мне корреспонденцию», — подумал он, взяв в руки послание и рассматривая его со всех сторон.
В следующий момент он отшвырнул его, проворчав: «Крайне неудачная шутка».
В письме было написано:
«Прошу срочно освободить здание. Я требую, чтобы здание Стангерсон-флит опустело. Если в течение двух недель мое требование не будет выполнено, я сам займусь его очисткой и не оставлю в нем ни одного предмета больше носового платка. Не исключено, что при этом я не стану заботиться о сохранности вашей шкуры.
Джек — полуночник».
Несмотря на презрительную реакцию, Стангерсон все же немедленно позвонил в полицию. Ответ оказался довольно резким, но, в принципе, успокаивающим.
— Послушайте, господин Стангерсон, это шутка, которую мог позволить себе любой посыльный.
— Но ключей от террасы нет ни у кого за исключением моего садовника, а это человек прост, как хозяйственное мыло, и на подобные шутки не способен, — возразил Стангерсон.
— Но ведь существует пожарная лестница, — проявляя терпение, сказал полицейский.
Правда, в этом случае нужно было обладать железными нервами и абсолютным отсутствием страха высоты…
— Кроме того, мистер Стангерсон, — добавил полицейский, — ваш шутник наверняка большой любитель полицейских романов. Вот литература, пользующаяся огромным успехом у нынешнего читателя! Всего доброго!
— Хотелось бы верить вашим словам, — пробурчал Стангерсон.
На этом пока все и закончилось.
Прошла неделя, и владелец здания перестал думать о возможной опасности, когда все арендаторы жилья в Стангерсон-флит были приглашены на следующий день к десяти часам к господам Бойду и Мардену, владельцам адвокатской конторы на Фаррингтон-роуд. В приглашении отмечалось, что в случае невозможности присутствовать лично, можно было прислать представителя. В постскриптуме было добавлено: «Срочное сообщение».
Поскольку он сам не получил такое письмо, мистер Стангерсон не стал принимать участие в намеченном собрании.
Однако вскоре выяснилось, что письмо касалось его самым непосредственным образом, поскольку этим же днем в час ленча все лифты в его здании пришли почти одновременно в непрерывное движение, а прихожая его квартиры оказалась оккупированной десятком сильно взволнованных и крайне недовольных граждан.
Господа Херд и Мершан, возглавившие эту беспокойную команду, взяли слово от имени всех жильцов.
— Вы не сообщили нам о серьезной угрозе, полученной вами, мистер Стангерсон, — начал один из делегатов.
Стангерсон сразу же понял, о чем идет речь. Он попытался перевести разговор в шутку, но посетители продолжали сидеть с озабоченным видом.
— От имени неизвестного им клиента, который, по-видимому, уже перевел им гонорар, компания юрисконсультов «Бойд и Марден» сообщает нам, что на предыдущей неделе все квартиросъемщики были обворованы. Эти кражи следует рассматривать, как предупреждение. Их автор дает нам понять, что он совершенно свободно может проникнуть в любую квартиру.
— И что, вас действительно обокрали? — растерянно промямлил Стангерсон.
— Из нашей кассы пропала банкнота в пятьсот фунтов, — сообщил коммерческий агент. — Кроме того, похититель сообщил нам ее номер.
— Перечень похищенной у нас посуды совершенно точен, — сказал директор гриль-бара. — Хорошо еще, что я не успел обвинить в пропаже никого из моих сотрудников и никого не уволил.
— Три члена нашего клуба лишились бумажников, — сообщил управляющий «Клубом восьми». — Их содержимое было подробно описано похитителем.
— У меня пропало кольцо с сапфиром!
— Четыре бокала богемского хрусталя были исцарапаны алмазом!
Все остальные тоже пожаловались на кражи. После этого господин Херд обратился к Стангерсону:
— А вы, сэр, не пытались найти в течение этой недели свой браслет из массивного золота?
— Проклятье! — прорычал Стангерсон, забыв о приличиях. — Этот бандит никого не обманул!
— Ну, ладно, — невозмутимо продолжал господин Херд. — Не хотите ли вы сообщить нам о полученных вами угрозах, мистер Стангерсон?
Бедняга бросился к секретеру и извлек из него смятый лист бумаги.
— Просмотрев письмо, я скомкал его и выбросил, и только потом решил сохранить и достал из мусорной корзинки. Прочтите его вслух, господин Херд.
— Очень решительный человек, автор этого послания, — прокомментировал господин Херд письмо, прочитав его до конца.
Слово взял господин Мершан.
— Джек-полуночник, как мы знаем, сейчас арестован. Но нет ничего невозможного в том, что кто-то из его сообщников, оставшийся на свободе, взялся за дело от его имени. Этот негодяй — опытный преступник, и нам не стоит воспринимать его угрозу, как шутку.
— Но есть же полиция! А мы — крупные налогоплательщики, и имеем право на защиту! — крикнул кто-то из присутствующих.
— Я тоже так считаю, — сказал господин Мершан. — Мне совсем не хочется расставаться с моими служебными помещениями и частными квартирами.
В разговор вмешался живший на четвертом этаже полковник Баннистер, лишившийся кольца с сапфиром.
— У меня есть хорошие друзья в Скотленд Ярде. Но у меня есть и неплохое оружие! Конечно, пусть полиция защитит нас, но ничто не помешает нам использовать свои средства защиты!
После этого собрание превратилось в военный совет.
Когда в три часа после полудня совещание закончилось, появившийся за это время сотрудник полиции, приглашенный по телефону, пообещал, что Скотленд Ярд гарантирует полную безопасность обитателям здания. Он также добавил, что именно он, мистер Роуз, прислан, чтобы обеспечить эту безопасность. И он немедленно приступил к выполнению своих функций. Он осмотрел несколько квартир и дал советы по системам безопасности, после чего отбыл в Скотленд Ярд для консультаций с начальством, пообещав вернуться вечером.
Его небольшая светлая бородка, его голосок, слабый, но отчетливый произвели прекрасное впечатление на присутствующих.
Полковник Баннистер был настолько доволен, что решил отправиться в Скотленд Ярд, чтобы побеседовать с одним из своих друзей, лейтенантом Диггером и похвалить мистера Роуза.
— Какой он молодец, этот мистер Роуз, — сказал он в качестве преамбулы.
— Роуз? Кто такой Роуз? — удивился Диггер.
— Это детектив, которого вы послали в Стангерсон-флит.
— У нас нет детектива по фамилии Роуз, — ответил Диггер. — Мы никого не направляли в здание, о котором идет речь; более того, нас никто об этом и не просил!
— Тысяча тысяч флейт и барабанов! — прорычал полковник. Он скатился по пыльной лестнице полицейской крепости, бросился в первое же подвернувшееся такси и помчался домой.
В здании царила жуткая суматоха. Пожарные карабкались на головокружительную высоту по пожарной лестнице, направляя бесполезные брандспойты на кустики вечнозеленых растений, обильно политые бензином и пылавшие, как костры инквизиции.
Мистер Грумбашер печально смотрел на свои великолепные ковры из чистой шерсти, политые концентрированной кислотой.
«Клуб восьми» опустел, и причина этого была достаточно серьезной: в клубе господствовал отвратительный запах, словно в помещении взорвали несколько вонючих бомб.
С тяжелым сердцем, полный опасений, полковник открыл дверь в свою квартиру. Через мгновение большое здание заполнили его крики и ругательства. В его рабочем кабинете взорвалась граната, превратившая помещение в свалку мусора.
Таким образом фальшивый детектив Роуз отметил свое пребывание в Стангерсон-флит.
* * *
Вечером, когда в громадном здании воцарилось относительное спокойствие, и когда толпа детективов продолжала активно пересчитывать ступеньки лестниц, в офисе Херда и Мершана зазвонил телефон.
Трубку взял господин Мершан. Он сразу же сильно побледнел и окликнул своего компаньона.
— Томас, — сказал он, — этот разговор имеет отношение лично к вам. Вы возьмете трубку?
Господин Херд взял трубку, и, если его компаньон побледнел, то лицо Херда приобрело жуткий багровый цвет.
— Это так? — спросил господин Мершан. — Маленький цветочный магазин на углу Калторп-стрит…
— Ради Бога, не напоминайте мне об этом, Дик, — прорыдал Херд. — Я был пьян. Я сошел с ума… Ах, Дик, молодая девушка, неподвижно лежавшая в грязи, с выступившей из уголка рта кровью! Я вижу ее каждый вечер, каждый день! Вот уже два года, как я не могу уснуть… Она приходит ко мне по ночам, и из ее рта выступает кровь, когда она пытается продать мне цветы!
— Бог вам судья, Том, — печально ответил мистер Мершан. — Я вижу, что ваше наказание уже началось. Я не вправе дать вам совет, потому что он будет ужасным; к счастью, у вас нет родных, нет ни жены, ни детей.
— У меня есть маленькая собачка, — тихо сказал Херд.
— Если хотите, я возьму ее к себе.
— Спасибо, Дик. Могу я попросить вас… Иногда молиться обо мне?
— Конечно, — со слезами на глазах ответил Мершан.
— Этот человек… Который позвонил мне… Он дал мне время до завтрашнего утра, не так ли?
Мистер Мершан молча кивнул.
— Умереть — это значит умереть, да, Дик?
Они молча пожали друг другу руки. Потом господин Херд на протяжении двух часов давал своему компаньону советы и рекомендации, имевшие отношение к их совместному предприятию.
Поздно вечером господин Мершан даже не услышал, как он ушел.
Утром, пересекая железнодорожную линию в Клапхэм Джанкшен, мистер Томас Херд был сбит товарным поездом и скончался на месте.
* * *
На некоторое время крупные неприятности у жильцов Стангерсон-флит прекратились, по крайней мере, их не замечали.
Но на пятнадцатый день, на рассвете, у Александра Стангерсона зазвонил телефон.
Звонок не разбудил его; он всю ночь не смыкал глаз, потому что его тревожило наступление роковой даты.
— Добрый день, мистер Стангерсон, — прозвучал тонкий голосок. — С вами говорит мистер Роуз.
— Как только вы осмелились, — пробурчал владелец дома.
— Вы ничего не сделаете, мое дорогое подставное лицо!
Стангерсон мгновенно насторожился; его рука, державшая телефонную трубку, немного дрожала.
— Мой дорогой Ал, — продолжал мистер Роуз, — вы только представьте, какой шум поднимется в Лондоне, когда станет известно, что вы всего лишь вульгарное подставное лицо!
— Что вы знаете об этом? — ответил собственник дома с возросшей уверенностью. — Если так оно и есть, то чего я должен стыдиться?
— Все правильно! Но ваши арендаторы сочтут это объяснение неудачным, в особенности, когда они узнают, что Стангерсона в действительности зовут Лайонель Фелман, который был вынужден просидеть некоторое время в тюрьме в Дартмуре, да и образцовая тюрьма во Фресно ему хорошо знакома. А еще им будет интересно узнать, что за оплату голландских товаров фальшивыми флоринами он должен был провести отпуск в тюрьме Леувардена[54].
— Вы дьявол! — Других слов у Стангерсона-Фелмана не нашлось.
— Мне кажется, что суммы в десять тысяч фунтов, которых мне вполне хватило бы, чтобы оставить вас в покое, не найдется в вашем сейфе, и что вы никогда не сможете подписать чек на эту сумму.
— Браво, мистер Роуз! Вы настоящий ясновидящий! — ухмыльнулся Фелман.
— Подождите! Я слышал про одну историю, связанную со строительством вашего дворца, историю со взяткой и ограблением мелких собственников, которая сможет побудить ваше товарищество раскошелиться на нужную вам сумму. Вы отправите деньги на мое имя в таверну «Синий слон» в Лудгейте[55] завтра до обеда. Я уверен, что деньги доставит мне не детектив Скотленд Ярда, потому что иначе в одной из вечерних газет появится история про скандал с Стангерсон-флит.
Кстати, я ничего не имею против того, чтобы вы сообщили своим жильцам, что обеспечили безопасность вашего здания, заплатив большую сумму Джеку-полуночнику. Это будет для вас хорошей рекламой и вас будут считать человеком, играющим в рулетку с фортуной. А теперь ложитесь спать и постарайтесь не простудиться, мой друг Лайонель!
Десять тысяч фунтов были переданы в нужное время в нужном месте.
Заплатил эти деньги вкладчик товарищества Стангерсона лорд Элмсфильд.
Глава X Странный господин Роуз
Завладев деньгами мистера Стангерсона — или, скорее, лорда Элмсфильда — мистер Роуз заставил еще дважды вспомнить о себе.
Уже больше месяца, как мистер Гленвиль, предприниматель (театр, цирк), оборудовал цирк-шапито вблизи Мит Гарден, и по вечерам там собиралось довольно много зрителей как из Бетнал Грина, так и из Степни и Уайтчепела.
Мистер Гленвиль, звезда коммерческого успеха которого близилась к закату, вдохновился неожиданным успехом, и был готов на все, лишь бы удержать интерес зрителей к цирку Гленвиль. Во время антракта публика могла свободно посещать — без дополнительной платы — соседнюю с цирком палатку, получившую помпезное название «Удивительный аттракцион»; зрелище, демонстрировавшееся в этой палатке, было весьма близким к тому, что в Соединенных Штатах показывал Барнум[56].
Среди аттракционов мистера Гленвиля не было особенно уникальных чудес, но простая, неизбалованная зрелищами лондонская публика довольствовалась синим человеком, летучей лисицей, Лили, женщиной-деревом, сибирячкой Симлой с ногами верблюда и пожирателем стекла. Любопытный зритель мог также увидеть теленка с двумя головами, помещенного в самом темном углу, потому что вторая голова у него то и дело отклеивалась.
С наступлением ночи поток зрителей заметно поредел.
Мистер Гленвиль, ознакомившийся с выручкой, закурил дорогую сигару с золотым ободком и заглянул в опустевший «Удивительный аттракцион». Подойдя к двухголовому теленку-феномену, он пробормотал во все четыре его уха, что жизнь, несмотря на густой фог и дождь, все же была прекрасна.
— Когда у тебя две головы вместо одной, жизнь становится приятной вдвойне, — произнес кто-то рядом с мистером Гленвилем скрипучим, словно копирующим звук напильника, голосом.
Мистер Гленвиль отпрыгнул в сторону, подняв перед собой, защищаясь, трость.
— Кто вы такой, и какого черта делаете здесь? — спросил он, разглядев, что имеет дело с маленьким худым человечком. — Что еще за шутки? Уходите отсюда!.. Кто вы такой, отвечайте!
— Меня зовут мистер Роуз, и некоторые считают меня детективом, хотя это неправильно.
Мистер Гленвиль облизнул усы, напомаженные по старой моде.
— Гм, мистер Роуз… Вы, случайно, не мистер Роуз из Стангерсон-флит?
— Разумеется, это я, — очень вежливо ответил незнакомец.
Можно было подумать, что мистеру Гленвилю крайне понравился вкус венгерской помады, потому что он непрерывно облизывал усы. На самом деле, это поведение всего лишь свидетельствовало о его крайнем возбуждении.
— Ярд обещал награду в сто фунтов тому, кто сможет устроить вашу встречу, мистер Роуз, с кем-либо из его детективов, — продолжал директор цирка. — Как ни странно, но у меня есть надежда получить эти деньги, потому что у меня с собой есть револьвер!
— Это замечательно, — спокойно произнес мистер Роуз, — но люди из Скотленд Ярда всегда считались большими лгунами, мистер Гленвиль. Или вы просто не умеете читать? Дело в том, что они оценили мою голову не в сто, а в пятьсот фунтов стерлингов, и ни фартингом меньше. Что же касается револьверов, то у меня с собой нет ничего подобного!
— Тогда прекратим эту болтовню, уважаемый! Я хотел бы обойтись без применения револьвера, но не исключено, что мне придется использовать хлыст! — воскликнул отважный мистер Гленвиль.
Похоже, что мистер Роуз не услышал его. Он остановился перед механизмом для отметки времени, на котором регистрировалось время обхода охраны.
— Замечательное устройство, — сказал он, постучав пальцем по стеклу, закрывающему циферблат. — Но оно почему-то показывает двадцать минут двенадцатого. Какой абсурд!
— Почему вы говорите мне об этом, — пробормотал бесцветным голосом мистер Гленвиль.
— Потому что сейчас точно двенадцать часов пятнадцать минут, господин Артур Гленвиль!
Хлыст выпал из рук директора цирка.
— Может быть, вы поставите точное время на моих часах, голубчик? — любезно поинтересовался мистер Роуз, доставая хронометр из часового карманчика.
— Ох, простите, — пробормотал мистер Гленвиль. — Я не знал…
— Я, разумеется, прощаю вас, друг мой, — произнес человечек, поднимая с земли хлыст. — Конечно, это самая незначительная услуга из тех, что я могу оказать вам.
Сильный удар хлыста оставил кровавую дорожку на щеке несчастного директора цирка.
— Господи, да любой зашедший сюда прохожий поступил бы точно так же!
Хлыст рассек, словно ножом, правую бровь бедняги.
— Разумеется, вы не должны благодарить меня!
Широкая красная полоса соединила уголок рта директора цирка с его ухом. После этого мистер Роуз отбросил хлыст далеко в сторону, оставаясь по-прежнему любезным и улыбчивым.
— Значит, мы остаемся друзьями, Артур, не так ли? — проворковал коротышка.
— Я сделаю все, что вы скажете… Все, что вы захотите, Джек…
— Ах, какие необдуманные слова, друг мой… Почти необдуманные… Дайте-ка мне ваш револьвер!
— Ах, только не это! — взвыл умоляющим голосом Гленвиль. — Я ведь в любом случае всегда буду подчиняться вам, вы прекрасно это знаете.
— Ладно, я совсем не злой человек, и я помню, что мы с вами остались друзьями… Так что… Вы позволите?..
Маленькой когтистой лапкой мистер Роуз ухватил кончик одного из напомаженных усов директора цирка и, сильно дернув, вырвал пучок окровавленных волос.
— Вот теперь, Артур Гленвиль, вы в состоянии услышать голос истинной дружбы!
И господин Роуз подошел к мумифицированным лохмотьям, изображавшим двухголового теленка, с отвращением принюхался к ним и выбросил на кучу навоза позади клетки с летучей лисицей.
Через два дня цирк Гленвиль развернул огромное полотнище перед «Удивительным аттракционом»:
«Приходите посмотреть на двухголового человека! Он живой!»
Просторная камера из стекла, освещенная неоновыми трубками, заменила отвратительную небольшую сцену, на которой находился двухголовый теленок. Человек в костюме сидел в кресле, и две совершенно одинаковых головы выходили из воротничка.
— Он из воска!
— Нет, он спит. Посмотрите, его грудь поднимается и опускается! Он дышит!
— Это механическая кукла!
— Разбудите его!
Это и многое другое можно было услышать в толпе перед новым чудовищем.
Неожиданно двое мужчин, едва успевших бросить взгляд на стеклянную камеру, помчались бегом к кабинету директора и ворвались внутрь, даже не постучавшись.
— Полиция! — заявили они, показав значки на отвороте лацкана своих курток.
— Я ждал вас, господа! — сказал Гленвиль. — Очевидно, вы пришли в связи с моим новым экспонатом. Щедрый даритель предупредил меня, что вы обязательно появитесь.
— Перестаньте шутить! — проворчал один из инспекторов угрожающим тоном. — Вы знаете, что за человек находится в вашей дурацкой стеклянной клетке?
— Нет, я не знаю этого. — Господин Гленвиль покачал головой. — Его подарил мне мистер Роуз, не сообщивший никаких подробностей.
— Вы сказали: Роуз? А, значит тут замешан не иначе, как сам дьявол!
Директор указал полицейским на свою изуродованную физиономию.
— Видите, как он уговорил меня принять этот подарок? — сказал он, и его лицо посерело от страха. — Этот Роуз — просто страшный человек. Господа, заберите как можно скорее это двухголовое чудовище! Я предпочитаю заменить его моим безобидным двухголовым теленком!
— Мы сделаем это достаточно быстро! Очистите немедленно помещение с этим уродом!
Затем полицейские вошли в стеклянную клетку и подняли спящего человека с кресла.
Сразу же стало ясно, что это обычный смертный, и голов у него не больше, чем у всех остальных его собратьев, потому что вторая голова, прекрасно выполненная из воска, тут же оторвалась и упала на пол.
— Это лейтенант полиции Диггер, — шепнул своему коллеге один из инспекторов. — Он пропал три дня назад, и начальство было весьма встревожено его исчезновением. Вероятно, его усыпили большой дозой какого-то наркотика.
— Господин Роуз, уверенный, что вы обязательно посетите меня, оставил для вас письмо, — сказал мистер Гленвиль.
— Вот как? — буркнул инспектор и выхватил из рук директора цирка сложенный вдвое листок бумаги. — Ну, что здесь написано?
«Мои дорогие друзья из Скотленд Ярда!
Вы обеспечили мне хорошее настроение! Не поверите, какое это огромное для меня удовольствие — убедиться, что вы еще глупее, чем можно было предположить. Поэтому я решил показать, какой я добрый, и вместо того, чтобы отрезать вашему коллеге его единственную голову, я подарил ему вторую…
Джек-полуночник».
— Но он же сидит в тюрьме! — воскликнул господин Гленвиль, стоявший за инспектором и успевший прочитать письмо, глядя поверх его плеча.
— Учтите, за вами будут наблюдать! — предупредил инспектор директора цирка, запихивая спящего лейтенанта Диггера в такси.
На следующий вечер мистер Гленвиль, искусно избавившийся от слежки ходивших за ним по пятам детективов, повстречался с мистером Роузом в каком-то зачуханном кабачке в Камбервелле.
— Полагаю, ваш вкладчик действовал, как нужно? — ухмыльнулся мистер Роуз.
— Вот результат! — ответил Гленвиль, протягивая Роузу пачку банкнот.
— Пять тысяч фунтов… Отлично, Гленвиль. Из них две тысячи ваши.
Господин Гленвиль порозовел от удовольствия.
— А как с цирком, патрон? Что вы решили сделать с ним?
— Помолчите, ничтожество! Цирком придется заняться лично мне. Что касается вас, то вам придется немедленно смыться в страну, которую вам укажет часовщик, один из ваших друзей.
Мистер Гленвиль пулей вылетел на улицу.
Ночью цирк загорелся, а поскольку директор не позаботился о своевременной оплате страховки, финансовый представитель директора, лорд Элмсфильд, не получил ни пенни.
* * *
Как ни странно, но история с цирком не насторожила Скотленд Ярд. Возобладало мнение, что действуют сообщники Харлисона, старающиеся убедить следствие в его невиновности. Эти происшествия — всего лишь грубые уловки!
Но изощренные действия мистера Роуза расстраивали их гораздо сильнее, чем они старались показать.
Вскоре этот странный хилый человечек появился на сцене во второй и последний раз.
Популярность ресторана «Долина царей» возрастала с каждым днем. После того, как бармены перестали давать сдачу меньше одного фунта, миллионеры, как английские, так и иностранные, посчитали себя обязанными ежедневно посещать модное заведение.
И они могли не жалеть об этом, так как Джим Хастон стал каждый вечер сочинять новый, так называемый «полуночный» коктейль. Всех интересовало, как он будет выглядеть именно этим вечером!
На третьем этаже была оборудована специальная лаборатория для знаменитого бармена. Только вместо кислот и щелочей, полки лаборатории были заставлены бутылками со спиртными напитками со всего света.
Приближались сумерки, и лицо великого мастера алкоголя выглядело все более и более озабоченным.
Он еще ничего не придумал, но с первым ударом часов в полночь новорожденный коктейль должен быть подан посетителям.
В этот момент все клиенты встают, поднимают тост за Джима Хастона, выпивают коктейль до дна и швыряют об пол бокалы, так как их уже нельзя использовать во второй раз.
Неужели сегодня вдохновение не посетит его? Тридцать мензурок с градуировкой заполнены разноцветными жидкостями, но Джим все еще остается недовольным.
«Рисовая или тростниковая водка, специальный экстракт из корицы, несколько капель спирта из сока молодой агавы, немного мексиканской водки, крупица амбры…»
Джим пробует капельку напитка кончиком языка — нет, это не то, о чем он мечтал. Этот состав слишком похож на предыдущие микстуры.
Он откупоривает бутылку с уникальным шампанским из Реймса, изготовленным по его рецепту, и выливает шампанское в серебряное ситечко, заполненное растертыми в порошок сухими фруктами.
«Нет, это тоже не то, что нужно!»
Снаружи поднимается сильный ветер, грозящий перейти в бурю.
В лаборатории становится очень жарко, так как два медных перегонных аппарата разогреваются на сильном пламени бунзеновских горелок. Джим открывает окно и вдыхает свежий воздух, насыщенный ночными ароматами. Сильный порыв ветра подхватывает портьеру, и она хлопает по потолку.
«Тростниковая водка, фруктовый сок, черный перец, вымоченный в портвейне…»
Две ярких электрических лампы над лабораторным столом внезапно гаснут, и Джим Хастон проклинает так не вовремя случившееся отключение света. Портьера яростно хлопает по потолку, и в дальнем углу лаборатории слышен звон бьющейся посуды.
Джим пытается нащупать выключатель и вскрикивает от неожиданности: чья-то рука накрыла фаянсовый переключатель.
— Это что еще за шутки? — ворчит Джим.
В призрачном свете голубых язычков пламени горелок он замечает неясный силуэт, прижавшийся к стене.
Несмотря на неожиданность, он молчит. Его взгляд словно магнитом притянут к слабо светящемуся в темноте предмету: это часы, светящиеся стрелки которых указывают без семи двенадцать.
— Слушаюсь! — бормочет бармен бесцветным голосом.
— Вот рецепт очередного полуночного коктейля, — негромко говорит пришелец.
* * *
Праздничная ночь. Танцы, экзотические мелодии, уникальные аттракционы.
Несмотря на всеобщее оживление, большинство взглядов не отрывается от наручных часов.
«Каким будет сегодня полуночный коктейль?»
Без пяти минут двенадцать; из холодильников извлекается множество серебряных шейкеров. Официанты поспешно разливают в великолепные бокалы богемского хрусталя душистый ликер, переливающийся в рубиновых и изумрудных красках. Зал заполняется пряным ароматом.
Великолепно! Джим Хастон превзошел самого себя! С каждым разом все лучше и лучше!
Полночь без двух минут! Все встают, чтобы разом выпить с первым ударом часов.
Джим Хастон поднимает руку…
— Леди и джентльмены!
Звучит гонг, вибрирующий строгий металлический звон…
— Ваше здоровье, леди и джентльмены!
Бокалы опорожнены одним глотком; помещение заполняется серебристым звоном бьющихся бокалов.
Слышится негромкий голос:
— Как называется новый коктейль?
— Роза мистера Роуза!
По воздуху проносится дружный вздох. Потом выпившие медленно, один за другим, садятся в полной тишине.
В восемь часов утра в полицейском участке Ковент Гардена раздался телефонный звонок.
— Наши комплименты господину Роузу. Благодаря ему есть новости из ресторана «Долина царей».
Немедленно примчавшиеся в ресторан полицейские обнаружили клиентов-миллионеров в весьма странном положении.
Кто-то лежал на столе, кто-то упал со стула и лежал на полу или на спине, или на боку. И все дружно храпели.
При этом, из их карманов исчезли деньги — все, до последнего су. Исчезли даже пуговицы с рубашек и фраков.
В виде компенсации, у каждого клиента к фраку была пришпилена карточка: «От Джека-полуночника».
Ресторану «Долина царей» был нанесен смертельный удар. Его гибель обошлась в огромную сумму его владельцу лорду Элмсфильду.
Глава XI Сюрпризы мистера Смарта
Неожиданно мистер Роуз перестал подавать признаки жизни. Он исчез из жизни Лондона так же внезапно, как и появился, оставив в недоумении множество читателей газет, которые так и не поняли, чего он добивался.
Спасти Роуланда Харлисона от виселицы?
Как бы не так!
В камере Харлисона появился длинный список адресов. Это были адреса адвокатов, предлагавших свои услуги по защите преступников и правонарушителей Соединенного Королевства.
Роуланд сделал из пера и бумажного квадратика стрелу, и с расстояния в три фута послал ее в список.
Дважды он попал в пустое пространство; на третий раз стрела воткнулась в фамилию адвоката Эдварда Смарта, кабинет 112 в квартале Инн.
В унылых и сырых зданиях Инна[57] селятся, благодаря дешевизне, самые бедные представители судейского сословия.
Этот квартал так часто описывался в книгах, что невозможно, говоря о нем, избежать повторений. Молодой адвокат, завтракающий половинкой копченой селедки и мечтающий о деле, способном сделать его богатым и знаменитым, живет здесь рядом со старым юристом, решившем использовать свои последние пенни для приобретения веревки, способной приблизить конец его жалкого существования.
Мистер Эдвард Смарт к этому времени уже вычеркнул из своего меню копченую селедку, ограничившись самой дешевой колбасой, серым хлебом и водой из ближайшего фонтана, когда неожиданно на него обрушилась совершенно сногсшибательная новость: его пригласили защищать Джека-полуночника.
Его первым инстинктивным действием была попытка поцеловать с благоговением небольшого белого слоника из фаянса, служившего ему талисманом.
Потом, несколько раз сосчитав и пересчитав завалявшуюся в карманах мелочь, он решил отправиться в Ньюгейт автобусом, а не на шикарном такси, как полагалось бы поступить защитнику столь знаменитого бандита.
Мистеру Смарту не было еще и тридцати лет, и поэтому он сохранил большинство юношеских иллюзий. Он почувствовал, что находится на заре великих дел.
Бедный безработный юрист, он внимательно следил за этим неясным туманным делом, по которому у него еще не сложилось собственное мнение.
После того, как он получил пропуск к своему подзащитному и познакомился с документами, у него появилась четкая убежденность вопреки всему, что было сказано и написано по этому поводу: Харлисон был невиновен.
Он попытался заинтересовать судей странной особой мистера Роуза.
Потом, старательно занимаясь пробором в еще достаточно густой шевелюре и обрабатывая щеткой свой единственный костюм, он произносил вслух фразы, странно звучавшие в его унылой комнате, длинной и узкой, словно салон трамвая.
— Доказательства, господа? Невозможно отправить на эшафот английского гражданина на основе столь слабых презумпций. Полиция очень хотела задержать Джека-полуночника, и ей подвернулся Харлисон, потому что…
Получалось, что он использовал старую песню создателей Скотленд Ярда.
Глупости!
Нельзя осудить человека таким образом.
«Скорее вам придется снять статую Нельсона с пьедестала и осудить его!»
Немного рассудительности никогда еще не испортило судебное заседание.
А если жуткий приговор будет вынесен?
Мистер Смарт знал, что его долг — находиться рядом с клиентом до рокового мгновения, и казнь подсудимого быстро стала кошмаром для него, тайком твердившего античные оды и мечтавшего о славе Байрона.
Но ведь он может остаться в общей памяти как адвокат, защищавший Джека-полуночника? Это всегда будет большим плюсом для него.
Пробор был прямым, костюм чистым, как новенькая монетка.
Удача явилась к нему в облике Скарлетта, судебного репортера, в которого он в спешке врезался на каменных ступенях Инна.
— Послушайте, Смарт, если бы я спешил, как вы, я спрыгнул бы с пятого этажа на парашюте, — проворчал Скарлетт, потирая ушибленный локоть.
— Да, я спешу, приятель, и еще как! Прошу извинить меня… Срочное сообщение из Ньюгейта, представляете?
Скарлетт почуял любопытную новость и удержал юного юриста решительной рукой, едва не испортив аккуратную складку на его костюме.
— Можно узнать, о чем идет речь?
Смарт небрежно протянул репортеру бумагу, и тот с трудом удержался от ругательства.
— Проклятье! Подождите, юный идиот. Я задержу вас на время, необходимое, чтобы поправить ваш перекосившийся галстук; вас ждет слава, так как два фотографа из «Депеши» сидят за стаканчиком в двух шагах отсюда. Примите озабоченный вид, который так пойдет вам на фотографии.
Мистер Смарт поправил галстук, немного поколебался, подумав про сигарету, потом отбросил эту мысль, сочтя ее слишком фривольной, и двинулся дальше.
Четыре вспышки магния встретили его в зале.
— Номер появится сегодня вечером? — спросил адвокат у репортера, изображая безразличие.
— Вы получите десять экземпляров до шести часов! — сообщил ему репортер.
Смарт жестом остановил его и задумался.
— Пусть будет двадцать, — пробормотал он.
Вскоре Джо Партнер, главный страж заключенного, открыл адвокату камеру его клиента.
— Эдвард Смарт, — представился адвокат, взволнованный до глубины души.
Харлисон поднял на него усталый взгляд.
— Давайте сразу же уладим вопрос с гонораром, — сказал он. — У меня на счете в банке осталось, если не ошибаюсь, несколько сотен фунтов. Они и будут вашим гонораром, поскольку я все равно давно проиграл.
Мистер Смарт, впервые услышавший о существовании таких денег, едва не задохнулся от волнения. Потом бесконечная благодарность охватила его.
— Нет, нет! Я спасу вас!
Впервые за долгое время инженер рассмеялся.
— Я не сомневаюсь, мой дорогой мсье Смарт, что вы сделаете невозможное, чтобы извлечь меня отсюда. Я когда-то решил не иметь дела с защитником, потому что мое дело следует считать заранее проигранным. Но потом я подумал, что мне все же нужно иметь рядом человека, которому я смогу передать свое последнее желание. О, ничего особенного, это обусловлено моей сентиментальностью; нужно будет передать мое последнее прости одному лицу, которое, вполне возможно, вам никогда не доведется встретить.
Мистер Смарт все равно не отказался от своих планов, и на протяжении двух следующих часов рассказывал Харлисону о проделках загадочного мистера Роуза.
— Что вы можете сказать об этом? — с триумфом сказал он. — Только то, что Джек-полуночник продолжает действовать, несмотря на то, что вы находитесь за решеткой! Разве не так?
Ответ Харлисона произвел на энтузиазм адвоката действие холодного душа.
— Я скажу, что это еще одна загадка среди множества других, мой дорогой Смарт. Люди, так усложнившие мою жизнь, не оставляют меня в покое.
— Что это за люди? — спросил ошеломленный адвокат.
— Когда вы ответите на этот вопрос, двери Ньюгейта сразу же распахнутся передо мной, — улыбнулся Харлисон.
Мистер Смарт не успокоился.
— Вас нельзя осудить до тех пор, пока все загадки, во множестве роящиеся вокруг вас, не найдут решения.
— Это не так. Достаточно задать мне следующий вопрос:
«Как получилось, что вы однажды очутились в подвалах Скотленд Ярда?»
И я не смогу ответить на него…
— Ай, ай, ай, — пробормотал мистер Смарт.
— Давайте поговорим о чем-нибудь другом, — предложил Роуланд.
Они расстались друзьями после того, как мистер Смарт с большим чувством продекламировал «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда.
В шесть вечера фотография мистера Эдварда Смарта появилась на первой полосе «Депеши» в сопровождении невероятно хвалебного текста. Адвокат как раз закончил второй раз перечитывать статью, после чего аккуратно отложил в сторону полученные им экземпляры газеты, решив подарить их своим друзьям, когда его внимание привлек легкий шум.
Кто-то просунул ему под дверь большой конверт.
Мистер Смарт понюхал его, попытался прочитать имя отправителя на конверте, но обнаружил, что он девственно чист, после чего открыл дверь и выглянул наружу.
Мрачный коридор оказался совершенно пустым. Только ледяной ветер время от времени проносился по нему, поднимая пыль и изображая орган с помощью лестничных клеток.
— Что же, посмотрим, что находится в конверте, — произнес адвокат, устраиваясь за столом.
Распечатав конверт, он отшатнулся и вскрикнул от удивления. Из конверта вывалилось несколько пестрых бумажек: десять банкнот по сто фунтов каждая и листок бумаги с текстом, написанным от руки на обороте рекламы сапожного крема.
Надпись гласила: «Плата за защиту этого идиота Харлисона».
Прошло некоторое время, прежде чем наш бравый адвокат пришел в себя и поверил в свое удивительное везение.
Он пересчитал деньги, перечитал записку и погрузился в фантастические мечты. Время от времени он то вскакивал со стула и начинал бегать по комнате, то останавливался, выкрикивая фразы:
— Это не могут быть галлюцинации! Это невероятно! В этой истории многое никогда не будет сказано! Хотел бы я знать, кто находится за фасадом этой невероятной комедии!
Он машинально перевел взгляд на щель под дверью, благодаря которой в его руки попало это удивительное послание.
Ему мерещится? Он прикоснулся пальцем к горячему стеклу лампы. На пальце немедленно образовался пузырь от ожога. Он принялся сосать палец, негромко поскуливая от боли.
Значит, это ему не мерещится!
Под дверью появилось еще одно письмо!
Удача быстро становится обыденной реальностью, и мистер Смарт даже немного расстроился, когда оказалось, что во втором письме находилась всего одна бумажка в сто фунтов. Зато в нем находилась крайне любопытная записка, гораздо более важная, чем простая просьба хорошо защищать клиента.
«Вниманию мистера Смарта, адвоката!
Передать вашему подзащитному Роуланду Харлисону следующее: Вы большой шельма, Харлисон, но я все же хону сделать для вас кое-что. Тот камень „Сердце Бхавани“, что сейчас у вас в руках — это кусок цветного стекла. Где настоящий рубин? Скажите правду, и я извлеку вас из-за решетки».
Едва двери тюрьмы распахнулись перед посетителями и адвокатами, как мистер Смарт уже стоял перед камерой своего клиента. Он передал ему содержание письма, которое запомнил наизусть.
Харлисон почувствовал охватившую его тело дрожь.
Облик эшафота, к которому он давно привык во время кошмарных снов, начал растворяться в свете загоравшейся перед ним зари надежды.
* * *
«Сердце Бхавани!»
Неожиданно он увидел перед собой странный красный салон, появившийся когда-то перед ним, словно ночной сон.
Огромный рубин в ларце из черного дерева.
Глухим лихорадочным голосом он рассказал об этом происшествии мистеру Смарту, выслушавшему его с открытым от изумления ртом словно ребенок, которому в первый раз рассказывают сказку из Тысячи и одной ночи.
Потом он неожиданно замолчал.
— Послушайте, Смарт, я тут наговорил вам… Это все выдумки, бред… — После продолжительной паузы он добавил:
— Забудьте все, что я рассказал. Я придумал эту историю, так как она создавала у меня видимость надежды… Нет, ничего этого не было. Я ничего не знаю.
Когда Харлисон замолчал, перед его внутренним взором появился образ Нэнси Уорд, девушки, похитившей фантастический рубин.
— Короче, забудьте эту историю, Смарт. Она не стоит ломаного гроша…
Адвокат вздохнул.
— Действительно, нам нужно придумать что-нибудь получше… Эта ваша история ни в какие ворота не лезет… Я постараюсь забыть ее, как вы советуете…
Но это обещание имело смысл всего лишь для адвоката, потому что в тот момент, когда он давал его, Джо Партнер, главный сторож тюрьмы, отошел от двери в камеру, к которой прижимался ухом.
В обеденный перерыв Джо Партнер не отправился домой, а поехал автобусом до Чипсайда. Сойдя с него, он немного попетлял по улицам, постоянно оглядываясь, после чего зашел в таверну, где его ждал одинокий посетитель.
— Знаете, — сказал Джо, наклонившись к нему, — я очень многим рискую. Если узнают, что я делал здесь, я вернусь в Ньюгейт не старшим сторожем, а обычным заключенным.
Собеседник улыбнулся ему из-за дымчатых стекол очков.
— Успокойтесь, мой храбрый друг. Вы можете рассчитывать на абсолютную скромность с моей стороны. Это вам подтвердит банковский билет в пятьдесят фунтов, выпущенный английским банком.
После этого Джо Партнер подробно пересказал мужчине в очках все, что он услышал во время разговора Харлисона со своим адвокатом.
Глава XII Красная комната
Протоколы допросов обычно только увеличивают объем дела, не добавляя в него ничего существенного. К тому же, процесс Харлисона перестал оставаться в центре внимания публики, так как ее внимание переключилось на более интересные события.
Прежде всего, на горизонте появился новый Джек-потрошитель; сначала шум вокруг него поднялся в Девоншире; из Девоншира он перебрался в Кингстон, а из Кингстона — в предместья Лондона.
В прессе проскальзывали сообщения, что немецкие шпионы посещали арсеналы Вулвича, словно портовые таверны.
Неизвестный цеппелин блуждал безлунной ночью над спящим Сити.
* * *
В течение шести дней «двенадцать честных и лояльных граждан», какими искренне считали себя присяжные заседатели, рассеянно прислушивались к унылым дебатам, проклиная напрасно потерянное время.
Они проснулись в тот момент, когда раздались гневные вопли обвинителя, крикливого дурака, рвавшегося к успеху, как паршивый актеришка с Друри-Лейн. После него они смогли позабавиться отчаянием адвоката Смарта, долго путавшегося в длинных фразах.
Бравый маленький адвокат на какое-то непродолжительное время завладел их симпатией, когда обозвал публичного обвинителя марионеткой и старой девой.
Но председатель строго призвал его к порядку, и «двенадцать честных и лояльных граждан», приравняв автоматически себя к этому видному юристу, тут же обрушили на маленького нахала взгляды, полные упрека.
Потом целых тридцать минут в мрачном зале господствовали эмоции: лорд Элмсфильд выступал с речью против обвиняемого.
Этот авантюрист Харлисон едва не стал его родственником! Негодяй ухитрился похитить сердце восхитительной Бетти Элмсфильд!
Ревнивый ветер пролетел над судейскими скамьями. Ну, теперь-то мы ему покажем, этому негодяю, как претендовать на руку самой богатой и самой красивой наследницы Соединенного Королевства!
Лорд Элмсфильд закончил свою речь сообщением о пропаже Бетти. Куда она исчезла? Когда имеешь дело с Джеком-полуночником, можно ожидать худшее. Он сказал, что потерял всякую надежду снова увидеть племянницу. Поэтому отныне его старость продлится в печальном одиночестве, его состояние пойдет на благотворительные цели, а у него останутся только воспоминания.
Эти слова прозвучали звоном погребального колокола для инженера. Все окончательно стало понятно обвиняемому и его защитнику.
Никто поэтому не удивился жутким заключительным словам, обычным для криминальных процессов Англии: «Guilty! Виновен!»
Роуланд Харлисон будет повешен через три недели.
Дел о Джека-полуночника было завершено фразой: «Осужденный останется подвешенным за шею, пока не наступит смерть».
С этого момента Харлисон оказался во власти смерти.
* * *
После оглашения приговора полиция совершенно перестала интересоваться особняком на Найтрайдер-стрит. Преступник был приговорен к смерти через повешение, и приговор было точкой в его деле.
Если бы появился Каннинг, то, может быть…
А куда пропал капитан Гровер?
Хороший вопрос! Разумеется, детектив-призрак после своей смерти вел только то существование, которое предписывал ему Каннинг.
Лорд Дембридж с горечью подумал об этом. Он не забывал про Каннинга, помнил его колебания.
Но ведь дело закрыто, не так ли?
Преступника повесят, о нем забудут.
Но приговор был вынесен двадцать дней назад.
Значит, Харлисон умрет завтра?
Если точно, то через шесть часов, потому что сейчас одиннадцать часов вечера.
После вынесения приговора какой-то человек каждый вечер проникает в небольшой таинственный дом. Он входит, словно к себе, опускает на окнах занавески и тяжелые шторы и устраивается в столовой, откуда уходит с началом рассвета.
Он часами сидит в кресле, размышляя и непрерывно дымя уродливой глиняной трубкой.
Это маленький человечек, плохо одетый, со странными манерами.
Каждый вечер он достает из кармана плоский ящичек, выкладывает из него на стол часы в медном корпусе и внимательно рассматривает их.
Иногда он обращается к воину на картине Гильдебрандта, чтобы сообщить ему какую-нибудь общеизвестную истину; так, например, сегодня вечером он сказал, что Харлисон будет повешен через несколько часов, что он будет далеко не первым невиновным, погибшим от руки палача, и что это, в конце концов, не имеет никакого значения.
— Мой старый приятель, — сказал он, — твой шлем, твой крест и твоя муха — это все просто пыль в глаза. Если бы ты мог говорить, ты бы сказал мне то же самое. Если кто-то хочет остаться абсолютным хозяином тайного общества, то ему достаточно окружить себя романтичными историями. Это общеизвестные правила прикладной психологии.
В этой истории нет ничего, кроме психологии. Когда-то мне были даны католическими монахами определенные инструкции, и из них я запомнил это замечательное слово: психология. Хотел бы я знать, как оно может пригодиться мне сегодня.
Если бы только я смог узнать побольше про красный салон… Похоже, что именно с ним связано очень и очень многое.
Но воин на картине продолжает молчать, и это ничуть не удивляет его собеседника.
Неожиданно маленький человечек хлопает себя по лбу.
«Харлисон был пьян, как ломовой извозчик в тот вечер, когда он попал в красный салон. Это в данном случае не только извинение, но и объяснение. Вместо того, чтобы войти в свою столовую, он оказался в таинственной комнате.
Это кажется невозможным. Но, вполне возможно, что он прошел через эту комнату, погруженную в темноту, потому, что его привлекла другая, ярко освещенная комната.
Он подошел к стене и остановился под картиной.
Это слишком просто, чтобы можно было догадаться сразу. В этой стене имелся выход, но его нельзя открыть с этой стороны. Вот и все… Чтобы понять это, мне понадобились два десятка бессонных ночей, тогда как было достаточно иметь связку отмычек».
Человечек сильно расстроен тем, что называет своей глупостью.
Через несколько минут он выключает свет и оставляет дом, в который больше никогда не вернется, потому что ему все стало понятным.
Оказавшись на улице, он не спешит уйти. Он неторопливо поднимается на перрон соседнего дома, некоторое время возится с отмычками, наконец, находит подходящую и открывает дверь.
Слабая лампочка-ночник освещает вестибюль, в точности похожий на вестибюль здания, из которого он только что ушел.
Он толкает дверь, ведущую из вестибюля во внутренние помещения и с удовлетворенным вздохом опускается на низкий диван в красной комнате.
* * *
Полночь!
Харлисон, задремавший с наступлением темноты, просыпается. Тюремные часы отбивают двенадцать ударов.
— Джек-полуночник!.. Полуночник… Полуночник… — шепчет негромкий голос в разрывающейся от боли голове.
Каждые три минуты задвижка на дверном глазке поднимается, появляется чей-то глаз и тут же исчезает.
Никто из больных никогда не охранялся так тщательно, как этот человек, которого должны убить через несколько часов.
За решеткой на окошке горит керосиновая лампа. Нельзя допустить, чтобы отключение электричества оставило в темноте человека, готового к встрече с палачом. Разумеется, старинная керосиновая лампа в этом отношении оказывается более надежной, чем лампа электрическая.
Низкая кровать, намертво прикрепленная к полу. Стол. На столе лежит Библия. Стоит эмалированный кувшин с водой. С наступлением ночи у заключенного отобрали недоеденный кусок хлеба. Не потому, что его хотят заставить проголодаться; известны случаи, когда приговоренный к смерти ухитрялся задушить себя хлебной мякотью.
Обходы каждый час.
Удалось ли Харлисону заснуть?
Да, он заснул. Часы в центре тюрьмы пробили час. Бронзовый человечек, выскочивший из часов, заставил четыре раза зазвенеть колокол.
Харлисону мерещится, что откуда-то из глубины строения доносятся стоны и неясные звуки. Скорее всего, они существуют только в его голове, так как предсмертная горячка не позволяет мозгу успокоиться.
Часы отбивают четыре. Ему остается час.
Если бы только он смог уснуть…
Он закрывает глаза.
* * *
Полночь!
В красном салоне на эбеновом столике необычный посетитель разложил несколько медных часов. Он раскурил трубку, но тут же отложил ее. Из кармана он достал нож и попробовал на ногте его остроту.
Полночь!
Где-то в доме стенные часы отбивают серебряные удары; музыкальная шкатулка играет меланхоличную мелодию, которую мужчина сопровождает ритмичным покачиванием головы.
С двенадцатым ударом дверь на улицу осторожно открывается.
Мужчина протягивает руку к выключателю, и в комнате становится темно.
Дверь салона открыта.
Кто-то с тяжелым вздохом входит в темный салон.
Он тоже протягивает руку к выключателю, но его руку тут же кто-то хватает и с яростью начинает выкручивать. Звучат глухие удары, в темноте раздаются стоны и бессвязные жалобы.
Через несколько минут схватка в темноте заканчивается. Слышен негромкий смех человечка с часами, странный металлически звучащий смех, вызывавший ужас у господина Стангерсона, у Джима Хастона и у многих других.
В красной комнате снова загорается свет. Двое мужчин обмениваются взглядами. Один из них лежит на полу; у него на руках стальные наручники. Второй стоит рядом и, чиркнув спичкой, пытается разжечь трубку.
— Роуз! — восклицает лежащий человек.
Второй кивает головой.
— Если вам будет угодно… Как вы себя чувствуете, Джек-полуночник?
— Что вы потребуете? — спрашивает лежащий, не называя имени.
— Вашу шкуру! — любезно отвечает человечек.
— Двадцать тысяч фунтов.
— Этого мало.
— Пятьдесят тысяч? Сто?
— Нет; поскольку количество чисел не имеет ограничения, вы можете продолжать называть их до страшного суда.
— Вы детектив?
— Ни в коем случае. Я всего лишь… мелкий банковский служащий, и я предъявляю вам договор с истекшим сроком. Величина для расчета — это ваша шкура, Джек-полуночник.
— Потребуйте лучше денег, сколько хотите, но денег, — умоляет потерпевший поражение соперник.
Мистер Роуз даже не считает нужным ответить. Он встряхивает плоский ящичек, и перекатывающиеся в нем часы тарахтят, словно игральные кости в рожке.
— Каждому члену банды — одни часы, — говорит он. — Это их опознавательные знаки, секретный пропуск для преступников. Но они меня не интересуют. Посмотрите, все они показывают двадцать две минуты первого. Это говорит вам о чем-либо?
Человек, которого мистер Роуз назвал Джеком-полуночником, пытается вспомнить.
— Кажется нет. Вроде бы ничего особенного… Почему это вас интересует?
На приятном лице мистера Роуза вспыхивает ярость.
— Скажите, в вашей ли власти вернуть жизнь человеку, получившему смертельный удар кинжалом в сердце и после этого находившемуся восемь дней в воде? — спрашивает он.
— У вас будут другие друзья вместо него. Один отвратительный детектив, китаец, или юная девушка, — ворчит лежащий на земле.
— Скажите, где они сейчас? Они могут участвовать в рассмотрении дела этого болвана Харлисона, если для этого хватит времени.
— Сначала освободите меня!
— Ваши рассуждения лишены логики, Джек-полуночник! В этом мире они ничем вам не помогу, но Тот, кто вскоре будет судить вас, пожалуй, сможет найти основания, чтобы простить вас.
Человек в наручниках изрыгает страшное ругательство.
— А вот это ничуть не поможет вам уладить ваши проблемы, — недовольно бросает мистер Роуз. — Но я попытаюсь помочь вашей душе, заставив вас говорить.
— Никогда!
— О, напротив!
Трубка мистера Роуза начинает сердито шипеть. Неожиданно он опускает ее раскаленной стороной на глаз Джека-полуночника.
Раздается страшный крик, но мистер Роуз заглушает его, зажав рот несчастного.
— Что, мне нужно будет перейти к другому глазу, Джек?
Тот, не ожидая продолжения, начинает говорить.
Мистер Роуз слушает, уточняя отдельные фразы или требуя пояснений, которые немедленно получает.
— Ключи должны быть у вас в кармане? — спрашивает он.
Затем он достает ключи и внимательно рассматривает их.
— Так это именно ключи от ваших знаменитых подвальных тюрем, где стонут ваши пленники? — спрашивает он с легким налетом сарказма в голосе.
Джек молча кивает головой.
Мистер Роуз становится крайне серьезным.
— Вы оказались неподалеку от царства абсолютного закона, — медленно произносит он. — Вы готовы поклясться, что все это правда? Со своей стороны, я обещаю вам быструю смерть без страданий.
— Я клянусь!
— Надеюсь, что вы избежите вечного проклятия, Джек! — задумчиво произнес мистер Роуз. — Да сжалится Всевышний над вашей душой!
Он склоняется над побежденным противником, держа кинжал спрятанным в рукаве.
Неожиданно он наносит удар… Всего один страшный удар.
Джек-полуночник умер мгновенно, даже не вскрикнув. Послышался только громкий вздох, вздох не страдания, а печали и усталости.
Часом позже мистер Роуз вышел из великолепного особняка хозяина Сити. Его сопровождали двое мужчин и одна женщина. Казалось, что они попытались в последний момент удержать его, но он отказался с решительным видом. Тогда сопровождающие расцеловались с ним, и мистер Роуз подозвал проезжавшее мимо такси. Усевшись в него, он что-то приказал водителю.
Машина помчалась на огромной скорости через спящий город, стараясь следовать как можно ближе к набережным. Машина оказалась замечательной.
Вскоре она проехала печальные пригороды столицы.
Первый свет зари отразился на светлых речных пляжах.
Мистер Роуз достал из кармана толстую пачку банкнот и, не считая, сунул ее потрясенному водителю.
— Мне подождать вас, мсье? — спросил он.
Господин Роуз жестом отпустил его.
Он подождал, чтобы шум мотора затих вдали, потом подошел к журчащему водному потоку.
— Тед! — тихо сказал он. — Тед Соумз! Ты отмщен! Я выполнил свою миссию! Теперь я смогу спокойно спать в той же земле, что и ты. Тед Соумз, ты слышишь меня? Я надеюсь, что Бог позволит нам встретиться! Ты слышишь меня, Тед Соумз? Это я, Сол Перлмуттер!
Разбежавшись, он прыгнул в воду и исчез.
Воды Темзы всегда несут в море обломки, павших животных и трупы людей.
Заря украшает их серебряными блестками.
Из тумана выступила блестящая колокольня небольшой церкви.
Ее треснувший колокол пробил, задребезжав, пять часов.
Глава XIII Пять часов
Веревка лопнула, и человек рухнул в пустоту…
— Вы упали в щель между стенкой набережной и бортом судна, мистер Харлисон, — произнес женский голос. — Но я оказалась рядом, и смогла спасти вас. Такое случается крайне редко. К счастью, вы оказались в числе немногих везунчиков… Хотите выпить что-нибудь?
Роуланд был удивлен, увидев, что его обслуживала стюардесса Нэнси Уорд. И с нее стекала вода.
— Вот и вы, Нэнси, — произнес он бесцветным голосом. — Какие у нас странные встречи… А что это за судно, на котором мы находимся? Я совершенно ничего не помню, как я оказался на борту…
Нэнси приложила палец к губам.
— Значит, вы ничего не помните, Роу?
Инженер немного удивился — она впервые назвала его сокращенным именем, и в данной ситуации ничто не объясняло эту внезапную фамильярность. Он подумал, что ненавидит ее. — Да, я ничего не помню. Впрочем, мне наплевать на это.
— Такое говорят все повешенные, — сказала Нэнси, скорчив презрительную гримаску.
Роуланд хлопнул себя по лбу.
— Действительно, меня же должны были повесить! Но как тогда я попал сюда?
— Это ваша судьба! Когда веревка обрывается, жертва всегда оказывается на этом судне. Но вы немного промахнулись и упали в воду.
— Все равно я плохо понимаю происходящее со мной. Получается, что я был повешен?
— В высшей степени правильно рассуждаете, мой малыш Роу!
— Во-первых, я не ваш малыш Роу, а во-вторых… Я начинаю кое-что понимать! Все, кто находится на этом судне — это мертвецы! — воскликнул Харлисон. — И вы в том числе, мисс Уорд! Вы тоже мертвы! Дурацкая комедия… Но я с удовольствием выпил бы еще немного этого бренди.
— Хорошо, но мне сначала нужно разбудить комиссара Чермана. Дрыхнет, как сурок… Я постучусь в дверь его каюты. Сейчас ровно пять часов.
Роуланд услышал, как ее каблучки застучали, удаляясь, по коридору. Потом хлопнула открывшаяся дверь. Затем шаги прозвучали в обратном направлении, и рында где-то вдали отбила пять ударов: один… два… три… Он машинально считал удары, внимательно вслушиваясь.
Он находился в центре плотного серого тумана, словно побеленного известью, с пятнами неопределенных теней и нечетких форм.
Одна из форм неожиданно материализовалась. Это оказался стол.
На столе лежала Библия.
Металлическая крестовина перед окном с толстым рифленым стеклом… Поляризованный свет выхватывал из мрака отдельные предметы, оставляя все остальное в тени. Стол, Библия, помятая жестяная кружка…
И каждый предмет кричал: пять часов!
Возможно, стол отсчитал пять ударов его ноги по плиткам пола; кружка повторила их благодаря своей звонкой пустоте; Библия прошептала их легким шорохом своих листов.
Судно исчезло; он находился в камере. В камере, расположенной вплотную к выходу во внутренний дворик тюрьмы; благодаря этому, путь на Голгофу немного сокращался.
Можно только поблагодарить небо, когда последние часы осужденного теряются во сне.
Странный пароход! Роуланд еще видел отдельные детали корабельного салона из полированного дерева, лампу в карданном подвесе, светлые глаза иллюминаторов, заполненные морем и небом.
— Возможно я скоро снова попаду туда!
Он подошел к дверям — все же на три шага придется проделать меньше, когда за ним придут.
И он слышал, что за ним уже шли: шаги и негромкий шепот в коридоре, бренчанье ключей…
Харлисону казалось, что эти звуки продолжают его сон, в котором они предваряли появление Нэнси Уорд.
«Я поручу Смарту сказать Нэнси в случае, если ему удастся отыскать ее, что я думал о ней за несколько минут до конца, что она была моим последним сном».
Наружные запоры на двери камеры загремели, руки Харлисона стиснули Библию, его взгляд метнулся на стену в поисках распятия.
В камеру вошел начальник охраны Партнер… И вошел один!
— Господин Харлисон, — сказал он взволнованным голосом, — вас ждут в кабинете директора.
— Что вы сказали? Вы что-то сказали?
— Вам нужно в кабинет директора, мсье… Мне кажется, вам должны сообщить какую-то приятную новость.
— Ну, разумеется, — ухмыльнулся Харлисон. — Продолжается история с судном мертвецов. Знаю я эти штучки. Хочешь войти в столовую, а оказываешься в красной комнате, после чего вас заставляют поселиться в доме, где вам нечего делать. Из камеры ты попадаешь на судно, а потом с судна ты возвращаешься в камеру. Вместо эшафота тебя отведут в кабинет директора! Вот так-то, жизнь продолжается для меня без каких-либо изменений.
— Так и есть, бедняга свихнулся, — пробормотал Джо Партнер. — Действительно, попробуй сохранить здесь здравый рассудок…
* * *
Он толкнул обитую войлоком дверь в кабинет директора тюрьмы.
Ну и ладно, сон продолжается, это очевидно.
Высокий джентльмен, светлая голова которого торчала из мехового воротника, протянул ему руку.
Харлисон узнал его: лорд Дембридж, глава Скотленд Ярда.
Милорд хочет пожать руку осужденному на виселицу — наверное, потому, что того собираются подвесить достаточно высоко… Ситуация вполне достойна перехода в потусторонний мир…
Быстро проясняются другие лица вокруг.
Каннинг, суперинтендант Скотленд Ярда, бледный, с красными (от слез?) глазами; Бетти Элмсфильд; наконец, загадочная фигура, заставившая вздрогнуть инженера: Ванг!
Вся эта публика смотрит на Харлисона со странными улыбками, за исключением китайца Ванга, уставившегося на туфли инженера.
Первым заговорил лорд Дембридж.
Ничего не скажешь, великолепная речь. Он высокопарно рассуждал о судебной ошибке, о необходимости простить. Простить кого? Харлисона? Ни в коем случае, совершенно наоборот. Это Харлисон должен простить служителей закона, простить их за допущенную ими ошибку. Он должен принять во внимание огромную пользу, приносимую человечеству при борьбе с преступностью.
— Теперь моя очередь, — сказал Каннинг. — Я должен рассказать вам, господин Харлисон, одну историю.
Инженер судорожно вздохнул; его глаза перебегают с одного лица на другое.
— Я, кажется, начинаю понимать, — пробормотал он.
— Что вы признаны невиновным, и что с этого момента вы свободны? Да, вы свободны во всех отношениях, мсье Харлисон! — громко произнес лорд Дембридж.
Розовые лучи рассвета поникают через окна кабинета, заставляя побледнеть резкий свет электрических лампочек.
Харлисон жадно поглощает этот свет, словно жизненную сущность. Каннинг выжидает минуту, посвященную возвращению к солнцу человека, избежавшего смерти, потом продолжает:
— Да, я расскажу одну короткую историю. Когда-то в Лондоне, по адресу Найтрайдер-стрит 1826 жил человек, по фамилии Смит. Это был преступник, возглавлявший банду из трех десятков человек, каждый из которых получил часы, указывавшие одну из минут после полуночи, своего рода индекс. Ему самому соответствовала полночь, почему он и получил кличку «Джек-полуночник». Хотя на деле он заслуживал индекса «одна минута после полуночи»; но об этом я скажу позже.
Смит, или Джек-полуночник, однажды отправился в Аден, где его благополучно отправили на тот свет. Насколько мне известно, еще один джентльмен едва не последовал за Джеком, не так ли, мсье Харлисон?
Но господин Харлисон был спасен тайным агентом нашей полиции, мистером Вангом.
Инженер посмотрел на Ванга, сидевшего потупившись, с таким видом, словно все происходящее вокруг него не имело к нему отношения.
— Представьте удивление мистера Ванга, — продолжал Каннинг, — когда он обнаружил живым, в лапах у арабов, человека, труп которого он видел несколько часов назад. Потому что Смит и вы, мистер Харлисон, были похожи, как близнецы за исключением цвета волос и нескольких шрамов. Эта гипотеза уже фигурировала в процессе, но, к сожалению, она не возобладала.
Ванг сразу же понял, как ему использовать это сходство. Он следил за Смитом, начиная с Лондона, но он был уверен, что Смит — это всего лишь инструмент в руках гораздо более серьезного преступника — настоящего Джека-полуночника.
Ванг подчинил вас, пользуясь вашей признательностью, и стал использовать вас с благой целью. С вашей помощью он надеялся добраться до Джека-полуночника.
Он многое мог бы рассказать вам, но опасался неловкости с вашей стороны, которая могла бы пробудить подозрения у главного бандита.
На самом деле главарь попал впросак с двойниками. Кроме того, оказалось, что убитый Смит не знал истинного лица своего шефа!
Конечно, мы могли следить за таинственным домом на Найтрайдер-стрит, прослушивать телефонные переговоры между вами и настоящим Джеком-полуночником. Но на деле мы блуждали в темноте.
Однажды перед нами забрезжила надежда на успех; это было во время операции в районе Верхней Темзы. Благодаря вам, полиция потерпела оплаченное кровью поражение, так как вам удалось спасти роковую женщину, сообщницу Джека-полуночника, в тот момент, когда она практически уже находилась в наших руках.
— Нэнси Уорд! — печально пробормотал Харлисон.
Странная улыбка промелькнула по лицу детектива, но он не стал называть имя.
— По сути, вы стали причиной многих наших затруднений, мистер Харлисон. Вы перестали быть для нас полезным, вы отвлекали на себя наше внимание.
— Я в первый раз спас Нэнси Уорд из океана, — сказал Харлисон мрачным тоном. — И я хотел помочь ей во второй раз, когда хотел спасти ее из рук Джека-полуночника.
— Вот именно! Вот она — мужская сущность! — рассмеялся суперинтендант. — И вы добровольно сунулись прямо в пасть полиции, если так можно выразиться, пройдя тайным туннелем, выбравшись из которого вы столкнулись носом к носу с шефом Скотленд Ярда!
— Но почему вы не попытались убедить лорда Дембриджа, что он ошибается? — воскликнул Харлисон.
— Сейчас объясню. Дело в том, что к этому времени настоящий Джек-полуночник уже разобрался во всех тайнах. Он собирался — гораздо раньше палача из Ньюгейта — уничтожить вас. И тогда…
Каннинг замолчал.
— И тогда, мистер Харлисон, одна женщина решила любой ценой спасти вас!
— Нэнси! — воскликнул молодой человек, порозовев от волнения, — Простите, но это не так. Это была мисс Бетти Элмсфильд.
Харлисон молча посмотрел на девушку, не веря услышанному. Бетти нежно и печально смотрела на него.
— Я хотела выйти за вас замуж, Роуланд, — сказала она.
— Но зачем вам нужно было спасать меня? И от кого?
— От Джека-полуночника! — решительно заявил Каннинг. — От Джека-полуночника, который, узнав о намерении мисс Элмсфильд, похитил ее, а заодно захватил Ванга и меня, и отправил нас к ней, в ту же тюрьму.
— Джек-полуночник сделал вас своим пленником? — удивился Харлисон.
— А вы не думаете, что не случись этого со мной и Вангом, на вас ни в коем случае не смогла бы упасть тень виселицы? — ответил детектив. — Вы знаете, что мы вышли на свободу всего лишь несколько часов назад?
Бетти Элмсфильд встала. Она решила что-то сказать.
— Я главная виновница всего случившегося.
Лорд Дембридж резко запротестовал.
— Нет, мисс Элмсфильд, виноватых в этой истории нет. Поэтому власти решили, что все, имеющее к ней отношение, должно остаться в тайне. Харлисон будет реабилитирован и Англия, которую я представляю, выражает надежду на его скромность в отношении того, что ему осталось узнать.
Лицо мисс Элмсфильд осветилось бледной улыбкой.
— Это решение не только спасает меня от тюрьмы, но и не позволяет мне лишиться состояния, — сказала она с иронией.
— Джек-полуночник мертв, и это главное, — заявил лорд Дембридж.
— Что вы сказали? — воскликнул Роуланд.
— Да, он мертв, и пусть судьей ему будет Бог, — дрожащим от волнения голосом сказала Бетти. — Я никогда не была его сообщницей, но, когда я познакомилась с его криминальной жизнью, я решила покончить с собой… Простите меня, но он по-своему любил меня… Это был лорд Элмсфильд, мой дядюшка…
Несмотря на то, что почти все присутствующие уже знали все подробности, слова Бетти потрясли их. Харлисон окаменел, словно перед ним появилась Медуза-Горгона.
Тяжелое молчание снова прервала Бетти Элмсфильд. Она подошла к инженеру и положила ладонь на его руку.
— Я хочу все исправить, — глухо произнесла она. — Роуланд, я повторяю просьбу, которую высказала недавно… Вы готовы жениться на мне?
Харлисон некоторое время молчал. Ему казалось, что лицо Бетти перед ним расплылось в тумане. Жениться на Бетти Элмсфильд? На самой богатой невесте Англии? Пространство вокруг него начало медленно перекашиваться и расплываться.
Что? Кто-то заплакал? Но плакала не Бетти, на ее лице отражалось молчаливое, без слез, страдание.
Образ недавнего прошлого возник перед ним. Харлисон понимал, что наступил самый решающий момент его жизни.
Он увидел узкое смуглое лицо, обрамленное черными вьющимися волосами… На фоне поблескивающей в лунном свете поверхности моря…
— Мисс Элмсфильд, — пробормотал он, — вы оказали мне невероятную честь, но… Но мое сердце не свободно… Я люблю…
Внезапно он встряхнулся и закричал:
— Я не знаю, что с ней стало! Наверное, я навсегда потерял ее! Но я всегда буду искать ее… Это Нэнси Уорд!
— Хвала Господу! — воскликнул Каннинг, вскакивая со стула. Рядом с ним снова послышались рыдания. Нет… Этому невозможно было поверить — плакал Ванг, китаец-полицейский…
И дальше произошло нечто совершенно невероятное: слезы проложили глубокие дорожки на желтых щеках, появились смуглые полоски, потом краски расплылись, парик съехал на сторону…
— Нэнси! — закричал инженер.
— Это она! — торжественно провозгласил Каннинг.
И чудесные черные глаза взглянули сквозь слезы на Харлисона.
Он заколебался. Он уже хотел протянуть руки к той, которую всегда искал, к той, мысль о которой никогда не покидала его даже на пороге смерти.
— Значит, это вы втянули меня в это приключение, вы сделали меня своей игрушкой, своей марионеткой? Вы всегда играли жуткую комедию, за которую расплачиваться приходилось мне?
— Роу! — крикнула Нэнси, заламывая руки. — Умоляю вас, выслушайте меня!
Роуланд Харлисон повернулся к шефу Скотленд Ярда.
— Лорд Дембридж, скажите: я свободен?
— Как птица в небе, мистер Харлисон, — с улыбкой ответил милорд.
Австралиец направился к двери, но остановился в нескольких шагах от нее.
— Нэнси Уорд! Я любил вас, даже считая воровкой… Но женщина-полицейский… Шпик в юбке… Полицейская прислуга… Грязная шпионка… О, нет! Прощайте!
Глава XIV Написано на воде
Стены Эдистона обрываются в море, над которым высится маяк. Белоснежные пески Уэссана[58]* сверкают на солнце; старина «Джервис Бей» плывет по расплавленному золоту. — Океан расстарался для последнего плавания бедняги Джервиса, — сказал комиссар Черман пассажиру, облокотившемуся на планширь на правом борту.
Роуланд Харлисон ответил бывшему приятелю несколькими вежливыми нейтральными фразами. Какое ему дело до смерти этого парохода? У него продолжаются свои похороны — похороны его мечты, его счастья.
— Я тоже собираюсь оставить работу, — продолжал старый моряк. — В Йоркшире меня ждет небольшой коттедж, сад с бенгальскими розами, но…
Все буде казаться мне пустым без жены и без детей! И я буду грустить о море…
— Коттедж, бенгальские розы, жена и дети! — машинально повторил Роуланд.
Нужно выпить! Да, самое подходящее время, чтобы выпить. Когда тебе тоскливо, ты не найдешь друга лучше, чем виски!
В курительной комнате не совсем пусто, как можно было ожидать в это время. Одинокий пассажир сидит, закрывшись развернутой газетой. Очевидно, это «Таймс».
Роуланд узнает пассажира и хмурится: Каннинг!
Суперинтендант откладывает газету.
— Я поднялся на борт в Ливерпуле, — говорит он.
— Чтобы арестовать меня? — с мрачным юмором интересуется Харлисон.
— Нет, совсем не для этого. Мне нужно сказать вам кое-что неприятное, мистер Харлисон.
— Как интересно! — агрессивно бурчит инженер. — И что же это такое?
— Сейчас расскажу, мсье! Я появился здесь только для того, чтобы сообщить вам: вы, Роуланд Харлисон, существо неблагодарное и бессердечное. А если коротко, то вы дурак, Харлисон.
— Мистер Каннинг! — воскликнул инженер, нахмурившись.
Каннинг встает, и на его лице отражается не гнев, а глубокая печаль.
— Роуланд, вы должны выслушать меня, — просит он. — Нэнси… Нет, не прерывайте меня… Она умрет, если ничего не изменится. Она любит вас, она не может жить без вас! Она любила вас с первой же минуты вашей встречи, несмотря на ваше поразительное сходство с уголовником Смитом… Стойте, не уходите. Я швырну вас в море, если вы не дадите мне сказать все, что я хочу, чертов упрямец!
У меня не осталось никого. Она стала моей дочерью с того времени, когда ее отец, мой лучший друг, погиб от руки Джека-полуночника.
Ее отец, самый честный человек из известных мне людей, самое чистое сердце на земле… Джек-полуночник прислал в Скотленд Ярд его голову, и мы до сих пор храним ее в секретном отделе нашего музея. Мы поклялись перед ней, что отомстим за него. Ее отец — это капитан Гровер!
Нет, Нэнси не была шпионом. Она изучала филологию в Кембридже. Она записалась в ряды полиции только для того, чтобы отомстить за отца. Она руководила многими операциями, и руководила весьма разумно, но увы! Ей оставалось только надеяться на удачу… Несмотря на помощь детектива-призрака, капитана Гровера… Вы поняли? Это Нэнси Гровер!
И эту девушку вы позволили себе грязно обругать, Роуланд Харлисон! Вы не джентльмен.
— Значит, она не служит в полиции? — спросил Харлисон угасшим голосом.
— Несмотря на неоднократные предложения лорда Дембриджа, она оставила Скотленд Ярд. Таким образом, капитан Гровер окончательно уволился из полиции.
— Несчастная девушка! — вступил в разговор Черман. — Ей нужно зарабатывать на жизнь! Она обратилась к директору пароходной компании, предложив ему свои услуги.
Ничего не понимающий Харлисон растерянно смотрел на Чермана.
— Сейчас она на борту Джервиса, — закончил старый моряк. — У нее должность стюардессы, но это чистая формальность.
Позади них раздался звон бьющегося стекла. По салону распространился запах виски.
Роуланд обернулся к… К девушке в черной форме, стоявшей с виноватым видом, в белом переднике и шапочке с кружевами.
Он ничего не сказал, но решительной рукой снял с нее передник и шапочку, символ профессии служанки.
— Только не это! — негромко произнес он.
— Каннинг, — неожиданно сказал комиссар Черман, — мне сказали, что за пароходом увязалось множество дельфинов. Вы не хотите полюбоваться на них?
— Я давно надеялся на это, — поспешно ответил суперинтендант.
За их спинами громко захлопнулась дверь курительного салона.
Роуланд и Нэнси поняли, что сегодня они встретились, чтобы провести вместе всю оставшуюся жизнь.
— Там почти пустыня, — объяснил Роуланд, — но этот коттедж мне кажется очень красивым, хотя он не очень большой. Зато в саду цветут бенгальские розы.
— Вместе с умной и красивой женщиной и оравой детей это будет земной рай, — оценил Черман.
— У этих детей будет двое дедушек. Надо же, как им повезло! — добавил Каннинг.
Нэнси не сказала ничего. Она всматривалась в появившуюся на золотистом вечернем горизонте нечеткую полоску австралийского берега.
«Джервис Бей» заканчивал свое последнее, самое прекрасное путешествие.
Жан Рэй.
Барселона — Гибралтар, 1922, Гент, 1932.
СТРАННЫЕ ИСТОРИИ БИЛОКА (Les histoires étranges de là Biloque) Сборник
Предисловие
Номера «Тетрадей Билока». Прекрасная бумага, хорошая печать, элегантный формат. Белая обложка с красными буквами и строгой черной гравюрой. Разумеется, среди авторов много врачей, поскольку речь идет о «бельгийском журнале медицинского гуманизма». Несколько современных бельгийских писателей. В их числе Макс Довиль, Мишель де Гельдероде, Жан Рэй.
Когда заходит речь об этом вошедшем в историю престижном издании, нельзя не вспомнить, что оно находилось под эгидой старинного госпиталя, созданного в XIII веке. Одновременно вспоминается Жан Рэй и средневековый город Гент, видевший, как он родился, жил и умер. Их симбиоз объясняет расцвет мистицизма и готической фантастики, столь характерных для его творчества; на них накладывается полная приключений жизнь моряка и разочаровывающая посредственность жизни обычных людей. Потому что историческому наследию этого старинного портового города с монастырем бегинок и несколькими больницами, рабочими тупиками и зданиями корпораций в тени величественного Графского Замка соответствует легендарное литературное наследие Реймона де Кремера (он же Жан Рэй, Джон Фландерс и многие другие), составившее мировую славу бельгийской литературы.
Извилистые, плохо мощеные улочки, дома со слепыми фасадами, грязные мастерские ремесленников у подножья величественных соборов, старинные причалы из сгнивших бревен. И толпы горожан, контрабандистов, призраков, чудовищ, моряков, подозрительных буржуа на фоне декораций, деформированных «сумеречными видениями».
«Мои персонажи, как правило, это простые люди: чиновники, бакалейщики, мелкие торговцы, школьные учители, и матросы, которых я заставляю столкнуться с неизвестным. Среди них не встречаются столь дорогие английским писателям лорды или ученые, и вообще хоть чем-то прославившиеся знаменитости. Если я иногда делаю своими героями врачей, то только потому, что я отношу их к простым людям, хотя и более образованным, своего рода элите народной массы.
Еще реже я ищу своих героев в Лондоне, на Харви-стрит, среди сильных мира сего. Я предпочитаю находить их в мелкобуржуазных и даже бедных кварталах. Бедные люди часто идут на преступление, так как уровень их знаний, их культура и их пренебрежительное отношение к смерти позволяют им легче становиться на путь преступления».
Сотрудничество Жана Рэя с «Тетрадями Билока», начиная с 1952 года, можно считать своего рода возвращением к истокам, к «Историям виски» (1925) и «Круизу теней» (1932) после временного пребывания в тени, последовавшего за бурным периодом создания ряда произведений, изданных в Бельгии во время Второй мировой войны: это «Великий Ночной», «Круги ужаса», «Мальпертюи», «Город невыразимого страха», «Последние истории Кантербери» и появившиеся уже после войны, в 1947 году, «Книга призраков» и антология «Черные искры». К этому же периоду относится переиздание во Франции романа «Мальпертюи» и, наконец, появление в 1961 году сборника «25 лучших черных и фантастических историй».
В «Билоке», выходившем шесть раз в год, были опубликованы 63 новеллы, в том числе 47 относящихся к лучшим у Жана Рэя, как считал сам автор, так как они предназначались для университетских читателей, верных приверженцев культурных и художественных явлений.
Действительно, только в «Билоке» проявилось с такой силой все разностороннее богатство таланта Жана Рэя, его творческое разнообразие; многие его рассказы вполне обоснованно считаются небольшими шедеврами литературы, объединяющей воображение с магической властью глагола. Одно лишь перечисление входящих в «Билок» произведений вызывает интерес и способно завораживать все новыми и новыми эмоциями.
Первая выборка, сделанная самим Жаном Рэем, незадолго до его кончины, составила сборник «Карусель зла» (1964)[59]. Затем появился второй сборник, получивший название «Сумеречные лица и предметы» (1982; 1985)[60]. Это название, придуманное самим автором, и однажды им даже заявленное, так и осталось при его жизни в виде проекта.
Чтобы завершить издание опубликованных в «Билоке» новелл, потребовалось издание третьего сборника рассказов, не вошедших в два первых. Не все они были написаны на высоком уровне, и было решено опубликовать только фантастические новеллы. Потребовалось произвести отбор, что противоречило стремлению опубликовать все подряд, настолько интенсивно проявлялся гений Жана Рэя в текстах самого разного жанра. Было изъято семь репортажей, хотя и под весьма многообещающими названиями, но относящихся скорее к обычному журналистскому жанру: «Заколдованный аптекарь», «История с хрустальным шаром», «Трагический доктор», «Неизвестный гений», «Обычное чудо Лизье», «Базилика Лизье», «Трилогия признательности». Эти произведения позднее вошли в один из томов полного собрания сочинений Рэя.
В итоге появился сборник «Странные истории „Билока“»; это сравнительно короткие рассказы, посвященные проявлениям ужаса в самых разных формах и похожие на те, что были опубликованы ранее, хотя среди них встречаются и другие тексты, насыщенные фантазмами, которые заслуживают того, чтобы отразить необычные стороны творчества автора.
Известно, что Жан Рэй, автор, широко использующий игру воображения, одновременно писавший студенческие песни, журналистские репортажи и юмористические тексты, прежде всего, воспевал мрачную звезду Ужаса. Он не гнушался сентиментальности, позволяя своему золотому сердцу создавать такие новеллы, как «Вернувшийся».
Ему дорога в то же время и другая тема: посвященная гипергеометрии, проникновению в параллельные миры четвертого измерения, о чем он говорил в новеллах «Опыт с Лоранс Найт», «Формула» и «Господин Бэнкс и ракета Ланжевена», Эта сторона его творчества обычно остается неизвестной большинству любителей его творчества, точно так же, как приключенческие романы и рассказы, написанные для юношества под псевдонимом Джон Фландерс, Не совсем обычными следует считать и рассказы, похожие на волшебные сказки, которые так любят дети, и которые «укрепляют нежность», как сказал Клод Сеньоль; это «Каменный людоед», «Грибы для Святого Антония» и «Сорока Святой Марии».
Не забудем и юного Эдмонда Белла (Джона Фландерса) с двумя полицейскими расследованиями, напоминающими приключения Гарри Диксона. Это «Преступление на улице Круа-де-Пьер» и «Господин Кадиша будет убит завтра».
Несколько лет назад дочь Жана Рэя мадам Люсьен де Ланге дала согласие на продолжение издания рассказов из журнала «Билок», еще не изданных в виде книги. Очередной посмертный сборник был создан с уважением к этой задаче, и с соответствующими эмоциями. Мы надеемся, что он будет отвечать ее ожиданиям и явится очередным памятником ее отцу.
Надин Мориссе де Леенер.
Брюссель, октябрь 1996.
Цезарь (César)
Мы с Вельдером были не столько друзьями, сколько соседями, причем очень хорошими соседями. Мы жили на краю печальной фламандской деревушки вблизи нидерландской границы, и наши садовые участки были смежными. Самой близкой к нам была одна ферма; дым над ее крышей мы хорошо видели, хотя она находилась на расстоянии около половины лье[61] от нас. Между нашими участками проходил отводной канал. Наши отношения возникли и укрепились благодаря одиночеству, холостяцкому образу жизни и достаточно преклонному возрасту.
Вельдер, до того, как ушел на пенсию, преподавал естественные науки в каком-то провинциальном коллеже. С того времени у него сохранилось пристрастие к механике и, в особенности, к автоматам.
Его дом был заполнен забавными и любопытными устройствами, такими, к примеру, как пожилой голландец, куривший трубку и время от времени вынимавший ее изо рта, чтобы сплюнуть на землю; мегера, избивавшая своего мужа метлой; карапуз, на мой взгляд, совершенно раблезианского вида, и многие другие.
Он попытался воспроизвести, в уменьшенном виде, барабанщика Вокансона[62], но потерпел неудачу; ничего не получилось у него и с копированием легендарных говорящих голов аббата Микаля.
Потом он взялся за то, что называл «мой великий труд» — это был робот, на создание которого у него ушло пять лет. Полученный им результат я могу назвать вполне приемлемым.
У него получился робот кубической формы, какие постоянно встречаются в иллюстрированных молодежных журналах, существо размером с человека, выполнявшего несколько движений, типичных для марионетки. Он мог проделать несколько шагов, сесть, встать и протянуть руку для приветствия.
Через некоторое время Вельдер, заинтересовавшийся радиотехникой, заставил своего робота подчиняться командам, переданным с помощью волн Герца. Для этого он создал сложный прибор, который, как он говорил, был его изобретением.
Из случайно попавшейся мне на глаза статьи в техническом журнале я узнал, что подобные устройства давно использовались в радиотехнике, причем применялись довольно ограниченно.
На мой взгляд, гораздо важнее было то, что робот был создан не в стальном или алюминиевом корпусе, а в оболочке из пластмассы, гибкой и легкой, состав которой Вельдер держал в тайне.
Устройство, напоминавшее обычный диктофон и размещавшееся в корпусе автомата, позволяло ему говорить, то есть произносить хриплым голосом несколько слов, таких, как «да», «нет», «добрый день», «спасибо», «хороший день» и «идет дождь».
Радиопередатчик, приводивший автомат в действие, управлялся дюжиной кнопок и несколькими рычагами; он был снабжен также контрольными лампочками и приборами, стрелки которых показывали различные параметры вроде напряжения, силы тока и тому подобное.
Эта аппаратура занимала целый стол, в нескольких метрах от которого располагался робот.
Мне сдается, что Вельдер был разочарован результатами своего «великого труда» и был не в состоянии усовершенствовать его.
Однажды вечером, когда мы опустошили большой кувшин с великолепной можжевеловой настойкой из Голландии, приобретенной нами у явного контрабандиста, Вельдер, находясь в хорошем настроении, назвал своего робота Цезарем.
* * *
Это случилось душным вечером в конце июня.
День был необычно жарким, и наступивший вечер не принес облегчения, так как ртуть на термометре оставалась на отметке в тридцать градусов по Цельсию. Тяжелые тучи заволокли небосвод, и нам пришлось включить освещение за пару часов до наступления вечера.
Большие бокалы с пивом, которые мы опустошали жадными глотками, были не в состоянии утолить нашу жажду, и наши физиономии блестели от пота.
— Похоже, что собирается серьезная гроза, — проворчал Вельдер, вытирая пот платком. — А я собирался показать вам новое достижение Цезаря. Мне удалось научить его брать со стола бокал с пивом и делать вид, что он выпивает с нами за компанию, хотя он пока еще не умеет аккуратно переворачивать бокал, не расплескивая содержимое. Но этот опыт придется отложить, так как включать автомат в грозу слишком опасно. Мне нужно будет отключить его от сети, потому что сильный грозовой разряд может разрушить его сложную начинку.
Он опустил рубильники и даже вывинтил контрольные лампочки.
Робот застыл неподвижной глыбой в дальнем углу комнаты, на своем обычном месте.
Вскоре после этого гроза в полной мере проявила свою ярость.
Удары грома, похожие на артиллерийские залпы, сотрясали дом до основания, дождь рушился сплошным водопадом, крупные градины били в стены и окна с опасной силой и разнесли вдребезги стекла теплицы. Чудовищные вспышки молний ослепительным пожаром заливали пространство.
Внезапно нас ослепила вспышка, гораздо более мощная, чем все предыдущие; сплошное зарево фиолетового огня, настоящее огненное цунами, сопровождавшееся оглушительным грохотом взрыва гигантской авиационной бомбы.
— Тополь! — воскликнул Вельдер.
— Оба тополя! — закричал я.
Два громадных тополя, стоявших стражами у начала подъездной аллеи, рухнули в огне и дыму.
Я все еще продолжал с ужасом смотреть на горящие деревья, когда услышал приглушенный вопль Вельдера.
Трясущейся рукой он указывал на робота.
Автомат шатался, дергался, нелепо двигая руками; внезапно он кинулся к столу, издавая страшный хрип.
— Этого не может быть! — закричал Вельдер. — Он отключен от сети!
Бешено мотающиеся руки автомата зацепили стол; послышался звон бьющейся посуды.
— Это невозможно! — уже тише повторил ошеломленный Вельдер.
Робот закрутился на месте, словно волчок, потом бросился в сторону и врезался в буфет, превратив находившуюся в нем посуду в груду битого стекла.
Не знаю, почему, но в этот момент я окликнул робота, совершив очевидную глупость:
— Цезарь!
Робот застыл на несколько секунд в странном оцепенении, потом медленно повернулся в мою сторону.
Господи!
Он прорычал:
— Кровь!
Внезапно из черной дыры его пасти посыпались страшные ругательства, отвратительные проклятья, произнесенные жутким нечеловеческим голосом.
— Его глаза! — простонал Вельдер.
Мой сосед для забавы поместил в орбиты автомата лампочки, загоравшиеся попеременно то красным, то зеленым светом. Но сейчас на его лице горели не эти мирные огоньки — на нас смотрели пылающие яростным огнем зрачки свирепого тигра.
— Цезарь! — заорал, словно безумный, Вельдер.
Механическое чудовище зарычало, потом заревело, и вырывавшиеся из его пасти звуки становились все более и более высокими, буквально раздирающими наши барабанные перепонки. Потом он завизжал:
— Заканчивайте свое дело, мерзавцы, демоны… Я обещаю… Я, Майк Байнес… Я прикончу вас всех… Роджера, Коллинса… Сю Бэнкс, грязную крысу… Прикончу… Ааааа!..
Он рухнул; сильные толчки сотрясали его корпус.
— Я весь горю… горю… горю…
Жуткий хрип завершился протяжным стоном, и он застыл. Наступила тишина.
— Боже! — заикаясь, пробормотал Вельдер. — Вы только посмотрите!
Тонкая струйка дыма поднялась сначала над квадратной башкой чудовища, потом над его левой ногой.
Я почувствовал отвратительный запах и с трудом сдержал рвотные позывы. Похоже, что рядом с нами горела, обугливаясь, плоть. Только теперь я осознал, что адское создание говорило на английском языке…
* * *
Через пару дней наше местная провинциальная газета опубликовала короткое сообщение:
«Нью-Йорк, 18 июня. Знаменитый гангстер Майкл Байнес, или просто Майк, был казнен в тюрьме Синг-Синг на электрическом стуле. Казнь протекала при весьма драматических обстоятельствах».
Мне пришлось промчаться тридцать километров на мотоцикле, чтобы найти парижский журнал, посвятивший целый разворот драме, разыгравшейся на другой стороне Атлантики.
Смерть у Майка Байнеса оказалась не из легких. Четыре раза подряд через его тело пропускали электрический ток. Каждый раз он ревел, как безумный, чередуя жалобы, признания, ругательства и угрозы, в то время, как электроды раскалялись до красного цвета, и он начинал поджариваться, сидя на электрическом стуле.
Присутствовавший при казни журналист приводит последние слова казненного:
— Заканчивайте, мерзавцы, проклятые демоны, я обещаю… Клянусь, я, Майк Байнес, доберусь до всех вас…
Мы с Вельдером слышали эти слова…
Учитывая разницу во времени, мы определили, что судороги нашего Цезаря в точности совпали с временем казни Байнеса.
Этот вывод ошеломил Вельдера. Он с ужасом смотрел на обугленные останки своего робота и негромко стонал:
— Это невозможно… Это нельзя представить…
Нужно совсем не знать Вельдера, чтобы подумать, что он навсегда останется при этом мнении.
Через несколько дней он изложил гипотезу, которую назвал на сто процентов научной, но она была настолько абсурдной, что я не решусь привести ее.
Я ограничусь тем, что, согласно Вельдеру, душа мертвецов путешествует на волнах Герца так же легко, как сигналы Морзе или концерт в исполнении оркестра Би-би-си. Естественно, необходимо выполнение определенных условий, которые он собирался установить рано или поздно.
Само собой разумеется, что до сих пор он так ничего и не выяснил, и новый Цезарь, занявший место в углу гостиной, выглядит еще более мерзко, чем его предшественник.
Совершенно очевидно, что если Бог и раскроет когда-нибудь тайну жизни и смерти, то он сделает это не с помощью электрического явления вроде грозы, и не благодаря недоучке вроде Вельдера.
Николас Абадон и его умерший отец (Nicolas Abdoon et feu son père)
Тридцать лет назад в одном из домов квартала Бермондси скончался доктор Абадон. Уже много лет он жил один и, как говорят, был настолько скупым, что питался тараканами, добытыми на своей кухне.
Некоторое время спустя после похорон в адвокатской конторе Фоксвелл и Куррент в Тампле появился джентльмен. Он бросил на стол вышеназванным законникам несколько бумаг и заявил:
— Я Николас Абадон, сын скончавшегося доктора Аба-дона, и я хочу вступить во владение его домом.
Мистер Фоксвелл не сразу восстановил ментальное равновесие, потому что этот визит сильно ошеломил его. Он знал, что Николас Абадон исчез давным-давно, вероятно, лет тридцать назад.
Но посетитель объяснил, спокойно и четко:
— Мне было шестнадцать лет, когда мой отец поместил меня в Бедлам[63]. Он был прав, так как я был безумен. В двадцать лет я сбежал из сумасшедшего дома. Познакомьтесь с моими бумагами: в них характеристики, полученные от трех врачей с Харли-стрит[64], в том числе отзыв одного известного психиатра; все они утверждают, что в настоящее время я полностью здоров душой и телом.
Мистер Фоксвелл счел необходимым поздравить господина Абадона.
— Таким образом, я вступаю во владение домом отца.
— Надеюсь, вы не увидите много изменений, — заявил законник. — Господин Абадон, ваш отец, был… скажем, весьма консервативной личностью.
* * *
В октябре установилась сырая и туманная погода. Николас Абадон решил обосноваться в комнате, когда-то служившей его отцу кабинетом для осмотра пациентов. Он разжег угольные брикеты в небольшой печурке и устроился в кресле, повернувшись лицом к висевшему на стене портрету, написанному художником, считавшимся знаменитостью в последней четверти XIX века.
На портрете был изображен мужчина с черной бородой и жестким взглядом, одетый в строгий сюртук.
— Здравствуй, отец, — сказал Николас, — вот я и вернулся.
Он раскурил сигару и плеснул в стаканчик немного виски.
— Я должен был вернуться раньше, гораздо раньше, чтобы разбить вам голову ударом кочерги, но это было бы жалкой местью ребенка. Вы заслуживаете большего, мой отец. Скажем, несомненно заслуживаете… Я знаю, что вы сейчас слышите меня, вы не могли поступить иначе.
В то время мне было четырнадцать или пятнадцать лет. Когда наступал вечер, я проходил вестибюлем, обычно очень плохо освещенным. Я входил в эту комнату, где сидели вы спиной к огню и полировали скальпели, сверкавшие, словно лучи луны.
Я вскрикивал:
— Мне страшно!
— Чего ты боишься? — спрашивали вы.
Я не знал, что ответить, и говорил, что меня пугает что-то очень страшное.
После этого вы снимали со стены свой охотничий хлыст и избивали меня до крови.
— Я должен научить тебя ничего не бояться, — говорили вы.
Однажды заснув, я вскоре проснулся с диким воплем.
Слуги никогда не оставались на ночь в нашем доме, и я принялся звать отца. Он почему-то не появлялся.
Я знал, ЧТО В МОЕЙ КОМНАТЕ НАХОДИТСЯ БОЛЬШОЙ УЖАС, но не мог определить, что именно пугает меня. Я вскочил с постели и кинулся искать отца. В этот момент отворилась входная дверь, и вошли вы.
Ваше черное пальто намокло от дождя, и с бороды стекали струйки воды.
Первой вам под руку попалась толстая трость с серебряным набалдашником; она успешно заменила охотничью плетку, и у меня оказались сломанными два ребра.
С того момента я был безжалостно брошен на растерзание ужасу.
Мне было страшно, когда я проходил полутемным вестибюлем, когда входил в свою комнату, потому что ощущал нечто жуткое, что таилось за закрытыми дверьми; я боялся, засыпая под ледяными простынями, намокшими от моего холодного пота, я боялся моих снов и даже моментов моего пробуждения, несмотря на наступивший рассвет.
Вы наказывали меня все более сурово, все более жестоко, потому что мне не удавалось научиться читать, писать и считать так, как вам хотелось.
Однажды вы заперли меня в мансарде… В отвратительной небольшой кладовке на чердаке. Я, дрожа, забился в угол, и не только потому, что там царил жуткий холод, но потому, что мне было страшно, невероятно страшно.
На следующий день на чердаке нашли жалкое растерзанное существо, бессмысленно завывающее и явно лишенное рассудка.
Отец не колебался ни минуты: он немедленно отправил несчастное чудовище, в которое я превратился, в сумасшедший дом.
И он был прав: потому что я потерял рассудок ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО Я ТАМ УВИДЕЛ.
* * *
Я провел лет пять в аду Бедлама, пока мне не удалось сбежать.
Потом я много лет посвятил путешествиям. Я побывал в Индии, в Тибете, на самых далеких островах, затерянных в почти неизвестных морях. Что я там делал? Я добывал деньги, потому что без денег я был ничем. Я много времени посвятил поискам колдунов, чудотворцев, магов и некромантов, а также поклонников самых тайных религий. Немало лет потребовалось мне, чтобы понять самые мудрые учения, а также на то, чтобы приобрести оружие, наиболее подходящее для мести. Теперь вам, мой отец, придется расплатиться, и не только за ужасное зло, которое вы причинили мне…
Николас извлек из футляра странную драгоценность. Это был камень с гравировкой, разбрасывавший по сторонам беспокоящие зеленые лучи.
— Какая глупость — наказывать живого человека! — ухмыльнулся он. — То ли дело — наказать мертвеца!
Он направил странный зеленый свет на портрет и прокричал заклинание громовым голосом.
— То, что я видел — красных призраков с распоротыми животами, пустыми черепами и зияющими глазницами; отдельные кровоточащие органы — глаза, легкие, внутренности… Вы слышите, Абадон, мой отец: вы — Джек-потрошитель!
Зеленый луч образовал небольшое круглое пятно на бородатом лице.
Николас растерянно смотрел на портрет: с ним ничего не происходило! Его проклятье, которое должно было заставить содрогнуться звезды и призвать демонов, оказалось пустым звуком!
— Даже в аду можно проколоться и приобрести подделку! — воскликнул он, свирепо засмеявшись, и отшвырнул зеленый камень.
Он взял со стола один из больших скальпелей, от которых хирурги давно отказались и пробормотал, подойдя к портрету:
— Это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что я намеревался…
В тот момент, когда он хотел пропороть картину, она сорвалась со стены. Большая картина с тяжелой рамой рухнула на него и сбила с ног. Падая, Николас Абадон наткнулся на скальпель и вогнал его себе в живот.
Его хрип продолжался не дольше, чем рычание порыва ветра, пронесшегося по улице.
* * *
Небольшие искры, сначала зеленые, затем ставшие фиолетовыми вырывались из бесполезного магического камня. Они, постепенно увеличиваясь, превратились в небольшие язычки фиолетового пламени, закружившиеся по комнате, словно болотные огни. Они быстро сожрали мебель; затем обычный красный огонь с шумом распространился по комнате. И дом загорелся; вскоре запылал и весь квартал Бермондси.
Дыра в стене (Le trou dans le mur)
В том углу комнаты, где стоял туалетный столик, на пересечении трех плоскостей, то есть пола и двух стен, имелась дыра. Небольшая, не больше монетки в двадцать су, она казалась Хорси совершенно черной. Она выглядела такой жуткой, что он не осмеливался заткнуть ее; подходя к ней, он ожидал, что из нее в любой момент может появиться клешня, коготь или жало. Впрочем, эти опасения не объясняли мистический страх, который он испытывал, посмотрев на нее или даже просто вспомнив, что она существует.
Он снял комнату с еженедельной оплатой на бедной улочке в Айслингтоне у пожилой молчаливой женщины, не только не задавшей ему ни одного вопроса, но даже не спросившей, как его зовут. Она вполне удовольствовалась оплатой авансом за две недели. Это устраивало и Хорси; денег у него хватало, но его очень беспокоили любые проявления интереса посторонних к его особе.
Старушка готовила ему еду два раза в день; как правило, она ограничивалась блюдами с большим количеством лука, к которым он едва прикасался; в последнее время аппетит у него почти полностью пропал. Он выходил на улицу только вечерами, когда наступали сумерки, чтобы подышать свежим воздухом, хотя воздух в Айслингтоне, насыщенный заводским дымом, только раздражал его горло и легкие.
В первый день он колебался между двумя барами, пропахшими пивом и пуншем, и не остановился ни на одном из них, так как с удовольствием узнал, что его хозяйка торговала из-под полы элем и крепким спиртным.
Каждый вечер после короткой прогулки он находил у дверей своей комнаты кувшин с портером и полпинты бренди; за эти напитки он никогда не забывал заплатить на следующее утро, когда хозяйка приносила ему чай с гренками.
Однажды она спросила его:
— У вас бывают посетители? Интересно, что я никогда не видела, чтобы к вам заходил кто-нибудь, и, в то же время, я слышала, как вы с кем-то разговаривали.
Хорси нервно дернулся от этого вопроса, но тут же собрался и вежливо ответил хозяйке, что она вполне могла слышать его, потому что у него была очень давняя привычка разговаривать с самим собой.
— У всех бывают небольшие странности, — согласилась хозяйка. — Вот я, например, не могу заставить себя не корчить гримасы, когда стою перед зеркалом.
Пиво и бренди позволяли Хорси уснуть, хотя и ненадолго; обычно ему приходилось вставать ночью, чтобы принять бром, если он не хотел крутиться в постели, наблюдая, как сквозь шторы начинает просачиваться рассвет.
Когда он обнаружил дыру в стене, ему пришлось заменить бром снотворным, позволявшим ему погрузиться в тяжелый сон, но не избавлявшим от сумбурных, переходящих в кошмары, снов.
Он не сомневался, что в дыре обитало какое-то существо, время от времени выбиравшееся по ночам наружу для того, чтобы побродить по комнате.
Что это было? Паук, сколопендра, мокрица, многоножка или какое-нибудь другое насекомое, имени которого он не знал?
Иногда сквозь сон ему чудилось, что он слышит, как неизвестное существо бродит по комнате, постукивая когтями по полу и ощупывая мебель своими усиками.
Иногда ночью его кошмар приобретал овеществленную форму, и он видел в полусне…
Он видел какие-то нечеткие, расплывчатые тени, в которых не было ничего от живого существа; это было нечто аморфное, неопределенное… Но каждый раз он четко представлял, что это явление связано со смертью. То есть, оно настойчиво навязывало сознанию спящего ИДЕЮ СМЕРТИ.
Когда он просыпался, все, почудившееся ему ночью, казалось ему еще менее определенным, но зловещее впечатление сохранялось.
Только один раз, очнувшись от еще более кошмарного, чем обычно сна, он увидел, как над дырой к потолку поднялось облачко черного тумана, сконденсировалось и приняло традиционную форму Смерти.
Появление скелета мало обеспокоило его. Он тупо наблюдал, как костлявая, стоя между туалетным столиком и стеной, пыталась починить свой инструмент, рукоятка которого оказалась поломана. Она старательно обматывала ее веревкой.
Веревка была толстой, блестевшей от грязи и жира, и она почему-то показалась Хорси более жуткой, чем блестящее лезвие косы и череп ее хозяйки.
К счастью, второй раз этот кошмар его не посетил, иначе Хорси вряд ли смог сохранить в целости свой рассудок.
Он передвинул одно из кресел, закрыв таким образом дыру в стене, но он знал, что дыра все равно существует, черная и глубокая, и в ней скрывается какая-то опасная тайна.
Подходил к концу третий месяц его пребывания в этой комнате, когда однажды утром он услышал шаги на лестнице. В комнату вошли, не постучавшись, двое мужчин; за ними, в сумраке лестничной площадки, Хорси заметил фигуру констебля.
— Я инспектор Хокинс, — сообщил один из вошедших. — Вы — Вильям Хорси, и я от имени Ее Величества пришел арестовать вас. Предупреждаю, что все, сказанное вами, может быть использовано против вас.
Во время первого же допроса Хорси узнал, что полицейский инспектор использовал дыру в стене для установки акустической трубки, благодаря которой он мог, находясь в соседней комнате, хорошо слышать все, что говорил Хорси, беседуя с самим собой.
В этих мрачных монологах Хорси неизменно возвращался к рассказу о том, как он убил свою тетушку Бетси Боун и похитил ее сбережения.
Когда через три недели его повесили, закрыв лицо черной тканью, он не смог увидеть веревку, использованную палачом.
ОНА БЫЛА ТОЛСТОЙ И БЛЕСТЕЛА ОТ ГРЯЗИ И ЖИРА.
Опыт с Лоранс Найт (L'expérience de Laurence Night)
Я предвидел, что гроза начнется с наступлением сумерек. День был очень жаркий, термометр около полудня показал 35 градусов. Над рекой клубились испарения, и отвратительный запах распространился по прилегающим к реке улицам.
Грозовые тучи надвигались с юга, образуя несколько отдельных вытянувшихся к северу клиньев.
Природа, если вам нравится так называть то, что является для кого-то Провидением, а для других — Неизвестным с прописной буквы «Н», как нельзя лучше служила мне. В то же время, не исключено, что какую-то роль в наших отношениях играли мои желания и моя воля. Грозы развили во мне некоторые способности, в том числе выработали во мне талант предвидения, суть которого я плохо понимал.
Можно сказать, что я обычно даже не думал о своей способности к предвидению и не пытался выяснить его причины.
Мне достаточно было знать окончательный эффект проявления этих способностей, которые я почувствовал в себе много лет назад. Так, в школе, на уроках физики, когда я сидел на электрической табуретке с включенной машиной Рамсдена[65], из меня можно было получить не жалкие небольшие искры, а яркие фиолетовые огни, касаясь которых мои одноклассники обжигали руки.
Подлинное понимание истины произошло позднее. Это случилось в лаборатории профессора Менде.
Шин, ассистент профессора, давал инструкции усталым голосом.
Толстяк, он сильно потел, так как в помещении с низким потолком было жарко, как в доменной печи.
Он старался держаться на расстоянии от студентов, так как с помощью горелки Бунзена разогревал содержимое реторт и колб с разными жидкостями.
Где-то вдали глухо ворчал гром, а на противоположной стороне улицы на концах громоотводов плясали огоньки Святого Эльма.
В этот момент я установил существование трех разных явлений.
В глубине зала среди множества редко использовавшихся приборов стоял старый гигрометр. Я ОТЧЕТЛИВО ВИДЕЛ ВОЛОСОК ПРИБОРА, НАТЯНУТЫЙ МЕЖДУ ДВУМЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ.
За последним столом сидел уткнувшийся в микроскоп Миллер, студент четвертого курса. Расстояние между нами было не меньше сорока футов. Я улавливал две пульсации с примерно одинаковой частотой, но разной интенсивности. ОДНА ПУЛЬСАЦИЯ ОТРАЖАЛА БИЕНИЕ ЕГО СЕРДЦА, ТОГДА КАК ВТОРАЯ СООТВЕТСТВОВАЛА ТИКАНЬЮ ЧАСОВ, которые он носил в виде браслета на левой руке.
Третье явление… Мне трудно найти для него другое слово, менее обычное и в то же время менее общее, так что пусть это будет явление… Так вот, третье явление коренным образом отличалось от двух предыдущих.
Я понял, что два первых явления, если выполнить сравнение, используя музыкальные понятия, были своего рода вспомогательными звуками перед основными звуками мелодии, то есть форшлагом. Не знаю, почему, но я представлял их в виде прямых, асимптотически приближающихся к кривым, но никогда их не касающихся.
Дверь в помещение открылась, чтобы пропустить Гивинза, лаборанта, направлявшегося к кабинету доктора Менде.
ГИВИНЗ ШЕЛ СПИНОЙ ВПЕРЕД, И НИКТО НЕ ОБРАЩАЛ НА ЭТО ВНИМАНИЯ.
Потом я вспомнил, что большие настенные часы выглядели, словно я смотрел на их отражение в зеркале, а их стрелки двигались в обратную сторону.
Поведение Гивинза заставило меня задуматься.
Если чувствительность разных органов, таких, как слух или зрение, вполне может усилиться, хотя это и не происходит по желанию человека, то случившееся с Гивинзом…
Бедняга, основательно нализавшись, недавно попал в порту в серьезную переделку и, заработав несколько переломов, до сих пор носил гипс, который врачи собирались снять только через пару недель.
«Посмотрим, — подумал я, — на этот раз игра стоит свеч».
Гроза приближалась, неся перед собой волну тумана, наполненного вспышками молний. В помещении потемнело.
Шин зажег лампу.
«Посмотрим… Это будет своего рода пробный камень…»
Миллер разложил возле своего микроскопа стеклянные пластинки с каплями растворов не знаю, каких культур.
Я решил посмотреть на них с расстояния в сорок футов. Без микроскопа, разумеется. Мне с трудом удалось сдержать смех и не пошутить над Миллером — дуралей развлекался тем, что любовался зверюшками, что обожают селиться в корке залежавшегося сыра.
«Посмотрим, это еще не все…»
Гивинз вышел спиной вперед из кабинета Менде и направился к выходу из зала. Этого было вполне достаточно, чтобы заставить меня подумать о Лоранс Найт, о женщине, причинившей мне в жизни немало зла.
* * *
Повторяю, я знал, что гроза разразится после начала сумерек.
Мне не нужно было открывать окно в моей комнате, я устроился за портьерами.
Вдали по улице, уходившей едва ли не к горизонту, шли двое мужчин.
Скоро они подошли к террасе кафе «На бульваре», находящемся на расстоянии семисот ярдов от моего дома.
Я совершил волевое усилие… Наверное, это не следует называть «усилием»; скорее, это было всего лишь отчетливо выраженное желание.
В приблизившихся мужчинах я узнал владельца книжного магазина Катерса и его соседа Дошера.
Первый пробный камень…
Катерс говорил:
— Давайте, зайдем в кафе, пока не начался дождь.
Дошер ответил ему:
— Я бы выпил что-нибудь прохладительное. Жара никак не спадет.
Второй пробный камень…
Невероятной силы молния залила ослепительным светом пространство.
«Теперь перейдем к Лоранс Найт», — подумал я.
* * *
Едва я подумал о ней, как она появилась из-за угла авеню. На ней был зеленый плащ и очень короткое платье, оставлявшее открытыми великолепные ноги в шелковых чулках.
Казалось, она совершенно не замечает начавшийся дождь, посыпавшийся из тучи вместе с градом; достав из сумочки пудреницу, она принялась старательно пудрить нос.
Разумеется, она передвигалась спиной вперед.
В это мгновение откуда-то вылетела на бешеной скорости машина, оказавшаяся позади нее. Ничуть не притормозив, она сбила женщину, после чего резко остановилась, перевернулась и загорелась, вспыхнув, словно факел.
Интересно, какие лица будут у полицейских, да и у всех людей закона, когда они обнаружат труп Лоранс Найт, убитой машиной четыре года назад, а в сгоревшей четыре года назад машине они найдут обуглившиеся четыре года назад останки какого-то лихача?
И что они подумают, когда в следующую грозу они снова столкнутся с абсолютно такой же картиной?
Потому что сегодня я не собираюсь оставлять возле себя давно скончавшуюся Лоранс Найт.
* * *
Именно после третьего явления с Гивинзом у меня возникла идея извлечь из потока времени Лоранс Найт вместе с последними трагическими событиями ее жизни.
И это оказалось совсем не такой сложной операцией, как вы могли подумать.
Возвращение на заре (Retour à l'aube)
Этим вечером я здорово нализался; по крайней мере, мне так показалось, потому что я почувствовал себя слишком отвратительно; мне почудилось, что мой мозг плавает в спирту, как мозги, изъятые у покойников и помещенные в банки в анатомическом музее.
Я не мог вспомнить ни о месте, где мы пили, ни о своих собутыльниках, хотя помню, что они почему-то казались мне довольно странными. Так, один из них, глянув на бледный свет, вероятно имевший отношение к зарождающемуся рассвету, сказал мне:
— Нам пора вернуться в место нашего обитания.
Я страстный поклонник словарей, и для меня нет более интересной и полезной книги, чем словарь — большой том, полный умных слов.
— «Место обитания», — сказал я, посмеиваясь, — это место, где в природных условиях обитают животные. Можете проверить, так написано у Литтре.
— Действительно, — ответил он, — вряд ли кто-нибудь из нас мог сказать лучше.
Я заметил, что он зарос шерстью и извивался, словно походный шелкопряд[66].
Опьянение не позволяет мыслить последовательно, оно беспорядочно, как плохо составленный букет. Ведь в букете вы обычно не переходите непосредственно от розы к гвоздике без промежуточной вставки какого-нибудь растительного метиса.
Этим я пытаюсь объяснить, что, согласно моей логике, я внезапно очутился на улице.
Она сразу же вызвала у меня отвращение из-за названия, прочитанного мной на табличке: «Улица Фаланстера»[67].
Заметив существо в синем камзоле, мелькнувшее в неуверенном утреннем свете, я протянул к нему руку и воскликнул:
— Где же он, этот фаланстер? Скажите мне, где он?
Синий камзол оттолкнул меня и исчез в тени.
— Нельзя называть улицу, — проворчал я, — по названию несуществующего предмета!
В этот момент я заметил открытую дверь.
Открытая дверь, куда бы она не вела, всегда является призывом, приглашением или знаком согласия на прием. И я вошел.
В связи с отсутствием последовательности в мышлении я очутился в мастерской какого-то старательно трудившегося человечка.
На точильном круге, разбрасывавшем красивые пучки искр, он затачивал длинный блестящий клинок.
Не переставая трудиться, точильщик ножей поднял голову, посмотрел на меня и назвал по имени. Потом он сказал с упреком:
— Вы должны вернуться домой, мсье Пон[68].
Точильный круг проделал еще несколько оборотов, после чего точильщик взял клинок, блестевший, словно он был из лунного луча, и отнес его в угол мастерской.
Это оказалась коса.
Я обнаружил открытую дверь и снова очутился на улице.
Шагая в неизвестном направлении, я хотел проклясть нелогичность своего имени, но внезапно остановился и сказал:
— Я прошу у вас прощения, госпожа улица, потому что я понял, причем тут фаланстер. Ваше название прекрасно соответствует определению, которое дает словарь:
«Фаланстер — это здание, занимаемое семьями, ведущими совместное хозяйство».
Потому что в конце улицы находилось кладбище.
Я поспешно вошел на кладбище; я так торопился, что почти бежал, словно опаздывал куда-то.
Мне почудилось, будто из утреннего тумана ко мне обратился недовольный голос:
— Вы что, не знаете, что сейчас не время для возвращения?
В ответ ему раздался еще более недовольный голос:
— Бегать таким образом по улицам… Фу, какой стыд!
Я долго бегал по аллеям, и уже начал задыхаться, когда очутился перед могилой, на надгробной плите которой было высечено имя: «Антуан Пон».
Я удовлетворенно вздохнул и вошел к себе.
Спутники Улисса (Les compagnons d'Ulysse)
«Магия может быть настолько сложной, что она оказывается на грани с невозможным; но она может быть и обескураживающе примитивной…»
Маленький доктор Эйб Берди отставил стакан, поднесенный к губам, и задумался, не понимая, как и почему к нему в голову пришла эта странная мысль.
По правде говоря, это была скорее реминисценция, воспоминание о когда-то прочитанной фразе, но почему оно пришло к нему в голову, почему проявилось так ясно, так отчетливо?
Он огляделся с видом человека, привыкшего к тому, что жизнь с каждым новым днем разочаровывает его все сильнее и сильнее.
Он находился в самом конце стола на банкете выпускников Оксфорда, где самые почетные места занимал, великий и могущественный, уже вошедший в легенду медицинский триумвират этой эпохи: Мак-Тейт, Росс и Джоспер.
«Магия…»
Странный лейтмотив снова прозвучал у него в голове, и именно в этот момент он заметил, что маленькие поросячьи глазки Мак-Тейта остановились на нем.
Через несколько секунд он отвел взгляд, после чего повернулся к своим громоздким соседям и шепнул им на ухо что-то, заставившее их рассмеяться.
Эйб Берди понял, что именно он был поводом для веселья, и ему не составило труда догадаться, что это был за повод.
Именно эта тройка обеспечила мрачную судьбу его доклада, представленного на ученом собрании, которое могло извлечь из темноты забвения его имя, имя скромного исследователя.
Темой доклада без особых претензий была болезнь Морвана[69] и странные капризы вегетативных расстройств нервной системы вообще. И Берди высказал очень скромное предположение о новых приемах лечения этой болезни, причем весьма простых.
«Что касается Берди, то пусть он довольствуется тем, что спит с самой красивой нищей Айслинггона!» — заявил Мак-Тейт на собрании.
«И пусть он продолжает лечить чесотку у жителей этого замечательного квартала!» — добавил Росс.
«И пусть он остается простофилей, так как ничем другим он никогда не был и быть не может. И пусть он оставит в покое болезнь Морвана, которая не сделала ему ничего плохого», — закончил Джоспер.
Эти слова передали Берди.
Действительно, его жена Мод хромала.
Он жил в убогом квартале Айслинггона, где повсюду встречается чесоточный клещ.
Благодаря болезни Морвана, его сестра стала паралитиком перед тем, как попасть на кладбище.
«Магия…»
Внезапно он понял — по крайней мере, частично — причину этой одержимости, разглядев ее в ПОРОСЯЧЬИХ ГЛАЗКАХ Мак-Тейта, ОГРОМНОМ БРЮХЕ Росса и ТОЛСТОЙ РОЖЕ Джоспера.
Ему показалось, что кто-то внутри него — пожалуй, он мог бы даже сказать, что это был голос — высказал свое одобрение. В тот же миг он подумал о своей скончавшейся сестре.
ЕЕ ЗВАЛИ ЦИРЦЕЯ.
Вернувшись домой, маленький доктор принялся копаться в картонках, заполненных книгами, принадлежавшими его сестре.
Цирцея Берди была странным существом. Закончив университет, она отправилась в Грецию, откуда вернулась через несколько лет с новым переводом Гомера, принесшим ей подлинную славу, а также с новой версией «Одиссеи».
Второй перевод был принят издателями только после серьезной переработки и больших сокращений. Эйб Берди внезапно вспомнил, что на одной из выброшенных страниц находилась фраза, таким странным образом застрявшая в его памяти.
«Магия…»
В этой фразе шла речь о волшебнице Цирцее, дочери Солнца, превратившей спутников Улисса в свиней.
Прокопавшись всю ночь в бумагах, Эйб отыскал эту страницу.
* * *
— Газеты пишут, что Скотленд Ярд и все полицейские Англии стоят на ушах, пытаясь обнаружить Мак-Тейта, Росса и Джоспера. Эта троица исчезла внезапно, как дым на ветру, — сказала Мод, отложив утреннюю газету.
Она встала и заняла свое обычное место у окна.
* * *
— Ах, Эйб! — весело воскликнула она, — подойди сюда, посмотри, какое замечательное приобретение сделал Саммер, наш мясник. В нашем меню можно ожидать изменения к лучшему!
Берди подошел к окну и увидел Саммера с двумя подручными; каждый из них держал на веревке огромную свинью, розовую и жирную.
— Если бы Цирцея оставалась с нами, она наверняка завязала бы дискуссию по схоластической диалектике на тему: «Что держит свинью, которую ведут на бойню: веревка, или человек?» Но я думаю только о котлетах или о жарком, которое получится в результате, — смеясь, сказала Мод.
* * *
— Саммерс говорил, что ему редко удавалось купить такую прекрасную свинью, — сказала Мод, ставя на стол блюдо с жарким несколькими днями позже. — Попробуй эту спинную часть, Эйб, ты никогда не пробовал более нежное мясо…
Она была права, но доктор только огромным усилием заставил себя проглотить кусочек.
Златка[70] (Le bupreste)
Посвящается доктору философии А Клэри
Говорят, что вы считаетесь одним из лучших психиатров в Лондоне.
Некрасивое лицо доктора Чамли осветилось улыбкой. Нельзя сказать, что он страдал особой чувствительностью к подобным комплиментам, но в данный момент он был больше, чем обычно, расположен к доброжелательности, так как собирался выпить пятичасовой чай с прекрасной Джудит Флосс.
— Говорят? Это очень расплывчато и неопределенно, — ответил он, пребывая в прекрасном настроении. — Позвольте, я просмотрю вашу карточку… Здесь сказано…
— Бенжамин, Мастон Джонс, эсквайр. Коу Кросс, 57.
Чамли еще раз улыбнулся. Коу Кросс находится в Клеркенвелле, то есть в самом сердце Лондона, в двух шагах от Фаррингдон-стрит, где очень скоро, то есть в пять часов, он встретится с Джудит Флосс.
Он не торопился, записывая адрес, так как одновременно думал о красавице и оценивал свои шансы.
Смуглый, с большими глазами навыкате, с непослушной шевелюрой, с массивной фигурой, он был физически не очень привлекательным, и отдавал себе отчет в этом. Но он был богат и почти что знаменит, что на весах Афродиты было достаточно весомой характеристикой.
В соседней комнате пробили стенные часы.
У него было достаточно времени, и значительную часть его он мог посвятить клиенту до того, как направиться на Фаррингдон-стрит.
— А теперь скажите, на что мы жалуемся?
Чамли неоднократно констатировал, что эта формулировка, в которой он как бы связывал свою личность с личностью пациента, нравилась последнему и подталкивала его к откровенности.
— Кое-кто считает это даром, — ответил Джонс, — но я уверен, что это недостаток, несчастье, даже проклятье.
Чамли более внимательно посмотрел на сидевшего с противоположной стороны стола из красного дерева: человек среднего возраста, весьма обычный.
«Комплекс неполноценности, проявляющийся в тенденции к мании преследования в начальной стадии», — подумал он.
— Это трудно, очень трудно — сначала рассказать, а затем понять…
— Я знаю, — сказал уверенным тоном Чамли, — но вы должны рассматривать врача, тем более, психиатра, не столько как врача, но как исповедника.
— Или как того и другого одновременно, — как врача, который лечит, и как исповедника, который прощает, — быстро ответил клиент.
— Это очень хорошо сказано, — согласился Чамли. — А теперь поговорим, полностью доверяя друг другу.
— То, что овладевает мной — это сила, могущество, способность, — начал Мастон Джонс.
И Чамли второй раз отметил привычку пациента приводить одновременно по два, а то и по три термина, каждому из которых он придавал большое значение.
— Способность — к счастью, случайная, потому что в тот момент, когда у меня проявляется эта способность, я не могу использовать ее по своему желанию. Мое состояние начинается с легкой, но очень странной головной боли, тиканья маятника в ушах, ощущения сильной жары; затем я внезапно буквально вспыхиваю.
— Вот как? Вспыхиваете? Настоящим огнем?
— Да, зеленым огнем, который часто наблюдается во время грозы. Это потрясающе красиво и невероятно жутко!
— Это и есть ваша способность?
— Нет, это всего лишь признак того, что она приближается. К счастью, в эти моменты я обычно оказываюсь один, и возле меня не находится никакое живое существо, которому я вынужден создать подобие.
— Вы не могли бы уточнить, что с вами происходит? — спросил доктор.
— Увы, я буду вынужден сделать это уточнение. Но, прежде всего, позвольте мне спросить у вас, не возникает ли у вас стремление к поиску сходства между некоторыми людьми и животными, или наоборот, между животными и людьми?
— Такое случается со мной, как и с другими людьми, — ответил психиатр, и подумал, с каким бы прекрасным представителем животного мира он мог бы сравнить Джудит Флосс.
— Это стремление у меня проявлялось всегда, — продолжал Мастон Джонс, — но не странная и жуткая способность, о которой я начал вам рассказывать. Вот пример. Однажды вечером около месяца назад, когда я положил на стол мою трубку, я внезапно почувствовал ритм маятника и невероятный жар охватил все мое существо. Зеленый огонь пробежал изумрудной волной по моим рукам и по лицу.
В этот же момент большая рыжая кошка вскочила в комнату через приоткрытое окно и посмотрела на меня своими золотистыми глазами.
По ее красивым глазам, по необычному выражению морды, по типично кошачьей гибкости ее тела я уловил невероятное сходство кошки с женщиной, и почти вопреки себе почувствовал желание и приказал:
— Стань женщиной!
И на месте небольшого рыжего животного появилась великолепная обнаженная девушка с золотистыми глазами и свирепым выражением лица.
Она бросила на меня взгляд разъяренной тигрицы, мяукнула по-кошачьи, бросилась к окну и исчезла в темноте.
Почти сразу же зеленый огонь пропал, и способность покинула меня, как обычно и бывает.
— Кошка была рыжей… А женщина? Она тоже была рыжей? — спросил доктор.
— Как огонь! — воскликнул Джонс.
Чамли вовремя прикусил язык, и только поэтому не сказал:
— Совсем как Джудит Флосс!
Он встряхнулся и попросил клиента продолжить исповедь.
— Да, она исчезла, — продолжил Джонс, задрожав, — но она стала возвращаться… Да, она возвращалась каждый вечер с наступлением темноты. Она носилась, рыжая и обнаженная, по соседним крышам и стенам. Иногда она великолепным прыжком оказывалась на моем отливе и пыталась открыть окно. Она мяукала, глядя на меня глазами, в которых пылали бешенство и отчаяние, и пыталась дотянуться до меня руками с жуткими когтями. И тогда…
— Что тогда? — спросил Чамли, против воли захваченный этой безумной историей.
Мастон Джонс заговорил тихо, едва слышно:
— Я убил ее… Она долго не хотела умирать, вы же знаете, какие живучие эти кошки… Мне пришлось вогнать ей в голову семь пуль, но она погибла только после того, как у нее раскололся череп.
Он посчитал на пальцах и уточнил:
— Это произошло ровно восемь дней назад… Ночью я отнес ее тело в Чартер-сквер…
Чамли внезапно почувствовал себя не в своей тарелке. Действительно, восемь дней назад он с волнением прочитал в утренней газете сообщение об обнаруженном в сквере сильно изуродованном трупе совершенно обнаженной красивой рыжей женщины. Он не удержался и сразу же позвонил Джудит Флосс, жившей неподалеку от Чартер-сквера и едва не зарыдал от радости, услышав в трубке ее голос.
Несколько позднее он узнал от знакомого врача, что женщина была убита семью пулями в голову, и что у нее был расколот череп. Врач также рассказал, что у нее были странно деформированы руки, снабженные страшными когтями настоящего хищника. Личность убитой так и не была установлена.
Подумав, Чамли сказал:
— Мистер Джонс, вероятно, вас сильно взволновало сообщение об этом жутком преступлении, совершенном рядом с вашим жильем. Это могло повлиять…
Мастон Джонс, не слушавший врача, смотрел на него со страстным вниманием.
— Златка! — воскликнул он. — Вы знаете, что это такое?
Слышать нелепости от своих пациентов — обычное дело для психиатра.
Он кивнул в ответ; его познания в энтомологии были не слишком обширны, но он представлял, что златка — это насекомое золотистого или темно-зеленого цвета, с большими выступающими глазами и короткими антеннами, любимая добыча великолепного хищного церцериса[71].
— Там, где встречаются златки, всегда присутствует и их убийца! — продолжал больной пронзительным голосом. — Это Cerceris bupresticida, церцерис-златкоубийца! Эти жуки большие и красивые, с золотыми и изумрудными надкрыльями, сверкающие на солнце!
Больной направил обвиняющий палец на психиатра:
— Вы — типичная златка! — прохрипел он.
Чамли неожиданно подумал о неблагодарном зеркале, каждый день демонстрирующем ему большие выпученные глаза, торчащие во все стороны жесткие пряди, напоминающие антенны, массивное тело, затянутое в вечный сюртук…
— Достаточно, — буркнул он.
Но Мастон Джонс вскочил и теперь стоял перед ним, раскачиваясь, словно лодка на крутой волне.
— Моя голова… Ох, как горячо… А теперь этот зеленый огонь!..
— Нет, ни в коем случае! Это невозможно! — заорал Чамли.
Тело его клиента излучало свет, язычки зеленого огня трепетали на его руках и лице. Словно архангел из Писания, он возвышался внутри столба жидкого пламени.
— О, доктор Чамли! — закричал одержимый. — Вы походите на златку! ЗНАЧИТ, ВЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЗЛАТКОЙ!
Чамли почувствовал, как чудовищная сила смяла его, и мир вокруг него изменился.
* * *
— Господи, как хорошо, что все закончилось! — вздохнул больной, рухнув на стул. — К счастью, это состояние быстро проходит!
Он взглянул на врача, но не увидел его. Кресло перед ним опустело.
На карточке, которую только что заполнял психиатр, барахталось большое темно-зеленое насекомое.
— Тьфу, какая противная златка! — воскликнул с отвращением Мастон Джонс.
Он схватил лежавшую на столе линейку и одним ударом расплющил букашку.
Освещенное окно (La fenêtre éclairée)
Строчки начали расплываться, читать стало невозможно, и Перренц отложил книгу; он уже не помнил, что только что прочитал. Комната ярко освещалась люстрой с подвесками, бросавшими маленькие радуги на потолок; слюдяное окошечко небольшой переносной печурки светилось красным.
— Так вот… Это я о чем? — громко сказал он, ни к кому не обращаясь, потому что ни в комнате, ни во всем доме не было ни одной живой души кроме него самого.
В доме не было даже легкой кошачьей души, потому что его кошка Гримми погибла несколько месяцев назад, и он так и не собрался найти ей замену.
Сейчас Перренц пожалел об этом. По крайней мере, он мог обратиться к живому существу, которое хотя бы помяукало или помурлыкало ему в ответ.
«Это совершенно очевидно», — подумал он.
Очевидно? В этом можно не сомневаться. Совершенно очевидно, что в доме появилось нечто необычное. В доме, или именно в этой комнате.
Чье-то присутствие? Может быть, это грабитель спускался неслышными шагами по винтовой лестнице? Или он затаился в темном углу холла?
Перренц подумал, что встретил бы его с открытой душой, побеседовал бы с ним, плеснул бы выпивки в стакан, пусть даже потом пришлось бы отделаться от него выстрелом из револьвера, когда обстановка стала бы нормальной.
Но ни одна ступенька не заскрипела, хотя все они чертовски любили постонать. Тишина была такой полной, такой плотной, что Перренц ощущал ее, как тяжесть.
В один из моментов он почувствовал соблазн достать из ящика письменного стола большой автоматический пистолет и вставить в него обойму с патронами, но потом пожал плечами и посмотрел на свое отражение в зеркале, пробормотав:
— Это выглядело бы слишком глупо… Какой смысл в оружии?
Тем не менее, он почувствовал нечто похожее на страх, открыв дверь в холл и увидев перед собой пространство, полное теней.
К счастью, ему было достаточно протянуть руку, чтобы коснуться выключателя.
Яркий холодный свет сразу же залил вестибюль.
«К счастью…»
Причем здесь «к счастью»? Ах, да, дело в том, что свет никогда не покидал его, тогда как он смутно представлял, что его покинуло нечто важное.
Он открыл наружную дверь; улица простиралась перед ним, пустынная и молчаливая; голубоватый туман местами освещали фонари.
В глубине, на углу тупичка, находилось небольшое кафе, в котором Перренцу никогда не приходилось бывать. Он решил заглянуть в него, немного выпить, поболтать с посетителями, угостить кого-нибудь. Но окно заведения было темным; вероятно, кабаре уже закрылось.
Он подумал, что на улице может появиться прохожий, у которого он сможет узнать время — только для того, чтобы услышать человеческий голос.
Но прохожий не появлялся.
Совсем недавно шел дождь, и довольно сильный, потому что он только что слышал бормотание воды в водосточных трубах.
Дождь уже прекратился; мокрые камни мостовой блестели в свете фонарей, водосточные трубы замолчали, хотя сейчас он с удовольствием услышал бы их упрямую болтовню.
Может быть, дождь снова пойдет?
Перренц с надеждой посмотрел на небо. Его заволокли низкие сплошные облака, не оставив ни одного промежутка, в который можно было бы увидеть блеск звезды. Тем не менее, сверху не упало ни одной капли дождя.
Ощущение отсутствия усилилось и приняло материальный облик: вокруг него пропали звуки.
Конечно, он жил в унылом и мрачно-спокойном пригороде, но на протяжении дня — а иногда и ночью — здесь можно было услышать разнообразные, характерные именно для этой части города, звуки. Ведь даже на кладбище никогда не господствует абсолютная тишина — там можно услышать шум листвы тополей, а ветер заставляет звенеть, как колокольчики, фарфоровые цветы на могилах.
Только что у себя в кабинете он громко разговаривал с самим собой. Это было на самом деле? Или же его голос звучал только у него в голове, был всего лишь мыслью?
Он машинально нажал кнопку электрического звонка сбоку от двери, рассчитывая, что ничего не услышит. Нет, звонок громко задребезжал внутри, и Перренц понял, что хотел услышать не этот механический шум, а живые звуки, хотя бы шум ветра или падающих капель дождя.
Войдя в холл, он быстро накинул плащ, надел шляпу и вышел, захлопнув за собой дверь и даже не выключив свет.
Ему нужно было бродить ночью по улицам, видеть скользящие мимо него тени запоздавших прохожих — или грабителей, — слышать хриплую песню пьяницы, видеть, как шторы за окнами окрашиваются в розовый цвет, когда за ними загораются лампочки…
Потом, хотя и очень нескоро, он окажется в центре города, где всегда можно найти открытое всю ночь заведение, готовое гостеприимно открыть перед ним свои двери.
Немного впереди на улице находился мост, вернее, небольшой металлический мостик, гремевший и стонавший под ногами прохожих.
Перренц подумал, что ему будет приятно услышать громкую жалобу его опор.
Как ни странно, они даже не дрогнули под весом мужчины.
Улицы открывались перед ним, темные, с мрачными окнами, в которых не светился ни один ночник, с погашенными над дверями лампочками.
«К счастью…»
Да, к счастью уличные фонари продолжали свое одинокое дежурство.
Чтобы попасть в центр города, нужно было пересечь старый монастырский луг, заросший травой пустырь, после которого начиналась бесконечно длинная, тянущаяся в безнадежность улица, совершенно прямая, вполне способная служить эталоном расстояния, так как она была длиной ровно в километр.
Перренц не чувствовал ни сил, ни мужества, необходимого, чтобы пройти ее; поэтому он устремился в поперечные улицы, едва ему знакомые, стараясь придерживаться общего направления к центру. Он порядком запутался, обходя несколько небольших скверов и окончательно сбился с пути в лабиринте узких извилистых переулков.
Ему показалось, что ночь стала сгущаться вокруг него — вероятно, из-за резко уменьшившегося количества уличных фонарей. Он мог не смотреть на окна домов, мимо которых проходил — они оставались темными, уснувшими или пустыми.
Он подумал, что после исчезнувших звуков его теперь оставлял свет.
Внезапно он замер на месте, и его взгляд остановился на пятне желтого света, лежавшем на мостовой.
Свет, резкий и наглый, падал на мостовую из высокого узкого окна, без штор и занавесок.
Перренц глубоко вздохнул и повернул назад.
Он знал.
* * *
Он решил, что знает, почему звуки и свет пропали, вернее, отказались служить ему, и воспринял это знание как данность.
Это явление было первым лицом смерти.
Тем не менее, ему не было страшно. Он всегда представлял смерть как бесконечный сон без снов, как своего рода тяжелый наркоз, из которого плоть не может вернуться к жизни.
Он решительными шагами направился домой, словно человек, спешащий на свидание, на которое нельзя опаздывать.
Он направлялся к дому, где, может быть, все еще горел свет.
Подойдя к мостику, он остановился. Он увидел перед собой символ: мост, ведущий к другому берегу.
Неподвижная вода ручья олицетворяла мрак. Вода, в которой находят смерть утонувшие.
Он не боялся, смерть давно не пугала его.
Он боялся только другого берега.
Он находился за пределами смерти.
Окно, освещенное яростным огнем, было окном в его комнату, в которой, сорок лет назад, он убил двух старушек, и их деньги послужили основой его будущего капитала.
Формула (La formule)
Рассказ о четвертом измерении
В углу черной доски была написана знаменитая формула Эйнштейна:
Е = mc2… Энергия, масса, скорость.
Ленглейд никогда не испытывал восхищения этой формулой; он даже удивлялся, почему Ньютон не нашел ее за два века до творца теории относительности.
Но рядом с ней он увидел еще одну формулу:
Радикал n ничего не обозначал и смысла в нем было не больше, чем в вопросительном знаке. Странный коэффициент Chr, то есть Хронос или Время, деленный на бесконечность, не соответствовал никакому дифференциальному члену.
Тем не менее, формула была написана на доске и выглядела насмешкой над математическим чудом, которое смертный похитил у Бога.
Но дело было не в этом. Кто написал ее на черной доске? Никто не входил в рабочий кабинет Ленглейда за исключением миссис Плюмидж, служанки, появлявшейся здесь с недовольным видом, так как ей приходилось подниматься по крутой лестнице, что крайне отрицательно сказывалось на ее астме.
Как раз сейчас она вошла, не постучавшись, и остановилась, опираясь на стол и пытаясь справиться с дыханием.
— Ох, мое сердце… Мои легкие… Я сейчас умру, и вы будете виноваты в этом! Почему вы не работаете в одной из комнат первого этажа? Там их достаточно! Я больше не буду подниматься сюда, я отказываюсь от этого места… Это слишком высоко для меня… Я умру, поднимаясь сюда, сколько раз повторять вам…
Она поставила поднос с чаем и гренками на столик.
— Подумать только, ведь у вас есть столовая, в которой сам лорд-мэр обедал бы с удовольствием, а вы упорно пьете чай в этой мансарде. Наверное, правы те, кто считает, что вы немного не в себе…
— Что, про меня говорят, что я свихнулся? — спросил Лендглейд, засмеявшись.
— И я скажу вам, что они правы, в особенности те, кто знает, что вы забираетесь так же высоко, как петух на колокольне, совершенно не будучи обязанным это делать.
За много лет работы миссис Плюмидж заслужила право говорить все, что она думает, и она широко пользовалась этой привилегией.
— Кто-нибудь заходил сюда в мое отсутствие? — поинтересовался Лендглейд.
Пожилая женщина едва не начала заикаться от удивления.
— Сюда? В это сорочье гнездо? Сто двадцать ступенек, я хорошо сосчитала их, да еще сорок из них в полной темноте! Не заставляйте меня смеяться, это не нравится моей астме. И зачем? За все, что находится здесь, не получишь и десяти шиллингов. Кроме того, я ничего не слышала, а я, несмотря на свой возраст, прекрасно слышу, как растет трава. Да и Мирон не лаял… Нет, вы большой шутник, профессор.
Когда миссис Плюмидж вспоминала профессорское звание мистера Ленглейда, тот мог быть уверен, что она не шутила.
— В вашей лавочке что-нибудь пропало? — поинтересовалась она суровым тоном.
— Я бы сказал, что скорее кое-что добавилось, — ответил Ленглейд.
— Ну, наверное, что-нибудь вроде мышиного помета… Давайте, пейте свой чай и не вздумайте после этого мне звонить, потому что я все равно не приду… Подумать только — сто двадцать ступенек, и из них сорок в полной темноте!
Ленглейд слышал, как она спускалась вниз, продолжая ворчать.
Он выпил пару глотков чая, показавшегося ему отвратительным, а до обуглившихся гренок он даже не дотронулся.
Он снова обратил все свое внимание на формулу.
Она была написана твердой рукой; лежащая на боку восьмерка, символ бесконечности, была изображена четко и элегантно, он сам вряд ли изобразил ее лучше; все знаки, казалось, вышли из-под руки каллиграфа.
— Я не понимаю ее, — пробормотал Ленглейд, — и все же она должна иметь смысл.
Он поостерегся громко говорить то, что почувствовал, увидев формулу. Странная тревога сжимала его сердце, нечто вроде ощущения опасности, характерного для человека, проходящего ночью по пустынному месту, где можно заподозрить засаду.
— Кто?
Нелепый вопрос! Когда он выходил из кабинета, он всегда закрывал его на два оборота ключа, потому что ценил как свои книги, так и свои рукописи. Миссис Плюмидж наводила порядок в его кабинете только в его присутствии.
— Зачем?
Формула была написана явно с учетом уравнения Эйнштейна, то ли, чтобы дополнить его, то ли просто для того, чтобы подчеркнуть его несовершенство.
Мнение Ленглейда, насколько оно могло иметься у него по этому поводу, склонялось скорее ко второму варианту.
Энергия, масса, скорость… Все замечательно… Но где Время?
Время, наш великий господин, как говорил Нордманн, не нашло места в великом уравнении, и Лендглейд подумал о фее из старой сказки, которую забыли пригласить на крестины принцессы, позднее известной как Спящая красавица.
Но формула в том виде, в котором она была изображена на доске, была всего лишь частью уравнения; в ней отсутствовал эквивалентный символ.
Ленглейд машинально написал его.
* * *
Солнце опускалось за высокие здания напротив, и его последний красный луч окрасил руку Ленглейда в тот момент, когда из нее выпал кусочек мела.
Ошеломленный профессор смотрел на длинную последовательность формул и уравнений, которыми он покрыл черную доску; одно из них, самое последнее, сейчас светилось в лучах заката.
— Господи, — пробормотал ученый, — я должен был предвидеть… Эйнштейн сознательно остановился на божественном пути, он не захотел раскрывать великую мудрость, говорить про разум вселенной… Тогда как я, ничтожный…
Он повернулся к окну и поднял взгляд к темному небу.
— Господи! Я жду твой приговор!
И Ленглейд внезапно исчез, пропал, словно его никогда и не было.
Человек, открывший тайну четвертого измерения, заплатил за свою дерзость.
* * *
Утром в кабинет вошла миссис Плюмидж с подносом, на котором стояли чай и блюдо с гренками. Она взглянула на записанную формулами доску и задержала взгляд на последней формуле.
— Смотрите-ка, — ухмыльнулась она, — этот идиот все же нашел ее!
Несколькими взмахами тряпки она очистила доску.
— В конце концов, тем хуже для него, — проворчала она. — А теперь мне придется пойти посмотреть, как он чувствует себя там, на другой стороне.
И миссис Плюмидж исчезла так же неожиданно, как и профессор Ленглейд.
История без названия (Histoire sans titre)
В религии присутствует великая магия, но мы потеряли ключ от нее.
Жан РэйКогда Эрланжер вернулся в город, где прошла его юность, этот город показался ему съежившимся, словно яблоко, забытое на чердаке и пролежавшее до весны. «Вообще-то, — подумал он, — я сам давно перешел в ранг мумий…»
Он вспомнил несколько имен, но быстро понял, что большинство из них он смог бы прочитать на могильных плитах; те, что остались в живых, состарились настолько, что у него пропало всякое желание свидеться с ними.
Впрочем, его не интересовали ни мертвые, ни живые.
— Хотелось бы знать, — сказал он, сидя в кабачке за стаканчиком дешевого вина, когда-то так нравившегося ему, — хотелось бы знать, что стало с улочкой…
Ему пришлось напрячь память, чтобы вспомнить ее название.
Впрочем, это название вспоминать ему было не обязательно, потому что он, перейдя площадь Гро Саблон и обогнув развалины старой гостиницы, увидел ее перед собой.
Это была небольшая одинокая улочка, на которой садов было больше, чем домов; над прохожими через стены то и дело склонялись ветви деревьев.
Собственно говоря, прохожих на ней Эрланжер не увидел, и он знал, что так было всегда, потому что у улочки была плохая репутация.
Она основывалась на неопределенных слухах, и на эту тему говорили, только удостоверившись, что никто не подслушивает за дверью.
Взгляд Эрланжера скользнул по брусчатке мостовой, перешел на низкий перрон из голубоватого камня и поднялся к двери.
Вообще-то это была единственная дверь на всем отрезке этой улочки.
Эрланжер помнил, что заставляло его стучаться в эту дверь темными ночами среди тревожных теней; но только один ни на что не похожий вечер оставил след в его памяти.
Именно поэтому он и вернулся.
* * *
Сначала он не поверил; потом возникло сомнение, в конце концов сменившееся уверенностью.
Он занялся слежкой в темноте, насыщенной дождем и ветром, потому что только ночами, когда ветер становился почти бурей, по этой улочке скользили неясные тени.
Ему пришлось до предела напрячь слух, чтобы различить сквозь порывы ветра едва слышный сигнал, отворявший дверь.
В конце концов, он семь раз подряд постучался в дверь, соблюдая особый ритм.
Дверь открыла старуха в ночном колпаке и с подсвечником в руке.
Увидев его, она попыталась тут же захлопнуть дверь перед его носом, но он прижал нож к ее горлу и потребовал:
— Ведите меня!
— Нет! — прохрипела старуха. — Ни за что!
В одно мгновение нож исполнил свою смертоносную роль.
Эрланжер вооружился подсвечником и принюхался. Воздух был наполнен ароматами благовоний. Где-то в глубине дома хор дружно исполнял дикий гимн.
Он почувствовал, что чья-то рука… Вернее, порыв воздуха от движения руки — подтолкнул его вперед.
— Аггелос, — пробормотал он.
Несколькими секундами позднее он смог увидеть через возникшую в стене брешь, в освещенной тусклым светом комнате, преступный ритуал Черной Мессы.
Он услышал, как по очереди были прокляты вода, соль, пепел и вино; он увидел лица, наполненные ожиданием, обнаженное существо на алтаре и черную перчатку на руке, собиравшейся подвергнуть профанации просвиру, а также два огромных глаза, искаженных бесконечным отчаянием.
Он вскинул вверх руку, остановился и ничего не сказал, тогда как брешь в стене закрылась, словно сомкнулись каменные губы.
Когда Эрланжер очутился на улице, он громко повторил магическую формулу. Именно эти слова великий царь Соломон начертал на свинцовой печати кувшина, служившего тюрьмой нечистому духу.
Согласно легенде…
Нет, не легенде, а жуткой реальности, которую люди в страхе превратили в легенду.
* * *
Была ли дверь заперта на ключ, на цепочку?
Эрланжер открыл ее одним толчком.
Он остановился перед дальней стеной, и в стене снова появилась брешь.
— Бог сжалится над вами, — громко сказал он.
И в проклятом храме, сотрясшемся от основания до крыши, человеческие тени превратились в осыпавшуюся на землю пыль, тогда как два глаза жуткой красоты, заволокли слезы.
* * *
В этот же день мистер Эрланжер покинул город и вернулся в свою епархию. Ему исполнилось девяносто лет, и он знал, что его срок настал.
— Послушай, Аггелос, разве это преступление — пожалеть дьявола?
С этими последними словами он обратился к своему ангелу-хранителю.
Самсон и Далила (Samson et Dalila)
Молодая женщина с зелеными глазами вошла в жизнь Сэма Плумбера в Пимлико[72], дождливым и ветреным днем. Он как раз тащился по Челси Баррак, и скромный плащ плохо защищал его от яростных порывов ветра.
Когда перед ним открылся тупичок между заводскими стенами, он устремился в него, словно в спасительную гавань.
В глубине переулка пятно света мужественно сражалось с темнотой. Свет вырывался на мостовую из низких окон таверны, мало напоминавшей обычные пабы портовых кварталов благодаря тому, что толстые стекла в рамах походили на донышки от бутылок, а по сторонам от входа возвышались два кустика калины.
Дырявая водосточная труба, изображавшая горгулью, решила его судьбу, отправив Сэму за шиворот ведро ледяной воды.
Он очутился в кабаке вместе с охапкой опавших листьев и разного мусора, вспугнув бабочку газового пламени, затрепетавшую на конце медной трубки.
Одинокая женщина в небольшом зале встретила его взглядом зеленых глаз.
— Хозяйки нет, она ушла, и никто не знает, вернется ли она. Я тоже не знаю. Возможно, ее задержала полиция, так как она достойна виселицы далеко не за один случай. Ее зовут Пеликан, и Господь или его дрянная матушка создали ее очень похожей на это пернатое существо. В любом случае, я могу обеспечить вас выпивкой.
Сэм с радостью заказал бы грог, ром или обычный можжевеловый пунш, если бы в его кошельке не гулял ветер; поэтому он ограничился самым дешевым напитком — грогом с пивом.
— До чего же мерзкая сегодня погода, — сказал он, чтобы прервать молчание.
— Но не для вас, — возразила женщина, — потому что она привела вас сюда.
На примусе запел чайник, и по комнате распространился запах рома, добавленного в приготовляемый женщиной напиток.
— Постойте, — пробормотал Сэм, подумав о стоимости грога.
— Не беспокойтесь, потому что это я угощаю!
Он жадно выпил горячее ароматное питье; тепло заполнило его жилы… и внезапно он увидел голубую бабочку у своих ног, а стойку повисшей под потолком.
Он внезапно вспомнил песенку, которую попугай его соседки-француженки то и дело напевал в течение дня:
Выпил легкого вина — Закружилась голова; Закружилась голова Не от легкого вина!Он запел эту песенку, показавшуюся ему невероятно забавной.
Потом ему почудилось, что какая-то призрачная фигура склонилась над ним; это была женщина с отвислыми щеками, шлепавшая губами, словно птица клювом. Она прохрипела:
— Что, этот подойдет?
На что женщина с зелеными глазами ответила:
— В любом случае, проклятая колдунья Пеликан, совпадение сыграет свою роль.
— Я сделала все, что требуется для этого, — проскрипело существо, похожее на птицу.
Сэм почувствовал, что его куда-то потащили за волосы, после чего мир вокруг него исчез, и он погрузился в волшебную ночь, нежную и спокойную.
* * *
Формы и цвета вернулись к Сэму в уютно меблированной гостиной, и первое, что он увидел, были зеленые глаза молодой женщины.
— Вы хорошо вздремнули, Самсон Плумбер? — поинтересовалась она.
— Какого черта, где я? — простонал Сэм.
Химическая горечь во рту позволила ему понять произошедшее.
— Вы подмешали какую-то дрянь в мой грог… Хотел бы я знать, на кой черт вам это понадобилось?
Женщина звонко рассмеялась.
— Представьте себе, Сэмми, мой малыш, что я влюбилась в вас… Не надо так таращить глаза, вы теряете свое последнее преимущество. Я знаю вас с ваших прекрасных дней, ваших самых прекрасных дней, вы понимаете меня?
— И ради этого меня стоило похищать? — ухмыльнулся он. — Как давно это было!
Он прожил столько дней в нищете, скатился со стольких вершин, что воспоминания о давних днях славы казались ему снами или розовыми сказками кормилицы.
Театральные залы, дворцы спорта, олимпийские стадионы, заполненные толпами, приветствующими Самсона Плумбера, победителя, идеального атлета — неужели они были частью исчезнувшей в прошлом реальности? Или всего лишь последовательностью галлюцинаций? В своем сознании он не мог провести четкой границы между первым и вторым.
— Это было очень давно, — снова заговорил он, — и я не перестаю спрашивать себя, было ли это на самом деле?
Внезапно у него появилось мазохистское желание заняться самобичеванием, обрушиться на самого себя с обвинениями… Еще бы — женщины, карты, алкоголь…
Но бесконечная усталость не позволила ему развить эти перспективные мысли. И он рассмеялся печальным смехом.
— Влюбиться в человеческую развалину, встреча с которой может представлять интерес только для полиции? Вы не смогли придумать ничего другого, чтобы поиздеваться надо мной?
— Вы можете стать снова прекрасным и могучим атлетом, бывший Самсон Плумбер!
— Хватит! — крикнул он, почти рассердившись. — Но, скажите, вы, так хорошо знающая мое прошлое, кто вы такая?
— Меня зовут Далила Смит.
— Смит… Какая обычная фамилия… Но вот Далила… Я думаю, что друзья называют вас Лил?
— Совершенно верно.
* * *
Сэм Плумбер позволил себе остаться в живых.
Он быстро справился с угрызениями совести, убедив себя, что, живя за счет зеленоглазой Лил он всего лишь играет роль принца-консорта[73].
Он постепенно приходил в себя, и даже подумывал начать посещать гимнастический зал, где мог бы возобновить тренировки, когда Лил сообщила ему, что полиция не вычеркнула его из своих списков.
После странной встречи на улочке в Пимлико, резко изменившей его судьбу, он жил довольно уединенно в уютном деревенском домике неподалеку от Кингстона.
Что касается полиции… Если бы он оказался в ее лапах, можно было не сомневаться, что она с удовольствием повесит на него десяток ограблений (вдобавок к тем двум, что он действительно совершил); не исключено, что у полиции возникла бы идея связать его и с более нехорошей историей, в конце которой ненавязчиво виднелась тень виселицы…
Через несколько дней в глубине сада был устроен гимнастический зал со шведской стенкой, штангами, гирями и эспандерами, и Самсон Плумбер почувствовал, как укрепляются его мышцы, возвращается его прежняя гибкая мощь, Он даже подумал, что его судьба переменилась и начала ему улыбаться.
* * *
До сих многое остается неясным в катастрофе, случившейся в Гайд-Парке в тот момент, когда царственные гости Короны проходили величественной колоннадой, навеянной античной архитектурой.
Внезапно колонны отделились от фронтона, зашатались и рухнули, вовлекая в чудовищный обвал все громадное здание.
Среди тел, извлеченных из развалин, обнаружили труп мужчины с невероятно развитой мускулатурой, с похожей на львиную гривой и выколотыми глазами.
Датский кубок (La coupe danoise)
Песня ли это пьяницы, или любовная баллада?
Мудрецы бывают безумцами гораздо чаще, чем это думают простые люди.
Проводить вечера при свете свечи, потому что она дает жизнь теням на стене — это, на взгляд многих, подлинное безумие.
Итак, к черту мудрость и да здравствует безумие!
* * *
Пламя свечи красное, с острым концом, чем оно напоминает шапочку монахов — добровольных мучеников, и тени послушно ждут движений, которые им нужно будет имитировать.
Я пью водку из Дании, которой тридцать лет, и она имеет вкус пшеницы северных равнин и дикого тмина.
В этой чудесной компании ожидания, тишины и эпикурейских удовольствий вечера кажутся мне божественно прекрасными.
* * *
Вы, считающие коктейль позором в огненном раю спиртных напитков, потребуйте индульгенции вашим грехам, заставив слегка покраснеть датскую водку несколькими каплями черри-бренди, этого прославленного участника дружеских датских вечеринок.
Я столько раз поднимал мой бокал, посвященный красоте маленькой русалки, которую снег Копенгагена иногда по вечерам одевал в горностаевую мантию.
Для нее я был олицетворением мысли, посвященной обожанию другой самой дорогой мне далекой подруги.
Магия чистейшей прозрачности датской водки в соединении с розовым блеском датской черешни, была ли она разбужена мраморными белоснежными руками маленькой русалки, протянутыми ко мне на пронизывающем ветру Зунда? Или руками моей великой далекой любви, оставшейся за морем?
Что это — мудрость или безумие — не делать тайны из подобного приворотного зелья?
Вот всего лишь один вечер…
Я протягиваю жадную руку к кристально чистому и розовому бокалу. Он пуст.
Я никогда не пью, не позволив свободно витать моим мыслям и моим мечтам, но потом я не могу вспомнить ни те, ни другие: ни маленькая русалка, ни моя великая любовь не явились мне.
Я налил в бокал кристально чистый розовый напиток, и, словно в бокале имелась незаметная трещина, уровень жидкости в нем стал понижаться, понижаться…
В это же время что-то шевельнулось на стене напротив меня — там двигалась тень вопреки поведению всех своих сестер.
Моя тень пила из тени моего бокала, и уровень жидкости в нем понижался.
* * *
Я слишком хорошо знаком с жизнью теней, чтобы меня могли поразить недоумение и страх.
Я могу утверждать, что тень Петера Шлемиля больше связана с реальностью, чем с легендой, и что чучело герра Пепинстера[74], чтобы стать родственником тени, должно уметь двигаться с таким же изяществом, как мы с вами.
Разве я не был свидетелем того, как в Сингапуре, поблизости от ворот Тигра, в театре китайских теней, одна из марионеток спустилась с экрана и уселась рядом со мной, чтобы полакомиться нектарином?
Нет, во мне бушевало негодование, когда я видел, как моя тень, мой фальшивый брат, расправляется с любовным напитком маленькой русалки и моей далекой великой любви.
Потом во мне вспыхнул гнев, когда я увидел, как это недостойное существо делает мне нос и показывает язык.
* * *
На следующий день, едва я зажег свечу, и тени появились на своем обычном месте, я увидел, что моя тень насторожилась.
Я наполнил мой розовый хрустальный бокал, и воровка наверняка не заметила, как я быстрым движением вылил в него содержимое ампулы с цианистым калием, пахнущим спелыми персиками.
Я увидел, как тень привычным движением наклонила бокал, и жуткая микстура, словно по волшебству, исчезла из моего бокала.
* * *
Благодаря вернувшимся ко мне силам, словно произошло отражение или поляризация энергии, я почувствовал волнение, когда увидел на стене напротив свою бешено жестикулирующую тень, вскоре рухнувшую и раздавившую при этом прозрачную тень моего бокала.
* * *
Господи! До чего она тяжелая, моя тень!
Мрак, которому принадлежат тени в соответствии с их особенностями, позволяет им лишь кратковременное появление благодаря могуществу света; таким образом, ночь избавляет меня от моей ноши.
Но стоит появиться пламени свечи, или забрезжить рассвету, как моя тень цепляется ко мне, упрямая, как того требует судьба теней.
Я шатаюсь под ее темным грузом, я задыхаюсь, пригнувшись к земле, как бурлаки, тянущие судно бечевой.
* * *
Однажды я почувствовал, что моя спина стала меньше гнуться под ужасной тяжестью, и я выпрямился, словно почувствовав дыхание освобождения.
Да, действительно, тень съеживалась, уменьшалась, как свидетельство моего избавления. Она оказалась подобной всем недолговечным предметам, жизнь которых завершается разложением и исчезновением.
Но крик триумфа не сорвался с моих губ.
Из аморфной массы разлагающейся тени проявился набор костей, на вершине которого безмолвно смеялись черные глазницы черепа.
* * *
Скелеты человека и животных бросают вызов времени.
Скелеты доисторических животных, пролежавшие в земле миллионы лет и обнаруженные во время раскопок, оказываются совершенно неповрежденными, такими, какими они были в то время, когда участвовали в жизни величественных животных.
Таким образом, скелет тени станет моим спутником на протяжении всей моей жизни, вплоть до финального мрака могилы, когда он соединится с настоящим моим скелетом.
Моя великая далекая любовь, услышишь ли ты когда-нибудь страшные слова, сопровождающие поднимаемый в твою честь бокал, заполненный кристально чистой розовой датской водкой?
Дневник уцелевшего (Le journal d'un rescapé)
Счастливы простаки, потому что им принадлежит царство небесное, — сказал Хилдьярд-косой.
И мне показалось, что в его мертвом глазу блеснул свет. Его мертвый глаз — это глаз, который ему выбил главный надзиратель ударом тросточки. Главный надзиратель Уорбек, с элегантной бородкой и красивыми глазами, оба из которых вполне здоровы. Я должен сказать об этом, и я сделаю это. — Так мы, значит, простаки, Хилдьярд?
— Именно потому, что мы простаки, нас заставляют жить в Приюте.
— А когда мы увидим царство небесное?
— Скоро. Потому что мир скоро погибнет от воды.
Для того, чтобы поверить в это не нужно находиться за решетками Приюта: вода господствует везде, куда только падает взгляд из наших окон. Уже много дней сильнейшие дожди заливают город. Водостоки изрыгают потоки черной воды на шоссе, и огромные пространства стоячей воды напоминают большой пруд.
Мы постоянно видели людей, спешащих под проливным дождем, сражающихся с порывами ветра, но сегодня они все куда-то исчезли. Мы сознавали, что воздух насыщен непонятной тревогой, ожиданием несчастья, предчувствием беды.
Нам не разрешалось смотреть в окна, и Брожье, толстый надсмотрщик, каждый раз, как заставал нас за этим занятием, орал, осыпал нас ругательствами и обзывал болванами и психами. При этом, он обычно размахивал большой палкой, но никогда не пускал ее в ход.
Уорбек, главный надзиратель, никогда не обзывал нас болванами; он обращался к нам с улыбкой, называя своими детьми. В то же время, его трость оставляла на наших щеках и шеях глубокие красные полосы, заставлявшие нас подолгу завывать от боли.
— Мой малыш Хилдьярд, ты же хорошо знаешь, что вам запрещается подходить к окнам.
Трость просвистела в воздухе; еще немного, и Хилдьярд потерял бы свой здоровый глаз, отправленный на встречу во мраке с покалеченным.
— Смотрите, небеса распахнулись! — закричал Хилдьярд.
Он был прав — плотные тучи внезапно разорвались, их обрывки упали на землю, и смерчи яркого пламени обрушились на крыши зданий и на деревья, снося их и вырывая с корнем.
Крыша над нашим залом была мгновенно сорвана, и нас выбросило в воздух, в огонь и в воду. Потом стены обрушились, словно наше здание было карточным домиком.
* * *
Небесное царство…
На самом деле, это было бурное море, по которому я плыл среди самого разного мусора.
Не представляю, кто помог мне усесться верхом на большую деревянную скамью, каких было много в нашей столовой…
Я принялся звать Хилдьярда; наверное, услышав меня, он внезапно вынырнул на поверхность рядом с моей скамьей, повернув в мою сторону мертвенно-бледное лицо с застывшей на нем улыбкой. Я понял, что его душа уже достигла того места, где Бог ожидает простые души, которым он обещал свое царство.
Потом его подхватило течение и унесло далеко от меня.
Потом возле меня побывали другие пловцы — толстяк Брожье, но без своей палки, затем Миндавен, угрюмый малыш, работавший на кухне в Приюте…
Мне удалось подтянуть его вплотную к моей скамье, так как я знал, что у него есть при себе нож.
Так и получилось. Я вытащил у него нож из кармана, а потом сильным пинком ноги отправил эту мерзкую падаль в далекое путешествие.
Нож оказался отличным, хорошо заточенным; я всегда мечтал иметь у себя нечто похожее на него.
Дождь продолжался; я совсем промок, и начал задумываться, как долго мне придется плавать по поверхности этого отвратительного жидкого пространства, когда впереди появилась высокая крыша с отверстием на уровне воды.
В это мгновение моя скамья перевернулась, сбросив меня, словно это была сноровистая лошадь, и ее тут же унесло течением.
К счастью, я мог держаться на воде, хотя и не очень уверенно; мне удалось доплыть до крыши, и я забрался в отверстие.
Я очутился на просторном чердаке, совершенно сухом; на веревках было развешено множество простыней и пледов.
Конечно, этот чердак не был царством небесным, но мне, промокшему до мозга костей и совершенно окоченевшему, он показался очень похожим на него.
Этой ночью я хорошо выспался, завернувшись в толстые одеяла.
Проснулся я поздно утром, но снаружи продолжала свирепствовать отвратительная погода; шумел дождь, рычали бурные потоки.
Я исследовал чердак в надежде отыскать что-нибудь съедобное, но ничего похожего на еду мне не попалось. Я разглядел, что чердак когда-то служил сеновалом, и дверь, через которую я попал на него, служила для загрузки чердака сеном.
Выглянув наружу, я заметил, что мимо меня течение несло тушки погибших куропаток; мне удалось извлечь из воды несколько весьма упитанных птиц.
Я старательно очистил их от перьев; потом, поскольку огня у меня не было, я решил съесть их в том виде, в каком их подбросила мне судьба.
Первые несколько глотков оказались весьма трудными, но голод, как известно, не тетка, и к вечеру мне даже начало нравиться сырое мясо.
С полным желудком я провел спокойную ночь; когда я проснулся, я увидел, что благосклонные ко мне воды принесли к двери на чердак еще нескольких дохлых куропаток.
* * *
Единственным развлечением для меня было однообразное зрелище текущих мимо чердака вод; горизонт постоянно был скрыт за плотным туманом.
Через некоторое время я увидел проплывающую мимо меня доску, на которой сидел большой пес. Доску проносило несколько в стороне, и я отважно бросился в воду. С большим трудом мне удалось подтащить доску к двери на чердак. Пес был сильно истощен, и я с большим трудом затянул его на чердак.
Здесь его начало тошнить водой, после чего он, явно почувствовав облегчение, сразу же заснул, завернутый в одеяла. Я всегда любил собак, и поэтому радовался, что мне повезло встретить спутника.
Я решил, что пес, проснувшись, окажется таким же голодным, каким был я, попав на чердак.
Поэтому я очистил для него от перьев самую большую куропатку.
Пес проспал весь день и следующую ночь; когда на утро я предложил ему тушку птицы, он буквально проглотил ее.
Только теперь я разглядел, что это был не совсем обычный пес; он имел великолепную шелковистую шерсть огненного цвета с редкими черными полосами; что касается головы…
Так вот, до того, как я попал в Приют, я видел похожих на этого пса собак в зоологическом саду, куда меня изредка приводили.
— Ты не собака! — воскликнул я. — Ты не больше пес, чем я, ты тигр! Ты настоящий тигр!
Я поцеловал его в морду, и он в ответ лизнул меня в щеку.
Целый день мы играли, прыгали и кувыркались на одеялах; он мгновенно научился дежурить возле двери, стараясь не пропустить проплывающую мимо еду.
Если мне с трудом удалось выловить одну тощую куропатку, то Тигр заметил и извлек из воды жирного гуся, на котором мяса было гораздо больше, чем на самой крупной куропатке.
Вечером, засыпая рядом с Тигром, я впервые задумался о нашем будущем. Как я мог обеспечить нам пропитание, в особенности, если учесть, что аппетит моего товарища намного превосходил мой?
* * *
На следующее утро, когда я великодушно уступил последнюю куропатку Тигру, неожиданно послышался плеск весел.
Бросившись к двери, я столкнулся носом к носу с Уорбеком, нашим главным надзирателем.
— Как интересно! — воскликнул он. — Вот еще один уцелевший! Он будет с радостью принят в наш новый Приют! Забирайся же в мою лодку, мой маленький друг!
Он ловко направил свою небольшую лодку к двери в мое убежище.
— Уорбек! — неожиданно для меня самого сказал я. — Ты где-то забыл свою трость!
Он огладил свою бородку, и в его карих глазах промелькнул свирепый блеск.
— Как интересно, мой маленький друг уже обращается ко мне на «ты»… Он, кажется, разучился называть меня господин Уорбек? — ухмыльнулся он.
Наклонившись к днищу лодки, он поднял большую дубину.
— Как видите, я готов выполнить любое ваше желание! — пробурчал он.
В этот момент рядом со мной появился Тигр.
Уорбек взвыл от ужаса.
— Это Тигр, сбежавший из зоологического сада! — воскликнул он.
Больше он не успел ничего сказать, потому что мой друг кинулся на него и вцепился в горло.
* * *
Я с большим трудом не позволил лодке потерять равновесие и перевернуться. Затем я перетащил Уорбека вместе с Тигром на чердак.
Уорбек дико орал и призывал меня на помощь, тогда как Тигр, не наевшийся тощей куропаткой, принялся объедать Уорбеку плечо.
— Уорбек, — сказал я, — тебе сейчас поможет твоя любимая дама Дубина.
И я изо всех сил ударил его по голове. Удар получился таким сильным и таким удачным, что его красивый карий глаз выскочил из глазницы со струйками крови.
— Дама Дубина отобрала у Хилдьярда всего один глаз, — засмеялся я. — Ты видишь, что у меня она стала работать лучше!
Он еще некоторое время кричал, когда я вырвал у него бороду, и прекратил свои жалобы только после того, как тигр вспорол ему живот.
* * *
С помощью отличного ножа, забранного мной у Миндавена, я разрезал на куски нашу отличную добычу, которая сама пришла к нам в руки. У нас теперь было еды на несколько дней; если Господь заботится о пропитании мелких пташек, почему он будет вести себя иначе с получившим свободу тигром и случайно спасшимся от потопа бедолагой из Приюта для сумасшедших?
Дождливый день (Jour de pluie)
«Однажды в дождливый день…» — эти слова послужили многим авторам, чтобы стать декорацией для какого-нибудь приключения; как правило, при этом речь шла о безвкусной, разведенной в дождевой воде истории, героями которой были одетые во все серое личности, не расстающиеся с зонтиками.
Вряд ли у нас сегодня получится что-либо более интересное, когда мы попытаемся рассказать вам историю о Рыжей Лизон и Себастьене Равене.
Благодаря пронзительному звонку телефона этот последний был вырван из сна, отягощенного абсурдными снами.
Благодаря телефону? Но почему не из-за дождя, барабанившего по крыше? Потому что дождь лил так, словно ничего другого, кроме дождя, ничего и не могло произойти.
Но, нет… На другом конце провода раздался бесцветный голос.
— Восемь часов… Уже восемь часов, мсье… Восемь часов…
Наверное, он попросил портье разбудить его в восемь часов, хотя необходимости в этом не было.
По крайней мере, он был уверен в этом, когда постепенно настраивался на ритм дневной жизни.
Некоторое усилие мысли привело его к определенной уверенности: он не представлял, что он собирался делать в этом отеле, и что он планировал сделать этим днем — или в один из последующих дней.
В этот момент дверь в номер открылась.
— Восемь часов! Я готова уже целую вечность! Черт знает, что за погода… С неба сыплется настоящий бульон из падали!
Этих слов Себастьяну хватило, чтобы узнать Рыжую Лизон, хотя она дополнила свои фразы, отправив его подушку в другой конец номера.
— Подъем! Ты мог бы дать сто очков вперед сурку!
Равен некоторое время тупо прокручивал в голове невнятные мысли, пока они не приняли форму удивления.
— Надо же, какой сюрприз! — пробормотал он.
Рыжая Лизон встала у окна, мурлыча песенку: «Дождь идет, дождь идет, а пастушка…»
— Я слышал, что тип, написавший эту песню…
— Фабр д’Эглантин?
— Да, у него было это красивое имя… Так ему отрубили голову!
— Зачем ты говоришь мне это? — прорычал Себастьен.
— Просто так… Или потому, что идет дождь.
— Год тому назад, — начал Равен, подбирая слова, — да, год тому назад…
— Ты разбудил меня таким образом в такой же, как сегодня, дождливый день. Тебя это не удивляет, нет?
— Да… Но в этом действительно нечему удивляться, — пробормотал он, проведя рукой по лбу.
— Не за это место нужно взяться! — ухмыльнулась она, схватив его за шею.
И ее рука тяжело опустилась на его затылок.
— Черт возьми!
— Не время ругаться, мой красавчик!
Тем не менее, Себастьен выругался еще раз.
Год назад он задушил Рыжую Лизон на заре такого же серого дня, когда дождь яростно стучался в окно.
* * *
Внезапно декорации поменялись. Себастьен очутился в бесконечной серой мгле, из которой возникли люди, одетые в черное.
Один из них поднял распятие, тогда как другой пробормотал:
— Будьте мужественны, Равен.
Из кружки, поднесенной к его рту, на него пахнуло сильным запахом рома.
За грязным стеклом небольшого окна с решеткой свирепствовал дождь.
Колесо судьбы вращается… (La roue tourne…)
Кажется, ничто не изменилось в последовательности утренних процедур старого доктора Бенна. Привычные дневные действия в конце концов перестают фиксироваться в памяти. Поэтому даже тени воспоминаний не осталось у него в голове о действиях, в результате которых он оказался облаченным в синий редингот, с модным галстуком, соответствующем давно устаревшим нормам благопристойности.
Тем не менее, произошел какой-то мелкий сбой в идеальной утренней механике, включавшей в себя приятный аромат кофе, свежих круассанов[75] и горячих бриошей[76].
Солнце к этому времени уже залило улицы золотом, хотя остатки ночных теней еще сохранились возле дальних зданий и у колокольни приходской церкви, еще не звонившей к заутрене.
Доктор Бенн, шагавший по молчаливым улицам, изменил одной из своих давних привычек: он никогда не отправлялся так рано утром к клиентам, разумно предпочитая ожидать своих верных, хотя и заметно поредевших, клиентов у себя дома.
Он отступил и от другой, довольно пассивной привычки: во время пеших прогулок время от времени останавливаться перед выкладкой товаров, в живописном уголке рынка или с интересом принимать участие в жизни квартала.
Нельзя не отметить, что в это время дня уличная жизнь словно застыла в призрачном свете утренней зари; более того, она была молчалива, как церковный колокол.
Обычно он передвигался небольшими неторопливыми шажками; сегодня же он шагал походкой человека, торопящегося к определенной цели.
Совершенно случайно, на повороте улочки перед ним появился проход во двор, где красивая белая собачка кормила своих щенков.
* * *
— Послушай, Полей, ты говорил мне про трех щенков, а их, как я смотрю, четыре!
Полей, добродушный толстяк с бычьей физиономией, пожал плечами и проворчал:
— Значит, у нее появился четвертый. Что, разве такое не случается?
— Может, оно и так… Во всяком случае, этот щенок будет легавой собакой первого класса, уж в этом я разбираюсь… Смотри, как энергично он сосет! Можно подумать, что он не собирается ничего оставить своим сестричкам!
Только что появившийся на свет щенок не интересовался гостем, он увлеченно пил из кубка новой жизни, из розового блестящего соска.
* * *
Деликатный стук в дверь спальни доктора Бенна сообщил, что его ждут кофе и бриоши, и что скоро наступит час консультаций.
— Вот разоспался! — проворчала, не дождавшись ответа, служанка Марго.
Тело доброго доктора Бенна спокойно лежало в своей постели, так как ночью его душа без волнений и тревог отправилась в неизвестность, в Вечность.
Только что родившееся существо, которое по мнению знатока однажды превратится в великолепного легавого пса, спокойно и доверчиво спало, с капелькой молока на своей маленькой мордочке, прижавшись к теплому материнскому боку.
Чужое преступление (Le crime des autres)
Кратт, свернув за угол и столкнувшись носом к носу с мужчиной в кепке, что-то записывавшем в блокнот, испуганно отшатнулся от неожиданности. Но этот мужчина был всего лишь учетчиком, записывавшим количество тюков с товаром, выгруженных с судна на причал.
— У нас сейчас квадратурный прилив[77], — сказал он, махнув рукой в сторону канала, уходившего по прямой линии к невидимому отсюда морю.
— Вот именно, — ответил Кратт, хотя и не понимал ничего в море и его приливах при новой или полной Луне.
Он специально шел медленно, чтобы не выглядеть человеком, убегающим от кого-то. Ему приходилось совершать над собой усилие, потому что он слышал позади себя топот тяжелых сапог по причалу — может быть, это были сапоги жандармов?
Ему было чего опасаться — на борту шхуны недавно взломали кассу.
Когда его окликнул грубый голос, он подпрыгнул, как будто получил удар кулаком в живот.
Оказалось, позвали не его — где-то в тумане перекликались рыбаки с двух судов, обсуждая цену на белого палтуса.
Да, конечно, он убегал, убегал столько дней, что давно сбился со счета. И вот теперь он оказался на морском берегу — в финальной точке маршрута своего бегства.
Чтобы присесть на кнехт, ему пришлось согнать с него чайку, улетевшую с сердитым криком.
Ему не стоило сидеть — когда сидишь, невольно задумываешься; ему нужно было идти без остановки, идти до тех пор, пока он не упадет, оглушенный усталостью.
Он знал, что рано или поздно упрется в бесконечную стену моря; здесь его схватят и отведут в тюрьму, где передадут сначала судьям, а потом палачу.
Разумеется, его повесят — это судьба убийц, которым не удалось скрыться от закона.
Почему он вообще убил эту старуху в ее жалком жилище в Шордитче? Ему не очень нужны были деньги, да он и не взял ничего, совершив это преступление.
Кем была та старуха? Память упорно не хотела ничего напоминать ему; он всего лишь смутно помнил ее лицо, как будто все случилось в невероятно далеком прошлом.
Как он убил ее? Да, конечно, он задушил ее…
Он взглянул на свои руки, изящные и ухоженные, руки типичного чиновника или художника, отнюдь не душителя.
Еще один звук неожиданно разорвал тишину — продолжительный свист, слегка приглушенный туманом. Возможно, это полицейский поднял тревогу, дав сигнал к погоне.
Слава Богу, нет. Это был сигнал локомотива, приближающегося к светофору, к которому одновременно приближалась ночь.
Кратт вскочил и бросился бежать.
Его никто не преследовал, но вдали засветились окна небольшого вокзала, к которому с минуты на минуту должен был подойти поезд из Лондона.
* * *
Офицер-полицейский опустил на рычаг телефонную трубку и некоторое время молчал, не сводя озадаченного взгляда с рухнувшего на стул Кратта.
— Так вы говорите, что преступление было совершено на Рейвен-стрит, господин Кратт?
Он назвал его господином, и его лоб пересекла глубокая морщина.
— Да, это небольшая улочка, которая выходит на Бот-стрит.
— Она не существует с войны, господин Кратт, ее снесла с лица земли немецкая бомба.
— Не может быть, — закричал Кратт. — Я клянусь вам… Женщину звали… О, Господи…
— Минутку, постарайтесь успокоиться. Сколько вам лет?
— Сорок… Но какое это имеет значение?
— И ваша бабушка…
Кратт заорал:
— Это так… Это моя бабушка… Теперь я знаю — это ее я убил!
Полицейский легонько побарабанил пальцами по телефонному аппарату.
— Господин Кратт, ваша бабушка действительно была убита на Рейвен-стрит тридцать пять лет назад… простите… ее мужем, то есть вашим дедом, который был очень плохим человеком. Его казнили, — добавил он, помолчав.
Он позвонил и попросил принести стаканчик бренди, который Кратту пришлось выпить.
— Вы вспомнили о своей бабушке, но очень нечетко, потому что тогда вам было всего несколько лет…
Кратт медленно избавлялся он нереальных воспоминаний и постепенно, с трудом, возвращался к действительности.
— Мои родители никогда не рассказывали мне эту историю, — сказал он наконец. — Что это со мной было? Я был уверен, что это я совершил преступление, которое на самом деле совершил мой дед!
Полицейский ничего не смог ему ответить. Он ограничился советом:
— Возвращайтесь домой, господин Кратт. Отдохните, постарайтесь не думать об этой истории. Если возникнет необходимость, обратитесь к врачу.
Когда Кратт ушел, полицейский пробормотал:
— Говорят, что на детей ложится тяжесть преступлений, совершенных их родственниками до седьмого поколения. Бедняга… Да поможет ему Бог!
Тень в промежуточном порту (L'ombre d'escale)
Вы действительно хотите увидеть дом, сэр?
Вопрос был задан по-английски, а это язык безупречно правильный, от которого несет школой, и он прозвучал в двух шагах от меня, хотя из-за ночной грозы я не смог разглядеть говорившую.
Просто тень, такая же, как множество других теней, населявших старый порт.
На северо-западе полыхало зарево огней Барселоны, такое яркое, словно там буйствовало ярмарочное празднество; на востоке в воде дрожали отражения позиционных огней торговых судов.
В темноте светились глаза, то красные, то зеленые, на верхушках мачт вспыхивали светлые звездочки.
Мои ноги запутались в траве, и услужливая рука помогла мне высвободиться.
— Благодарю вас, мадам, — сказал я, потому что эта рука была женской.
— Но вы действительно хотите увидеть дом, сэр?
— Ах, да, этот дом… Действительно, почему бы и нет?
Мне показалось, что стоявшее рядом со мной и замолчавшее существо испытывает чувство смущения.
— Мне кажется, сэр, что у вас возникло ложное представление о… Это обычный дом, одиночество внутри него такое же полное, как и вокруг… Вы действительно помощник капитана с «Эндимиона»?
Я повернулся к моему судну, на котором горели керосиновые фонари и рычали нутряными голосами лебедки, выгружая кардиффский уголь в портовые баржи.
— Да, это так. «Эндимион», углевоз из Халла. Я Ларкинс, старший помощник капитана судна. А вы?
— Господи, кто я… Какое это имеет значение? Я та, кто может показать вам дом.
Мое сердце сжалось, и я невольно отшатнулся, словно почувствовав отвращение.
— Вы имеете в виду дом, где убили Энди Рассела, бывшего до меня помощником капитана «Эндимиона»?
— Именно так, сэр.
— Почему вы хотите, чтобы я пошел смотреть на следы этого ужаса? Я немного знал Энди, это был отличный парень, но у меня нет долга перед его памятью.
— Это нужно сделать потому, что одна бедная женщина просит вас об этом, господин офицер. Я живу в том доме, и это так ужасно… находиться рядом с ним.
— С ним? О чем вы, мадам, я вас не понимаю.
Далекие огни моего судна внезапно отбросили свои отражения к унылому берегу, и я разглядел высокий стройный силуэт и блестящие жемчужины на белом лице… Безмолвно текущие слезы…
— Он возвращается, сэр! Он приходит туда! Его душа… Она отвратительна. Души, которые не могут найти божественный покой, принимают мерзкие формы, чтобы иметь возможность существовать рядом с живыми. Он превратился в ночное существо, мучающее меня. Может быть, он захочет выслушать вас и уйти… Уйти и затеряться во мраке, которому он давно принадлежит.
Голос, залпом высказавший мне эти фразы, был печальным и усталым, словно он пересказывал скучное домашнее задание; во мне вспыхнул протест.
— Тело Энди Рассела было предано земле, — сухо ответил я. — Я побывал на его могиле. Его родные, его братья и сестры украсили ее цветами.
— Разумеется, так оно и было, — нервно воскликнула она. — Но его душа не последовала за телом и осталась здесь.
В этот момент катер речной полиции вышел из внутренней гавани и луч его прожектора скользнул по воде.
На протяжении нескольких секунд мы были залиты ярким светом прожектора.
Лицо стоявшей возле меня женщины было ослепительно прекрасным, и я вздрогнул от неожиданности.
— Я готов идти с вами, мадам, но, если вы пытаетесь завлечь меня в ловушку, я забуду, что вы леди, и вы станете первой из числа тех, кого мне придется застрелить.
— Ради вашей помощи я готова перенести даже оскорбление, — ответила она с мрачной радостью.
Мы долго шли по прямой, словно нанесенной по линейке, дороге, проходящей мимо заброшенных промышленных корпусов и свалок; на большом расстоянии друг от друга горели фонари, выглядевшие калеками на хрупких костылях.
Проходя под одним из них, я снова увидел ее лицо.
— Энди Рассел посещал вас?
— Да!
— Он… ухаживал за вами?
Она рассмеялась таким свирепым смехом, что я невольно отшатнулся от нее.
— Говорите прямо, лейтенант Ларкинс, вы хотите знать, любил ли он меня? Да, любил, и я любила его.
Я смущенно опустил голову, несколько задетый этим страстным признанием.
Она обогнала меня на несколько шагов на нашем мрачном пути; пустельга, охотившаяся низко над землей, пролетела между нами со злобным верещаньем. Моя спутница остановилась, и я приблизился к ней.
— Жуткие ночные голоса, — пробормотала она.
Она оказалась так близко ко мне, что я почувствовал, как дрожит ее большое гибкое тело.
— Я прожила всю жизнь в ночи и в страхе. Я больна, моя кровь испорчена. Я родилась в результате жуткого инцеста. Мои преступные родители не дали мне ничего за исключением красоты, и благодаря им в мои вены попала ночь. Ночь, погубившая мое сердце.
«Ну, вот, — подумал я, — она сумасшедшая. Я должен был сразу догадаться. На этом и закончится мое приключение».
Мы как раз проходили под очередным фонарем, и я уловил обращенный на меня взгляд, полный презрения.
— Энди Рассел тоже считал меня безумной, хотя и любил меня, — ответила она, словно прочитав мои мысли. — Меня он привлекал своим крепким и здоровым телом. У него было сердце обычного англичанина, простого моряка; когда он находился рядом со мной, ночь ничего не могла сделать мне. Вы, лейтенант Ларкинс, очень похожи на него — такой же мужественный и крепкий английский моряк. Вашему сердцу незнакомы коварство и обман. Вы тоже могли бы полюбить меня.
— Мадам… — взмолился я.
Но я был человеком, только что пришедшим с моря, изголодавшимся по нежности. Зов всех портов, куда мы заходили, зазвучал в моем сердце.
— Пойдемте, лейтенант.
Дом уже был перед нами, темный на фоне темных зарослей карликового тамариска.
В холле неправильной формы, со светлыми керамическими изделиями на полках, лампа в мавританском стиле разбрасывала цветные блики.
На столике из красной меди стояли бутылка испанского вина, бокалы розового хрусталя, похожие на сосуды из ризницы, и перламутровая раковина, заполненная сигаретами.
— Садитесь в это кресло, именно в нем погиб Энди Рассел, убитый… Кем? Полагаю, его убила ночь…
Быстрым взмахом руки она отодвинула занавеску, и появилась великолепная спальня: широкая низкая постель с бельем полярной белизны, шкуры животных, высокая лампа, игравшая роль ночника.
Она медленно сбросила темный плащ; появилось мраморное плечо, потом ослепительно белая рука.
— Когда я позову: «Ларкинс!», вам можно будет войти.
Занавеска за ее спиной была задернута.
Я не прикоснулся ни к вину, ни к сигаретам; я все еще видел плащ, падающий к ногам этого странного существа.
Послышался разрушающий тишину монотонный шум дождя снаружи; надо мной в том же ритме проносились секунды, которые отсчитывал мой хронометр.
— Ларкинс!
Она окликнула меня громко и повелительно.
Я скользнул за занавеску.
В комнате не было ни души.
Я обошел весь дом, оказавшийся не таким уж просторным. Всюду на предметах мебели и на полу лежал толстый слой пыли; везде я чувствовал настойчивый запах заброшенности.
— Мадам! Мадам!
Я оставался в покинутом доме до утра, но в нем никто так и не появился.
* * *
Офицер полиции выслушал меня с серьезным выражением лица.
Ночной охранник видел, как я выходил из заброшенною дома и вежливо предложил мне пройти с ним в дежурное помещение.
Когда я рассказал о моем странном приключении, дежурный покопался в картонной коробке, из которой извлек большую фотографию, наклеенную на черную бумагу.
— Может быть, это она? Ваша дама?
— Да, конечно, это она!
Полицейский поднял на меня взгляд серьезных обеспокоенных глаз.
— Это Изабелла Портез-и-Мендоза… Точнее, это было ее именем…
— Что вы имеете в виду?
— Она убила нескольких морских офицеров-англичан, в том числе Энди Рассела. Осужденная на смерть, она свела счеты с жизнью шесть месяцев назад на эшафоте. Ее задушили с помощью гарроты.
* * *
«Эндимион» ушел, я остался.
Я нашел в Барселоне для себя работу обычного морского страхового агента.
Я заказал для себя набор ключей; по вечерам я пробираюсь в дом преступлений.
Я зажигаю свет и сажусь ожидать.
Она придет… О, я не сомневаюсь, что она придет! Подобные ей существа всегда выполняют свои обещания, даже находясь за пределами чудовищных законов смерти.
Я буду ждать, если понадобится, пока не истекут сроки моего земного существования. И я уверен, что однажды вечером она позовет меня из-за занавески.
Господин Бэнкс и ракета Ланжевена (М. Banks et le boulet Langevin)
Люди давно побывали на Луне, обнаружили, что на Марсе нет никаких суперцивилизаций и разгадали все загадки других планет Солнечной системы, начиная с облачной маски Венеры и до Большого пятна гигантского Юпитера.
Аппараты человека для звездных путешествий преодолели невероятные границы и достигли множества галактик, затерявшихся в глубинах космоса.
Двигатели, использующие атомную энергию, давно соседствуют в музеях с паровой машиной Уатта и динамо-машиной Грамма, так как в распоряжении звездных кораблей оказались многие сотни силовых линий.
В XX веке узнали про существование тысячи двухсот тридцати двух этих таинственных элементов, не имея возможности использовать хотя бы один из них. Теперь их известно в три раза больше, и ученые каждый день обнаруживают все новые и новые.
Они улыбаются, вспоминая Эйнштейна, ограничившего возможную скорость скоростью света.
Несчастный, решивший устремиться в эфир на жалкой скорости в 300 000 километров в секунду, добирается, в конце концов, запыхавшись, до черного спутника Ригеля или до Бетельгейзе, и узнает, что его там давным-давно ждут звездные корабли.
Благодаря победе над временем, человек может, при желании, наблюдать за охотой неандертальцев на мамонта или за вторжением войск Цезаря в Галлию.
Но подобное зрелище оказывается немногим интереснее, чем старые документальные фильмы.
Конечно, человек успешно посягнул на прерогативы Времени, но оно уступило ему только изображения, словно он был ребенком, которого стараются успокоить, показывая ему картинки.
Таким образом, если человек достаточно успешно овладел пространством, то он все еще не мог сказать то же самое про время. Эта ситуация сильно огорчала человека, так как с той поры, как в его мозгу укрепились представления о тесной связи пространства и времени, он не мог примириться с тем, что, если пространство покорилось ему, то время продолжало успешно сопротивляться.
* * *
Люди 6000 года все еще продолжали опираться на закон, установленный знаменитым математиком XX века, профессором Ланжевеном, согласно которому, если бы ракета, покинувшая Землю на скорости, превышавшей скорость света, вернулась через год своего времени, то на Земле за это время прошло бы сто лет.
Когда ракеты 6000 года, давно оставившие свет позади, стали возвращаться на Землю, то оказалось, что на Земле с временем не происходило ничего особенного.
Тем не менее, ученые знали, что классическая ракета Ланжевена отнюдь не была досужей выдумкой ученого, но являлась результатом его глубоких рассуждений. Из этого следовало, что кто-то противился реализации следствий путешествия туда и обратно, и этим кем-то было само время.
Время, которое никак не удавалось отделить от четвертого измерения, потому что нельзя было исключить, что оно само было этим гипергеометрическим измерением.
На протяжении столетий ученые продолжали выяснять, что им нужно было предпринять, чтобы «отбросить Бога в его последнее убежище…»
Они то и дело заявляли, что им осталось выяснить только какие-то мелочи, но приходила старость, и они сходили со сцены, так ничего и не выяснив.
Нужно было, чтобы в шестом тысячелетии родился некий Рик Бэнкс, сказочно богатый человек, увлекавшийся игрой в гольф.
Потому что гольф, в который, разумеется, под другим названием, играли уже во времена египетских фараонов, пережил все, что появилось и исчезло за все прошедшие тысячелетия.
И Рик Бэнкс пообещал некоему Смиту, считавшемуся в эту эпоху самым крупным ученым во вселенной, половину своего состояния, если тому удастся построить ракету, способную посмеяться над временем.
* * *
Уже довольно долго этот Смит работал над небольшой проблемой, без которой нельзя было решить главную задачу.
Но он помалкивал об этом, потому что отличался дурным характером.
Он был уверен, что ради таких громадных денег можно совершить великие дела, и он взялся за дело.
Однажды Рик Бэнкс получил старинную телеграмму, в которой коротко сообщалось:
«Решение нашел. Присылайте чек».
Подписана телеграмма была Смитом.
Второго мая 6000 года в пространство устремился «Ланжевен», благоговейно названный именем этого ученого прошлого, хотя он ничем не походил на ракету Ланжевена. На «Ланжевене» летел Рик Бэнкс.
* * *
Второго мая 6100 года «Ланжевен» опустился на посадочную площадку Эдинбургского астропорта в Шотландии, и с него сошел на землю жизнерадостный Рик Бэнкс.
По земному календарю ему должно было стукнуть 146 лет, но он выглядел так, словно его организму было 46 лет, то есть всего на год больше, чем 2 мая 6000 года.
Было решено счесть эту дату великим событием, поскольку с этого момента время было вынуждено подчиниться человеку.
Но Рика Бэнкса это не волновало.
Он собирался присутствовать на крупном турнире, посвященном тысячелетию игры в гольф, организованном клубом Святого Эндрю и намеченном на ближайшее время. Без ракеты Ланжевена Рик Бэнкс к этой дате давно превратился бы в пыль.
Каштаны и шляпа господина Бабине (Les marrons et le chapeau de M. Babinet)
Моя память сохраняет верность господину Бабине, хотя он этого и не заслуживает. Я как сейчас вижу его переходящим улицу, одетым в желтое пальто, из-под которого торчат тонкие ноги в зеленых брюках. Он принадлежал к той категории людей, которые не любят здороваться, снимая шляпу, как будто она привинчена у них к голове и, вообще, ни на кого не обращают внимания. Тем не менее, люди всегда вежливо приветствовали его, потому что он был состоятельным человеком.
Наши сады были смежными, и их разделяла только живая изгородь, так что нам достаточно было подняться на цыпочки, чтобы увидеть множество кустов смородины и восхититься правильностью шпалер, обрамляющих на всем протяжении границу его участка.
При этом нужно было постараться, чтобы господин Бабине на застал нас за рассматриванием его территории, потому что он сразу же обрушивал на нас глупые обвинения:
— Гадкие ротозеи, шпионы, воришки, занимайтесь своим участком, держите свои глаза в своих карманах!
Кошмарным днем, настоящей пыткой для нашего соседа был день Святого Фомы, приходящийся на начало осени, когда в деревне устраивали праздник с убогой иллюминацией и пародией на фейерверк.
Фейерверк обычно устраивали на небольшом пустыре напротив наших домов. Господин Бабине никогда не упускал возможности высунуть свой острый нос в окошко, чтобы заорать:
— Банда негодяев, вы, наверное, хотите поджечь мой дом!
Конечно, мало кто отказался бы от воплощения в жизнь этой мысли, если бы не категорический протест отдельных разумных голов.
В этот год праздник Святого Фомы состоялся в туманную дождливую погоду; пиротехника отсырела и постоянно давала осечку, ракеты не взлетали или, взлетев, не взрывались. Это вызвало огорчение не только у детворы, но и у многих взрослых, и только господин Бабине торжествовал.
— Это просто замечательно! — восклицал он каждый раз, когда римская свеча вспыхивала и тут же гасла.
Вертушки едва загорались, петарды не взрывались, а негромко хлопали, римские свечи выбрасывали снаряды, которые падали на землю, не взрываясь. Запуск снопа, завершающего фейерверк, закончился полным фиаско, какой только можно себе представить во время подобного праздника.
Много давшей осечку пиротехники закончило свое бесславное существование в саду господина Бабине, на что он почему-то не обратил внимания.
Немного позже деревья начали терять листву, и повсюду загорелись костры, в которых сжигали сухую листву и траву. В саду господина Бабине был устроен костер из мусора, который он несколько дней сгребал в большую груду.
Наш сосед любил осенний костер, позволявший ему в одиночестве насладиться таким экзотическим блюдом, как жареные каштаны, множество которых он зарывал в горячий пепел, оставшийся на месте догоревшего костра.
Полакомиться жареными каштанами господина Бабине! Я уверен, что об этом тайно мечтала вся деревенская детвора, но никому не удавалось попробовать их до того дня, когда…
По всей равнине пылали осенние костры, но самым большим был костер в саду господина Бабине, горевший лучше, чем все остальные вместе взятые. Нахлобучив по самые уши свой цилиндр, он таскал тележки, заполненные сухими листьями и прочим горючим мусором, явно наслаждаясь поднимающимся все выше и выше пламенем.
Мы наблюдали за ним из-за ограды, так как нас тоже захватила феерия огня, а также потому, что в сумерках следить за господином Бабине можно было незаметно. Неожиданно прогремевшие взрывы заставили нас разбежаться по сторонам. Из костра начали взлетать красные и зеленые ракеты, рассыпавшиеся фонтанами искр, падавших затем на землю разноцветными огнями.
Потом какая-то адская сила подхватила костер и взметнула его вверх, словно огненное торнадо, тут же раскидав по сторонам пылающие угли.
Мы услышали возмущенный и испуганный вопль господина Бабине… Что же случилось с его костром? Очевидно, он развел свой костер в саду на том месте, куда несколькими днями раньше упали отсыревшие и отказавшиеся взрываться римские свечи.
Мы еще продолжали в ужасе таращить глаза, отскакивая от падавших вокруг нас горящих обломков, когда на нас посыпался уже другой дождь — это были жареные каштаны господина Бабине.
Уверяю вас, в этом году ему так и не пришлось отведать своего любимое лакомство.
Когда мы бросились на неожиданно посыпавшуюся на нас манну небесную, с неба рухнул еще один подарок — это был цилиндр господина Бабине.
Ему так и не вернули его любимую шляпу; для нее нашлось гораздо более подходящее место на голове чучела, отпугивавшего воробьев на соседнем участке. Цилиндр долго оставался во владении чучела, и каждый, кто проходил мимо, неизменно снимал шапку, восклицая:
— Добрый день, господин Бабине!
С тех пор мы как-то стали забывать приветствовать самого господина Бабине; впрочем, он вскоре уехал из нашей деревни, вероятно, чтобы найти место без фейерверков и без чучел, наряжающихся в его цилиндр.
Вернувшийся (Le revenant)
Шел мелкий косой дождик, тихий и коварный; казалось, что он ханжески извиняется, придавая пейзажу печальный облик.
Элиан прижалась лбом к оконному стеклу, прикидывая в уме радости и заботы наступившего дня.
Что касается радостей, то она не могла рассчитывать на что-нибудь более или менее серьезное: кухарка ощипывала достаточно упитанного утенка, а в большой зеленой миске лежала горка отборных луговых грибов. Этот набор продуктов обещал не слишком роскошный обед, но Элиан не относилась к числу гурманов, и если она и хвалила обед, то не потому, что получала от еды большое удовольствие, а только для того, чтобы сделать приятное своей старой служанке.
В четыре часа она пробралась по залитым водой улицам и остановилась перед строгой калиткой дома, в котором жили три дамы Маранн. Она была хорошо знакома с этой троицей, ожидавшей ее в гостиной, погруженной в зеленый свет аквариума, за столом, стоявшие на котором лакомства были заранее известны Элиан: кофе (нужно отметить — отличный), сдобные тартинки с изюмом, скупо намазанные маслом, сухое анисовое печенье и сладкий ликер, прочно прилипающий к желудку.
Потом они вчетвером отправятся в небольшую, недавно построенную церковь, пропахшую свежей штукатуркой и смолистой древесиной, в которой прихожане постоянно кашляют из-за сырости и сквозняков.
Вечером она может рассчитывать на самые приятные часы за весь день: она будет вязать или шить что-нибудь для бедняков, перечитает неизвестно в который раз роман мадам Зенаиды Флерио, потому что она терпеть не может новые книги, или даже сыграет партию в шашки со служанкой Валентиной.
— И так будет всю мою жизнь, — пробормотала она, — до того дня, пока Господу не захочется принять меня.
Она отвернулась от унылой перспективы домов и деревьев, и зеркало вернуло ей ее образ: она увидела серебряные нити, мелькавшие в ее черных волосах и темные пятна на ее веках.
— Да, — подтвердило ей отражение, — это твоя жизнь, и завтра она будет такой, же какой была вчера. Я не радуюсь, но и не возмущаюсь этим, я всего лишь констатирую.
В ее сознании послышался голос, душераздирающий, полный сурового упрека:
— Ты бесполезное существо!
В этот момент мимо прошел почтальон, опустивший письмо в ее почтовый ящик.
Кто мог написать ей письмо, самому одинокому существу среди всех одиноких? Старая дева, потерявшая за эти годы всех дорогих ей людей, которой сны заменили воспоминания? Прежде чем распечатать письмо, она долго рассматривала марку и адрес, написанный на большом конверте кремового цвета. Ни то, ни другое ничего не рассказали ей. Она долго разыскивала инструмент, позволивший ей открыть конверт, не повредив его.
Она сразу же посмотрела подпись: Пьер Маре.
Это имя тоже ни о чем не напомнило. Но, наверное, это было не совсем так, потому что она поспешно подошла к зеркалу, поправила черную ленту и попыталась спрятать седые волосы.
Пьер Маре был ее соседом тридцать лет назад, другом ее детства, товарищем в детских играх.
Элиан покраснела. Когда-то по их небольшому городку пронеслись слухи об их помолвке. Элиан и Пьер, Пьер и Элиан, это была образцовая пара, созданная для того, чтобы пройти рядом через самые сложные жизненные коллизии на жизненном пути.
Но жизнь решила все иначе: родителям Пьера пришлось уехать, и молодые люди, никогда ничего друг другу не обещавшие, сказали с последним взглядом в момент расставания только то, что они могли сказать.
Ничто не может быть красноречивее разлуки; тем не менее, она нередко бывает окончательной.
Пьер не вернулся, и Элиан состарилась.
Он предупреждал ее о своем сегодняшнем визите короткой и вежливой фразой.
Взволнованная и растерянная, Элиан бросилась предупредить Валентину, чтобы та рассчитала меню на двоих. Оказалось, что служанка, читающая газеты, была информирована гораздо лучше хозяйки.
— Господин Пьер Маре? Да о нем только и говорят в газетах! Он побывал везде, где только может побывать смертный — у готтентотов, у караибов, на северном полюсе и я уж и не знаю, где еще! Говорят, что он знаменитый путешественник.
«Вот как, путешественник!» — улыбнулась про себя Элиан.
И она впервые за всю жизнь без благосклонности оценила свой простой черный туалет.
* * *
Он оказался пожилым человеком, передвигавшимся ссутулившись, с помощью трости; его глаза были светлыми, какими бывают глаза моряков, состарившихся под парусами, в брызгах соленой морской воды.
Элиан, обратившаяся к своим скудным познаниям в географии, расспрашивала его о путешествиях, интересовалась, действительно ли в бразильской или индостанской сельве обитают люди-тигры и летающие крокодилы.
Он отвечал вежливо и очень кратко, словно думая в это время о чем-то другом. Потом он принялся расспрашивать ее.
Элиан удивилась лихорадочным ноткам в его голосе и незначительности его вопросов.
— Как там дом отца Жака, он сохранился? Булочник все еще выпекает по средам и воскресеньям булочки с тмином? Мальчишки все еще ловят плотву под мельничной плотиной? А старинную башню на краю леса еще не разрушили? Слава Богу!
Он говорил, торопливо и сумбурно, едва оставляя ей время на ответы.
Он интересовался самыми пустяковыми воспоминаниями: Помнит ли она варенье старой Мартин? Что стало с собакой мельника, которая начинала выть, когда слышала свист или пение? А помнит ли она, как остановился фонтан на Старой площади, когда опавшая листва забила водоток?
Да, конечно, она помнила все это; вскоре ее охватила такая же лихорадка, и она попыталась остановить посетителя, чтобы в свою очередь вспоминать о прошедших временах. Когда, наконец, они замолчали, выбившись из сил; наступили сумерки, и Валентина принесла лампу.
Пьер Маре вздохнул:
— Господи, лампа… Я имею в виду, такая же лампа, как тогда…
Он помолчал, потом сказал необычно серьезным тоном:
— Мадемуазель Элиан, вот уже десять лет, как я думаю о вас.
Она вздрогнула и отодвинулась от лампы, чтобы он не заметил, как она покраснела.
— Да, десять лет, если не больше. Я думал о вас в Китае, в Японии, в Америке, на полюсе… Внезапно я понял, что уже увидел все, что мне могла показать Земля, и что у меня осталось только одно, самое важное, самое прекрасное путешествие.
— Самое прекрасное… — повторила Элиан.
— Это дорога назад, ведущая нас к замечательным прошедшим временам, к ушедшим друзьям, к пропавшим вещам, которые мы помним в свете солнца нашей юности. Мне нужен кто-то, рядом с кем я смогу вызывать воспоминания; это самое прекрасное из всего, что Бог подарил людям на Земле.
— Значит, — сказала она, — вы возвращаетесь…
— Да, ради прошлого, чтобы найти то, что осталось от него.
Он поднял на нее умоляющий взгляд.
— Ведь вы понимаете меня, не так ли?
Она кивнула и пробормотала:
— Да, я понимаю вас…
Ее голос прозвучал болезненно, но он не заметил этого.
Они расстались глубокой ночью, договорившись снова встретиться на следующий день.
Дождь по-прежнему барабанил по стеклам.
«Это большой несчастный ребенок, — подумала Элиан, — он видел весь мир, но он не нашел в нем счастье. Я проведу его мимо теней и призраков, и это позволит мне стать полезной».
Она подошла к зеркалу и заметила, что поседевшая прядь выглянула из-под ленты; она поднесла к ней руку, чтобы спрятать снова, но оставила ее на месте.
— К чему это? — пробормотала она.
И, так как было еще не слишком поздно, она принялась читать книгу мадам Зенаиды Флерио с того места, на котором остановилась накануне. Но ее глаза были полны слез, и ей пришлось отложить книгу.
Ужин господина Юлотта в новогоднюю ночь (Le réveillon de M. Hulotte)
Сказка в день Святого Сильвестра[78]
Я не собираюсь устраивать ужин в новогоднюю ночь, и я никому не стану отправлять новогодние поздравления, потому что не хочу ни от кого получать их.
Так решил господин Юлотт[79], яростно размешивая кочергой уголь в плохо горевшей печи, пытавшейся согреть воздух в комнате старого холостяка. Известно, что сова — недобрая птица, и мужчина напоминал ее своим профилем и скрипучим голосом.
Наконец, язычки голубого огня принялись лизать куски угля, потом, заворчав, вспыхнуло сильное пламя и тепло начало постепенно заполнять комнату.
— Сегодняшний праздник, день Святого Сильвестра, — заявил господин Юлотт, разговаривая с самим собой, — такой же обычный день, как любой другой. Что, вы хотите сказать, что заканчивается год? Тоже мне важное дело — следующий год уже готов его заменить. Не будь у меня календаря, чтобы я вспомнил дату 31 декабря, как бы я смог отличить сегодняшний день от любого другого?
Пламя уютно мурлыкало в печи, тепло позволило старику приятно расслабиться. Внезапно он подскочил.
Он знал, что кроме него в доме никого не было, но ему неожиданно показалось, что на лестнице послышались шаги.
— Я же отпустил Мелани, свою служанку, которая — вот дура — захотела устроить семейный ужин в новогоднюю ночь. Может быть, она решила, что я передумал — смех, да и только.
Дверь в комнату отворилась, и господин Юлотт вскрикнул от ужаса, увидев, что на пороге оказалась отнюдь не служанка, а улыбающаяся пожилая дама, очень эффектно одетая. Она вошла в комнату, хотя ее никто не приглашал, и устроилась в кресле поближе к огню.
— Мадам, — пробормотал старик, — кто вы такая? И как вы попали ко мне?
— О, я всегда захожу, куда хочу, — ответила дама дружелюбным тоном, — и никакая дверь не может помешать мне. Впрочем, мне кажется, что вы некоторым образом звали меня.
— Я звал вас? Думаю, что вы ошибаетесь, — проворчал господин Юлотт. — Вас наверняка ждет кто-то из моих соседей, а вы просто ошиблись дверью, вот и очутились у меня.
— В это время меня ждут везде, — возразила дама решительным тоном. — Вы — единственное исключение. Поэтому я и пришла к вам.
Пока дама говорила, господин Юлотт с удивлением наблюдал за ее лицом.
Лицо необычной посетительницы менялось ежесекундно; оно выглядело то удивительно юным, то покрывалось морщинами, а ее волосы становились седыми. Были моменты, когда господин Юлотт видел перед собой одновременно множество лиц. Эти изменения происходили с головокружительной скоростью и были видны несколько расплывчатыми, словно через слой тумана.
— Я ничего не понимаю… Вы очень странная особа… — пробормотал встревоженный господин Юлотт. — О чем вы говорите?
— Я сейчас ничего не говорила.
— Тем не менее, я слышу множество голосов, но они такие далекие и слабые, что я ничего не могу разобрать. Что это такое?
Он указал на пожелтевший и немного помятый листок бумаги, который аккуратно развернула дама. Листок был покрыт неровным нечетким почерком.
— Я прочитаю, что на нем написано? — спросила дама.
Господин Юлотт пожал плечами.
— Несчастный, — с горечью произнесла дама, — как вы могли забыть это?
Она начала читать, но к ее голосу продолжали примешиваться посторонние голоса, и господину Юлотту показалось, что текст читает одновременно множество голосов.
— Я узнаю этот голос, — неожиданно сказал он, — да и другие тоже. Как ни странно, это, по-моему, один и тот же голос.
— Это письмо, — негромко сказала дама, — это первое новогоднее послание, написанное вами родителям, а голос — это ваш голос. И остальные голоса тоже ваши, и каждый из них читает очередное письмо, написанное по такому же поводу на следующий год. Как вы могли забыть все это, бедный вы человек…
— Вы не одна, — пробормотал, вздрогнув, господин Юлотт. — Мне кажется, что вас окружает множество людей, но когда я пытаюсь их увидеть, я вижу только вас!
— Я — это уходящий год, — серьезным тоном произнесла гостья. — А тени, которые, как вам кажется, толпятся вокруг меня — это другие прошедшие годы, которые каждый добрый человек вспоминает сегодня. Почему вы решили отказаться от этого святого правила памяти? Нет, господин Юлотт, вы не имеете права считать день Святого Сильвестра обычным днем; сегодня утром вы провели инвентаризацию в своей лавке; почему бы вам не провести вечером инвентаризацию своего сердца? Ведь это будет единственный отчет, который рано или поздно потребует от вас Господь.
Расставание с уходящим годом должно быть символом глубокой набожности. Вам нужно вспомнить умерших, подумать о своих несчастьях и своих радостях; вы должны рассмотреть свои действия и свои мысли в уходящем году, чтобы сделать их лучше в наступающем.
Она встала, собираясь уходить, но господин Юлотт протянул к ней руки умоляющим жестом.
— Нет, не уходите, позвольте мне разглядеть картины моей жизни, какими бы нечеткими они не оказались, — воскликнул он.
— Я не могу, — печально ответила дама. — Мое время истекает.
Внезапно она закружилась, словно волчок, и вместо пожилой дама перед господином Юлоттом оказался маленький розовощекий ребенок, державший в руке миниатюрную колотушку.
— Что это такое! — воскликнул ребенок. — Как можно встречать меня с такой угрюмой физиономией, без песен, без бокалов шипучего вина, без радостных возгласов! Вы должны быть наказаны, противный скряга!
— Ой-ой! — завопил господин Юлотт, пытаясь оттолкнуть колотушку, обрушившуюся на его плечи, спину и другие места, до которых мог дотянуться малыш.
— Вот, по меньшей мере, что вы должны сейчас кричать: прошлый год скончался, да здравствует Новый год! — воскликнул проказник.
— Да здравствует… Новый год! — прохрипел господин Юлотт. — Хватит, перестаньте бить меня!
— Что вы, мсье, я не бью вас, — запротестовал встревоженный голос. — Я нашла вас задремавшим перед камином; вам наверняка приснился какой-то кошмар, потому что вы начали громко звать на помощь.
Господин Юлотт протер глаза и увидел перед собой встревоженное лицо склонившейся над ним Мелани.
— Как, вы передумали устраивать ужин в новогоднюю ночь? — спросил он.
— Что вы, мсье, конечно я не передумала. Но сейчас еще далеко до полуночи, и когда я вспомнила, что вы остались одни, чтобы встретить чудесную ночь Святого Сильвестра, мне стало очень грустно. Поэтому я пришла к вам, чтобы пригласить встретить праздник вместе с моей семьей. Мы встретим Новый год поднятыми бокалами и выскажем свои пожелания, чтобы они исполнились в наступающем году.
Господин Юлотт не заставил просить себя дважды.
Каменный людоед (L'ogre de pierre)
Когда-то у подножья Севенн располагалось небольшое королевство Алез, и поскольку история умалчивает о нем, его принято считать счастливым.
Его король — увы, история не сохранила его имени — охотился в горах на каменных баранов, ловил форель в горных потоках, а во время сбора винограда праздновал его вместе со своими добрыми подданными.
У короля была дочь по имени Нера, и, хотя про нее нельзя было сказать, что у нее был плохой характер, она всегда поступала по-своему, и король обычно прощал дочери все ее капризы. Однажды она захотела иметь свой собственный замок; вместо того, чтобы построить его на веселых берегах Роны, она решила возвести его в одном из самых диких районов горного массива Севенны, в месте, называвшемся Со.
В королевстве было достаточно рабочих рук, в изобилии имелись и каменные блоки; поскольку королевские сундуки были до краев заполнены золотыми и серебряными монетами, каменщикам королевства потребовалось всего два года, чтобы построить величественный замок, куда сразу же переселилась принцесса Нера.
Ей очень понравилась жизнь в этом красивом месте; вскоре ее красота, ум и великодушие привлекли в замок множество трубадуров, исполнявших замечательные песни и рассказывавших еще более замечательные истории. Приезжали отважные путешественники, рассказывавшие удивительные истории о своих поразительных приключениях и описывавших фантастические страны, которые им довелось посетить. Бывали в замке и блестящие рыцари, готовые по малейшему жесту царственной хозяйки обнажить меч и копье против любого противника.
И жизнь в замке протекала мирно и благополучно до тех пор, пока известие о нем не достигло ушей ужасного людоеда Бродуса.
Бродус был жутким существом, порождением брака злобной колдуньи из Канталя и страшного дракона, о чем ходили темные слухи.
Он жил на противоположном склоне горного массива Севенны, в огромной труднодоступной пещере, из которой выходил только для охоты на медведей, или для того, чтобы собрать кровавый налог с несчастных жителей своего королевства, называвшегося Мило.
Он не только обладал совершенно чудовищной физической силой, но, вдобавок к ней, жуткие родители наградили его дьявольской колдовской силой, и он не задумываясь использовал свои черные знания, чтобы причинять страдания несчастным обитателям окрестностей.
Однажды вечером Нера, чувствовавшая себя одинокой, напрасно блуждала взглядом по туманным далям гор и равнин в надежде увидеть какого-нибудь путешественника, странника или бродячего поэта, способного развлечь ее. Внезапно она увидела появившееся из ущелья чудовище.
Это было похожее на человека существо ростом со столетний дуб; на нем была одежда из шкуры зубра, и вооружен он был громадной дубиной из черного дерева.
Казалось, что его огромная голова высечена из красной скалы, а черты лица были настолько отталкивающими, что Нера, девушка не из трусливых, едва не потеряла сознание.
Несколькими огромными шагами он приблизился к замку и, остановившись под стеной, одним ударом своей чудовищной дубины проделал в мощной стене широкую брешь. После этого он заговорил.
Это был жуткий голос… Окрестные скалы задрожали от него, словно началось землетрясение.
— Принцесса Нера, — прогромыхал он, — я король Бродус, которому дьявол, мой родитель, предписал взять в жены обычную женщину, чтобы продолжить королевский род. Я остановил на вас свой выбор, и вы будете моей королевой. Чего вы ждете? Вы должны немедленно следовать за мной в мой горный дворец, где подземные гномы будут служить вам гораздо лучше, чем эти болтливые червяки.
Нера собрала все свое мужество и с презрением взглянула на великана.
— Король Бродус, — сказала она, — вы находитесь без приглашения на моей земле. Я приказываю вам немедленно покинуть ее, или мне придется объявить вам войну.
— Вы объявите войну? Мне? — проревел Бродус, схватившись за бока от смеха. — И кто же, моя дорогая, осмелится поднять на меня оружие?
— В королевстве Алез и в соседних царствах достаточно отважных рыцарей, господин великан!
Чудовище скорчилось от смеха.
— Объявить войну королю Бродусу! Давно мне не приходилось так веселиться! Нет, я не совершу глупость, лишив вас возможности сразиться со мной, моя красавица! Хорошо, я подожду ваше войско, но хочу предупредить, что с первым снегом я сам приду за вами, но на этот раз не для того, чтобы сделать вас королевой, а чтобы поджарить на большой сковороде.
Он повернулся и ушел гигантскими шагами, сотрясая землю.
Бедная Нера… Напрасно она разослала гонцов в Алез и соседние королевства; ни один рыцарь не откликнулся на ее призыв.
Дороги, ведущие к замку Со, остались пустынными, на них так и не появился ни один воин.
Еще большее огорчение принцесса испытала, когда узнала, что ее слуги начали тайком покидать замок. Были и такие, кто приходил к ней и без обиняков говорил, что они не собираются присутствовать в меню людоеда; большинство же просто тихо исчезало с наступлением ночи. В итоге через несколько дней принцесса осталась в замке в полном одиночестве.
Конечно, она могла бежать и попытаться найти убежище в замке отца, но она была слишком гордой, чтобы прибегнуть к бегству из своего замка.
Ей самой пришлось ловить форель в ручьях и ставить петли на зайцев; ловко справляясь с очагом на кухне, она обеспечила себе сносное существование.
Однажды, когда она печально смотрела на осеннее небо, по которому на юг тянулись первые стаи диких уток, тишину равнины нарушил топот лошадиных копыт.
Сначала принцесса просто не поверила своим ушам; но вскоре она поняла, что не ошиблась, когда всадник проехал по каменному мосту через ров.
С грациозным реверансом он спрыгнул на землю, и Нера удивилась, когда перед ней оказался юноша с лицом серьезным и даже строгим, несмотря на свою юность.
— Мессир, — обратилась она к нему, — вы, похоже, заблудились в горах, и вам неизвестна жуткая судьба, ожидающая замок Со и его хозяйку.
Юный рыцарь покачал белокурой головой.
— Нет, принцесса, я прибыл сюда издалека, из страны, затерявшейся в туманах Севера, специально для того, чтобы повидать вас. Новости разносятся гораздо быстрее, чем путешествуют люди, и часто долетают гораздо дальше.
— Значит, вы приехали, чтобы встать рядом со мной в этой странной войне, которую я объявила, собрав все свое мужество, великану Бродусу… Увы, мой отважный принц, вы будете здесь сразу и капитаном, и солдатом, потому что на службе у меня вы оказались единственным воином.
Строгие синие глаза незнакомца задержались на глазах принцессы.
— Разве вы, принцесса, не заметили, что у меня нет ни меча, ни копья?
— Как же вы собираетесь сражаться без оружия с таким чудовищем, как Бродус? — воскликнула пораженная принцесса.
— Я не собираюсь сражаться с ним, принцесса, — ответил ей рыцарь. — Вы сама в состоянии победить своего противника. Но я приехал к вам издалека совсем не для того, чтобы сказать вам эти слова, недостойные отважного рыцаря. Я хочу оставить вам моего коня Дьюра, который отвезет вас к месту испытания. Что же касается оружия, то возьмите вот это.
И он снял со своего пояса небольшой свинцовый крестик и протянул его принцессе.
— Принц, — сказала Нера, все более и более удивленная, — могу ли я, по крайней мере, узнать ваше имя.
— Мое имя не имеет значения, — ответил принц серьезным тоном. — Знайте, принцесса, что в схватке, которая ждет вас, значение имеет только одно имя: Христос!
Принцесса хотела возразить, но внезапно заметила, что разговаривает с пустотой; рыцарь исчез, и перед ней находился только конь, спокойно щипавший траву, поглядывая на близкие горы. В дрожащей руке принцессы остался небольшой свинцовый крест.
Подняв взгляд к небу, она увидела медленно опускавшиеся на землю пушинки — это был первый снег.
* * *
Вдали послышался зловещий хохот, и принцесса с ужасом увидела, как из ущелья, того же самого, что и в прошлый раз, появился людоед.
— На сковородку! — заорало чудовище. — Я постился три дня, и меня терзает зверский аппетит! Идем, мой воробышек, ты станешь для меня отличной закуской!
В этот момент конь, оставленный рыцарем, взвился на дыбы, и принцесса почувствовала, что она подхвачена вихрем.
— Черт возьми! — рявкнул людоед. — Вам не удастся улизнуть от меня этим способом!
И он швырнул в принцессу свою дубину.
Едва не задев Неру, она с грохотом врезалась в скалу и разлетелась на кусочки.
— Ничего страшного, — громыхнул людоед, — мне достаточно воспользоваться мизинцем, чтобы раздавить вас и вашу клячу!
И он громадными прыжками кинулся на принцессу, пустившую вскачь рыцарского скакуна.
Преследование продолжалось весь день, и с наступлением ночи изможденный Бродус рухнул на землю.
— Я все рано поймаю вас завтра! — пообещал он, не скрывая бешенства.
Конь принцессы тоже остановился, и, хотя между ним и преследователем было не больше ста шагов, не стал пытаться увеличить опасную дистанцию.
На следующее утро преследование возобновилось и опять продолжалось до ночи. То же самое было и на следующие дни, и все это время Нера не испытывала ни голода, ни жажды, ни усталости.
Таким образом они пересекли несколько совершенно незнакомых принцессе стран, перебрались через множество рек и проследовали берегами морей, о которых она не слышала.
Однажды, когда мокрый от пота и зверски голодный людоед продолжал свое бесполезное преследование, Нера почувствовала, что вокруг нее происходят какие-то перемены.
У нее на поясе появился какой-то тяжелый предмет. Опустив взгляд, она увидела, что висевший на ремешке маленький свинцовый крестик превратился в большой сверкающий меч.
В этот момент конь принцессы замедлил свой бег, и людоед бросился к ним с торжествующим воплем.
Но в этот же самый момент удивительная сила наполнила мощью руку принцессы; она вскинула меч и, вспомнив имя, которое назвал ей таинственный рыцарь, воскликнула:
— С нами Христос!
Меч ослепительно сверкнул, и Бродус страшно закричал.
Конь снова рванулся вперед, и Нера с ужасом увидела, что к седлу, болтаясь на ремешке, подвешена голова ее страшного врага.
* * *
Почему же конь продолжал ставшую бесконечной гонку?
Бедная Нера скоро поняла это с возросшим ужасом.
Оглянувшись, она увидела, что обезглавленный Бродус продолжал преследовать ее.
И вид людоеда был еще более жутким, чем когда-либо раньше, потому что он оставлял за собой ручейки дымящейся крови, в то время, как подвешенная к седлу голова продолжала гримасничать и изрыгать ругательства и жуткие богохульства.
Погоня продолжалась, и на этот раз она не прекратилась с наступлением ночи.
Земля словно убегала из-под ног скакуна; преодолев пространство, казавшееся бесконечным, беглянка тут же видела, как перед ней открываются новые горизонты, которые тоже быстро оставались позади, и безголовое чудовище продолжало гнаться за ней, угрожающе размахивая руками.
Наступил день, когда Нера внезапно почувствовала усталость; она подумала, что рано или поздно все равно окажется в лапах чудовища.
Людоед быстро догонял ее, и отрубленная голова стала испускать радостные крики.
Нера увидела, как отвратительная тень гигантской руки нависла над ней.
Она закрыла глаза и принялась молиться.
Неожиданно послышался колокольный звон, и Нера услышала радостное пение: «Рождество!.. Рождество!.. Спаситель родился!»
Ее конь остановился, и принцесса, обернувшись, увидела вместо Бродуса огромный каменный монолит; с ее седла свисала навсегда замолчавшая голова чудовища, тоже превратившаяся в камень.
С небесного пространства послышался голос:
— На этом месте ты должна основать аббатство во славу божественного Спасителя.
* * *
Удивительное путешествие принцессы Неры увело ее далеко от родного королевства; аббатство, о котором говорилось выше, было основано в Бретани, и Нера прожила в нем до ста лет, призывая своей благочестивой жизнью божественное благословение на окрестные земли.
Каменный монолит красного цвета по-прежнему находится возле бывшего аббатства, от которого в наше время остались только развалины.
Что касается каменной головы, долгое время висевшей под сводом входной арки, то она стала собственностью местного музея.
Согласно легенде, в рождественскую ночь из мертвых глаз каменной головы текут слезы, и местные жители видят в них свидетельство страшного наказания людоеда Бродуса — его вечное проклятие.
Грибы для Святого Антония (Les champignons de Saint Antoine)
Почва впитала дождевую воду, как губка; излишки воды продолжали стекать по вырытым водой в рыхлой почве желобкам, но небо уже очистилось от тумана, заволакивавшего окрестности все предыдущие дни.
Дрозды-рябинники выбрались из густых зарослей и теперь выводили рулады на низких ветках деревьев, множество черных дроздов расселось на черешнях, и кукушки ритмично отбивали минуты на часах близкого леса.
Но Иветт не слишком радовали эти волшебные звуки; она должна была собрать большой букет маргариток, предназначавшийся в подарок Святому Антонию.
Нужно выполнять свои обещания, даже если тебе всего десять лет, как Иветт.
На днях пропал ее котенок Гриффон. Его напрасно звали, напрасно наливали в блюдце свежее молоко. Гриффон не показывал ни свой розовый носик, ни свою тигриную шубку, ни свои красивые янтарные глаза.
— Святой Антоний, — взмолилась Иветт, — если вы вернете мне Гриффона, я обещаю вам собрать, когда прекратится дождь, букет маргариток, такой большой, что мне нужно будет держать его двумя руками.
Гриффон появился вечером, грязный, но довольный. Он долго мяукал перед закрытой дверью, но был с радостью принят, как блудный сын.
Маргаритки росли на небольшой лужайке и Иветт с грустью выяснила, что разбухшие от дождевой воды ручьи не позволят ей пробраться на лужайку.
Разумеется, Святой Антоний не мог не понять происходящее, но это не снимало с Иветт необходимость выполнить обещание.
Когда она смотрела издали на лужайку с маргаритками, переживая, что не может добраться до них, из леса вышел с большой корзиной отец Зефирин.
— Скажи мне, Зефирин, — обратилась к нему девочка, — ты собирал в лесу маргаритки?
Отец Зефирин скорчил презрительную гримасу.
— Послушай, малышка, что бы я стал делать с этими цветами? Пока мне не скажут, под каким соусом их едят, я никогда не буду собирать маргаритки.
Он снял с корзинки кусок клеенки, и Иветт увидела, что корзина до верху заполнена грибами.
Это были замечательные грибы: белые, похожие на снежки шампиньоны, золотистые лисички, толстые рогатики.
— По крайней мере, их можно есть, — сказал отец Зефирин. — Не помню, чтобы в нашем лесу когда-либо раньше было столько замечательных грибов; их с удовольствием съел бы любой святой!
Вот как: даже святой съел бы их с удовольствием!
Мордашку Иветт осветила радостная улыбка: Святой Антоний останется без маргариток, но у него будут грибы!
Она расспросила у отца Зефирина, где нужно собирать грибы, и очень скоро ее корзиночка заполнилась отборными грибами: подберезовиками и лисичками.
Во время вечерней молитвы она положила свою добычу к подножью улыбающейся статуи Святого Антония, сказав при этом:
— Мой добрый Святой Антоний! Ты вернул мне Гриф-фона, и я пообещали тебе букет маргариток, но дождь помешал мне добраться до лужайки, где они растут. Поэтому я принесла тебе грибы; отец Зефирин сказал, что они очень вкусные, и что они понравились бы даже святому.
Иветт показалось, что святой довольно улыбнулся, обрадовавшись такому щедрому подношению.
* * *
В опустевшей церкви взгляд Святого Антония внимательно следил за фигурой, медленно пробиравшейся вдоль ограды для певчих. Он хорошо разглядел, что это была дама Вероника, сдававшая напрокат стулья, и в его взгляде ощущались печаль и строгое осуждение, так как он хорошо помнил, как она однажды похитила свечу с его алтаря; не забыл он и о более серьезном ее проступке, когда она утащила замечательную белоснежную свечу с алтаря Святой Девы.
Дама Вероника приблизилась к статуе Святого Антония, и ее взгляд упал на подношение Иветт. В глазах дамы вспыхнула жадность; она разбиралась в грибах, и хорошо представляла, что тушеные в масле грибы с небольшим количеством перца и лука могут быть прекрасным лакомством.
Не колеблясь ни минуты, она быстро переложила грибы с подножья статуи святого в свою огромную плетеную корзинку.
— Какой у меня будет замечательный ужин! — пробормотала она, отходя от статуи.
Может быть, это была всего лишь игра света, проходящего через витражи, за которыми начинались сумерки, но похоже, что Святой Антоний понимающе улыбнулся.
* * *
Рогатики — это прекрасные грибы, но случается, что в их благородном семействе оказывается гриб с не самым лучшим характером; в результате, человек, съевший его, испытывает сильные боли в желудке, к счастью, не приводящие к более серьезным последствиям.
Сытая и довольная дама Вероника уснула, продолжая во сне лакомиться грибами. Внезапно она проснулась, почувствовав, как свирепый хищник вцепился ей во внутренности.
— Господи, я, наверное, отравилась! — перепугалась она — Я умру, и мне нужно скорее исповедоваться перед смертью, чтобы не попасть в ад!
Пришедший к ней священник выслушал даму Веронику и сразу догадался, что во всем виноват рогатик; он также знал, что этот гриб, хотя и не всегда безобидный, никогда не бывает безжалостным.
— Я отпускаю вам грехи, — строго сказал он, — но, в качестве наказания, вы должны будете выполнить девятидневный молитвенный обет и зажечь три свечи на алтаре Святого Антония.
— Я обещаю ему шесть свечей! — простонала Вероника.
Таким образом, вместо букета маргариток Иветт обеспечила Святому Антонию раскаяние грешницы и шесть свечей у подножья.
Сорока Святой Марии (La pie de la Sainte Vierge)
— Пути господни неисповедимы… — начал кюре Шарметта. Это был красивый старик, прямой, как жердь и улыбчивый, словно этот чудесный июньский день, в который он принялся рассказывать мне свою историю.
— Моя церковь бедна, но я никогда не переживал по этому поводу. Разве наш спаситель не родился в хлеву? Тем не менее, меня огорчало отсутствие в церкви статуи Девы Марии, которой я особенно предан.
Я прервал его:
— Позвольте, господин кюре, в церкви имеется статуя Святой Матери Божьей, которой я только что восхищался; она удивительно прекрасна, и вряд ли церковь может мечтать о чем-либо большем!
— Да, она обошлась нам в целое состояние! — с гордостью сообщил святой человек.
— А вы говорите, что ваша церковь бедна!
— Она действительно бедна; но, позвольте мне закончить мою историю, которая одновременно является историей этой статуи.
Я на свои деньги приобрел небольшую статую из гипса, раскрашенную кричащими красками, и поместил ее в небольшом приделе, где находятся сведения о приношениях по обету. Вы можете увидеть ее слева от исповедальни.
Конечно, на этом я не остановился, и, когда я смотрел на эту статую, мне всегда казалось, что я еще не поместил в своей церкви образ, достойный нашей святейшей покровительницы.
У меня не было денег, но я мог молиться, и я не переставал взывать к помощи Господа… Да, я мог только молиться… Должен признаться, что я надеялся на небольшое чудо, но об этом лучше промолчать!
Однажды, уже в сумерках, я вышел погулять. Бредя по полю, я читал свой требник, когда услышал выстрелы из ружья.
Это были егеря, уничтожавшие сорок в соседнем лесу.
Они выбирали дерево, на верхушке которого можно было видеть сорочье гнездо. Потом они стучали по стволу и ждали, подготовившись к стрельбе, когда испуганная птица вылетит из гнезда, чтобы застрелить ее.
Когда я приблизился, раздался выстрел, и раненая сорока с белой грудкой, выпачканной в крови, упала к моим ногам.
— Раздавите ей голову сапогом, господин аббат, — крикнул мне кто-то из стрелявших.
Я погрозил им пальцем.
— Как вы осмеливаетесь предлагать мне убить несчастное божье создание! — упрекнул я охотников.
Один из егерей пожал плечами и крикнул, грубо засмеявшись:
— Хорошо, забирайте ее и научите говорить, а потом она начнет таскать у вас серебряные предметы!
— Я последую вашему совету, хотя и должен сказать, что у меня в церкви нет изделий из серебра!
Я унес раненую птицу и позаботился о ней. В результате она не только полностью поправилась, но и привязалась ко мне.
У меня никогда не было собаки такой верной, как эта сорока; она повсюду следовала за мной в доме, в саду и даже в церкви. Я очень привязался к этой красивой и умной птице.
Время от времени она улетала на несколько часов, но всегда возвращалась до наступления ночи.
Да, сорок считают воровками… Но их нельзя упрекать в этом, потому что Бог создал этих птиц, наделив их интересом ко всему блестящему.
Наблюдая за моей сорокой, я постоянно замечал, как она потихоньку притаскивала откуда-то то блестящий гвоздь, то кусочек стекла или фаянса, или даже обрывок фольги.
Однажды мне пришло в голову поинтересоваться ее кладовой… Представьте мое удивление, когда я узнал, что она хранила свои сокровища в полом основании статуи Девы Марии!
Моя сорока, я назвал ее Марго, ухитрялась пробираться внутрь статуи через щель, образовавшуюся в основании.
Я осмотрел ее добычу и крайне удивился, обнаружив среди блестящего мусора три старинных золотых монеты.
Где Марго раздобыла их?
Невозможно проследить, куда летает сорока, если, конечно, ты сам не обзаведешься крыльями. Поэтому я решил использовать, с божьей помощью, совсем другое средство.
Я взял золотые монеты и положил их перед сорокой. Она внимательно осмотрела их, а потом вернула одну за другой в свою сокровищницу. Эти действия я повторял много раз, пока она не догадалась, что мне нужно от нее что-то другое.
Вместо того, чтобы носить монеты в свою кладовую, она вспрыгнула на подоконник и улетела.
Через полчаса она вернулась с четвертой монетой! И меня начала мучить совесть, так как я решил, что моя подружка воровала эти монеты. Но где она их находила?
Мне пришлось основательно потрудиться, чтобы проследить маршрут сороки в сумерках, и успеха я добился только потому, что привлек к решению проблемы трех моих верных прихожан, посвятив их в тайну золотых монет.
Я чувствовал, что в этой загадке все решает воля божья; действительно, однажды вечером одному из моих добровольных помощников удалось проследить, что сорока летает к развалинам замка Святого Зиновия[80], расположенным в четырех километрах от деревни.
Я отправился к развалинам с Марго, сидевшей на моем плече. Едва я начал осматриваться среди развала каменных глыб, как сорока слетела с плеча и принялась прыгать вокруг меня; потом она скрылась в густых зарослях ежевики, откуда тут же появилась с золотым кружком в клюве.
Дальше все произошло довольно быстро. Мы вырубили кустарник и обнаружили подвал, в котором находился небольшой сильно поврежденный сундучок. В нем находилось семьсот золотых экю, в том числе несколько обрезанных по краям монет.
Разумеется, я сообщил о находке в администрацию коммуны, которая передала золото государству.
Через год я получил сообщение, что по закону мне принадлежала половина стоимости найденных мной сокровищ.
Половину полученных мной денег я раздал бедным, а на вторую половину приобрел замечательную статую Девы Марии.
— А Марго? — спросил я.
Кюре рассмеялся.
— Она вскоре состарилась, и у нее испортился характер. Я всегда смотрел сквозь пальцы на все ее капризы и проделки, помня о том, что она была инструментом бесконечной доброты и великодушия нашего Господа. Я позолотил для нее триста пятьдесят су, которые она где-то спрятала. Таким образом, надеюсь, я не лишил сороку дорогих ей сокровищ.
И кюре добавил с улыбкой:
— Нужно быть справедливым со всеми и во всех случаях, в том числе и по отношению к нашим братьям меньшим — животным.
Преступление на улице Круа-де-Пьер (Le crime de la rue de la Croix-de-Pierre)
Первое расследование репортера Деода Мьетта
Телефон на столе начальника отдела информации завибрировал. Журналист устал, но выглядел довольным: хотя ему и пришлось провести бессонную ночь, выслушивая сообщения иностранных корреспондентов, передававшиеся по специальным линиям связи с помощью криптографических устройств, и отдавая приказания сонным редакторам и бойким репортерам; зато теперь печатные машины работали на полную мощность, и газета должна была выйти своевременно. Вдобавок ко всему, номер обещал быть интересным. Послышался недовольный голос секретаря:
— И что теперь? Неужели нельзя отдохнуть хотя бы одну секунду?
— Личный вопрос, — сообщил дежурный секретарю. — Господин, который ожидает возле меня, сообщил, что он должен встретиться с господином Арваном ровно в шесть часов!
— Можно подумать, что я назначаю встречи в шесть утра! — прорычал Арван. — И как зовут этого придурка?
— Деода Мьетт, шеф. Я пошлю его к вам?
— Вот как! Значит, существуют типы, которых зовут Деода Мьетт? — ухмыльнулся Арван. — Нет, его не нужно отправлять ко мне. Пусть он заполнит карточку.
Через три минуты рассыльный газеты «Сиз Ер» в красной ливрее положил квадратный кусочек картона на стол шефа и замер в ожидании дальнейших приказаний.
Арвана прежде всего поразил почерк: он был идеальным, настоящий шедевр каллиграфии, ровный и четкий; написанный таким почерком текст достоин того, чтобы его немедленно литографировали.
В то же время, содержание текста ошеломило его:
«Деода Мьетт хочет возвратить вам вашу трубку».
Посыльный ждал, тогда как Жак Арван продолжал тупо смотреть на карточку.
— Ладно, пусть войдет, — приказал он наконец.
Посыльный поклонился и вышел. Было слышно, как заворчал лифт и застучали двери; затем дверь в кабинет директора открылась.
Арван вздрогнул: посетитель оказался ребенком.
Точнее, подростком, но очень маленьким и тощим. Длинный плащ свисал с его плеч, как с вешалки, из воротника торчала смешная цыплячья шейка, заканчивавшаяся небольшой птичьей головкой.
— Меня зовут Деода Мьетт, — сказал он после довольно беглого поклона. — Я полагаю, мсье, что во время нашего разговора вы постараетесь избежать иронического сопоставления моей личности и моего имени. Надеюсь, мы договорились?
Его слова и поведение настолько отличались от обычного начала встречи журналиста с посетителями и просителями, что он растерялся и несколько мгновений не мог решить, как вести себя. Потом он жестом указал человечку на кресло.
— Молчание обычно означает согласие, — продолжал господин Деода Мьетт, очевидно, вполне удовлетворенный тем, как началась встреча. — Могу сообщить вам, господин шеф отдела информации, что я являюсь учащимся третьего года в коллеже Сен-Грегуар, и в данный момент у меня продолжаются каникулы. Я показал весьма неважные результаты на экзаменах в конце года, и мои преподаватели сходятся во мнении, что я тупица и лентяй. Поэтому я решил оставить учебу, потеряв всякую надежду получить достойный диплом, Впрочем, мне восемнадцать лет, хотя я и не выгляжу восемнадцатилетним. Разве в этом возрасте не пора прекратить изучение риторики? Так что я уверен, что мои преподаватели не ошиблись. Вот мой вывод из всего сказанного выше: я должен стать журналистом.
Арван почувствовал, что его обуревают крайне сложные мысли; к счастью, он не утратил хорошее настроение.
— По-вашему, мсье Мьетт, достаточно быть тупицей и лентяем, чтобы успешно работать журналистом?
— Я ожидал этот вопрос, скажем честно, не слишком глубокомысленный, прошу извинить меня, — улыбнулся юноша. — Меня сочли тупицей только потому, что я не хочу запоминать несколько сотен дат исторических событий, а мои географические познания ограничиваются умением разбираться в справочниках и расписаниях движения судов, поездов и самолетов. Да, я никогда не смог выучить наизусть десяток поэм Буало, и прелесть произведений Расина оставляет меня холодным, как лед. Я никогда не заучивал наизусть геометрические теоремы, но я хорошо умею доказывать их, и я хорошо разбираюсь в правилах алгебры и тригонометрии. Кроме того, моим серьезным недостатком является красивый почерк — говорят, что этой особенностью страдают идиоты.
Арван забыл про усталость от бессонной ночи; он забавлялся, хотя и плохо представлял, что ему делать.
— Кстати, — сказал он, — что это вы придумали про трубку, которую собирались вернуть мне? Я никогда не курил трубку!
— Ошибаетесь! — холодно заявил Деода Мьетт.
— Ну, уж это слишком! — воскликнул Арван. — Надеюсь, вы не пришли сюда только для того, чтобы напрасно отнять у меня время, мой дорогой?
— Подождите, — поднял руку посетитель, — я сейчас вам все объясню, после чего вы принесете мне извинения, если, конечно, захотите.
Вы работаете начальником отдела информации газеты «Сиз Ер» всего лишь год; до этого вы были репортером, занимавшимся вечерними новостями в «Пти Суар», причем блестящим репортером; это не лесть, прошу мне поверить.
Ваше последнее достижение как репортера — это серия великолепных статей о воровском мире портов.
Чтобы завоевать доверие бандитов, вы переоделись матросом, и при этом стали курить трубку, хотя вас и тошнило от нее.
Однако, появление нескольких статей, одной за другой, позволило бандитам догадаться, что в их среду затесался репортер. В итоге они разоблачили вас. Вам удалось бежать, но один из преследователей оказался быстрее; он уже кинулся на вас, когда камень, посланный неизвестно кому принадлежащей, но очень точной рукой, попал ему в голову. В схватке вы оказались на земле, но, воспользовавшись посланной вам Провидением передышкой, смогли вскочить и скрыться. Во время схватки вы выронили трубку… Вот она.
И Деода Мьетт протянул журналисту отвратительную носогрейку, которые в любом порту продают по дешевке умельцы-матросы.
Арван, узнавший свою трубку, молча взял ее.
— А откуда появился камень, позволивший мне бежать? — подозрительно поинтересовался он.
Юноша улыбнулся.
— Ваши статьи в «Пти суар» вызвали у меня энтузиазм, — признался он. — Я мечтал, что когда-нибудь буду писать, как вы. Поэтому я следил за вами. Я сразу узнал вас в обличье матроса, и даже заметил небольшую ошибку, которую вы допустили, когда курили трубку. Видите ли, матрос никогда не будет курить трубку, держа ее посередине рта. Он всегда сдвинет ее или вправо, или влево, чтобы она косо свисала с губ.
— Значит, это вы швырнули камень прямо в рожу гнавшемуся за мной бандиту?
— Должен вам сказать, — смущенно пробормотал юноша, — что я хотя и небольшого роста и выгляжу очень тощим, тем не менее, единственные призы, завоеванные мной, были по гимнастике… Я неплохо управляюсь с копьем и с диском…
Арван, внимательно присматривавшийся к юноше, заметил, что в глазах у того время от времени появляется стальной блеск, а черты рта и подбородка свидетельствовали о его необыкновенной энергии.
— Ваши родители знают, что вы собираетесь работать в нашей газете? — спросил он.
Деода Мьетт печально улыбнулся.
— У меня нет родителей. С десятилетнего возраста я живу у одного из моих дядюшек. Он тоже считает, что я вряд ли стану большим ученым, даже продолжая посещать коллеж. Он рассчитывает, что я буду работать у оптового продавца пряностей за восемьдесят франков в неделю.
— Я беру вас на работу, — заявил Арван. — Вы начнете со стажировки в конторе, получая вдвое больше того, на что рассчитывал ваш дядюшка.
— Я не согласен! — заявил Деода Мьетт. — Я не согласен с вами, мсье Арван, Да, я хочу работать у вас, поэтому и пришел сюда, но я хочу работать репортером!
— Вот как! — воскликнул начальник отдела информации. — Значит, только репортером, и ничто другое вас не интересует?
— Для начала я принес вам сведения об одном сенсационном деле; на эту тему можно написать несколько потрясающих статей!
Что вы скажете о преступлении на улице Круа-де-Пьер?
Арван посмотрел на юноше несколько встревоженно.
— Но на улице Круа-де-Пьер не было совершено никакого преступления! Я получил из уголовной полиции свежую информацию по городу всего полчаса назад!
— Дело в том, что об этом преступлении пока нет сведений не только у вас, но о нем пока ничего не знает даже полиция!
Стенные часы пробили семь раз, и сквозь шторы забрезжил рассвет.
— В это время на улицах почти нет прохожих, — сказал Деода. — Впрочем, улица Круа-де-Пьер редко бывает заполнена людьми в любое время суток. А когда вы возвращаетесь домой, мсье Арван, вам не нужно делать большой крюк, чтобы проехать этой улицей.
— Ладно, согласен! — пробормотал Арван, побежденный уверенностью юноши. И подумал, что это не слишком дорогая плата за удачно брошенный однажды ночью камень.
* * *
Деода Мьетт был прав: улица оказалась пустынной и печальной; после недавних дождей на ней остались грязные лужи.
Арван припарковал машину на углу и двинулся дальше пешком по узкому тротуару за свои странным проводником.
Он заметил, что на улицу выходили преимущественно глухие фасады, и дверями с этой стороны жильцы пользовались весьма редко. На нескольких зданиях висели объявления о сдаче помещений.
За три-четыре минуты они прошли всю улочку и вышли к небольшому запущенному скверу с несколькими кривыми деревьями.
— Ну, и где же это преступление, о котором вы говорили? — с усмешкой поинтересовался Арван.
— Как, вы ничего не заметили? — удивился Деода.
— Чего я мог не заметить? — сердито проворчал журналист. — Я видел древние грязные фасады и несколько объявлений о сдаче квартир.
— Да, таких объявлений было пять, — согласился юноша. — Но сейчас осталось только четыре, на которых можно увидеть фамилию того, кто сдает квартиру. Вы понимаете?
Арван пожал плечами, пожалев, что так легко ввязался в эту историю с бестолковым мальчишкой.
Деода, словно не заметив его неудовольствие, продолжил, словно размышляя вслух:
— Несмотря ни на что, все пять квартир сдаются, но объявление с одной из них было снято.
— Разумеется! Значит, квартиру уже сдали, — пожал плечами Арван.
Юноша с упреком посмотрел на газетчика.
— Вы видели, как и я, желтые карточки на пяти зданиях, — сказал он, — и вы не могли не заметить, что все пять зданий сдавались по одной и той же цене.
— Все пять? Тогда как текст объявления присутствует только на четырех домах?
— Простите, но бумага с пятого дома была сорвана так поспешно, что на стекле остался уголок объявления, и на этом кусочке сохранилась информация о цене… Впрочем, такой же, как и на остальных четырех домах. И это очень важно! Дом, который, как вы думаете, уже сняли, оказался самым грязным, самым неухоженным, самым нежилым из пяти!
Несмотря ни на что, шеф отдела информации почувствовал, что у него начинает пробуждаться интерес. Хотя он еще плохо представлял, что здесь может интересовать его.
Внезапно его вероятный новый сотрудник схватил его за руку и едва ли не силой потащил к скверу.
— Не стоит торчать перед этим домом, — с тревожным видом сказал он. — Здесь мы находимся на линии огня, и нас слишком легко можно подстрелить. Это очень опасный человек…
Арван отбросил всю свою сдержанность.
— Послушайте, Мьетт, скажите откровенно, в чем тут дело?
Деода, казалось, смутился.
— Боюсь, что дело на улице Круа-де-Пьер только начинается, в особенности, если никто не вмешается. Нам крупно не повезло!
— О каком везении вы говорите?
Деода поднял на журналиста взгляд побитой собаки.
— Я опасаюсь, что мне придется вернуться в коллеж, и что я слишком рано решил поднять шум. Я понял, мсье Арван, что никогда не смогу изложить на бумаге все, что мне нужно сказать… Это моя беда! Мои преподаватели вложили в меня знание стиля и грамматики, а Деода Мьетт даже не смог воспользоваться дверью!
— Хватит болтать ерунду! — сердито приказал Арван. — Скажите мне все, что вы должны были сейчас сказать, а я возьму на себя все остальное.
В глазах юноши вспыхнул свет надежды.
— Я надеюсь, что ОН больше не смотрит в слуховое окно, и что ОН решил, что мы — простые прохожие, которые сейчас пойдут дальше, — пробормотал Деода.
— ОН? О ком вы говорите?
— Но, разумеется, об убийце, черт возьми!
Арван почувствовавший в очередной раз растерянность, опустил голову, окончательно отказавшись от надежды что-либо понять в происходящем.
Деода жестом позвал его укрыться за живой изгородью из карликовых елочек, более или менее защитившей их от посторонних взглядов.
— Вы видите эту небольшую башенку на крыше здания напротив? Этот дом относится к соседней улице, параллельной этой, и я знаю, что в нем живет майор Баргус.
— Сумасшедший Баргус? — воскликнул Арван.
— Он сумасшедший? — с удивлением повторил Деода. — Это вполне возможно, во всяком случае, он большой мастер метать копье! Ах, если бы только я мог изложить все на бумаге… Но я не способен на это! Ладно, не важно, вы сделаете это за меня, если захотите.
Он с подозрением присмотрелся к башенке и с удовлетворением пробурчал что-то, увидев, что круглое слуховое окно закрыто ставней.
Потом он начал свой рассказ:
— Вчера я проходил этим сквером и рассматривал деревья… Должен сказать вам, что я очень люблю деревья. Мой взгляд упал на вяз, который вы можете видеть отсюда, и я увидел на стволе след от удара. Меня всегда возмущает, когда я вижу, как какой-то хулиган портит деревья. Я решил замазать рану на стволе. Зачерпнув немного глины, я подошел к дереву и увидел, что в дыре застряли частички ткани. Я вытащил их, так как они только помешали бы заживлению раны; в надрезе оказалось несколько волокон тонкой белой ткани, несколько шерстинок и, наконец, несколько кусочков тонкой резиновой пленки.
Внезапно я понял, что здесь случилось: это был след от тяжелого копья, брошенного откуда-то сверху.
Оглядевшись, я понял, что копье могло быть брошено только с башенки, о которой я вам говорил.
Когда я рассмотрел обрывки ткани, то с ужасом заметил, что они были выпачканы в крови.
Я подумал, что человек был просто пришпилен к дереву большим копьем, брошенным уверенной рукой, и с копьем в дыру в стволе попали частицы разных тканей, принадлежавших одежде, в которую был одет человек.
Удар жертве был нанесен в спину, потому что среди волокон на дне отверстия я разглядел несколько голубых ниток, очевидно, принадлежавших галстуку. Но ведь галстук не носят на спине, не так ли? Очевидно, несчастный был буквально прибит копьем к дереву, прижатый к нему грудью.
Судя по всему, он погиб мгновенно, так как след от копья находился примерно на высоте сердца взрослого мужчины среднего роста. Я догадывался, где находился убийца: очевидно, он жил в доме с башенкой. Об убитом я тоже знал некоторые подробности: он был в тонком плаще, на нем была надета шерстяная куртка, рубашка из тонкой белой ткани и шелковый синий галстук.
Где же находилось тело?
Пройдя по улице Круа-де-Пьер я ничего подозрительного не заметил.
Сегодня утром, опять проходя этой улицей, я обратил внимание, что одно из объявлений было сорвано. Кто мог посетить эту развалину, в которую давно никто не заглядывал? И почему было сорвано объявление? Разумеется, только для того, чтобы никто не стал заглядывать в этот дом!
Деода перевел дух и взволнованно продолжил:
— Очевидно, что этот прием мог быть рассчитан лишь на очень короткий срок; убийце нужно было, чтобы никто не зашел в дом лишь в самое ближайшее время. Это сделал тот, кто должен был на время спрятать тело в этом здании!
И он закончил:
— Тело человека в плаще и в синем шелковом галстуке, убитого ударом копья в спину, находится в этом доме на улице Круа-де-Пьер.
* * *
Расследование полностью подтвердило выводы Деода Мьетта. Тело несчастного было обнаружено в подвале, куда его затащил убийца, безумный майор Баргус.
Убийца избежал суда, так как его поместили в психиатрическую лечебницу.
Но Деода не смог стать автором сенсационных статей, из-за которых в течении целой недели прохожие вырывали номера газеты из рук уличных продавцов.
Опечаленный, он вернулся в коллеж Сен-Грегуар, когда у него закончились каникулы.
Сейчас он трудится над томами классиков.
Господин Кадиша будет убит завтра (Monsieur Cadichat sera tué demain)
Когда Арван проходил коммунальным сквером Четырех Дубов, он заметил Деода Мьетта, сидевшего на скамье и увлеченно наблюдавшего за стайкой дерущихся воробьев. Он рассмеялся:
— Драка воробьев вряд ли может заинтересовать репортера, даже будущего!
Юноша поприветствовал Арвана и ответил:
— Я наблюдаю не за воробьями, а за лавкой Самюэля Кадиша, где продаются картины и предметы антиквариата.
Арван удивленно посмотрел на юношу: лавка, о которой шла речь, находилась на противоположной стороне сквера, и Деода сидел к ней спиной. Об этом он не преминул заметить Деода.
Деода покачал головой и показал газетчику свою шляпу, которой он только что обмахивался.
— Я пристроил внутри своей шляпы зеркальце, — объяснил он.
Заинтересованный необычным приемом, Арван присмотрелся к шляпе и увидел, что в зеркальце хорошо видна лавка Кадиша со всеми деталями.
— Очередное дело? — улыбнулся он.
Деода печально пожал своими тощими плечами.
— Это было бы возможно, мсье Арван, если бы я умел писать. Но это занятие не для меня — у меня ничего не получается и, возможно, никогда не получится…
— Дайте мне материал, если он того заслуживает, — ответил начальник отдела информации газеты «Сиз Ер», — а с остальным мы как-нибудь разберемся.
— Ах, — ответил Деода Мьетт, — видите ли, я сейчас немного тренируюсь, чтобы не утратить полностью способность к разумным логическим рассуждениям. Но ничего сенсационного у меня нет… Должен сказать, что у меня вообще ничего нет… — И добавил, подумав: — Ничего нет пока…
— Вы странное существо, — сказал Арван, — и мне хотелось бы знать, к чему сейчас прилагаются ваши ментальные усилия.
Деода серьезно кивнул, не отрывая взгляда от небольшого зеркальца.
— Вы знакомы с господином Кадиша? — спросил он.
— Вы имеете в виду антиквара, живущего в доме напротив, то есть в том, к которому вы сейчас повернулись спиной? Да, немного знаком… Но я не могу особенно радоваться этому знакомству, так как он недавно всучил мне поддельного Коро, и обставил дело так, что я даже не смог вернуть деньги.
Юноша довольно улыбнулся.
— Да, господин Кадиша умеет ловко проворачивать свои делишки, — согласился он. — И делает это одинаково ловко, чем бы он не занимался. Думаю, он никогда не изменится, разве что я…
Он оборвал фразу и задумался.
— Скажите, Мьетт, почему вы всегда говорите загадками? — спросил юношу Арван. — И что вам нужно от такой старой хитрой обезьяны, как Самюэль Кадиша?
— Что мне нужно от него? Абсолютно ничего, мсье Арван. Я просто наблюдаю за его лавчонкой, чтобы понять, справедливо ли то, что я о нем думаю, и завершится ли история именно таким образом, как я представляю.
— И в чем смысл вашей новой теоремы, наш великий математик Деода?
— Мсье Кадиша будет убит завтра, — спокойно ответил Деода.
— Слушай, парень, перестань издеваться надо мной! — рявкнул ошарашенный шеф отдела информации.
Деода энергично замотал головой.
— Издевательства над кем-нибудь — это не моя сильная сторона, мсье Арван. Обычно это люди издеваются надо мной, а не я над ними. Но в том, что касается мсье Кадиша, я уверен, что не ошибаюсь.
Арван хотел обрезать наглеца, и даже открыл рот, но ничего не успел сказать, так как юноша пробормотал с упреком:
— Мне будет не хватать вас, мсье Арван, когда мне придется взяться за грамматику; это совсем не то, чем мне нравится заниматься!
Он отвернулся и побрел, сгорбившись, в сторону, маленький и тощий в своем жалком желтом плаще.
— Если все как следует взвесить, — проворчал он, — то он не должен вести себя, как в прошлый раз, только потому, что раскрытие убийства на улице Круа-де-Пьер оказалось потрясающим успехом!
* * *
В восемь часов вечера, когда Арван просматривал толстую пачку бумаг, которыми репортеры завалили его стол в послеобеденное время, зазвонил телефон.
Деода сообщил шефу своим высоким голоском:
— Помимо всего прочего, я думаю, мсье Арван, что дом господина Кадиша будет сожжен сегодня ночью.
— Идите к черту! — заорал выведенный из себя журналист.
— Именно туда я и отправляюсь, — ответил студент, — поскольку я возвращаюсь домой, где мне придется заняться заданием по стилистике. Только представьте, что мне дал профессор в качестве темы для работы: «Установите параллели между Карлом Великим и Наполеоном». Я до сих пор не вижу никаких параллелей между ними, а вот одно различие мне удалось установить: Карл Великий был с бородой, тогда как Наполеон гладко выбривал подбородок.
— Ах, мой малыш Деода! — нежно проворковал шеф. — Я никогда не перестану жалеть, что по телефону кое-кому нельзя дать хорошего пинка ногой. А ведь вы были бы первым кандидатом для подобного мероприятия…
На этом их увлекательный разговор закончился.
* * *
На следующий день Арван быстро позабыл за повседневными заботами про предсказание Деода, а вот послезавтра ему стало не по себе, когда он прочитал краткое сообщение из полиции: «Антикварный магазин господина Самюэля Кадиша, расположенный у сквера Четырех Дубов, был полностью уничтожен пожаром этой ночью. Владелец магазина оказался жертвой трагедии, и его сильно обгоревший труп был обнаружен среди развалин. Начато расследование».
Арван кинулся клифту, спустился вниз со скоростью падающего камня, вскочил в машину и на бешеной скорости помчался к скверу Четырех Дубов.
От дома господина Кадиша осталась только груда дымящихся развалин, которые пожарные продолжали заливать водой. Цепочка полицейских держала на расстоянии от места происшествия группу любопытных.
Деода Мьетт сидел на той же скамье, что и прошлый раз, хотя и повернувшись лицом к сгоревшему зданию, и курил дешевую папиросу с безмятежным выражением на лице.
Арван схватил его за руку и поволок к машине.
— Подождите, мсье Арван, — запротестовал студент, — мне нужно идти в коллеж, я довольно удачно поработал над стилем и рассчитываю сейчас получить хвалебный отзыв.
— Еще одно слово, Мьетт, и я сделаю котлету из вашей физиономии, — рявкнул журналист. — Сейчас я привезу вас в свой кабинет, и вы все расскажете мне…
— Да, конечно, я понимаю вас! — вскричал Деода. — Мои рассуждения понравились вам, но в них не было ничего сложного… Осторожнее! Вы задавите этого парня, а он задолжал мне двадцать франков!
Арван успел увидеть отскочившего в последний момент из-под колес студента, погрозившего ему кулаком.
— Его зовут Плише, — объяснил Деода. — Он медик, и всегда занимает деньги у всех друзей и знакомых. Он должен мне, как я уже говорил, двадцать франков, и я понятия не имею, когда он их мне отдаст… Я веду очень скромный образ жизни, и покупаю себе только одну пачку сигарет два раза в месяц.
Арван вздохнул. Он все хуже и хуже понимал этого странного мальчишку!
Когда они прибыли в редакцию газеты, Арван поволок пленника в свой кабинет, расталкивая по пути сотрудников и посетителей.
— Садитесь в это мягкое кресло, — приказал он, — в нем вам будет достаточно удобно. А сейчас я налью вам стаканчик портвейна.
— Боже мой, — перепугался Мьетт, — не делайте этого, мсье Арван, я никогда не пробовал спиртное! У меня даже от кружки пива начинает кружиться голова!
— Тогда рассказывайте! — коротко потребовал журналист.
— Сначала выясните у директора коллежа Сен-Грегуар, отпустит ли он меня на весь день, — потребовал студент.
Просьба была немедленно передана по телефону и тут же был получен положительный ответ.
— Замечательно! — воскликнул Деода. — Я так люблю долгие прогулки на машине… А ваша так хорошо ведет себя на дороге… Мы едем?
— Как едем? Куда?
— Но… — Мьетт посмотрел на Арвана с хитрым видом. — Это должен быть сюрприз; кроме того, я хотел немного развлечься… Сколько вам нужно времени на дорогу до Старого порта?
— Примерно два часа, если немного поторопиться.
— Мы едем туда, мсье Арван… Ах, как это будет замечательно! Кроме того, в итоге может получиться статья для вашей газеты!
Арван, одновременно рассерженный и заинтригованный, подчинился.
Через десять минут они уже мчались по широкому асфальтированному шоссе, с каждым мгновением приближаясь к морскому порту.
Деода молчал всю дорогу, с детским любопытством рассматривая пейзаж, убегающий назад за стеклами автомобиля.
Однажды он потер руки и пробормотал:
— Плише должен сильно удивиться; я готов поспорить, что он не получит ни гроша, а ему, этому любителю транжирить, очень нужны деньги.
— Какое отношение имеет Плише ко всему происходящему? — поинтересовался Арван.
— О, весьма, весьма существенное, — ухмыльнулся Деода.
Некоторое время они ехали молча. Потом Деода спросил:
— Мсье Арван, ведь вы хорошо разбираетесь в живописи, не так ли?
— Да, неплохо. Тем не менее, как вам известно, меня однажды здорово провели, — ответил журналист.
— Я ничего не понимаю в живописи; впрочем, я никогда и не видел настоящих картин — с меня достаточно было репродукций в журналах… Вы знаете картину Рембрандта, которая называется «Урок анатомии»?
— Да, знаю, — сухо ответил журналист.
— Это что-то ужасное! Но на труп я могу смотреть спокойно… Значит, вы знаете эту картину. Вы никогда не замечали, что труп, над которым проделывают опыты прозекторы, чем-то напоминает погибшего мсье Кадиша?
— Что вы несете? — воскликнул Арван, совершенно сбитый с толку неожиданным поворотом их разговора. — Вообще-то, если подумать, сходство есть. Это изможденное костлявое лицо…
— Вот именно! — подтвердил Деода.
— Деода, друг мой, — проворчал шеф отдела информации, — перестаньте нести неизвестно что и непонятно для чего, если не хотите, чтобы я вас придушил до нашего приезда в Старый порт!
— Ладно, ладно, — фыркнул студент, — с вами, мсье Арван, невозможно говорить ни о чем серьезном без того, чтобы вы не рассердились.
Может быть, вы хотите, чтобы я проспрягал какой-нибудь глагол? Но я не уверен, что не наделаю при этом ошибок…
После поворота дороги показались первые строения порта, и он замолчал.
Потом снова заговорил, словно с самим собой:
— Почему люди с длинным лицом носят длинную бородку? А те, у кого физиономия напоминает голландский сыр, носят бороду узкую и короткую?
— Вот и Старый порт, — сказал Арван, давно потерявший надежду понять хоть что-нибудь.
— Узнайте, какой пароход уходит в ближайшее время в Голландию! — потребовал юноша.
Арван после непродолжительных расспросов выяснил, что через час в Голландию уходит пароход «Гельдерланд». Деода, похоже, был вполне удовлетворен этими сведениями и попросил подъехать на набережную.
На «Гельдерланд», пассажирско-грузовое судно, продолжали подниматься пассажиры; продолжалась и погрузка в трюмы тюков с товарами, которые кран подхватывал из грузовика, стоявшего на набережной.
— Остался час, — пробормотал Мьетт. — И прошу вас учесть, мсье Арван, что это будет мужчина с длинной бородкой… А вот и он!
Пожилой мужчина в длинном сюртуке медленно приближался к пароходу, держа в руках билет и небольшую матерчатую сумку.
— Идем, скорее! — воскликнул студент. — Сейчас мы с вами повеселимся, да еще как!
И он устремился к недовольно посмотревшему на него старику.
— Газета «Сиз Ер»! — объявил Деода, остановившись перед стариком. — Нет, мы не из полиции, но, если понадобится, мы вызовем ее.
— Что вам нужно от меня? — пробормотал старик с сильным германским акцентом.
— Если вы не пойдете добровольно с нами, мне придется удалить вашу фальшивую бороду! — сообщил Мьетт. — Идем, на нас уже смотрят…
Пораженный Арван увидел, что старик кивнул головой, подошел к машине и без какого-либо протеста забрался в нее.
— Мсье Арван! — воскликнул Мьетт, — А теперь посмотрите внимательно на этого человека, только представьте его без бороды!
— О, небо! — воскликнул журналист. — Ведь это господин Кадиша!
* * *
Машина остановилась в безлюдном месте на дороге, и Де-ода Мьетт принялся рассказывать, тогда как господин Кадиша слушал, печально кивая головой.
— Плише был должен мне двадцать франков, — рассказывал Мьетт, — и я мог сколько угодно настаивать на возврате долга, он не отдавал мне деньги. Однажды я пошел к нему на кафедру; он в этот день занимался анатомией в прозекторской, но меня это не испугало. Открыв дверь в препараторскую, я услышал, как кто-то сказал:
— Я дам вам три тысячи франков, мсье Плише, три тысячи, вы услышали меня?
— Что вы собираетесь делать с этим… — проворчал мой приятель.
— Я антиквар, мсье, но я в то же время друг многих художников, своего рода меценат. Один из моих друзей мог бы стать новым Рембрандтом, будь у него достаточно денег. Я хочу дать ему эти деньги. Он мечтает о сюжетах… скажем, довольно зловещих, похожих, к примеру, на «Урок анатомии» великого мастера, моего соотечественника.
— Как, вы голландец?
— Да, это так. Моя сестра до сих пор живет в Голландии… Ах, я только и мечтаю закончить свои дни на этой благословенной земле… Но я пришел к вам не для того, чтобы рассказывать о своих чувствах, я пришел по делу. Вы помните этого бедолагу, что несколько дней назад скончался в больнице? Его звали Бутен… У него не было семьи, я знаю это, потому что когда-то я помогал ему… Мой друг-художник часто говорил, когда встречал Бутена, что бедняга как две капли воды походит на одно лицо с картины Рембрандта. Когда я спросил, на кого именно, он ответил, что это труп с картины «Урок анатомии». И он добавил, что, если когда-нибудь Бутен умрет, и его тело никто не востребует, после чего он попадет в зал для вскрытия, он очень хотел бы написать его. Теперь вы понимаете, сказал я господину Плише, почему я готов заплатить такие большие деньги за жалкие останки? Он буркнул мне в ответ, что, если об этой сделке узнают, его выгонят из Медицинского училища.
Вас никто не разоблачит; вы подпишете документы на похороны, положите немного песка в ящик, что послужит гробом для Бугена, и на этом для вас все закончится, Плише ответил мне, что он должен подумать.
Тогда я сказал, что думать уже поздно и передал ему пятьсот франков в качестве задатка. Остальное я пообещал ему передать через два дня, когда я смогу убедиться, что речь идет о нужном мне теле, а не каком-нибудь другом бедолаге.
— Хорошо, я согласен, — негромко ответил Плише.
* * *
— Я вернулся домой, — продолжал Мьетт, — и принялся листать иллюстрированные журналы, пока не наткнулся на гравюру, воспроизводившую легендарную картину Рембрандта. Я внимательно изучил бледное изможденное лицо трупа, послужившего объектом для экспериментов анатомов и внезапно понял, что он невероятно похож на господина Кадиша!
Я задумался, и через некоторое время мне показалось, что я нашел разгадку.
В свободное от занятий время мне удалось узнать, что господин Кадиша застраховал свою жизнь на огромную сумму в пользу своей сестры, жившей в Голландии, и что его магазин был застрахован от пожара, тоже на значительную сумму.
Я ежедневно посещал моего приятеля Плише в Медицинском училище, где он постоянно работал прозектором… Однажды я не увидел тела усопшего господина Бутена, и я сказал себе: «Господин Кадиша будет убит завтра!» Чуть позднее я добавил к своему предсказанию: «Его дом сгорит».
Логика этих рассуждений очевидна, не так ли? Тело господина Бутена исчезло днем; его увез господин Кадиша. Ему нужно было действовать очень быстро, так как у него дома тело не могло сохраняться так же долго, как в анатомическом театре.
Далее, мой приятель Плише должен был получить деньги через день после доставки зловещего груза. Что из этого следовало?
Что Кадиша должен был поспешить с использованием тела и сделать это на следующий же день, чтобы не платить Плише оставшуюся сумму в две с половиной тысячи франков. Гарпагоны[81] его класса используют любую возможность сэкономить.
Если бы Плише рассуждал примерно так же, как я, он бы догадался, каким образом с ним расплатится господин Кадиша. Но он не догадался.
Что произошло затем?
Кадиша сжег свою лавку, постаравшись, чтобы в Бутене, так похожем на него, опознали его самого. И он отправился в Голландию самым дешевым путем, так как экономия у него в крови; впрочем, я не думаю, что у него было много денег, почему он и выбрал пароход смешанного пассажирско-грузового типа. Ему нужно было поменять облик, и, как все преступники-новички, он прежде всего подумал про накладную бороду. Из-за своего удлиненного лица он остановился на длинной узкой бородке.
Вот и все.
Теперь, мсье Арван, вы можете отпустить этого придурка; я хочу стать журналистом, а не полицейским. Предупредите страховую компанию, чтобы Кадиша не ограбил ее, это вы можете сделать наиболее удобным для вас образом. Я думаю, что господин Кадиша и так достаточно наказан потерей своей лавки и всего антиквариата, что в ней находился.
Теперь мы можем вернуться домой, где вы напишете статью о деле Кадиша, если, конечно, вам захочется сделать это. Потом, если у вас останется немного свободного времени, я хотел бы прочитать вам свою работу по стилистике… Знаете, ту самую, где я сравниваю Карла Великого и Наполеона.
ИЗ СБОРНИКА «ЧЕРНЫЕ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
Семь Замков Морского Царя (Les Sept Châteaux du roi de la mer)
В небольшом голландском баре стоял невероятный шум. Два завсегдатая, выслушав по очереди сначала буйные порывы ветра снаружи, а потом дурацкий шум кабаре, положили на стол свои длинные трубки и показали своим молчаливым уходом, что они предпочитают свирепые выходки северной погоды человеческой глупости.
Группа выпивох, толпившаяся возле стойки, с восторгом напивалась за счет джентльмена в светлом костюме из бедфордского репса.
— Значит, вы уверены, что с этим снадобьем можно не бояться морской болезни?
Мужчина, которого можно было принять здесь за главное лицо, завладел бутылкой, которой размахивал джентльмен в костюме из репса.
— «Средство от морской болезни», — прочитал он. — Гм, это же просто замечательно!
— Этот состав особенно хорошо действует, — добавил механик в промасленной куртке, — если его развести в виски, в пропорции две капли на литр. Поэтому, милорд, вам нужно запастись нужным количеством виски «Белое и черное».
— Нет, здесь требуется ирландское виски! Это тоже прекрасный напиток! — проворчал кто-то из присутствующих. — Может быть, ящик этого виски найдется у нашего бравого кабатчика, которого зовут Уайтбруд?
— Мы можем начать с пробы, — ответил милорд. — Налейте всем присутствующим, мистер Уайтбруд!
— Включая сушеную треску, сидящую в углу!
Сушеной треской назвали бледного молодого человека, сидевшего в полусухопутной (или полуморской?) части зала и боровшегося с сильным опьянением.
— Отличная у вас идея, сэр, выбрать судно компании «Кастль-Лайн», — сказал механик. — Всегда приятно иметь на борту такого пассажира, как вы.
— Вот как? — сказал польщенный джентльмен.
— Конечно, им можно морочить голову, как кто захочет… Ай-ай-ай… Прошу прощения, патрон! Я уже порядком накачался, и начинаю молоть чушь… Вообще-то я не имел в виду вас, ведь вы — настоящий джентльмен…
— Мэлоун, мне придется вам разбить кое-что, — сказал офицер. — О джентльмене мы все будем заботиться…
— И, потом, на торговом судне меньше страдаешь от морской болезни, не так ли? — предположил мужчина в светлом костюме.
— Что? Это же может начаться в любом случае!
— На пароходе заболеваешь только потому, что видишь, как от морской болезни страдают другие пассажиры. Получается своего рода внушение примером.
— Моего учителя звали Хорнби, — воскликнул механик, — и даже он не смог бы сказать лучше: болезнь благодаря внушению примером!
— Да уж, отлично сказано! Но только не забывайте про виски…
— Налей всем, Уайтбруд! — заорал какой-то младший лейтенант, офицер коммерческого флота. — И не забудь «человека в углу»!
Жесткая рука кабатчика, казалось, оперирует над стойкой волшебным сосудом, из которого во все стороны выплескивались иризирующие на свету напитки Франции и Голландии.
Лейтенант принялся перечислять известные ему напитки, включая спиртное с майонезом, и бормотать о сиянии пьяных роз, коктейле из огня и свежих сливок.
— Налей всем, хозяин! — с трудом промямлил джентльмен, уже согнувшийся под напором урагана виски.
Лейтенант явно почувствовал симпатию к «человеку в углу», и они принялись поочередно провозглашать все более и более шумные тосты.
— Кто это? — поинтересовался офицер.
Бармен пожал плечами.
— Я впервые вижу его. Он мне дорого обойдется из-за израсходованной бумаги и чернил, так как ничего не делает, и только пишет, и начал писать он задолго до того, как вы пришли сюда с милордом.
— А сейчас он сделал заказ на всех, так что какая-то польза от него все же есть, — ухмыльнулся офицер.
Издалека донеслось странное мычание, словно жаловалось какое-то морское животное.
— Это «Грейсток» зовет нас, — воскликнул офицер. — Пора кончать шутки!
— Заказ для всех! — проревел джентльмен.
— Минутку! — попросил младший лейтенант. — «Человек в углу» хочет показать мне нечто забавное.
— Да, сейчас покажу, — сказал юноша. — Но мне нужны двадцать два стакана, иначе он не попадет в клетку.
— Милорд, — торжественно заявил механик, — «Кастль-Лайн» означает «Линия замков». Вы понимаете? Вы окажетесь в замке, настоящем морском замке!
Внезапно «человек в углу» посмотрел на говорившего и холодно сообщил:
— Их всего семь!
— Что там бормочет наша сушеная треска? — завопил механик. — Семь? Господи, да их же на самом деле шестнадцать, а он говорит — семь!
— Семь! — повторил молодой человек со странной твердостью.
Механик побледнел.
— И это мне говорит он, дырявая бумажная клизма! Мне, который проплавал больше двух десятков лет на судах компании «Кастль-Лайн»!
Сейчас сосчитаю: «Грейсток-кастль», «Пемброк», «Тюрленд», «Малкольм»…
— Не занимайтесь ерундой, оставьте свой список, — оборвал его молодой человек. — Есть только семь Замков Морского Царя!
— Ах, да, — сказал механик. — Конечно, он пьян, иначе не говорил бы подобные глупости.
В этот момент из рук Уайтбруда выпала только что откупоренная им для последней порции виски бутылка.
* * *
— Ууу… ууу… ууу… ууу… — проревела сирена.
— Четыре сигнала, пьяные барбосы! Ну-ка, живо сматывайте удочки! — взорвался офицер.
— Еще четыре стаканчика, — заскулил младший лейтенант. — Ведь я выпил только восемнадцать, а мне нужно выпить двадцать два, до того, как сумасшедшая птица Сандвичевых островов не окажется в клетке…
Офицер поднял его за шиворот, словно куклу, набитую опилками, и швырнул к дверям.
— Еще один нализавшийся! — ухмыльнулся механик.
— Четыре стаканчика… И сумасшедшая птица с Сандвичевых островов… — донеслось сквозь ветер через распахнутую дверь.
Бар опустел, если не считать молодого человека, на которого внезапно навалился сон.
Стоя перед ним, бледный Уайтбруд с безумным огоньком в глазах уставился на рисунок, сделанный пьянчужкой мелом на столе.
Это была грубо нарисованная толстыми меловыми линиями пустая клетка, перед которой разгуливала карикатурно изображенная птица, топорщившая пушистые перья.
— Я, кажется, не сплю, — пробормотал бармен. — И я сейчас нахожусь в своем баре, который называется «Веселый маяк». В зале горит свет, и передо мной храпит пьяный парень, нарисовавший безумную птицу с Сандвичевых островов и сказавший при этом, что нужно выпить двадцать два стаканчика… Да, именно двадцать два; потом он заговорил про семь Замков Морского Царя… Да приидет Господь нам на помощь!
* * *
Что затем сделал Уайтбруд?
Он едва успел прикрутить газ до размера ночника и запереть входную дверь на пару оборотов ключа.
«Веселый маяк» опустел, и выдвижной ящик кассы был небрежно оставлен открытым, словно коробка с вязаньем старой дамы.
Уютные голландские гульдены, фунты стерлингов с тонкими надписями, замасленные доллары, переливающиеся всеми красками марки, французские франки, словно напечатанные на шуршащем шелке, жесткие бельгийские франки, датские кроны, пропахшие тюленями, множество бумажек, слегка шуршащих и так неосторожно брошенные в момент болезненной тупости.
Потому что в углу зала оставался чужак, бедолага, у которого выпитое успокоило жажду, но пробудило опьянение.
Шуршание денег сейчас напоминало легкий шорох листвы, ожидающей начало грозы.
Может быть, эти звуки создавала рука, блуждающая в темноте, преступная жадная рука, протянутая к кассе?
Нет, это было загадочное полуночное существо, маленькое существо из мрака, заставляющее тикать свои часы в старой древесине стойки.
Чужак внутри, положивший голову на стол, и частично закрывший своими волосами странный рисунок, сделанный мелом; бармен, сражающийся снаружи с ветром, налетевшим с открытого моря и несущим мрачную угрозу судам, укрывшимся во внутренней гавани.
Сейчас бармен пересекает один из самых необычных кварталов порта, в котором перемешаны доки и улицы.
Узкий переулок неожиданно заканчивается пирсом, возле которого дремлет ржавое судно с трубой, изъеденной солью; два иллюминатора светятся желтым. Пирс ведет пешехода и неожиданно загоняет его в дверь-ловушку какой-то лавочки со стойкой бара, в которой еще раздаются запоздалые голоса.
Он очутился в тупике во мраке, более темном, чем тучи, похитители звезд; в глубине его угадывается вода, почти неподвижная, и только иногда медленно поднимающая и опускающая торчащие из темноты корабельные носы.
— Эй, Арктик! — кричит бармен.
Ветер приносит громкий скрежет жалующихся сухих шкивов и болезненный стон согнувшихся рей.
— Эй, Арктик! Эй, Бьорн! — снова кричит бармен.
На этот раз ему отвечает хлопнувшая на юте дверь; из помещения вырывается свет, красный и злобный, словно хищное животное, и выхватывает из темноты мачту, косые снасти и низко опущенную рею.
Уайтбруд немного отшатывается; свет помог ему разглядеть, что тупик был огрызком улицы, и что только один шаг отделял его от щели между стенкой пирса и бортом судна.
Из рубки слышен голос:
— Это ты, Уайтбруд?
Рука, возникшая в красном свете, помогает бармену перешагнуть через кучу хлама, оставляющего синяки у него на ногах.
Он очутился в скудно освещенной каюте; на него молча смотрят четверо больших светлоголовых мужчин.
— Надеюсь, ты пришел к нам не из-за пустяков, Уайтбруд, да ты и не стал бы беспокоить нас из-за пустяков.
Бармен поднимает руку почти торжественным жестом и говорит:
— В «Веселом маяке» сейчас находится молодой человек, который ведет разговоры о безумной птице с Сандвичевых островов и о семи Замках Морского Царя.
Мужчины, кажется, превратились в статуи; в каюте воцаряется мертвая тишина. Слышны только спутанное тиканье нескольких часов и астматическое дыхание Уайтбруда.
Потом Бьорн, самый высокий из четырех моряков с чистым строгим лицом священника соединяет руки.
— Господи, неужели это правда?
— Это бедный парень, и он очень пьяный, — говорит бармен.
Бьорн недоуменно разводит руками.
— Может быть, — продолжает бармен, — это всего лишь пьянчуга, случайно услышавший…
По лицу Бьорна пробегает судорога, и оно становится жестким.
— Случайно услышавший то, что ему не стоило слышать. Тем хуже для него в этом случае.
— Тем хуже, — дружно повторяют остальные.
Добродушное лицо Уайтбруда выглядит немного растерянным, но он торопливо произносит:
— Я согласен с вами.
Бьорн накидывает тяжелую шубу северного моряка.
— Идем, Уайтбруд.
Они идут навстречу ветру, гоняющему уличный мусор, идут к «Веселому маяку».
* * *
Бьорн посмотрел на спящего с тревожным вниманием, оставившем глубокие морщины на его лице.
— Ради Бога, хоть бы он скорее проснулся! — пробормотал он.
Словно откликнувшись на его просьбу, юноша глубоко вздохнул и поднял голову, тяжелую он кошмарных снов.
— Пить!.. — пробормотал он.
Уайтбруд протянул ему стакан газировки, в котором плавали кружки только что нарезанного лимона.
Юноша жадно выпил воду и с удовольствием принялся жевать сочную дольку лимона.
Его взгляд, сначала расплывчатый и блуждавший, старательно обходя при этом острые углы, постепенно сконцентрировался и остановился на частично стертом рисунке мелом на поверхности стола.
Он поднял руку, чтобы стереть рукавом остатки рисунка, но его остановил Бьорн.
— Простите, — резко произнес он. — Но мы пришли сюда ради него. Как вы говорили? Эта птица…
— Я ничего не говорил, — проворчал юноша.
— Да, сейчас вы ничего не говорили, но совсем недавно вы использовали свой хорошо подвешенный язык, чтобы говорить об очень странных вещах…
— Я говорил о странном? — пробормотал автор рисунка мелом.
— Да, об очень странном.
— Ну и что? Я же нализался, как свинья… Конечно, я мог нести всякую чепуху… Но я сейчас ничего не помню…
— Хорошо, в этом случае вам и не нужно ничего говорить, — подчеркнуто добродушно заявил Бьорн.
Потом он наклонился к молодому человеку и доверительно поинтересовался:
— Вы сейчас оттуда?
— Откуда я? Что вы имеете в виду?
— Лиуварден?[82]
Юноша потупился.
— Откуда вы узнали? — смущенно пробормотал он.
— А ваша физиономия? Вы забываете, что тюрьма надежно метит лицо арестанта белой краской. Своего рода фирменный знак, который исчезает после жизни на свежем воздухе и благодаря хорошему питанию, — сказал Бьорн, засмеявшись.
Незнакомец закрыл глаза, и по его бледной, жутко бледной щеке скатилась слеза.
— Простите, — сказал Бьорн, — я не хотел причинить вам боль. Видите ли, тюрьма не означает в жизни человека ничего особенного, это ведь не диплом об окончании университета… Что с вами?
Глаза у юноши странно расширились, его сотрясала крупная дрожь.
— Прости меня, Господи, — воскликнул Бьорн. — Этот мальчуган умирает от голода!
— Да, я не отказался бы немного перекусить, — слабым голосом проговорил юноша.
То, что последовало за этим, можно назвать поэмой, гимном, триумфальным маршем, мгновенно организованным Уайтбрудом.
Неожиданно выяснилось, что буфет таверны для голландских моряков скрывает в себе фантастическое богатство съедобного.
Это настоящий лабиринт блюд и разновидностей съестного, в котором можно заблудиться, и в котором с трудом прокладываешь себе путь через груды невероятно вкусного мяса, гигантские емкости желе, удивительно ароматные фрукты.
Под восхищенным взглядом голодающего столы таверны заполнились едой, словно по команде волшебной палочки.
Небольшие булочки, осыпанные белоснежной мукой, настоящий бастион желтого масла, сочащиеся розовым жиром длинные ломти копченого лосося, груды свежих креветок, плавники ската в желе, большие куски сыра, цепочки сосисок, жареная камбала — трудно перечислить все съестное, появившееся на столе.
— Ешьте, ешьте и еще раз ешьте! — скомандовал Бьорн. — Сытость подталкивает к откровенности. У полного желудка не бывает секретов.
И он вывалил в тарелку своего подопечного огромную сковороду яиц, зажаренных с ветчиной.
* * *
— А теперь? — спросил Бьорн, когда юноша, насытившись, отложил нож и вилку.
— Ладно! — сказал он, словно внезапно принял решение. — Так вот, именно в Лиувардене я познакомился со стариком-бродягой. У него не было ни гроша в кармане, и он не мог заплатить за добавку в столовой. Я покупал для него печенье и табак. И однажды он сказал мне, что в день осеннего равноденствия он сможет по-царски наградить меня. Я считал его немного чокнутым, но вообще-то это был человек мирный и симпатичный, и я с удовольствием помогал ему. Он потом несколько раз повторил свое загадочное обещание. Когда я поинтересовался, честно скажу, не без иронии, почему нужно ждать день равноденствия, до которого было еще не близко, он ответил, что именно в этот день ему будет возвращено все его могущество.
Молодой человек замолчал, и на его висках выступили капельки пота.
— И вот, в этот день… Боже мой, я предпочел бы…
— Вы должны рассказать нам все, — проворчал Бьорн. — И рассказать правду, если вы не хотите, чтобы с вами случилось несчастье.
— Но вы не поверите мне! — воскликнул юноша. — Все, что я расскажу, покажется вам настолько невероятным…
— Мы поверим самому невероятному! — оборвал его Бьорн.
— Хорошо, — пробормотал юноша. — Бродяга сказал, что он призовет Морского Царя.
Бьорн наклонился к молодому человеку:
— Постарайтесь как можно реже произносить это имя, приятель!
— Так вот, той ночью поднялся сильный ветер, совсем как сегодня. Тюрьма спала, и шаги дежурного, время от времени подходившего к часам, быстро стихали в дальнем коридоре. Меня разбудил сильный скрип, и я увидел, как стену напротив меня рассекла длинная светящаяся трещина. Она светилась очень ярко, и тогда… О, тогда…
Грохот.
Темнота.
Короткий крик.
Встревоженные голоса, яростные возгласы.
Чирканье спичек, огоньки, вспыхивавшие и сразу же угасавшие.
Топот ног в темноте.
В очередной раз «Веселый маяк» опустел.
* * *
Опустел? Нет, не совсем.
В этом голландском баре присутствуют двое.
Один из них, страшный и молчаливый — это бывший заключенный Лиувардена, а сейчас — безжизненное тело, с круглой дыркой во лбу. Пуля оставила дырки также в стекле и в шторе.
Второй присутствующий — это Роттен Бол.
Роттен Бол выбрался из шкафа, в котором спрятался, когда в бар вернулся Уайтбруд с Бьорном и другими спутниками. Он подошел к кассе, которую уже начал взламывать, и одним движением руки закончил работу, очистив ее. Потом он спрятал под куртку две самых шикарных бутылки, попавшиеся ему на глаза.
* * *
Когда Роттен Бол истратил восемь сотен флоринов, полученных им при ограблении бара, он совершил еще одно ограбление, на этот раз не столь удачное, так как его задержал детектив из уголовной полиции. Затем он прошел через суд, и судья отправил его на два года в Лиуварден. Он вел себя как самый образцовый заключенный, и в докладе, приложенном священником к общему докладу начальника тюрьмы, можно было прочитать следующее:
«Человек, постоянно помогающий сокамерникам. Много внимания уделяет старикам, всячески стараясь облегчить им жизнь. Почти все свои деньги тратит на покупку печенья и сигарет, которые щедро раздает окружающим».
На самом деле Роттен Бол все время злился, потому что он хотел бы сам выкуривать сигареты и тратить остатки денег в столовой на пиво и соленую рыбу.
В Лиувардене много заключенных-стариков, и, так как два года тюрьмы закончатся еще не скоро, он не теряет надежды повстречать необыкновенного старика, который оценит его великодушие и в благодарность расскажет ему о безумной птице Сандвичевых островов и о семи Замках Морского Царя.
Тогда, вполне возможно, нам придется вернуться к этому рассказу, который мы были вынуждены так резко оборвать, потому что мы хорошо знаем Роттена Бола и, поскольку он не скупясь платит за выпивку, мы можем рассчитывать узнать что-нибудь любопытное от его словоохотливой натуры.
Призрак в трюме (Le Fantôme dans la cale)
— Послушайте, капитан, — сказал мне Крол, — Бунни Снукс знает одну правдивую и жуткую историю. Он хочет рассказать ее, но вы должны предложить нам немного джина, а каждому из нас выдать по пачке табака «Мэйблоссом».
Я возвращался из короткого рейса к берегам Ширнесса, нахлобучив на голову морскую фуражку с некоторым перебором галунов; поэтому звание капитана мне понравилось в той же степени, что и предложение Крола.
— Ладно, валяйте, — согласился я.
— Тогда, — оживился Крол, — получится по пачке табака для меня, для Бунни Снукса, для Сэма Таппля и для Ганса Габеля… Моя пачка должна быть завернута в серебряную бумагу, которую я накладываю на отмороженные места.
— Хорошо, согласен, — сказал я.
— Я тоже знаю одну историю, подлинную и страшную, — торопливо сообщил Сэм Таппль. — Это было у Пег Фловер в тот день, когда она проглотила ножницы, чтобы покончить с собой из-за любви к дону Рейману из замка Грейланд. Мы были у нее, Иеровоам Наспен, Манитоба, Джо Американец и я.
— Капитан не просил тебя рассказывать об этом, сын ската, — возмутился Крол и обрушил мощный кулак на шелудивый череп Сэма Таппля.
Тот ничего не стал возражать, потому что молча соскользнул под стол, словно лот в спокойную воду.
— Мы выпьем его джин, — с торжеством заявил Крол, — и мы разрежем его пачку табака на две части, одну для меня и вторую для Бунни Снукса, потому что это он рассказывает.
— Эта история имеет отношение к сухому закону, — хмуро буркнул Бунни, — и я не стану ее рассказывать, если этот тип с бородкой, что сидит возле нас, будет меня слушать.
Крол тут же подошел к этому типу и вежливо поприветствовал его, так как он получил хорошее воспитание.
— Господин, — сказал он, — мы собираемся рассказать историю, которая вас не касается. Поэтому мы, то есть я, Бунни Снукс, Ганс Габель и капитан — не буду упоминать Сэма Таппля, который развлекается, словно мальчишка, спрятавшись под столом, — просим вас пересесть на другое место. Если вы не сделаете этого, я укушу вас за нос и скажу бармену, что вы украли нож, которым он открывает устрицы.
Посетитель правильно отреагировал на просьбу Крола и пересел к двери.
Правда, потом он показал свое дурное воспитание, так как на протяжении всего вечера не переставал корчить нам самые нелепые гримасы; к примеру, он поднимал пальцем кончик своего носа, показывал нам рожки и пялился на нас, словно китайский кули на дохлую собаку.
Но Бунни перестал обращать на него внимание, и со взглядом, полным воспоминаний, и с дрожью, пробегавшей, словно холодный ветер у него по затылку, он наклонился к нам.
* * *
Часа четыре я слонялся между ящиками, бочками и грудами тюков в ангарах компании Фитцгиббонс, не находя ничего пригодного, чтобы спереть.
Из бочонков, осторожно проверенных мной с помощью ножа, вытекали только уксус или какие-то краски; огромная связка содранных с тюленей шкур воняла так, что у меня не хватило мужества украсть несколько шкур, чтобы продать их Моисею Скапулеру, ростовщику из Сохо, которого ад подстерегает с момента его неудачного появления на свет.
Дождь лил, как из ведра — так бывает только в этих жалких портах, где дождь пахнет рассолом и дохлятиной, а матросы предвидят времена, когда они станут всего лишь падалью, носимой волнами.
С таким дождем мне приходилось встречаться в Лондоне, в Халле, в Гамбурге, в Копенгагене, в Риге и дьявол знает, где еще. Это тот самый дождь, что загоняет вас в таверны, готовыми на любое преступление за глоток горячего грога, дымящуюся трубку, смех толстой девицы и пару часов тепла и света.
В течение дня мне довелось проделать несколько разочаровавших меня опытов. Прежде всего, я выяснил, что еловая хвоя в сквере Кенсингтона совершенно несъедобна; точно так же не годится в пищу кора платанов. Первый кусок кожи стоптанного ботинка еще можно проглотить, но второй уже не пройдет. Хорошо очищенные от грязи шкурки апельсинов не утоляют голод, а разжигают его. Не стоит пытаться жевать пеньку или паклю: вам сразу же жутко захочется пить, да и запах изо рта у вас будет еще тот. Воду, если в нее не добавлено хотя бы несколько капель виски или рома, пить не стоит — лучше сразу подохнуть.
В моем отупевшем мозгу внезапно родилась понравившаяся мне идея:
— Мне нужно поймать бродячую собачонку, убить ее и поджарить на угольной крошке на ближайшем кладбище, а шкуру отдать Моисею Скапулеру за стаканчик виски.
Дождь теперь набрасывался на меня резкими порывами; он свирепо хлестал меня по лицу, проникал под свитер, и я ощущал странную тяжесть в своем пустом желудке.
— Я должен убить собачку, — повторил я, — и потом…
Возле ангара стояло старое судно, ржавое и черное, заваленное всей грязью северных доков; в его трюм загружали ящики под грохот лебедки и ругань грузчиков.
На несколько мгновений распахнулась дверь камбуза, выпустив наружу огонь пылающей плиты и пар из кастрюль. Порыв ветра бросил в меня запах варившейся баранины.
— Я убью собачку, — машинально повторил я во весь голос, — и сварю ее…
— Швайн, пиг, кошон[83]! — произнес возле меня неприятный голос человека, появившегося из темноты между ящиками.
Я понимаю отдельные слова на всех земных языках… Но это не имеет отношения к моей истории, и говорить об этом сейчас было бы не слишком корректно. Я тут же ткнул ножом в темноту, и дикий вопль придал сразу же приятное разнообразие моим мрачным мыслям. Существо, появившееся из сырой темноты с торчащим из бока ножом, похожим на стрелу в соломенном чучеле, показалось мне товарищем по несчастью, и я пожалел о своей реакции.
— Уважаемый джентльмен, — сказал я, — я не хотел причинить вам вред; я подумал, что в тени скрывается сторож, таможенник, контролер, или, в конце концов, какой-нибудь другой представитель этого мерзкого племени, а отнюдь не истинный джентльмен, как вы.
Моя искренность, похоже, понравилась незнакомцу, потому что он ответил мне весьма галантно в том смысле, что все удовольствие пришлось на его долю, и что небольшой укол моего лезвия — это пустяк по сравнению с огромной радостью, которую он испытывает в связи со знакомством с таким интеллигентным человеком, как я.
Последовавших за этим нескольких минут разговора оказалось вполне достаточно, чтобы выявить у нас множество общих интересов, в частности, к виски, табаку и спокойной жизни.
Незнакомец сообщил мне, что он немец, на что я ответил, что всегда обожал отличный горячий шукрут со стаканчиком шнапса.
Эта моя вежливость растопила его сердце, и он заявил, что между людьми с такими широкими взглядами, как у нас с ним, какие-либо конфликты абсолютно невозможны.
Потом он сообщил мне шепотом, что задумал одно хорошее дельце.
То, что я отреагировал на его слова с явным интересом, обеспечило завязку моего последующего опасного приключения.
Большие электрические светильники, заливавшие причал резким светом, в этот момент резко покраснели и отключились.
Докеры, матросы, механики и офицеры дружно выругались, и раскаты их проклятий еще некоторое время носились в темноте над мрачными водами.
— Скорее, скорее! — подтолкнул меня мой неожиданный компаньон. — Это самый подходящий момент! Бог на нашей стороне!
— Но что вы хотите… — я еще пытался слабо сопротивляться.
— Быстро и тихо! — прошипел немец.
Господи, когда ты готов жевать старый ботинок, ты пойдешь на что угодно, потому что ничего более страшного произойти с тобой уже не может!
Я не сопротивляясь позволил моему компаньону протащить меня сначала по заваленному ящиками причалу, потом по мостику, липкому, словно на нем разделывали пикшу; наконец, мы осторожно спустились куда-то вниз, очевидно, в трюм, заваленный непонятными вещами.
— Где мы? — спросил я у незнакомца.
— Тише! — остановил меня мой новый приятель.
В темноте начали появляться колеблющиеся огоньки, которые я определил, как керосиновые фонари.
— Проклятье! — проревел кто-то неподалеку от нас. — Я не могу выяснить, что у них с электричеством! Мне пора идти в рейс. Давайте, валите в трюм все, что хотите и закрывайте его!
— А укладка груза, капитан?
— Мне наплевать на это! Знаешь, сколько времени? И какая погода?
Лебедки снова заворчали, потом раздался страшный грохот металла, и все стихло; мы оказались в полной темноте.
— И, все же, где мы сейчас? — спросил я у своего компаньона.
— Мы в трюме «Фульмара», мой дорогой друг. Это судно, которое в связи с американским сухим законом уходит в рейс с трюмом, заполненным ящиками с виски, джином и прочими интересными товарами.
— Ну и что?
— Мы сможем пить! Пить, сколько захотим, пить и пить!
— А если нас обнаружат?
— Мы…
Что-то заскрежетало, затрещало и сильный удар швырнул меня на какие-то ящики, о которые я сильно ударился. Рядом со мной рухнула тяжелая масса.
— Эй? — негромко окликнул я.
Тишина.
— Эй, приятель?
Никто не отозвался.
— Послушай, дружище, я не люблю шутки, особенно, когда так темно.
Жалобно провыла сирена.
— Швайн! Свинья! — заорал я. — Что за шутки?
Снаружи по борту судна прогремели цепи. На палубу тяжело опускались какие-то грузы, но вокруг меня воцарилась тишина, мерзко хихикавшая надо мной.
— Ну, ладно! — сказал я. — Значит, вы не джентльмен, приятель!
Какой-то странный плач, какая-то непонятная жалоба родилась в темноте, взлетела кверху, окружила меня невидимым серпантином болезненных вибраций и медленно затихла в густой темноте.
Возле меня на пол с треском рухнуло несколько ящиков; с серебристым звоном разлетелись вдребезги бутылки.
Внезапно я почувствовал под рукой бутылку. Немного пошевелившись, я пошарил возле себя и понял, что вокруг меня валялись десятки, может быть, сотни бутылок.
Ах, эта нежная ласка виски, струящегося в глотку…
* * *
Сколько прошло часов? Или дней?
Морская болезнь поразила меня во сне, и едкий резкий запах отрыжки смешался с благородным ароматом виски.
Мне попалась большая бутылка; коротким движением я отбил горлышко о невидимый в темноте предмет, и вязкая ароматная жидкость пролилась мне на руку.
Я поднял бутылку без горлышка, чтобы отхлебнуть сладкий бальзам.
Боже, как я заорал!
Из ночной тьмы ко мне протянулся зеленый, странно светящийся палец!
Я сказал: палец? Нет, это было что-то больше, чем палец; вокруг него забегали зеленые огоньки и внезапно я увидел всю руку, руку из зеленого огня, царапающую тьму растопыренными пальцами.
— Это мне снится, — пробормотал я. Я поглощал жидкость, словно отверстие водослива, и ничего не ел так давно, что уже забыл, что у меня есть зубы. Конечно, все, что мне привиделось, было вызвано виски и другими столь же благородными напитками, которые я выпил за это время. Я надеялся, что мне достаточно будет закрыть глаза, и когда я снова открою их, это отвратительное явление исчезнет, угаснет, словно бортовой сигнальный фонарь.
Но я мог сколько угодно закрывать и открывать глаза, зеленая рука, живущая жуткой жизнью, по-прежнему шевелилась в темноте.
— Это кошмар! — громко сказал я. — Оживший кошмар!
И я отхлебнул приличную дозу ароматного виски.
— Видишь ли, — сказал я странному созданию, — ты кошмар, вернее, часть кошмара… — Я говорил громко, так как пытался таким образом побороть отвратительный страх, вцепившийся в мои внутренности. — И я вижу тебя только потому, что слишком много выпил.
На самом деле ты дым, меньше, чем дым, ты — ничто. Ты не существуешь, ты… Как тебя назвать? Да, ты миф! Вот, что ты такое: ты миф!
Вот видишь! Ты понял, что я не боюсь тебя?
В этот момент рука зашевелилась так отвратительно, что я заорал от ужаса.
— Помогите! — закричал я.
Неожиданно я вспомнил предсмертный хрип, раздавшийся в момент отплытия судна. Сомневаться было невозможно: это был момент, когда погиб мой приятель-немец, и теперь его призрак вернулся ко мне из жутких глубин иного мира.
— Дружище, скажи, чего ты хочешь от меня?
Рука, охваченная бессмысленной яростью, свирепо раздирала бархат ночи.
Я закричал:
— Приятель, не знаю, кто ты — Ганс, Курт, Фриц… Ты не успел сказать, как тебя зовут… Лиебер фройнд… Мой дорогой друг! Ах, свинья, швайн, мерзавец, убери свою зеленую лапу!
Рука широким жестом благословила меня во тьме.
— Я понимаю тебя, мой фройнд, — сказал я. — Тебе нужны молитвы? Это справедливо, твоя душа не получила покой, в котором нуждается. В нашем ремесле голодранцев и плохих парней иногда приходится расстраивать Всевышнего. Но разве он не может кое-что простить нам? Если Господь не простит нам, бедолагам, голод, бедность, уныние и постоянную жажду, вряд ли жизнь на небе будет лучше, чем на земле, не так ли?
Ты должен простить мне грубые слова, так плохо звучащие в твоих благородных ушах, потому что сейчас ты стал почти святым, если не считать некоторых пустяковых историй, от которых в чистилище тебя отмоют за несколько секунд.
Светящаяся зеленым огнем рука снова благословила меня.
— Да, да, конечно, тебе нужны молитвы! Послушай, я закрою глаза и прочитаю двадцать раз «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!», а когда я открою глаза, ты уберешь зеленую руку и перестанешь пугать меня, хорошо?
Ну, значит, мы договорились… Я начинаю…
Я двадцать раз произнес святую фразу и с надеждой открыл глаза.
Ой-ой-ой… Теперь у меня перед носом оказался кулак!
— Послушай, голубчик, разве я виноват, что не могу прочитать тебе всю молитву от начала до конца? Я никогда не учил молитвы и не знаю ничего другого! Зато я вкладываю в единственную знакомую мне фразу всю веру! Конечно, двадцать раз — это очень мало… Что, если я повторю ее тридцать раз? А если сто? Сто раз! А? Нет, это просто свинство с твоей стороны! Но меня твои проблемы не касаются! Мы, кажется, договорились, что будем вести себя, как джентльмены?
«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!»
После того, как я сто раз повторил святые слова, страшная рука продолжала раскачиваться передо мной, напоминая растопыренными пальцами краба, и она казалась мне еще более зеленой, чем раньше.
— Мерзавец! — заорал я, — я так долго молился, а ты… Убирайся отсюда!
Я в бешенстве нащупал в темноте бутылку и отбил у нее горлышко. Потом я долго пил, и огонь заструился по моим жилам; я почувствовал отчаянную храбрость и запустил в призрак пустой бутылкой. Я опустошал бутылку за бутылкой и все пустые бутылки швырял в призрак. Через некоторое время ящик опустел; тогда я схватил его и изо всех сил метнул в зловещую руку.
И тогда…
Боже, тогда…
Загрохотал гром, раздались странные писклявые голоса, гневно обрушившиеся на меня, и вместо зеленой руки… появился целиком призрак… весь в трепещущих языках зеленого пламени…
Я с воплем кинулся прятаться за пирамидами ящиков и корзин.
* * *
Ах, если бы я только мог не видеть это!
Он был здесь, охваченный жуткими загадочными судорогами; он то отплясывал бешеную жигу повешенного, то переходил к усталым жестам, торжественным и нелепым позам… Вокруг него господствовала зловещая атмосфера, заполненная далекими неясными звуками, свистом, криками, жалобами…
О, Боже! Я понял, что это было доносившееся до меня адское эхо; до меня дотянулись щупальца Вечного Царства Ужаса…
Боже мой!
* * *
И я увидел демонов!
Они походили на быстрые длинные языки зеленого огня с парой красных глаз; то появляясь, то исчезая, они с отвратительной злобой накидывались на проклятого. Несчастный корчился в страшных муках, будучи не в состоянии даже кричать.
Из разбитого ящика торчали бутылки с виски…
* * *
Много часов, дней, может быть, недель — кто знает? — я присутствовал при жуткой трансформации призрака.
Его глаза стали отвратительно черными, рот искривился в злобном смехе; его руки вытянулись, раздирая когтями проклятую ночь.
Он превратился в скелет!
Мерзкий скелет, он не сводит с меня глаз, он угрожает мне, он ждет меня!
* * *
Потом демоны вернулись!
Все ящики вокруг меня усеяны страшными красными глазами, они злобно пялятся на меня, они…
Они вокруг меня, на стопках черных ящиков…
* * *
Я стал центром адского цирка; я участник спектакля, предназначенного удовлетворить их чудовищное вожделение.
Глаза приближаются, когти впиваются в мое тело, раздирают его…
Я вкладываю весь свой ужас в последний вопль.
* * *
Внезапно все меняется; сдвигаются панели, надо мной распахивается небо, по которому плывут пушистые облака.
Прохладное дыхание, божественная свежесть!
Крики, ругательства, тумаки.
Я нахожусь на палубе «Фульмара» в окружении десятка лиц, удивленных и рассерженных.
— Негодяй! Шпион! — кричит капитан. — Он спрятался в трюме… Клянусь бочонком виски, его нужно снова бросить туда!
— В трюме живет призрак! — кричу я. — Зеленый призрак… С ним куча демонов…
— Он ограбил нас! — рычит капитан. — Он пьян, он сошел с ума, его нужно вздернуть на фок-мачте!
Но его ярость прерывается воплем ужаса, доносящемся из трюма.
Бледный, как смерть, матрос взлетает на палубу по металлическому трапу.
— Капитан, он говорит правду… Я видел в трюме скелет, весь в зеленом огне.
— Вот видите! — бормочу я и проваливаюсь — весьма кстати, как я понимаю, — в полное забвение окружающего меня мира.
* * *
Я не хочу затягивать рассказ о своем приключении, тем более, что он теряет всю свою фантастичность перед синей бесконечностью неба и моря.
Я в последний раз вздрогнул от ужаса, когда мне показали скелет моего приятеля-немца, старательно обглоданный корабельными крысами.
Его убил сорвавшийся плохо закрепленный ящик, и тело его стало добычей крыс, населявших старое судно.
Я стал невольным свидетелем этого жуткого спектакля, и едва сам не стал очередной жертвой маленьких чудовищ. Расправившись с немцем, почувствовав вкус человеческой плоти, они уже подбирались ко мне, когда мои крики привлекли внимание помощника капитана, прогуливавшегося по палубе и мечтавшего о далекой Долли.
Зеленое пламя, так пугавшее меня, капитан объяснил явлением фосфоресценции.
— Посмотрите на рыбу, гниющую в трюме! — сказал он. — К тому же, трюмы старого «Фульмара» — одни из самых грязных в мире, и этот жулик, этот вор не добавил там чистоты.
Меня не сдали властям, но заставили работать, как каторжника.
«Фульмар» удачно избавился от своего груза и заработал бешеные деньги; вся команда получила хорошую премию.
Вернувшись в Ливерпуль, капитан прогнал меня, отвесив напоследок мощный удар ногой в тыльную часть моего туловища.
— Это тебе за выпитые бутылки, за потерянное из-за тебя время и за мешок, в котором похоронили эту немецкую свинью, твоего дружка.
Я забыл сказать вам, что моему оставшемуся неизвестным напарнику устроили обычные для моря похороны, сбросив его в воду, когда голубовато-серые плавники косаток разрезали крутую волну.
У меня до сих пор мороз пробегает по коже, когда я вспоминаю страшный хруст костей, размолотых мощными челюстями. Ужас, настоящий ужас — вот все, что я могу сказать.
Должен сказать несколько теплых слов о капитане «Фульмара». Увидев меня, растерянным и подавленным на причале этого дурацкого Ливерпуля, он окликнул меня и дал денег на билет до Лондона, пачку хорошего табака, старый шерстяной свитер и еще один пинок в зад, но гораздо более деликатный, чем предыдущие.
* * *
— Вот мораль этой истории, — сказал Крол.
Но он не закончил фразу, которая, вероятно, должна была содержать высокую и мудрую философскую мысль.
Поскольку за то время, которое понадобилось Бунни, чтобы довести до финала свою историю, он высосал всю бутылку виски, он соскользнул с ангельской улыбкой на устах под стол, где давно отдыхал Сэм Таппль. благородный джентльмен, хорошо известный в Сохо, Уайтчепеле и Чипсайде
ПЕРВЫЕ РАССКАЗЫ
На дороге Sur la route
Уверяю вас, я переволновался, я окоченел на октябрьском ветру и меня трясла лихорадка.
Уже два часа я отчаянно цеплялся за руль, и временами мышцы рук сводила свирепая судорога.
Кроме того, эти истории о нападениях и о коварных ловушках, подстроенных для бедных туристов, отнюдь не улучшали мне настроение.
— Игра воображения!
— Не только! Дорога считалась опасной, газеты давно писали об этом, требуя увеличить количество жандармских патрулей и организовать облавы в лесу, чтобы задержать Палю, отвратительного дорожного бандита.
— Значит, этот Палю — это не миф? Это действительно гроза беспечных автомобилистов?
— Туринг Клуб начал бить тревогу. На протяжении одного месяца было совершено восемь нападений на автомобили на этом роковом отрезке пути. Две машины врезались в поваленные поперек дороги деревья, разбившись вдребезги; при этом погибло четыре человека. В другом случае поперек дороги был натянут тонкий стальной трос на высоте немного меньше человеческого роста.
Спортсмен Дэвис, мчавшийся на большой скорости, остался без головы.
Были также случаи стрельбы по машинам из кустов, в результате чего также есть погибшие. Особенно страшными и загадочными оказались два последних нападения. Машины были обнаружены на обочине, водители сидели за рулем, убитые ударом кинжала в затылок.
— А что случилось с вами?
— Хорошо; слушайте.
Я выехал в три часа пополудни чудесным октябрьским днем. Мой автомобиль с двигателем в пятнадцать лошадиных сил был в хорошем состоянии, хотя я, конечно, должен был обратить внимание на незначительные перебои в работе мотора. Я рассчитывал добраться до столицы за три или четыре часа, передвигаясь с умеренной скоростью.
Однако, когда начало темнеть, а я как раз проезжал весьма пустынной местностью, мотор неожиданно запыхтел, задохнулся и замолчал. Машина остановилась.
Я уверенно чувствую себя за рулем, но никуда не гожусь, как механик. Поэтому я понадеялся на мелкую неполадку — что-то вроде грязной свечи, отошедшего провода…
Я долго и безуспешно крутил рукоятку, пытаясь запустить мотор; он упорно молчал, а у меня от усилий буквально отваливались руки. Я менял установку зажигания, подкачивал бензин, но мотор оставался инертным.
Приближалась ночь, деревья на обочине сливались в сплошную темную массу, равнину словно залило грязью… Затем стало совершенно темно. Казалось, вокруг меня сгустился черный туман…
Я напрасно надеялся, что мрак вдали вот-вот прорежут огни попутной машины…
И тогда я вспомнил о Палю и понял, что в это время суток ни один водитель, если он не совсем сумасшедший, не покинет гараж… Вряд ли найдется глупец, способный рисковать жизнью на этой опасной дороге.
Зато я представлял совершенно беззащитную добычу для местных бандитов.
Я с удвоенной энергией принялся копаться в металлических потрохах моей машины, несмотря на то, что мои руки, выпачканные в смазке и быстро испаряющемся бензине, замерзли и потеряли чувствительность. Неожиданно очередной оборот заводной рукоятки дал результат, и мотор заворчал. Давно я не слышал такие приятные звуки, как дребезжание груды металлических деталей!
Я поспешно зажег ацетиленовые фары, спугнув со стоявшего на обочине дерева стаю летучих мышей, и тронулся в путь.
Машина передвигалась хуже, чем в начале путешествия; я так и не смог включить четвертую скорость и передвигался на третьей, все время опасаясь, что и она выйдет из строя.
Дорога разворачивалась передо мной в белом свете фар, словно бесконечная лента. Крутой поворот заставил меня сбросить скорость. И тогда случилось страшное. Я услышал, как кто-то вскочил на заднюю подножку; бросив в ту сторону испуганный взгляд, я увидел две руки, вцепившиеся в борт автомобиля. Очевидно, незваный гость скорчился на подножке. Это мог быть только Палю, бандит Палю, гроза автомобилистов!
Я уже ощущал затылком холод металла — Палю в любой момент мог нанести мне роковой удар… Но машина продолжала двигаться вперед, и мне даже показалось, что она двигалась быстрее, то ли испугавшись незнакомца, то ли, наоборот, став его сообщницей.
Тем временем желание выжить овладело мной. Я вспомнил, что у меня в правом кармане лежит браунинг. Медленно, опасаясь пробудить подозрение у чудовища, я снял правую руку с руля и дотянулся до кармана. Теперь револьвер был у меня в руке, заряженный, но не взведенный. Я стиснул зубы и осторожно сдвинул предохранитель, после чего взвел курок. Пружина оказалась тугой, и мои пальцы, замерзшие и перепачканные в масле, скользили по металлу… Наконец, легкий щелчок дал мне понять, что револьвер готов к стрельбе. Я торжествовал; я уже не был беззащитным созданием, безропотно подставляющим шею под топор мясника…
Я притормозил, выехав на середину дороги… Потом резко выхватил револьвер и обернулся. В двух футах от меня я увидел светлое пятно лица, показавшегося мне ужасным.
Я выстрелил; один раз, второй, третий, слыша, как гильзы весело звенели, разлетаясь вокруг меня. Потом послышался хрип, и тяжелое тело рухнуло на заднее сиденье.
Я надавил на акселератор, и машина помчалась, словно подхлестнутая выстрелами. Вскоре впереди появились огни, и я въехал в деревню. И тогда я закричал… О, как я орал! Вокруг меня захлопали двери, остановившуюся машину окружили встревоженные лица.
Я кричал, размахивая руками;
— Это Палю! Бандит Палю! Он напал на меня, и я застрелил его!
Из машины вытащили обвисшее тело; я увидел восковое лицо в темных пятнах крови.
Послышались крики ужаса. Какая-то женщина закричала:
— Закройте ему лицо! Закройте лицо!
Я не понял, как очутился у стойки таверны с большой кружкой пива в руке. Меня окружали молчаливые потрясенные лица.
Один из крестьян заговорил со мной:
— Палю был арестован позавчера, вы должны были знать это…
Кто-то, чье лицо я не видел, добавил:
— Это был Тишар, он делал кирпичи из глины… Это был хороший человек… Как такое могло случиться?
Кто-то пояснил:
— Он работал в нескольких лье от деревни, и иногда цеплялся к проезжающей машине, чтобы быстрей добраться домой.
Все замолчали. Ледяной ужас не давал мне дышать.
Подошла женщина, державшая в руке куклу, грубо вылепленную из серой глины. Ее полуслепые глаза смотрели выше моей головы. Бесцветным голосом она произнесла:
— Кукла была у него в кармане, он сделал ее для своей маленькой дочки… Наверно, он торопился подарить ей куклу, пока ее не уложили спать…
Черный ангел (l'Ange noir)
Этьен Сори, восемь лет, Люсьен Массар, семь лет, и Рири Денийер, пять лет, были наказаны за то, что смеялись на уроке.
Конечно, дело было не только в смехе, раздавшемся в тишине большого зловонного зала; гораздо хуже было то, что бумажный человечек, прикрепленный к комку жеваной промокашки, остался прилепленным к потолку, где продолжал бойко крутиться на сквозняке.
Они мгновенно замолчали, когда бесшумно открылась дверь и появился директор, господин Трюмар.
Господин Трюмар был не слишком нежен с детьми, порученными его заботам. Он владел искусством так щипать детские затылки, что жжение часами сохранялось в пострадавшем месте. Хорошие познания в области человеческой анатомии позволяли ему обычными шлепками вызывать слезы боли у его юных жертв.
Но он осмотрительно не использовал эти знания против взрослых мужчин. Пансионат с восторгом вспоминал день, когда отец одного наказанного учащего несколькими ударами кулака лишил нашего бравого директора последних зубов.
Это был замечательный день, когда господин директор долго пытался остановить кровь, склонившись над раковиной и оглашая стены пансионата восхитительными стонами, сотрясавшими его массивное тело!
Воспоминания об этом случае до сих пор согревали сердца обитателей пансионата.
Сегодня он выглядел опаснее, чем обычно. Его рот, очищенный от зубов волшебным отеческим кулаком, улыбался черной неподвижной улыбкой.
Он медленно прошелся между двух рядов скамеек, и его взгляд со странной доброжелательностью остановился на болтающейся под потолком фигурке.
— Значит, мы развлекаемся, детки?
Голос его казался очень ласковым, и Рири поверил доброму директору.
— Да, господин директор, мы немножко развлекаемся…
Грубая грязная рука поднялась, но вместо ожидавшейся ласки целая группа учеников взвыла от боли.
Люсьен Массар долго корчился, держась за болевшее плечо.
— А ты, мой малыш Рири?
Пятилетний ребенок не умеет лгать…
— Я тоже, господин директор…
— Ай!
Раздался дружный приглушенный крик сотни маленьких человечков, сердца которых были охвачены болью и страхом…
Тяжелая рука безжалостно опускалась на детские затылки, тонкие белые шейки… Несколько месяцев назад, когда еще была жива мама, она целовала эту шейку… А теперь грязные ногти рисовали на ней царапины с выступавшими капельками крови…
— Сегодня ты будешь спать в темной комнате, — заключил господин Трюмар, и его злобный взгляд пробежал по сотне съежившихся фигурок, дрожавших от страха.
* * *
Темная комната был тупиковым помещением на чердаке; в ней стояла небольшая железная кровать с матрацем и рваным одеялом.
Рири рыдал в этом карцере, заполненном темнотой.
— Мне страшно, мне так страшно…
Его голосок был таким хрупким, таким жалким, что он даже не пугал парочку мышей, суетившихся на чердаке в лунном свете.
Этот лунный луч был единственным утешением Рири, хотя он и боялся освещенных луной зверюшек. Он зажмурился и попытался подумать о чем-нибудь приятном, чтобы прогнать жуткие вещи, заполнявшие его сознание.
Увы! Приятные вещи были далеко, и Рири знал, что они не вернутся, никогда не вернутся.
Он видел цветущий сад, уютную комнатку с белоснежной постелью, и самой замечательной в этой картине была улыбающаяся тень — его мама.
Рири открыл глаза, решив, что случившееся с ним было плохим сном, над которым они с мамой сейчас посмеются.
Но вокруг него была только холодная тень, и рядом с ним возились в лунном свете две мыши. Он так громко заплакал, что испуганные мыши исчезли.
— Ах, мама, моя мама…
Он очнулся, выбравшись из чудесного сна: мама держала его на коленях и рассказывала удивительную историю про маленькую Нинетт, злую старуху и черного ангела.
Злая старуха украла Нинетт у родителей; она заставляла девочку тяжело работать и часто била ее. Нинетт была доброй девочкой, а поэтому в ее судьбу вмешались феи. Однажды, когда старуха сильнее, чем обычно, наказала девочку, влиятельная фея отправила к старухе черного ангела, чтобы наказать ее. Черный ангел убил злую старуху и вернул Нинетт родителям.
Рири полностью проснулся, но теперь он перестал бояться.
Как же он не подумал об этом раньше! Страдать от холода и страха, когда ему достаточно было позвать фею!
Встав на колени на постели, он взмолился:
— Дорогая фея, я такой же хороший, как Нинетт, приди ко мне на помощь, во имя Отца и Сына, и Святого духа, аминь.
Он огляделся, и его сердечко радостно дрогнуло: перед ним в конусе лунного света стоял черный ангел.
* * *
Выглядел он довольно жутко — влиятельная фея выбрала достойного посланника, чтобы наказать злого человека. Он был весь в черном, и лицо его было закрыто маской с прорезями для глаз.
Рири смело подошел к нему.
— Добрый день, господин ангел!
Ангел подпрыгнул от неожиданности, но Рири вежливо протянул ему руку.
— Да, господин ангел, злой директор постоянно бьет меня или щиплет, у меня до сих пор болит шея. Поэтому я и позвал фею.
Черный ангел стоял, не двигаясь, и ребенок, ободрившись, рассказал ему свою печальную историю: про любимую маму, попавшую на небо, про наказания, про темную комнату на чердаке, про замечательную сказку и появление ангела.
— Вы должны наказать нашего злого директора, господин ангел, я знаю, где он спит, и я отведу вас туда.
До сих пор небесный посланник внимательно слушал ребенка, а предложение малыша вызвало у него странный смех. Несколько хриплым для ангела голосом он сказал:
— Хорошо, малыш, я помогу тебе. Отведи меня к вашему директору.
* * *
Комната господина Трюмара были заперта изнутри, но Рири не сомневался, что замок не будет проблемой для ангела.
Действительно, мрачный посетитель вставил в замочную скважину небольшой металлический предмет, и дверь сразу же открылась. В свете ночника Рири увидел спящего директора.
Как отвратительно он выглядел с потным жирным лицом!
Ангел подошел к нему совершенно бесшумно, но чутко спавший директор засопел, повернулся, внезапно сел, открыв глаза, и открыл рот, чтобы закричать.
Быстрый, как молния, ангел схватил его обеими руками за шею. Похоже, теперь пришла очередь господину директору страдать, так как его лицо исказила гримаса боли.
Он упал на постель и задергался так странно, что Рири едва сдержал смех.
Ангел достал длинный блестящий нож.
— Это тебе, мерзавец, за малыша…
Нож трижды поднялся и опустился на горло директора; Рири немного испугался, но постарался не показать свой испуг ангелу. Тот в это время неподвижно застыл возле своей жертвы.
— Господин ангел, — прошептал Рири, — я благодарю вас, и еще я благодарю волшебную фею. Если теперь вы собираетесь вернуться на небо, передайте моей маме, что со мной все хорошо.
Черный ангел немного вздрогнул, а потом сказал очень тихо, гораздо более нежным голосом, чем Рири слышал перед этим:
— Конечно, малыш, я все скажу твоей маме. А теперь иди, ложись спать.
* * *
Убийство директора господина Трюмара и ограбление его сейфа вызвало в городе большой шум.
Преступник так и не был установлен, хотя полиция долго расследовала обстоятельства дела. Полицейские опросили всех детей, но Рири никому не стал рассказывать про посещение черного ангела.
На борту была кукла… (Il у avait une poupée à bord…)
Чтобы затонуть, шхуне потребовалось ровно две минуты.
* * *
Когда пуля попадает в голову мертвеца, череп раскалывается, словно глиняный горшок.
Это утверждал Франц Пиппель, служивший ефрейтором в казарме Бранденбюргертора, где скончавшиеся в военном госпитале, завернутые в брезент, служат мишенями при тренировочных стрельбах.
Парусник был обречен на агонию, так как снаряд, попавший в его борт в четырех футах выше ватерлинии, расколол его корпус с во много раз усиленным звуком лопнувшего каштана.
Несколько мгновений его мачта сохраняла вертикальное положение, идеально вертикальное, словно пытаясь этим выразить свой категорический протест против человеческой подлости, потом она легла на бок, медленно следуя за кромкой борта; в течение нескольких секунд она, трепеща, словно смертельно раненая птица, касалась гребня волны, после чего через полуминуты пропала в мелких беспорядочных волнах.
На палубе небольшого крейсера «Иова» среди моряков в забавной форме Союза раздался неодобрительный ропот. Никто не хотел этого.
Потопленное судно было контрабандистом, участвовавшим в нарушении сухого закона; когда «Иова» появилась на горизонте, она попыталась, воспользовавшись попутным ветром, уйти в нейтральные воды.
Можно не сомневаться, трюмы шхуны были заполнены виски и ромом, этими двумя великими утешителями униженных, которых нервные и прогнившие от грехов парламентарии изгнали из страны вопреки голосу народа.
И моряки не одобряли действия правительства.
— Одним мошенником меньше на поверхности моря, — пробурчал капитан Бюрк.
— Надо бы посмотреть, не осталось ли что-нибудь на плаву, — робко предложил старший помощник Гувер.
— Да что уж там! — махнул рукой капитан.
— Или попытаться спасти людей, — пробормотал Гувер.
— Ладно, посмотрим! — буркнул капитан.
Но «Иова» напрасно прошла несколькими галсами по месту своего преступления.
— Вот увидите, — сказал лейтенант, — ответственность за эту историю будет возложена на меня.
— Ну, — проворчал Гувер, — с каких это пор ответственность за такие серьезные дела на борту крейсера Союза ложится на плечи лейтенанта?
— С тех пор, как на его плечи были возложены бухгалтерия, контроль за трюмами, учет израсходованных боеприпасов и черт знает, что еще… Это станет для меня проблемой не в связи с потопленной шхуной, а с расходованием боеприпасов, что требует строжайшего учета… Таким образом…
— Вы напоминаете мне, — сказал Гувер, — птицу, какую-то странную птицу, например, золотистого фазана.
— Плавающий предмет сзади по левому борту, — крикнул кто-то из матросов.
Крейсер неловко развернулся по направлению к месту гибели шхуны.
— Это буек, — сказал Гувер, — только… О, да простит меня Господь, это похоже на…
— Ну и ну! — воскликнул лейтенант. — Я бы сказал, что это кукла.
— Кукла?
— Не больше, и не меньше! Ха-ха! Вот комедия!
— Кукла в этой ситуации кажется вам смешной, Гиббонс? — резко выкрикнул Гувер.
— Конечно! — нагло заявил лейтенант, заметивший подходившего к ним капитана и знавший о глухой антипатии, существовавшей между капитаном и Гувером.
— У меня дома маленькая дочка, — негромко сказал Гувер. — Когда я возвращаюсь домой, я часто привожу ей куклу… Бог знает, какого несчастного и может быть очень хорошего человека мы только что убили.
— Убили, лейтенант? — резко спросил Бюрк. — Вам стоит лучше выбирать слова, вы в конце концов будете отвечать за них перед коммодором.
Гувер побледнел, и сам стал похож на жалкую игрушку, только что извлеченную из воды. Он отдал честь, поколебался минуту, потом, охваченный чувством протеста против ограничений и унижений, характерных для военной службы, он указал на маленькую мокрую куклу:
— Ладно, капитан, но вам придется ответить за нее перед Богом.
* * *
Негромкие, надрывающие душу слова слетели с палубы в вонючую каюту на полубаке, откуда спустились в душные молчаливые трюмы.
Они перешли с горьких от виргинского табака губ рулевого на вечно сухие губы кочегара, задев, наконец, своим мрачным крылом губы одинокого канонира, следившего за крюйт-камерой и поделившегося этими словами со своими термометрами и вентиляторами:
«На борту была кукла… На борту была кукла…»
* * *
Коротким пинком Бюрк отправил куклу за борт.
Но…
Случайность, или рука судьбы?
В этот момент на судно налетела большая волна; она зарычала, зашипела, плюнула пеной и швырнула куклу на палубу застонавшего всеми шпангоутами крейсера.
Кукла упала, раскинув руки и склонив голову на плечо, пародируя таким образом агонию нашего Спасителя…
Странная маленькая копия Христа из нежного мира детских игрушек, напоминающая о каких-то мрачных поступках человека…
Бюрк почувствовал, как в районе затылка у него началась сильная дрожь, сразу же змеей спустившаяся вниз по спине. Он тут же приказал механику Сандерсу вышвырнуть «этот мусор» за борт.
Наступил вечер, и плотные ледяные облака закрыли на небе звезды. Бюрк старательно запер дверь своей каюты, достал из-под груды одежды старую куртку и извлек из кармана бутылку запрещенного напитка.
— Вы только посмотрите на него! — пропищал тоненький голосок, пропитанный едкой кислотой.
— Что такое? Кто здесь? — задыхаясь, воскликнул Бюрк.
В каюте никого, кроме него, не было. Высокие волны время от времени захлестывали иллюминатор.
— Ладно, видно, мне что-то померещилось, — пробормотал капитан.
Он в несколько глотком опорожнил бутылку с крепким напитком, и сразу же пьяный сон ударил ему в голову, швырнув на койку.
* * *
Он проснулся ночью.
Его разбудил голоса невидимых существ.
— Я стою шесть шиллингов и шесть пенсов, — пропищал тонкий голосок; так могла бы говорить игрушечная флейта, каким-то чудом получившая способность разговаривать.
— То же самое сойдет и для меня, когда я вернусь, — сказал кто-то басом.
— А мне очень обрадуется маленькая девочка, — просвистела флейта за сорок пенсов.
— Вот это правильно! — добродушно буркнул бас.
— Ах, я туалетная бумага, меня зовут Мета, я из Нюрнберга.
Бас промолчал; послышался шорох сминаемой бумаги.
Капитан Бюрк в несколько прыжков взлетел на полуют.
Вдали лунный серп склонялся над готовыми к жатве синевато-зелеными волнами, стая бонит расчерчивала поверхность океана светящимися полосами, а у самого горизонта луч прожектора упорно преследовал раздутые паруса какого-то двухмачтового судна.
— Ах, Мета! — позвенел китайский колокольчик.
Вахтенный дремал, прислонившись к стволу зенитки.
Бюрк поднял голову и увидел торжественный силуэт альбатроса; он глубоко вздохнул, но большая птица испустила скрежещущий крик, и отвратительная дрожь только что пережитого кошмара пробежала по телу моряка.
— Глупости все это, — пробормотал он.
Судно резко наклонилось из-за неверного движения руля, волна соленой воды хлестнула Бюрка по щеке.
Он дернулся от неожиданности и отвращения, потому что в его сознании промелькнул отвратительный образ: образ трупа, плюющего ему в лицо.
Жуткие жертвы океана, сведшие счеты с бездной, какие Бюрку приходилось видеть на илистых пляжах, с изъеденной плотью пустыми глазами и белыми зубами, беззвучно смеющимися над звездами.
Он поспешно вернулся в свою каюту.
Зеркало, встроенное в перегородку, вернуло ему настолько искаженный образ, что он закрыл глаза. Потом выругался и снова принялся рыться в своих вещах.
Но едва виски с громким бульканьем полилось ему в глотку, как необычные звуки заполнили каюту.
Это было быстрое, частое постукивание.
Маленькие деревянные пальчики стучали по перегородке.
Иногда стук прекращался, потом снова возобновлялся, и внезапно капитан понял, что он доносился снаружи.
Когда он понял, в чем дело, он закричал, завыл, словно животное, словно безумный, словно осужденный на казнь.
Сквозь стекло иллюминатора на него смотрела кукла.
* * *
— Гувер! Гувер! Гувер!
Лейтенант прибежал на этот зов невероятного отчаяния.
— Гувер!
Луна вставала в светящемся небе, залитом девственно чистым серебром. Гувер увидел капитана, стоявшего вплотную к поручням, без головного убора, с безумным взглядом.
— Ты был прав, Гувер, Бог требует, чтобы я ответил за куклу. Я отвечу, Гувер! Я отвечаю!
Короткий грохот положенного по инструкции кольта, и потрясенный лейтенант увидел быстрое беспорядочное падение через поручни большой растрепанной марионетки.
Негромкий плеск плавников: акулы и бониты.
Потом… Отвратительный хруст, яростные удары хвоста, вспенившие воду, безумный круговорот голодных чудовищ вокруг окровавленной жертвы…
* * *
— Вот что мне кажется странным, — сказал Сандерс, вытаскивая куклу на палубу, — как получилось, что вокруг нее обмотался трос, свисавший с палубы перед иллюминатором задней каюты. Она немного пострадала, бедняжка, так что потребуется немного краски, новое платьице — и она обрадует мою маленькую Лили.
Ученица волшебника (l'Apprentie sorcière)
Я осталась одна в лаборатории.
Учитель уехал, и ситуация напомнила мне историю с волшебником Гете и его учеником.
Все последние месяцы я постоянно видела учителя склонившимся над книгами и рукописями; он выстраивал колонками цифры, выводил формулы и уравнения и никогда ничего не говорил мне о своих исследованиях.
Теперь он уехал, оставив на столе тетрадь с записями, которую до сих пор никогда не забывал спрятать в сейф, как самое дорогое сокровище.
Наука пробуждает в человеке любопытство.
Я перелистала тетрадь; едва я вчиталась в торопливые строчки, как в висках у меня запульсировала кровь и задрожали руки: я поняла, какие невероятные вещи излагались учителем на страницах этой тетради!
Я торопливо добралась до последней страницы. Посмотрев в зеркало, я увидела бледное потрясенное лицо, и на этом лице была написана решимость.
Да, я решила воспользоваться страшной тайной моего учителя!
Действовать нужно было без промедления… Реторты оказались под рукой, дистилляторы тоже; множество банок с загадочными веществами заполняло полки.
И, главное, в моих руках была формула, четкая и недвусмысленная!
Я включила мощную электрическую печь, на которую поставила большой огнеупорный тигель.
Ослепительное пламя, заливающее белым огнем лабораторию, вспыхнуло под тиглем.
Я взвесила нужные порошки, один за другим; отмерила требующийся объем тяжелой жидкой ртути; с помощью капельницы добавила самые опасные кислоты. Воздух в помещении лаборатории сухой и горячий, он врывается в мои легкие, словно адское дыхание. Но я храбро держусь; я должна довести до конца фантастический опыт.
Учитель все рассчитал, все учел: ингредиенты, температуру, продолжительность опыта…
Большие часы на стене громко отсчитывают уходящие секунды и минуты…
Я должна ждать целый час! Нет, уже три четверти часа! Теперь чуть больше половины часа! Печь светится, словно маленькое солнце, в тигле бурлит густая масса, похожая на вулканическую лаву.
Еще четверть часа! Боже, хватит ли у меня сил продержаться до конца? Мои силы понемногу слабеют; учитель ничего не сказал о вредной, может быть, даже смертельной атмосфере, сопровождающей опыт…
Еще пять минут… Надеюсь, Бог позволит мне продержаться эти несколько минут, поскольку секрет, который я в этот момент краду у учителя, был им украден у Творца…
Еще минута… Еще несколько секунд…
Расплав на дне тигля начинает светиться; лучи солнца среди темных туч.
Бьют часы… С победным криком я хватаю тигель металлическими щипцами и выливаю его содержание в сосуд с холодной водой.
Фонтаном взвивается горячий пар, и на дне сосуда я вижу тяжелый слиток желтого металла: это золото!
Я сделала золото!
Золото, деньги… Власть, мир… Все будет принадлежать мне!
Я испускаю торжествующий клич.
* * *
— Мадемуазель, вы ухитрились заснуть возле реторты с препаратом красного фосфора! Вам не кажется, что было бы намного безопаснее спать возле жаровни, где жарится курица?
Учитель смотрит на меня, и взгляд его полон иронии.
— Да, конечно, но я…
Я хотела сказать, что сделала золото, но вовремя спохватываюсь и бормочу:
— Да, конечно, красный фосфор, я понимаю…
Только теперь я догадалась, какой коварный демон разыграл со мной эту историю. Мне остается только зачислить это приключение в разряд моих самых замечательных снов…
Потом, в качестве наказания, я возвращаюсь к балладе Гете.
ИЗ СБОРНИКА «КРУИЗ ТЕНЕЙ»
Ужасающее присутствие (La présence horrifiante)
Прислушайтесь к апофеозу свирепого рычания бури за жалкой защитой оконного стекла, черного, словно свернувшаяся кровь.
Эта буря примчалась издалека, из бескрайних злобных морей.
Она пронеслась над проклятыми берегами, на которых гниют туши тюленей, подохших от чесотки, и здесь она заразилась черной болезнью и смертью.
Она избежала нескольких неизбежных агоний, чтобы напасть на наш жалкий кабачок, где подают едкий виски и грубый ром.
Это мерзкое создание, походя опустошило сад с розами только для того, чтобы напугать божью коровку, после чего накинулось на наш домик, хлопая по нему своими плавниками гигантского ската.
— Почему, — спросил Хольмер, — любую жуткую историю обязательно должна сопровождать черная ночь и страшная буря? Это явно притягивается за уши.
— Нет, — ответил Арн Бир, — это реальность; это то, без чего не может обойтись природа. Вы путаете понятия «около» и «вокруг», как говорил преподаватель французского языка из Осло, хотя он сам, ловкая обезьяна, никогда не путал виски со стаканом.
Я уверен, что часто именно буря и ночная непогода вызывают опасные явления.
Я уверен, что Арн Бир — неважно, норвежец он или лапландец, — это настоящий ученый. На протяжении долгих полярных ночей в своей северной деревне он читал или беседовал с пастором, учителем местной школы, получавшем книги с посвящением от самой Сельмы Лагерлеф.
— А вот я, — сказал Пиффшнюр, — скажу вам… — и ничего не сказал.
Господи! Я никогда не встречал никого глупее, чем этот парень с Эльбы, уже на протяжении нескольких месяцев страдающий от морской болезни на Балтике.
Буря дико взвыла, словно раненый зверь, и накинулась на дверь. Мы дружно опрокинули и снова наполнили наши стаканы великолепным ликером.
— Да, — продолжал Арн Бир, — эти бурные ночи создают благоприятную атмосферу для призраков, людей с преступными мыслями и существ из проклятых миров.
Я даже сказал бы, что они создают проводящую среду для сил зла, и один Бог знает, не порождают ли они сами свою адскую кухню смятения и стенаний.
— То, что вы говорите, похоже на проповедь, — проворчал Хольмер, — я ничего в этом не понимаю, но я не хотел бы, чтобы мне читали мораль.
— Нет, конечно, — взволнованно вмешался в разговор этот болван Пиффшнюр, — в этом нельзя ничего понять, и это говорится только для того, чтобы оскорбить нас.
Дверь хлопнула со звуком гигантской пощечины, и иностранец ворвался внутрь, словно зашвырнутый сильным порывом ветра вместе с вихрем дождя и града.
* * *
— Ах, — сказал он, — слава Богу, как хорошо, что здесь кто-то есть!
Он получил стакан рома, к которому не притронулся, чем вызвал у нас искреннее возмущение.
— Не очень-то приятно сейчас болтаться снаружи, — сообщил Хольмер, с видом человека, изрекающего вечные истины.
— Мне пришлось бежать, — сказал чужак.
Он швырнул свою мокрую фуражку в угол, обнажив голову, показавшуюся нам зловещей; она была гладкой, как валун, окатанный в ручье, и лампа сразу же принялась украшать его лысину розовыми бликами.
— Да, я бежал, — повторил он.
Обитатели заброшенных притонов севера среди приморских болот частенько вынуждены заниматься не слишком пристойными делами, а поэтому отличаются чрезмерной скромностью.
Мы молча кивнули и подняли такой же молчаливый тост в знак уважения к его проблемам. Слишком часто в этой жизни мы оказывались в роли преследуемого зверя, а поэтому любой человек, спасающийся от погони, был нашим братом.
— Я спасался от бури, — сообщил наш лысый гость.
Во взгляде Арна Бира блеснуло веселое удивление; Хольмер разочарованно буркнул что-то неразборчивое, а физиономия Пиффшнюра показалась нам еще более глупой, чем обычно.
— Но она мчалась быстрее меня, вот я и очутился в самом центре урагана. Надеюсь, что она не осмелится преследовать меня здесь. Ваше присутствие защищает меня.
— О чем это вы? — поинтересовался Пиффшнюр.
Арн Бир недовольно глянул на него и покачал головой. Человека, спасающегося бегством, не принято расспрашивать.
— Это она! — крикнул незнакомец. — Это нечто ужасное, что несется в сердце непогоды, что стучится в мою дверь и вынуждает меня бежать сквозь ревущий ужас ночи.
И добавил, уже более спокойным тоном:
— Но ей не удалось схватить меня.
Арн Бир протянул ему стакан виски.
— Выпейте это, — сказал он. — Ром успокоит ваши нервы.
Незнакомец некоторое время прислушивался к буре снаружи. Казалось, что он с каждой минутой становится все спокойнее.
— Я слышу шум крыльев летающих тварей, — сказал он. — Это довольно злобные создания, но они не упорствуют в стремлении навредить вам. Они никогда не станут специально гоняться за вами — главное, не оказаться у них на дороге, и они не обратят на вас внимания.
А вот те, что передвигаются по земле… Это совсем другое дело! Но я не слышу их шагов. Наверное, они увязли в болоте… Да, есть над чем посмеяться: они увязли в болоте! Так что я могу спокойно выпить виски.
* * *
— Я живу возле большого западного торфяника. Не знаю, кому он принадлежит — может, Дании, а может, Германии. Там не увидишь приезжих; люди гнушаются этой землей, да и побаиваются бродить по квадратным милям болот, где земля трясется у тебя под ногами, словно ты идешь по студенистому телу дохлой медузы.
— Вы упомянули большой торфяник, — сказал Арн Бир. — Но, ради Бога, расскажите, что вы там делаете?
Чужак загадочно улыбнулся.
— Я ищу золото!
— Ха-ха! — ухмыльнулся Пиффшнюр. — Не смешите меня! Золото на торфянике!
Хольмер двинул его кулаком по голове, и Пиффшнюр сразу стал смирным и молчаливым.
— Да, конечно, — продолжал незнакомец, — все знают, что такое торфяник. Здесь не найдешь золотоносные жилы, которым Господь доверил хранить земные сокровища! Золото можно встретить в морских илах, в речном аллювии… Но, скажите, вы никогда не замечали желтые искры, вспыхивающие в комьях мокрого торфа?
— Да, — задумчиво сказал Арн Бир, — в синих глинах Кимберли дремлют алмазы… В илах Ориноко к корням мангровых деревьев прилипают самородки серебра…
— Вонючий ил Гвианы прячет золотую пыль и самородки, — с энтузиазмом воскликнул незнакомец, — а живая слизь цейлонских устриц ревностно защищает жемчуг!
— Скажите, а это золото можно получать с выгодой? — поинтересовался Хольмер.
Это магическое слово словно подхлестнуло участников разговора. Всех охватило лихорадочное возбуждение.
Незнакомец пожал плечами и не стал прямо отвечать на вопрос.
— Я все равно не собираюсь возвращаться туда, потому что оно пришло.
— Оно? — дружно прозвучал наш вопрос.
В этот момент буря снаружи немного утихла, и ветер перестал завывать за стенами нашей хижины, нашей таверны. Струи дождя и заряды града перестали ритмично отсчитывать секунды.
Незнакомец прислушался; он внимательно зондировал наступившую тишину.
Вдали раздался хриплый крик ночного козодоя.
— Я построил на краю торфяника, — начал незнакомец, — хижину из толстых бревен, прочную и надежную, словно небольшой блокгауз. Я опасался появления людей.
Какая глупость! Кто кроме меня мог догадаться о существовании сокровищ в грязи? Откуда мог появиться достаточно сумасшедший путник, готовый с риском для жизни пробраться через ловушки дикой местности, пройти через пустыри и болота, чтобы напасть на меня в моей жалкой хижине?
Тем не менее, однажды вечером, когда над морем начали опускаться сумерки, я услышал шаги.
В тех краях шаги слышатся издалека, и каждый шаг отдается в вашем теле отчетливым толчком.
Если кто-то направлялся в мою сторону, то я, находясь в центре просторной плоской равнины, должен был давно увидеть темный силуэт гостя на горизонте.
Но я ничего не увидел, хотя, казалось, звуки шагов раздавались все ближе и ближе.
«Этого не может быть, — подумал я. — Скорее всего, шаги звучат только в моей больной голове».
Но скоро звуки шагов затихли, и ночь прошла спокойно.
Утром, осмотрев окрестности, я не обнаружил следов, и искренне посмеялся над самим собой.
Но через несколько дней шаги вернулись, и на этот раз они раздавались совсем близко от моей хижины.
«Вы не существуете, — подумал я. — И вы зря вернулись, так как вас нет в природе».
Но ночью я оставил гореть в хижине фонарь, и тени в углах до утра исполняли тревожный танец, мешая мне заснуть.
На следующую ночь шаги приблизились вплотную, и остановились перед моей дверью.
«Следующей ночью, — подумал я, — это существо постучится в мою дверь, а еще через ночь попытается войти. Спасут ли меня силы небесные?»
Так и получилось. Вечером кто-то постучался в дверь хижины. Пять легких ударов, быстрых и осторожных; я подумал, что так может стучать рука, каждый палец которой стучит независимо от других.
Рука за моей дверью! Рука, которая с каждой последующей ночью, с каждым очередным посещением стучала все сильнее, так что эхо этого стука продолжало до утра звучать в моей хижине.
— И, наконец, вчера…
Незнакомец вцепился в руку Арна Бира; на гладком куполе его головы проступили пульсирующие вены.
— Так вот, вчера мне показалось, что, когда прозвучали пять ударов, хижина как будто вздрогнула пять раз, словно избиваемое животное… Это моя-то хижина из тяжелых бревен, глубоко уходящих в землю!
Я взглянул на дверь… Мощная дверь, которую пробьет не всякая пуля… Так вот, мои друзья, мои братья, мои защитники, у этого мертвого предмета, у обычной дубовой двери появилось лицо. Эта безжизненная деталь дома, сделанная из дерева, никогда не вздрагивающая в ответ на укус пилы или удар топора, испытывала страдание!
О, я не могу передать вам, как кошмарно выглядят неживые предметы, испытывающие боль! Представьте жуткое пробуждение трупа, испытывающего непонятные муки…
Какие свирепые когти появились из глубин ада, чтобы мучить загадочную душу предметов, которые мы считаем неживыми?
И я увидел, что на балках, скривившихся от боли, появились пять круглых дыр, из которых сочилась отвратительная черная слизь. Пять кровоточащих ран!
Все предметы вокруг меня выглядели растерянными, встревоженными, непохожими на самих себя. Как вы считаете, всегда ли мы можем услышать раздающиеся рядом с нами звуки? И улавливают ли наши уши все звуковые волны, рождающиеся вблизи от нас?
— Считается, что не все, — промолвил Арн Бир, обрадовавшийся возможности заговорить среди нарастающего ужаса и произнести несколько обычных слов.
— Нет, — крикнул незнакомец, которого не устроило это слишком спокойное объяснение. — Нет, потому что все предметы вокруг меня выли от отвратительного страха, и их вопли, переплетающиеся с тишиной, мой мозг воспринимал как звуки чудовищного ужаса.
Глоток виски позволил рассказчику немного передохнуть.
— Как хорошо, что можно выпить, — пробормотал он. — Каким чудесным другом может стать виски в трудную минуту…
— Так вот, — продолжал он, — когда я уловил доносящееся издалека, откуда-то с севера, приглушенное громыхание надвигающейся грозы, я понял, что оно, ставшее в тысячу раз сильнее благодаря крылатым существам бури, на этот раз не остановится перед дверью. И оно, это воплощение ночи, войдет в хижину.
— Какую неприятную историю вы рассказываете, — недовольно пробурчал Пиффшнюр. — Ее неприятно слушать. Вы не знаете ничего повеселее?
Незнакомец не ответил; его мысли блуждали в окружавшей нас тишине.
— Тогда я знаю одну гораздо более веселую историю, — с гордостью заявил Пиффшнюр. — Вы только представьте, что у фрау Хольц, хозяйки кабачка «Zum lustigen Hollander»[84] в Атоне, был белый попугай, который не умел говорить.
Тогда я и двое моих приятелей, матросов с лихтера, рассказали ей, что белые попугаи не умеют говорить с рождения, и что ее попугая, чтобы заставить говорить, надо выкрасить в зеленый цвет. За этот добрый совет она рассчиталась с нами бутылкой отличного шнапса!
— Вам не кажется, — спросил незнакомец, — что буря прошла?
— Полагаю, вы правы, — сказал Хольмер.
— Вы уверены? — незнакомец вздохнул с облегчением, и резкие черты его лица внезапно смягчились.
— Не сомневаюсь. Погода явно улучшается. Хлебните-ка еще немного виски.
— Спасибо. Конечно, мне не помешает еще малость подкрепиться. Видите ли, в такую адскую погоду я всегда превращаюсь в бедолагу, которого преследуют демоны.
Он уже улыбался, успокоившись, и, казалось, извинялся перед нами за свой страх.
— Это было оно, — сказал он. — Что это такое? Существует ли это «оно» на самом деле? Думаю, что да, но хотел бы я знать, что это такое? Полагаю, что это безумие, мания, вызванная одиночеством, набрасывающаяся на нашу голову и пытающаяся проникнуть в наш мозг.
— Это настоящая символика, или даже поэма, — с улыбкой кивнул Арн Бир.
— Надо стараться избегать подобных потрясений, — пробормотал Хольмер. — В таком краю, как этот, страх никогда не приводит ни к чему хорошему. От страха у самых крепких мужчин кости превращаются в тесто.
— И тогда наша хозяйка, эта добрая женщина, запихнула свою птичку в банку с зеленой краской, — продолжил свою историю Пиффшнюр. — И самым удивительным было то, что птица после этого заговорила! Только она принялась выкрикивать гнусные фразы вроде «Ты свинья!» или «Провались в ад!» и тому подобное. На следующий день попугай сдох, отравившись зеленой краской, которая, как оказалось, была плохого качества. Правда, фрау Хольц сказала, что такой конец ее вполне устраивает, иначе ей пришлось бы постоянно краснеть за столь плохо воспитанную птицу.
— Эй, что это такое? — вскрикнул незнакомец, вскочивший в ужасе.
Откуда-то издалека донеслось завывание, полное бешенства и угрозы.
— Буря описала петлю, и теперь возвращается, — простодушно сообщил Пиффшнюр, довольный, что ему удалось рассказать до конца свою дурацкую историю.
— Боже, оно возвращается! — заорал незнакомец. — И с ним возвращается мой ужас!
Крыша зловеще затрещала под свирепым напором ветра.
— Вы слышите шаги? — простонал несчастный.
— Да, слышу, — совсем тихо ответил Хольмер.
Внезапно произошло что-то непонятное, заставившее до предела напрячься наши нервы.
Послышался стук в дверь: пять негромких равномерных ударов.
Пять ударов, прозвучавших рядом с нами, пять ударов в дверь… В это невозможно было поверить…
Затем пять ударов раздались среди нас. Кажется, мы заорали от ужаса. Оставит ли нам небо последнее утешение — поверить в ошибку наших чувств? Пять ударов в… Нет, они были нанесены по черепу незнакомца! И череп отвратительно отзывался на удары невидимого палача; потом перед нашими ошеломленными взглядами на лысой голове появилось пять ран, пять отверстий в голове, из которых потекла кровь, черная в свете лампы.
— Мы все прокляты! — простонал Хольмер.
Незнакомец захрипел.
— Постойте, — судорожно забормотал Арн Бир, стиснув голову руками. — Ничего страшного не случилось! Я думаю, все происходящее можно объяснить… Тише, Пиффшнюр, перестань кричать… Я уверен, что все это нам мерещится… Происходит нечто естественное… Мы же знаем про такое явление, как стигматы… Мало ли что еще… Я толком ничего не понимаю…
Но Пиффшнюр продолжал вопить, вытаращив глаза, в которых не осталось ничего, кроме мелькавших жутких видений.
Снова раздались пять ударов, и мы увидели, как на голове нашего товарища появились пять страшных ран.
И тогда мы бросились бежать, подгоняемые мраком и порывами ветра с дождем, спасаясь от того, что хотело схватить нас и постучаться в наши головы, обжигаемые лихорадкой и кошмарами.
Конец улицы (Le bout de la rue)
Однажды вечером, любуясь электрической феерией Манхэттена, я впервые услышал эти слова:
— И, потом, у меня останется Джарвис и другой конец улицы.
— Другой конец улицы! — болезненным эхом отозвался второй голос.
Это были двое бедолаг, не сходивших на берег. Они смотрели на запретную для них землю ханаанскую, их последнюю надежду, с бесконечной печалью.
* * *
Проходя узким коридором вдоль судна, я услышал их снова; их разговор доносился из густой тени.
— Джарвис и другой конец улицы… Так надо. Мы уйдем из этого порта Индийского океана, оставив свои фунты стерлингов в забегаловках, где подают виски, и в курильнях, где…
* * *
В Марселе, на улицах, названных женскими именами, с многочисленными скверами, в которых девушки в слишком коротких платьях забирают у вас последнюю банкноту, эти парни появлялись из темноты, словно лейтмотив неизвестного мне отчаяния.
Однажды я задал кому-то из них вопрос, ответом на который был испуганный взгляд, — и больше я никогда ни о чем их не спрашивал.
Эти слова летают над морем, словно зловещие птицы. Их можно услышать в любом порту, на любом полубаке. Они должны означать нечто страшное, так как их всегда произносят шепотом и с опаской, и они так боятся случайного взгляда. Не закрывайте для этих слов, мои собратья по несчастью, свои сердца, как закрывают на винты иллюминаторы, когда в борт бьет тяжелая зеленая волна.
* * *
Отплыв из Парамарибо после долгих дней унылого каботажного плавания вдоль выгоревших берегов, отвратительных, словно истерзанная плоть, мы то и дело оставляли позади илистые эстуарии многочисленных бразильских рек, открывающих на море такие широкие пасти, словно они собираются проглотить его.
Мы ждали — не сводя глаз с суши, вычерченной черным на фоне неба цвета поддельного янтаря.
Мы находились на борту «Эндимиона», бросающего вызов воображению моряка грузового судна, наполовину парусника, наполовину парохода, построенного неизвестно в какие безумные времена скорее в Луна-парке, чем на судостроительной верфи.
Вы помните, как выглядел «Эндимион»? Он обычно оставался ржаветь несколько месяцев, а то и целый год в одной из внутренних голландских гаваней; потом он отплывал, повредив по пути пару шлюзов, и его обнаруживали в Суринаме, где он хоронил своих матросов, умерших от лихорадки или убитых.
По пути его играючи обгоняли великолепные немецкие грузовые суда, перевозившие селитру; он служил развлечением для наблюдавших за ним с помощью биноклей пассажиров больших пароходов. Но очень часто гнев Атлантики ломал, словно прутики, курьерские суда водоизмещением в 40 000 тонн; нередко Ллойд и Веритас обращались ко всей Земле с просьбой сообщить им новости о клиперах из Гамбурга, но «Эндимион» скромно пришвартовывался к какому-нибудь полуразрушенному причалу в Голландии. Недаром его с ноткой уважения прозвали «Судно, что всегда возвращается».
В этом рейсе среди команды было три беглеца из тюрем Французской Гвианы. Страдая от малярии и то и дело подозрительно оглядываясь, они носили на себе тяжелые пояса с золотом из россыпей Марони. Кроме того, в кочегарке трудились два «лесных» человека, отделявших пустую породу от кардиффского угля.
Холтема, капитан, курил отличный голландский табак, не выпуская изо рта баварскую трубку с небесно-голубым рисунком.
С палубы мы наблюдали островки гнили, выносимые в море этой несчастной рио и терпеливо ждали дальнейших событий.
Затем — не скажу, через сколько дней, но разве можно что-нибудь точно сказать о времени в этой проклятой пустыне жидкой меди? Так вот, из-за расплывчатого горизонта появился катер с керосиновым моторчиком и направился к нам.
На катере к нам подошли два индейца, порадовавших нас несколькими гуайявами и ананасами. Никто из них на «Эдимион» не поднялся, насколько я мог видеть, но капитан запер на ключ единственную пассажирскую каюту, предупредив нас, что он не любит лишней болтовни и повыбрасывает в море любопытных, буде такие найдутся на «Эндимионе».
Что тут могло вызвать любопытство? Каюта, такая же пустая, как мой карман? К тому же, вонючая, как гнездо для клопов… Можно любопытствовать, когда ты оказываешься в Суринаме, но всякое любопытство пропадает, если ты попал в Суринам на «Эндимионе».
Лесные люди продолжали копаться в кардиффском угле, бывшие каторжники продолжали опасаться всех прочих, матросы выполняли совершенно необходимые маневры с видом умирающих от усталости бедолаг, капитан по-прежнему дымил трубкой; и только я, случайный моряк, неприкаянный скиталец среди скитальцев, с некоторым интересом поглядывал на запертую каюту.
* * *
Вода была насыщена серым планктоном, главным обитателем Саргассова моря; я поливал этой водой коридор с деревянной обшивкой, разбухшей от сырости и жары, гнилые водоросли прилипли к двери в каюту. Я протер ее несколькими взмахами тряпки.
Холтема внимательно наблюдал за мной.
— А теперь проваливай, — сказал он мне.
Я искоса глянул на него.
— Непонятно, чего я тут надрываюсь, — буркнул я, — раз в этой дыре все равно никого нет.
Французский капитан в этой ситуации обругал бы меня, англичанин подбил бы мне глаз, что в данном случае было бы предпочтительнее, немецкий капитан заковал бы меня в кандалы, что можно было бы считать справедливым. Холтема же неторопливо вытащил трубку изо рта и прижал раскаленный фарфор к моей губе.
Я взвыл, так как на губе у меня мгновенно вздулся пузырь.
— Ну, вот, теперь тебе придется молчать, хочешь ты этого, или нет, — сказал капитан, снова запыхтев трубкой.
* * *
Каторжники беседовали, скрытно и очень тихо. Последние Саргассы удалялись в лунном свете, неизвестные изумрудные острова, лежавшие у горизонта, словно шкуры диких зверей.
Когда моряки обсуждают свои удивительные секреты, они говорят, опустив подбородок на грудь, так что толстая куртка или их собственная шерсть съедают наиболее звонкие звуки. Каторжники, не разбирающиеся в морских секретах, говорили тихо, но их слова скользили ко мне через шпигаты, словно ужи.
— На борт никто не поднимался, — говорили они, — ясно, что дикари передали капитану золото и драгоценные камни… Вот он и спрятал их в каюте.
— Но она пустая…
Металлический хрип долетел из двигателя, и один из лесных людей пропел мелодичную жалобу.
— Завтра, — сообщил уж, засыпая. — Завтра… Азоры…
* * *
Если вы когда-нибудь нальете мне стаканчик моего любимого ликера, я расскажу вам, как был построен «Эндимион», и вы сможете часок повеселиться. А потом наступит ваша очередь рассказывать, и тогда вас будет ждать не один час веселья.
Именно благодаря своей дурацкой конструкции «Эндимион» вместо того, чтобы изображать достойное морское судно, удачно разыграл роль старой плутовки-еврейки, что позволило мне без помех следить этой ночью за дверью в каюту, освещенную адской луной.
Я, кажется, уже когда-то говорил вам, что луна, позволяющая вам на суше предаваться мечтам рядом с подружкой-блондинкой и говорить ей на ушко красивые рифмованные фразы, превращается на море в невероятно жестокое создание, разрешающее разыгрываться жутким кошмарам.
Из тени воздухоприемника она создает гигантский хобот; на гребне каждой волны она размещает тысячу призраков утопленников; отвратительные белые черви ползут к вам по ее лучам.
На суше призраки способны всего лишь стонать или выкрикивать глупости полуночному ветру; призраки на море молча взбираются на борт и спокойно перерезают вам горло. Или похищают остатки разума из вашей пустой головы.
Сколько историй, связанных с луной, я могу рассказать вам! Этой ночью она установила в глубине коридора стальную панель, голубоватым блеском напоминавшую глаз осьминога. Я устроился в закоулке, откуда мог видеть все, что происходило в коридоре; в то же время, в случае необходимости, я мог проскользнуть через узкую щель или к своей каюте, или к камбузу, если бы у меня появилось желание сделать глоток рома.
Сначала я услышал в коридоре легкий топот босых ног. Потом появилась тень каторжника, темная на фоне голубой панели. Каторжник не стал колебаться перед дверью в каюту. Его пальцы профессионала несколько раз коснулись замочной скважины, и дверь приоткрылась.
Глубоко вздохнув, он вошел в каюту.
В полном молчании прошло несколько секунд, и грабитель снова появился в коридоре.
Лунный свет бросил ему в лицо серебряный луч.
Вряд ли мне еще когда-нибудь придется увидеть человеческое лицо, изуродованное таким ужасом. Глаза на нем походили на черные дыры, в которых потерянно метались зрачки; рот тоже выглядел дырой, из которой доносилось хриплое дыхание безумца.
Едва он устремился к выходу на палубу, как его шаги оборвались, и он со странным движением паяца опустился на пол и затих.
Единственным звуком, донесшимся до меня, если не считать негромкое мурлыканье волн, было нечто вроде жирного хлюпанья, почему-то показавшегося мне тошнотворным; с таким звуком плохо воспитанный человек жует мягкое мясо.
Что-то легкое, словно движение воздуха вслед за заплескавшимся на ветру полотнищем, пронеслось по коридору. Потом дверь в каюту захлопнулась, но я не увидел, кто это сделал.
* * *
Почему каторжник лежал так странно, что при взгляде на него хотелось засмеяться?
Я осторожно приблизился.
Действительно, он выглядел забавно — я видел его спину и даже голые пятки; в то же время его открытые глаза с отчаянием смотрели в темное небо.
Боже! У него голова была повернута лицом назад! Я запомнил этот отвратительный звук, даже сейчас способный вызвать у меня тошноту.
На палубе появились три новых тени. Это был капитан и два индейца.
Судя по всему, их ничуть не удивило то, что они увидели; они подняли тело каторжника и бросили его в море так же легко, словно высыпали за борт ведро с очистками.
Больше никто на палубе не появился, и исчезновение каторжника не вызвало ни малейшего беспокойства у его приятелей. Каюта оставалась закрытой, коридор пустынным. Из узкого тупичка, ведущего к камбузу, куда я пробрался вечером, я мог увидеть только тени.
Утром, когда я сменился с ночного дежурства и уже засыпал в своей каюте, я услышал скрежет блоков шлюпбалки, и спускаемая на воду шлюпка оцарапала борт.
Я посмотрел в иллюминатор.
На горизонте Азорские острова были затянуты легким туманом, и шлюпка быстро удалялась к берегу, увозя двух каторжников, похожих на две мрачные статуи, изваянные руками адского скульптора. Дальше наше плавание проходило без них.
Какой-то голландский порт приютил «Эндимиона»; мы прошли большим периферическим каналом, потом какой-то заросшей травой канавой, закончившейся бассейном, в котором ржавели заброшенный плавучий док и несколько барж.
«Судно, что всегда возвращается» пришвартовалось к замшелому «Герцогу Альба».
* * *
«Мармор Кирхе»[85] в Копенгагене прославилась, как собор с призраками.
Ветры с Зунда успевают за один час рассказать в нем сто тысяч глупостей, и от любой самой незначительной тени здесь можно ожидать любое коварство.
Ваш взгляд может повстречаться здесь со взглядом, похожим на проблеск желтого огня, неожиданно вспыхнувшего в сгустке тени.
Ты всегда остаешься одиноким в этой церкви, в то же время населенной множеством нечеловеческих жизней. Посмотрите на низкие скамьи, потом отведите на мгновение взгляд; когда вы снова посмотрите на скамьи, вы заметите, что они переместились! Похоже, что они играют в молчаливые прятки, устремляясь сквозь тени к гулкой абсиде, где скрывается команда певчих в неприличных позах.
На паперти этого строения, лишенного Бога, я встретил двух каторжников с «Эндимиона».
— Эй! — дружелюбно окликнул их я. — Старые приятели!
Физиономии у них походили на лица, вырезанные на свежих пенковых трубках — мерзкие морды из мокрого мела, но я все же повторил:
— Привет, старые приятели!
Они узнали меня, и я, не знаю, почему, прочел в их взглядах странный вопрос.
— Я хочу зайти в собор, — сказал я, — говорят, там очень красиво, пошли со мной!
— Ну, — ответил один из них, — мы как-то не…
Но его товарищ поспешно хлопнул его по спине и воскликнул:
— Причем тут мы? Я буду рад заглянуть в собор! Кто может помешать мне? Не думаю, что эта дрянь…
Проклятый ветер Зунда! Он в этот момент взвыл так громко, что последние слова из фразы каторжника вспорхнули и разлетелись, словно вспугнутые вороны.
В общем, мы зашли в собор.
Но нам не пришлось сделать в нем и десятка шагов! Да что там десяток! Мы не сделали и трех шагов!
— Ты видишь его, ты видишь! — простонал тот, что колебался.
Они дружно завопили и кинулись на улицу. Я последовал за ними. Не могу сказать точно, почему, но у меня возникло смутное ощущение, что я заметил нечто очень нехорошее, что быстро направилось к нам из глубины собора.
Я быстро бежал, чтобы догнать каторжников и разузнать у них, что это могло быть.
Вокруг «Мармор Кирхе» полно улочек, на которых витрины сверкают, словно зеленые фары в тишине, побуждающей к жутким попойкам без разговоров и без песен.
Я не смог догнать беглецов, и только ветер Зунда грубо хихикал за моей спиной.
* * *
В мрачных голландских сумерках я следовал за унылой тенью.
Между нами дымом ложились клочья северного тумана.
Тень вела меня к окраине города по узким еврейским улочкам, мимо бесконечной вереницы ангаров, пропахших крысами.
Скарабеи мельниц неловко пытались вскарабкаться по сетке дождя; тени небольших речных парусников бродили по светлой траве польдеров.
Глядя на этот силуэт, который я видел только со спины, согбенной невидимым грузом беды, я твердил про себя:
— Боже, какой он печальный! Боже, какой он печальный!
Он тащил меня за собой, словно мальчишка, который тянет на веревочке игрушечную мышь, но эту черную веревочку увидеть было нельзя.
По обеим сторонам нашей дороги валялись груды отбросов, лежали развалины сгоревших домов и хижины из пропитанного смолой картона, превратившегося в грязь; сорняки постепенно захватывали проезжую часть. Внезапно существо остановилось и толкнуло какую-то дверь, на которой было написано имя.
Имя, которое уже много лет сеяло тревогу в моей душе!
Я с ужасом понял, что существо, тащившееся передо мной под дождем, было Судьбой.
Моей судьбой нищего, бродяги дальнего плавания, давно превратившегося в тень, воплощающую нищету и страдание.
Моя судьба, остановившаяся под дождем перед этим именем, как останавливаются отчаявшиеся создания перед пропастью, перед окном на верхнем этаже, или перед парапетом ночной реки: ДЖАРВИС.
* * *
И я тоже толкнул эту дверь.
Теперь я знал — или считал, что знаю.
* * *
Когда мы устаем от ругани бармена, которому мы уже давно не платили, когда идет слишком холодный дождь и когда эти мерзавцы полицейские слишком часто появляются у твоего ночного убежища, вас встречает Джарвис.
Это таверна без вывески.
Здесь вы должны быть особенно осторожны; это жуткие места без имени, где вокруг вас окажутся призраки, скрывающие пустоту, в которой исчезают любые преступления.
Здесь вы увидите высокую стойку из темного дерева, из-за которой доносится странная суматоха, но никто никогда так и не смог понять, что там происходит. И к чему беспокоиться? Очутившись там, твое несчастье все равно окажется таким огромным, таким всеобъемлющим, что все остальное, находящееся вне его, уменьшится, съежившись, словно подмороженное яблоко.
Время от времени лица Джарвиса или Фу-Манга, кельнера-китайца, появляются из-за стойки, словно лица бродяг, заглядывающих через стену в сад рантье.
— Что закажут господа, пришедшие с моря? Виски, или замечательные напитки из дальних стран? — спросил Джарвис.
Я смутно разглядел лицо, чем-то похожее на лицо Джарвиса, и почувствовал приятный запах голландского табака.
Вот тебе и на! Холтема!
Что теперь?
Даже если мы зверски напьемся — что, разве он потребует с нас деньги? Нет, конечно!
Так как же мы расплатимся? Очень просто — мы обманем его!
Не смейтесь, может быть, когда-нибудь нам придется заплатить — разве можно знать это заранее?
Такие предательские мысли мелькали у меня в голове.
Я пью у Джарвиса, сколько хочу, пью — и никогда не чувствую себя пьяным, хотя в виски Джарвиса таится жгучий огонь.
Опьянение остается за дверью, на тротуаре, словно несчастная женщина, ждущая отца своих детей и оплакивающая нас.
Так кто же выпивает у Джарвиса?
Я знаю их всех, начиная с матроса без гроша в кармане, и кончая служащим фрахтовщика, у которого патрон в самое ближайшее время собирается проверить кассу.
Они пьют! Фу-Манг наполняет стаканы, негромкие голоса что-то бормочут за стойкой.
Входят все новые и новые посетители, и каждый чем-то похож на предыдущего. Каждый из них охвачен невыносимым отчаянием, и каждый из них пришел сюда под дождем, следуя за призрачной фигурой, согбенной и усталой, за своей Судьбой.
Но никто из них не жалуется; когда ты здесь, с тобой остаются только Джарвис, Фу-Манг, виски и твои собственные несчастья; мне кажется, что я должен повторить вам это.
Так проходят дни, недели, может быть месяцы в бесконечном ожидании.
Ожидании чего? Кто знает…
Иногда кто-то встает; на нем неизбежно останавливаются взгляды и мысли остальных. Возможно, к нему тянутся чьи-то руки, пытающиеся остановить его… Он подходит к стойке; Джарвис уже ждет его. В этот момент он выглядит мягким и довольным, словно удачливый нотариус.
Человек произносит несколько слов.
Джарвис в ответ кивает головой и указывает рукой направление, всегда одно и то же. Его тяжелая рука, словно стрелка ужасного компаса, всегда направлена в сторону чудовищного полюса.
Человек возвращается на свое место, бледный, как побеленная стена, и Фу-Манг наполняет его стакан. Потом наливает еще и еще…
Тогда раздается безмолвный крик боли и негодования всех присутствующих, объединенных своим отчаянием, но китаец продолжает ловко разливает виски, и каждый думает, что неизбежно придет и его очередь увидеть руку Джарвиса, протянутую в неизвестность.
* * *
Вечером совсем близко от нас заревела корабельная сирена.
По залу пронеслась волна тревоги, и из многих задрожавших рук выпали, разбившись, стаканы.
Но Джарвис покачал головой, и все вздохнули облегченно. Очередная доза алкоголя быстро позволила забыть о своих бедах.
Этой ночью мы вышли из бара тесной молчаливой группой и сразу же принялись жадно смотреть в конец улицы. Изредка проглядывала луна, отражавшаяся в воде; мрачный пейзаж казался мне странно знакомым…
* * *
Наступили дни, когда ожидание такой тяжестью наваливалось на плечи, что стонали плечи и трещали кости, словно атмосфера была заполнена свинцом.
Потом однажды вечером Джарвис появился среди посетителей бара.
Фу-Манг исчез, и никто не притронулся к стаканам.
В темноте раздавался крик ночных птиц; мы все вышли из таверны, не сводя глаз с рук Джарвиса.
В конце улицы с развалинами зданий в темной воде отражались огни парохода.
Красные и зеленые огни по бортам, желтые на мачте, словно судно находилось в открытом море. Я обратил внимание на фиолетовый фонарь, появление которого, несомненно, связано с чьей-то фантазией.
Все молчали; вокруг меня толпились подавленные, дрожащие люди. Внезапно я воскликнул, охваченный удивлением и ужасом.
Я узнал огни «Эндимиона».
* * *
Я отвернулся и бросился бежать, несмотря на сопротивление дикой силы, гнездившейся в моем сознании.
Я слышал шум шагов моих компаньонов, спешивших в дальний конец улицы; внезапно перед моим внутренним взором возникла жалкая картина стада животных, толпящихся перед входом на бойню.
* * *
Я уже сказал, что я знаю; правда потом осторожно добавил: я думаю, что знаю. Я ничего не знал.
Мое воображение грешит страстью к странным формам в бездне кошмаров.
Вампиры, сухопутные осьминоги, загадочные чудовища, вероятно, живущие в джунглях Гвианы или в бразильской сертао[86]?
Мой жалкий разум, бессильно бьющийся, словно раненая птица, в тюрьме моего черепа, чувствующий инстинктом, что существует точка соприкосновения между Джарвисом и чем-то фантастическим, судорожно пытался понять, какое невидимое чудовище находилось в каюте «Эндимиона».
Вампиры, призраки, осьминоги — нет, дело не в них; джунгли и саванны существуют лишь как среда для их отвратительных копий.
Все должно быть иначе, и как я встретил в Копенгагене двух беглых французских каторжников, так и вы тоже сможете встретить других унылых клиентов Джарвиса в одном из портов с мрачными развлечениями.
Они спляшут вам чарльстон для садистов в каком-нибудь заведении Марселя с цветочным названием или сыграют с вами на большие деньги партию в покер-дис[87] в Барселоне, и нечто жуткое и гнусное будет написано на их невероятно бледных лицах.
Неужели они забыли, как снаружи, за закрытыми ставнями проклятой таверны, поднимался болезненный шум? Можно было подумать, что там бились громадные раненые крылья, охваченные сверхъестественным отчаянием.
Разве им не казалось, что иногда ночами они видели на поросшей травой мостовой преклонивших колени лунных существ, исступленно молящихся звездам?
Возможно, это был всего лишь туман, скользивший мимо бара Джарвиса, способный, тем не менее, переживать сверхчеловеческую тоску.
Но я помню, и снова и снова мой жалкий разум задает свой вечный странный вопрос: кем был невидимый пассажир «Эндимиона»?
Призрак не использует пароход, подобно розничному торговцу-еврею.
Ха-ха! Вспомни-ка бабушкины сказки, которые не давали тебе спать по ночам от страха!
Но кто тогда повернул своей жертве голову на 180 градусов?
Кошмар, на мгновение прояснившийся, снова расплывается, но ужас остается во мне и мой разум сохраняет нечеткий туманный образ, зловещий и жуткий: стада животных, спешащих на бойню.
Я представляю, как мой несчастные товарищи бредут к отвратительному строению, на бойню душ!
Я снова вижу их… Да, я вижу их, моих товарищей по странствиям, моих собутыльников, моих однокашников, влачащих те же, что и я, цепи моряков, всех, кто знаком с улицей, лишенной надежды.
В ваших глазах живет тот же страх, вы стали скупо расходовать годы, дни и секунды, быстро убегающие неизвестно куда.
Угольно-черный туннель тайфуна, сетчатый камень с Цейлона, скорпион в янтаре или коралловая змейка; зловещий австралийский паук катило[88], берега Азоров, светящиеся сумасшедшим прибоем, все это, когда-то только смешившее вас, теперь сдирает с вас шкуру отвратительным ужасом, потому что все это — Смерть. И вы никогда не уйдете в смерть, словно в спокойный сон.
Дорога для вас продолжается за парусом.
Вы добрались до конца улицы.
Пароходная прогулка при луне (Mondschein-Dampfer)
Вы подпрыгнете от негодования, и, конечно, воскликнете, что я оскорбляю Париж, Вену и даже Лондон тем, что я люблю Берлин.
Когда после того, как я половину дня продежурил в казарме, поезд доставляет меня на Анхальтский вокзал, и у меня становится радостно на сердце, я чувствую себя душевным антиподом этого сумасшедшего города.
Главная радость Берлина — это постоянный шум, перемешивающий воздух за пределами городских валов и добирающийся до туч. Вы слышите шумное, беспорядочное ликование, но вы не догадываетесь о его причинах.
Мне это безразлично, говорю я вам; даже если я не вижу раскаленного ложа угля, разве я не могу наслаждаться огнем?
И шумное пламя Берлина, танцующее над невидимыми поленьями, ласкает мое сердце.
Кроме того, существует Эллен Кранер.
Эллен Кранер!
Она удивительно похожа на мисс Шпинелли, похожа настолько, что их можно посчитать близнецами. Любое зеркало треснет от злости, не сумев идеально отобразить их подобие.
Мисс Шпинелли обладает головокружительными способностями: она может идеализировать и очеловечить любой предмет — хлыст, плетка или даже лиана в джунглях мгновенно воспроизведут облик Шпинелли, созданный в вашем сознании.
Но она артистка, способная немедленно запечатлеться в вашей памяти и заставить вас забыть любую другую женщину, появившуюся на сцене до нее.
Эллен Кранер, она же фрау Бор, умело управляет хозяйством моего друга Хайнриха Бора; я снимаю у нее комнату в чудесных апартаментах на Мендельсонштрассе.
Я знаю, что мой друг Хайнрих отдает предпочтение двум дамам: фрау оберстлейтенанту Франзен и фрау советнику юстиции Вильц, как известно, дамам крайне некрасивым. Не имея возможности волновать тайные фибры их розовой плоти, он извлекает стоны из подушек в номерах услужливых отелей, куда он завлекает этих дам, благодушно переживающих свои преступления.
Однажды утром, когда Эллен принесла в мою комнату довольно странный завтрак, который она, очевидно, в припадке безумия, украсила селедкой и соленым хреном, я придержал ее за полу домашнего халата с болгарской вышивкой. Опустив свою очаровательную головку на мою пуховую подушку, она как будто хотела сказать: «Да, конечно… В конце концов, почему бы и нет!»
С того утра каждое пробуждение сопровождалось счастливым громом фанфар для моего тела; подлинное волшебство сверкало, словно луч солнца, поджаривающий воспринятую с таким пренебрежением селедку.
Почему-то моя гордость не думает о триумфе ее парижской копии…
Впрочем, все, что я сказал выше, следует поместить в скобки, так как эти сведения мало соответствуют сути рассказываемой мной истории — таким образом я, в какой-то степени, приношу читателю свои извинения. Разве тому, кто сказал, что любит Берлин, не требуется оправдание перед лицом всего мира?
* * *
Я продолжаю с легким чувством стыда: Эллен превратилась в смысл моего существования.
Как она прочитала мои мысли, разгадала этот столь близкий образ, который привел меня к ней?
Потому что она прочитала их…
— Ты действительно любишь меня? Ты говоришь, что любишь Берлин? Нет, я знаю, что ты любишь Париж…
Это не так, я действительно люблю ее; любая мелочь свидетельствует об этом. Например, на ее туалетном столике стоит большой флакон с лебединой шеей; «Fruhlingsduft»[89] — это ее аромат.
Когда прошедшая мимо дама или распахнутая на мгновение дверь парфюмерной лавки овевает мое лицо душистой волной, я тороплюсь на Мендельсонштрассе, чтобы вдохнуть аромат платья или тела моей любимой.
Когда немецкие женщины стараются стать красивыми, они превосходят в этом стремлении всех женщин Земли. Когда вы любите их, то это столь же ужасно, как и любить некрасивую женщину: ваша любовь устремляется к непониманию, вы любите нечто, скрывающееся за вуалью абсолюта, и сверкающее безумие порхает вокруг вас.
Прекрасная женщина — это драгоценный цветок, случайно распустившийся на лужайке жизни, но красивая немка, как мне кажется, незаметно появляется из искусно и коварно созданного парника, в котором под защитой густой тени бережно выращивают мандрагору…
Нет, я действительно люблю Берлин, потому что его воздухом дышит Эллен; я люблю Германию из-за нее и ради нее; я полюбил бы дьявола и дракона Фафнира, будь она их дочерью.
Стоп, стоп!
Что тут заставил меня наболтать мой мозг нетрезвого животного?
Ведь я всего лишь бедолага, которому красавица-кокетка ранит душу и терзает сердце…
* * *
Однажды вечером из тайного сада дохнуло ароматом жимолости и сирени.
Я колебался, не желая нажатием выключателя прогнать из моей комнаты короткое волшебство утренних сумерек, когда легкий стук родился в воздухе, словно моего уха коснулась рука ребенка.
Вошла Эллен; ее короткое платье китайского шелка пульсировало в лучах утренней зари.
— Мой дорогой, — сказала она, — мой дорогой друг (ее «Весенний аромат» — амбра, только что распустившиеся розы, примятая трава, — обеспечивали ее появлению пьянящую атмосферу) — я твоя на всю ночь, потому что Хайнц уехал, и ты можешь похитить меня.
— Похитить тебя, моя Эллен?
— Сегодня вечером на Мюгельзее[90] состоится прогулка на пароходе при лунном свете.
Я знаком с этим странным обычаем ночного плавания, к которому так тяготеет немецкая душа.
Пароход, выключив все огни, скользит по зеркальной поверхности ночного озера; три или четыре сотни пассажиров зачарованно наблюдают, как над береговыми рощами медленно всходит луна.
Пароход почти останавливает машины, и те гудят не громче, чем какой-нибудь счастливый шмель.
Иногда в тишине раздаются печальные звуки гавайской мелодии, исполняемой на банджо и похожей на звон хрустальных кристаллов, а иногда в ночи рождаются звуки старинной итальянской баркаролы; обычно же тишину почти не нарушают вздохи, тихий плеск воды при ловле кувшинок, полный томления шепот…
Только после причаливания к небольшому островку под названием Мюгельвердер, дремлющему на поверхности воды, вспыхивают китайские фонарики, загораются лампочки в фарфоровых цветах над ресторанными столиками, и тишину разрывают мелодии американских дансингов в исполнении известных во всем мире инструментов, вплоть до губной гармошки и тростниковой дудочки.
— Эта ночь для нас двоих, на озере, в свете луны, — шепчет Эллен.
Мне приходится — с жалкой улыбкой — принести жертву меланхоличному германскому божеству.
Около полуночи такси доставляет нас к причалу, у которого дымит большой пароход в розовых лучах театрального прожектора.
В машинном отделении раздается негромкий звонок, и причал начинает медленно отступать к призрачному городу.
Прожектор заиграл красками — желтой, зеленой, фиолетовой, кроваво-красной — и погас.
Облака отделились от мрачной стены прибрежной рощи; луна почему-то не появлялась. Беззвучный кельнер с прикрепленным к жилету карманным фонариком, предлагал пассажирам чашки с горячим грогом. Механик в машинном отделении просвистел несколько тактов парижского танго. Рулевой коротко выругался по громкоговорящей сети.
Потом он замолчал, и из трубы взвился в воздух фонтан искр — раскаленной угольной крошки.
Наши соседи громко зашуршали промасленной бумагой — сильно запахло колбасой, раздались звуки жующих в темноте ртов. Луна все еще не появлялась. Цепочка газовых фонарей на берегу обрисовала контуры бедного пригорода; одна из «хижин» светилась красным.
* * *
Возле острова уже дымил другой пароход любителей лунного света; всеобщее безумное веселье доносилось до нас, и его эхо вибрировало среди наших пассажиров.
Над неподвижной водой песни летели навстречу друг другу. Невидимая глазу суета заставляла пульсировать розовые и зеленые лампионы; несколько римских свечей глухо взорвались в затянутом дымкой воздухе.
— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — орали клиенты из-за столиков, залитых фиолетовым светом.
Подойдя ближе, мы разглядели, что палуба парохода была заполнена людьми в масках, восторженно приветствовавших наше появление; забыв о поэтичности лунной ночи, они вели себя, словно вырвавшиеся на свободу дикие звери.
Компания Пьеро и мандаринов увлекла нас в ресторанчик на берегу, где на столиках в бокалах пузырилось слишком розовое и слишком пенящееся шампанское, напоминая мыльную пену.
Какой-то ковбой обнял за талию Эллен и увлек ее в круг буйных танцоров, гулко топтавшихся на досках площадки. Другой персонаж, загримированный под оперного Мефистофеля, звонко чокнулся со мной своим бокалом:
— Прозит[91]!
С этого момента мне приходится совершать заметное усилие, чтобы вспомнить последовательность событий этой ночи.
Прежде всего, Эллен только время от времени появлялась возле меня, чтобы отхлебнуть немного шампанского, протянуть мне пальчики для поцелуя и снова исчезнуть в толпе танцующих.
После ковбоя ее подводили к моему столику и тут же снова похищали то шотландский горец, то корсиканский бандит, то пузатый Будда.
Я не говорил вам, что я не танцую? Память, оставленная пулей.
Очень скоро хоровод стал совершенно беспорядочным, и вскоре суматоха вокруг меня превратилась в буйный калейдоскоп красок.
— Быстрее, быстрее, ускорим вращение, — ухмыльнулся рядом со мной вечный студент, и, как на цветовом диске Ньютона, все вокруг меня стало молочно-белым.
Потом ко мне прицепился Мефистофель, заставлявший пить после его беззвучных тостов. Иногда он останавливал лакея и снимал у него с подноса очередную сигару.
Эллен давно не возвращалась.
Мне казалось, что было очень и очень поздно.
Неожиданно я заметил, что танцы прекратились, и публика столпилась вокруг столиков, усталая и бурно обменивающаяся впечатлениями.
Один из пароходов внезапно включил сирену.
Эллен не возвращалась.
Толпа двигалась к открытым дверям; мощные ацетиленовые светильники заливали светом помещение. Мне кажется, я продолжал звать Эллен, но мне лишь со смехом отзывались пьяные пассажиры.
Ко мне обратился сосед:
— Она не придет.
Я раздраженно посмотрел на него.
Человек пятьдесят выпивох все еще оставалось возле столиков, требуя шампанского; они кричали, что у них достаточно времени.
Тревога войлочным комом застряла у меня в горле. Внезапно я увидел часы, и меня потрясло приближение утра.
Эллен среди окружающей меня толпы не было.
— Она не вернется, — спокойно сообщил мой сосед в маске.
— Что вы можете знать об этом? И, вообще, не вмешивайтесь не в свое дело.
Кажется, я еще что-то говорил, кто-то обращался ко мне; наконец, я понял, что внимательно слушаю этого типа, сбежавшего с Блоксберга[92], и предлагавшего мне отыскать Эллен с помощью «Магии, свойственной его личности».
Остатки так называемого рассудка заставили меня сказать ему:
— Вы просто спятили.
Только теперь я понял, каким он был гнусным типом, так как он неожиданно закричал, обращаясь к толпившейся вокруг столиков публике:
— Идите сюда! Посмотрите на господина, потерявшего свою жену! Подходите, зрелище бесплатное!
«Мне нужно ударить его», — подумал я. Но почему-то я ничего не сделал.
К нам подошло несколько человек, рассчитывавших на последние крохи развлечения.
— Я дьявол, и я готов отдать ему жену в обмен на его душу!
— Душа за женщину, — выкрикнул кто-то из присутствующих, — вам не кажется, что это слишком дорого?
— Ты не возьмешь мою душу за газовую плиту с непрерывным пламенем? — хихикнул какой-то подвыпивший парень.
— Старая комедия, — зевнул толстяк, задрапированный в пурпурный плащ. — Я пошел.
Еще один пьянчужка предложил обменять свою душу на авторучку или, на худой конец, на каминные часы из пластмассы.
Мефистофель даже не посмотрел на него; он энергично размахивал настоящим пергаментом.
— Подписывайте! — гаркнул он, явно под воздействием большой дозы спиртного. — Подписывайте, и вы получите ее.
— Подпишите, раз уж ему так хочется, — обратилась ко мне какая-то женщина. — Не стоит ему противоречить, мало ли на что он сейчас способен.
Короче, публика вокруг нас веселилась от души.
— Он не решится! Нет, он подпишет! Не подпишет! Подпишет!..
Я заставил себя засмеяться, хотя у меня от ужаса волосы встали дыбом.
— Ну, давайте, посмотрим, на что вы способны! — небрежно бросил я.
Мефистофель сунул мне в руку миниатюрную дамскую авторучку, причем с такой силой, что оцарапал ладонь.
Моя подпись оказалась ярко-красной.
— Договор заключен! — заорал он.
В этот момент распахнулся натянутый в глубине помещения занавес; из-за него поспешно выскочил римский воин и появилась Элен, розовая, с растрепанной прической и измятым платьем, откровенно свидетельствовавшем о характере их занятий.
Смеющаяся публика быстро рассеялась, молодой человек радостно приветствовал скандальную ситуацию.
— Вы довольны? — ухмыльнулся мой дьявольский сосед.
— А начальник-то вокзала… ку-ку! — пропел по-французски подвыпивший молодой человек.
На пароходах в последний раз взвыли призывающие пассажиров сирены; отупевшие от бессонницы кельнеры выключили разноцветные гирлянды.
Мы направились к судну, Эллен и я, не держась за руки.
Оглянувшись на слабо освещенный ресторанчик, я успел увидеть жуткое зрелище: Мефистофель выкалывал авторучкой глаза юному французу.
* * *
— Оставьте меня, вы пьяны, — сказала Эллен.
Густой туман опустился на озеро, и мы некоторое время шли сквозь пепельное облако.
Пассажиры спустились на нижнюю палубу, где для них были приготовлены горячие напитки; несколько человек уснули и теперь громко похрапывали прямо на ступеньках трапа. Мы остались одни на палубе.
— Когда вы пьяны, я вас боюсь, — прошипела Эллен.
— Я видел вас, — пробормотал я, и ревность сжала мне сердце.
Но в ярость пришла она; я никогда не думал, что ее восхитительные губки могут выплевывать такие ядовитые фразы.
Ее пальцы с блестящими, словно небольшие лезвия, ногтями уже мелькали перед моим лицом, вблизи от моих глаз.
В этот момент я поднял руку, и этот жест оказался роковым.
Мы стояли перед выходом на наружный трап; предохранительная цепочка не была натянута.
Она отступила; на ее лице распахнулись огромные глаза, такие детские, такие испуганные — она словно хотела произнести молитву, попросить прощения; в последний момент она попыталась найти опору позади себя…
Черная вода приняла ее без всплеска, без крика. Она уходила под воду, почти не касаясь ее, словно хорошо смазанный предмет.
— Женщина за бортом! — заорал я.
Рулевой машинально повернул руль, рухнул головой на чашку, лопнувшую, словно электрическая лампочка, и пробормотал:
— Кто-то за бортом… Где-то за бортом…
В салоне все храпели, устроившись в самых нелепых позах.
Две женщины были почти полностью раздеты; в волосах одной из них дымилась сигарета, распространяя отвратительный едкий запах жженых волос.
— Человек за бортом! — прокричал я в машинное отделение.
Лицо с воспаленными глазами глянуло на меня сквозь решетку.
— Ты пьян, приятель, — пробормотал чей-то голос.
Я снова кинулся в салон.
— Помогите! Женщина упала в воду…
Ко мне, наконец, подошел кельнер.
— Не стоит так кричать, господин, вот ваш напиток. — И он протянул мне бокал с отвратительной розовой пеной.
— Не стоит поднимать шум, я же сказал, что вы никогда не сможете потерять ее! Неужели вы мне не доверяете?
Я увидел рядом с собой Мефистофеля.
Это была все та же маска с острова, но теперь она стала удивительно реальной. От нее исходило ощущение подлинного ужаса.
Внезапно мне показалось, что этот человек был загримирован, и что теперь он постепенно избавлялся от грима.
На его лице появилась не гримаса, искажающая черты, а какие-то жуткие стигматы.
Он поднял на меня желтые глаза, полные мрачной злобы, а потом, уронив стул на спящего, попятился к лестнице.
— Договор подписан, так что волноваться вам ни к чему.
Уродливая рука помахала в воздухе пергаментом, словно прощальным платком.
Над озером разгоралась утренняя заря.
Посыпался частый дождик.
Пароход причалил к мокрому пирсу, официантка в ярко-зеленом плаще мелькала в толпе с подносом, заставленном рюмками со шнапсом.
Отдаленные глухие раскаты грома помогали проснуться городу.
* * *
Я не стал возвращаться на Мендельсонштрассе. Я принялся скитаться.
Трижды я посетил морг, присматриваясь к спящим за стеклом мертвецам.
Эллен среди них не было. Озеро Мюгель не захотело отдать ее тело.
Также три раза я побывал на Анхальтском вокзале, собираясь уехать, и каждый раз я тяжелыми шагами возвращался в сердце Берлина.
Я обнаружил странные улицы с высокими зданиями, из которых, как мне казалось, всматривались вдаль мертвенно-бледные лица.
Другие здания выстраивались в шеренги в гнилой сырости бесконечных пустых улиц, на которых то тут, то там шевелились редкие тени.
Однажды среди гигантских ангаров, своды которых закруглялись на большой высоте над обширными площадями, заполненными тенями, я увидел маленького человечка, скорчившегося на небольшом свертке. Подойдя ближе, я увидел, что он был задушен куском ткани, торчавшем у него изо рта и создававшем впечатление бесконечно клубившегося перед ним облака бурого дыма.
Этот убитый или самоубийца, окруженный одиночеством, показался мне квинтэссенцией ужаса, афоризмом мерзости.
Я тогда сформулировал этот глупый афоризм, впрочем, не имевший никакого смысла, как и вся моя жизнь: «Берлин — это смерть».
Эта фраза — «Берлин — это смерть», — укоренились в моем мозгу: и я с трудом удержался, чтобы не произнести ее официантке, которой заказал картофельный салат с ливерной колбасой.
Чтобы перекусить и выпить, я уединялся в глубине тупиков, истерзавших стены. В них нужно было пробираться наощупь. Чешуя кирпичей при этом касалась сразу обоих моих плеч. Я узнал, как пахнут горячая глазурь в мастерских горшечников и кровь в небольших подпольных бойнях, где изготовляли слишком розовые «деликатесы» и подавали густое красное вино.
Да, немало пришлось мне перепробовать берлинского гуляша с запахом расположенного рядом газового счетчика!
Запах красного вина, которое в сочетании с морским бризом можно пить большими глотками, как ликер, охлажденный льдом, кажется отвратительным в казематах большого города. Он сгущает его атмосферу, он кажется густым, словно кровь мертвеца. Тем не менее, он походит на свежий сок деревьев, погибших тысячу тысячелетий тому назад…
Но он уместен вблизи от моря, где придает пряность воздуху; словно щепотка соли в соусе, он делает его более привлекательным, более приятным. Он кажется вам тошнотворным, подобно тому как в далеких от моря городах запах асфальта кажется ужасным.
* * *
Волна холодного воздуха нахлынула с Балтики. Вы знакомы с резкими похолоданиями в Берлине, которые внезапно поражают город теплым солнечным днем?
Похолодание обычно продолжается час, два или три, очень редко — целый день. Короче говоря, время, достаточное для того, чтобы заполнить больницы пациентами со скоротечной чахоткой. Очень странным кажется то, что несколько льдин, принесенных ветром с Ботнического залива, способны, после того, как потопят одну-две баржи с Аландских островов, довести до смерти от кашля лодочников с озера Мюгель, превратив этих бравых парней в болезненных призраков, выкашливающих свои легкие.
В пыльном парке, где с неба сыпались мелкие снежинки, мы занимали скамейку с чугунными головами геральдических драконов. Мы — это я и польская студентка.
Она листала тетрадь с конспектами.
Холод был таким свирепым, что она скорчилась под своим бежевым плащиком, словно наказанное животное.
Вспыхнувшие за кустами бересклета яркие фонари зала Цилерт подали нам сигнал, словно огни спасительной гавани.
— Пойдемте, выпьем горячего кофе, — сказал я, и она послушно последовала за мной с видом благодарного зверька. В заведении поспешно набивали сухими дровами и кусками угля две больших печки со слюдяными окошками; фиолетовые огоньки уже перебегали по поленьям, политым небольшим количеством керосина.
В зал входили все новые и новые посетителя, которых загнало сюда дыхание севера; они шумно рассаживались за столиками, стараясь оказаться как можно ближе к источникам тепла.
Из пианино полились звуки арпеджио; запели струны, высокие ноты зазвучали за кулисами небольшой сцены, увешанной батиком.
Горячий кофе, жгучий пунш, желтые и розовые бутерброды заполнили столы с керамическими столешницами.
Моя спутница выпила дымящийся кофе, не глядя проглотила несколько кусков ярко-красного лосося, очистила пару тарелок от креветок и салатов, залитых густым соусом, после чего снова открыла свою тетрадь с конспектами и углубилась в созерцание алгебраических символов.
За кулисами кантилена сменила тирольскую мелодию; среди рыдающих звуков скрипки я уловил обрывки нескольких фраз:
— Лунный свет… озеро… суровые волны… пароход…
Эти слова безжалостно терзали мое сердце.
Студентка сконцентрировала светящуюся энергию своего бледного взгляда на последовательности интегралов; при этом она рассеянно поглощала сандвич с яйцом, так как ее мысли были захвачены фантасмагорической мощью чисел.
— Mondschein — im Kuhlen Grab[93]… — рыдала певица.
Когда вновь появившиеся посетители распахнули дверь, в зал ворвался шум дождя.
Холод заканчивался небольшим наводнением.
Я увидел черную воду, на которой дрожали бледные огни… «Лунный свет… Могила…» — донеслось из-за кулис.
Испарения, поднимавшиеся над сырой одеждой, собирались в туманную пелену на середине высоты помещения, останавливаемые собравшимся у потолка горячим воздухом. В этой атмосфере над барьером тумана уже смутно вырисовывались лица, всматривавшиеся вдаль.
Бледные лица на улице с высокими зданиями как будто ожидали какое-то невероятное событие; но, вместо того, чтобы уставиться в тупик, они смотрели на призрачный бушприт, нацеленный в неизвестное.
Внезапно на мое плечо опустилась тяжелая рука.
Я заметил, что это была достаточно ухоженная рука, немного более полная, чем нужно, с грубым обручальным кольцом, явно сработанным в траншеях Аргонны[94]. Я отчаянно пытался найти взглядом свою соседку. Она продолжала судорожно записывать мантиссы логарифмов на полях рисунков своего черновика.
Рука принадлежала Хайнриху Бору, мужу Эллен.
— Ах, негодник, — раздался голос, — я так и знал, что здесь замешана женщина. Пропасть на полтора месяца, забыть всех своих друзей! Я уже начал думать, не случилось ли чего, но Эллен сказала мне…
— Эллен!.. Эллен?.. — воскликнул я.
— Ну, да, Эллен, моя жена, она не разыгрывает недотрогу, хотя и ведет себя несколько сдержанно; она сказала мне, что такое исчезновение мужчины может быть связано только с женщиной, и у меня нет оснований беспокоиться.
— Ох, — пробормотал я, — значит, Эллен…
— Надеюсь, вы не станете сердиться на мою жену из-за этого? Это так естественно для женщины, и я…
Он сидел рядом со мной, смеющийся, счастливый, с интересом поглядывая на польскую студентку, продолжавшую выписывать вереницы цифр в своей тетради. И, поскольку кельнер немного задержался с его заказом, он, не дождавшись, опрокинул на радостях мой стакан.
* * *
Все это кажется мне сплошным безумием.
Хайнрих рвался отпраздновать встречу с пропавшим другом, а поэтому заказал Hochheimer[95], горячие сосиски и копченую гусиную грудку кусочками.
Почувствовав ароматы пряного мяса, студентка отложила на несколько минут свою тетрадь. Хайнрих не удержался, чтобы не заговорить о нашей любви и довольно грубо пошутил о небольших твердых грудках, хорошо заметных под плащом полячки.
Она восприняла оскорбительный комплимент с болезненной гримасой, которую Бор не заметил, и которая в других обстоятельствах заставила бы меня ударить его. Но я думал только об этом чуде: Эллен была жива, она вышла живой из мрачных вод озера Мюгель. Она ждала меня. Я вернусь к золотым утрам на Мендельсонштрассе, фантастическим завтракам и удивительно гибкому телу Эллен.
— А пока — до встречи! Я должен предупредить Эллен о вашем возвращении, — вскричал Хайнрих, отмечая расставание мощными ударами своей лапы по моему плечу.
Стало жарко, невероятно жарко. Волна холода пронеслась над Берлином и теперь обрушилась на далекие виллы горного района, где медленно умирала, все еще сохраняя признаки своего морского происхождения.
Люди возвращались на улицу, заполненную янтарными сумерками, и на столиках на террасах снова начало появляться пиво.
— Мадемуазель, — обратился я к студентке. — Вы должны простить мне то, что случилось этим вечером; дело в том, что я стал счастливым человеком. Вы должны простить мне это. — И я протянул ей банкноту.
У нее по лицу снова промелькнуло неприятная болезненная гримаса, но в глазах сохранялась теплота.
Она вложила деньги между страницами своей драгоценной математической тетради и исчезла, попрощавшись со мной с серьезным видом на дорожках парка, в листве которого каждая капелька дождя содержала в себе маленькую искру заходящего солнца, напоминая этим слезы гигантского пивного источника.
Я так и не услышал звучание ее голоса, если говорить, как принято среди добрых людей и как пишут в добрых старых книгах.
* * *
Когда Фрида, бонна, открыла передо мной дверь в столовую, я увидел — сразу же и первой — Эллен. Она с серьезным видом наливала великолепному Хайнриху жирный суп с макаронами, используя классические движения официанта.
— Это он! Это он! Он вернулся, этот призрак! — пропел Хайнрих на мотив какой-то песенки.
Эллен указала мне на стул рядом с собой и наполнила тарелку золотистым супом.
Ничего не изменилось.
Мы говорили не о исчезновениях, не о женщинах, а об акциях Люфтганзы и о блестящей афере с синтетической шерстью, партию которой заказали англичане, и к фирме-производителю которой имел серьезное отношение Хайнрих.
Макароны с приличной долей перца, сопровождаемые большим количеством вина и весьма сносным немецким шампанским, быстро разогрели мне кровь, пробудив во мне страстное желание быстрее пережить ночь и проснуться, когда через приоткрытую дверь ко мне скользнет пеньюар с болгарской вышивкой и появится посеребренная солнцем селедка.
* * *
С момента моего пробуждения в темноте я ожидал, когда вокруг меня проснутся все остальные.
Электрические шары на улице погасли с первыми лучами зари, кисть которой коснулась фасадов. Фрида, громко зевая, гремела на кухне посудой. Дружелюбный аромат кофе долетел до меня симпатичной волной. Широкая ладонь Хайнриха звонким шлепком встретилась с обнаженной рукой Фриды. После этого наступила тишина и в ее сумрачных волнах я угадывал торопливые ласки, финал которых был отмечен веселым уходом удовлетворенного мужчины.
Эллен! Я ждал Эллен!
Она дала знать о себе отдаленным журчанием воды в ванной комнате и весенним ароматом ее любимых духов.
Потом я услышал, как она мурлычет американскую песенку, в которой звучит ностальгия по прерии и ее бесконечным горизонтам.
А вот и она! Дверь в мою спальню бесшумно отворилась, и на постель опустился поднос с легким позвякиванием тонкого фарфора.
— Эллен, — пробормотал я, — скажи мне, скажи скорее, что было с тобой? Как ты смогла спастись из черных вод озера?
Она посмотрела на светлое окно, и на его фоне я различал только тонкий темный силуэт.
— Небо… — начал я очередную фразу.
Ее плечи затряслись в беззвучном смехе.
— Ты смеешься, — недовольно буркнул я, — но я с каждым часом переживал очередную смерть…
Теперь я услышал ее смех, странный, наполненный непонятной мне болью, оцарапавшей мое сердце.
— Эллен! — воскликнул я с тревогой.
Ее силуэт медленно повернулся, словно она находилась на поворачивающемся под ней круге, начавшем свое тяжелое механическое вращение. У меня возникло ощущение какой-то неизбежной катастрофы, необходимости немедленного бегства, хотя при этом сохранялось понимание, что за открывшейся передо мной дверью находится какая-то жуткая тайна.
Все произошло совершенно неожиданно.
Я увидел лицо Эллен. Я успел увидеть и непонятную улыбку на лице с закрытыми глазами; потом она приблизилась к постели, склонилась надо мной и открыла глаза.
Боже! О, властелин мира вещей! Куда исчезли серые глаза Эллен? Ее веки открыли жуткие ночные зрачки с вспышками фосфорного огня.
Маска!.. Глаза мужчины в маске мрака…
Попятившись, она приблизилась к двери — так двигалось безымянное существо в салоне парохода — его взгляд проклятого обжигал мне лицо.
В заполненной сумерками прихожей ее силуэт превратился в нечто чудовищное — я видел это той страшной ночью на пароходе…
— Вы не можете потерять меня! Наш договор подписан!
Я услышал шуршание сминаемого пергамента.
* * *
Я не покинул Берлин.
Я продолжал что-то искать в нем, не представляя, что именно я ищу. Несколько раз я возвращался на Мендельсонштрассе, пытаясь убедить себя, что тот утренний час относился к числу ночных кошмаров.
Но, каждый раз, перед тем, как оставить тротуар на противоположной стороне улицы, я поднимал взгляд на окно апартаментов Эллен. И сразу же на окне быстро сдвигалась штора и меня начинали буравить жуткие двойные светлячки.
Однажды вечером на Фрёбельштрассе, одной из беднейших улиц мира, когда я проходил мимо очереди бедолаг, ожидавших убежища на ночь в городском приюте, я неожиданно расхохотался.
— Получается, — громко произнес я, — получается, что Хайнрих Бор спит с… Ха-ха-ха!
Господи, ну как не посмеяться над этим!
Несчастные, ждущие, словно праздничной ночи, возможности провести несколько часов в клоаке городского приюта, люди, которым довелось услышать стоны всех мучений, хрипы всех самых свирепых агоний, смех всех безумцев, обернулись в мою сторону, и мой смех показался им таким ужасным, что женщины забились в истерике, а один из мужчин выбежал из очереди и ударил меня по лицу.
* * *
Я продолжаю поиски.
Я вернулся в Париж.
Шпинелли…
Эллен…
В моей душе разбилось их подобие.
Перед баром «Эльдорадо» и кафе «Намюр» мое такси застряло в автомобильной пробке.
Я выскочил из машины. Преодолев вопящий барьер, я нашел другую машину.
Перрон, скорый поезд Париж — Берлин — Варшава.
— Вы не забронировали место?
— Я готов ехать в коридоре или на угле в тендере. Несколько часов в саже и копоти под сильным дождем, несколько часов без жизни.
Наконец, я услышал немецкую речь…
Берлин.
И что теперь?
* * *
Я уже говорил, что я ищу. В пустынном сквере, где меня однажды застала волна холода, в день настоящего счастья я смотрю, как высокие трубы взбивают в небе ночные перины для призрачных страстей.
* * *
Мария Лавренска, ставшая моей спутницей по жизни благодаря одному часу в теплом помещении, утоленному голоду и братскому сочувствию, скажи мне, что все случившееся — это кошмар, и с помощью своих цифр докажи, что все это дым, довольно жуткий, но проходящий.
Позволь мне найти в твоих глазах отблеск мудрости, оставленной там интегралами и громадными уравнениями; пусть плод твоих занятий выльется для меня в свежий бриз, который облегчит лихорадку моей души, изуродованной страхом.
Ты знаешь, Мария, твои конспекты лучше действуют на призраков и демонов, чем самый сильный экзорцизм, применяемый монахами и святыми заброшенных обителей.
— Дух тьмы, говоришь ты…
— Ах, твой восхитительный голос, который мне не довелось услышать в этот ледяной вечер, но который с тех пор звучит в моей душе вечной музыкой.
— Дух тьмы и легенда о проклятии, и этого нельзя не знать…
— Но, — говорю я, — я видел ее глаза… Я заглянул в великую ночь иного мира.
— Ты видел, — ответишь ты мне, Мария Лавренска, — что звезды, эти удивительные миры, находятся в миллионах лье от той мрачной орбиты, на которой, как тебе показалось, они светили. Ты видел — и человеческому разуму и трактату по относительной математике оказалось достаточно, чтобы пошатнуть основы знания, добытого за тридцать веков эмпиризма, открытий и опытов, и потрясти эвклидов гранит.
Я поднимаю взгляд к небу твоих глаз, единственному небу, на котором мне все еще позволено надеяться отыскать спасение за время, отделяющее меня от бездны.
Майнцский псалтырь (Le psautier de Mayence)
Последние слова людей, собирающихся свести счеты с жизнью, обычно не отличаются большим красноречием. В стремлении рассказать как можно больше о своей жизни, они подвергают свой монолог строжайшему редактированию…
Так вот, в рубке рыболовецкого суденышка «Северный капер» умирал Баллистер.
Напрасно окружающие пытались преградить путь уходившей из тела жизни. У Баллистера не было лихорадки, его речь текла быстро и гладко. Казалось, что он не замечает ни белья в красных пятнах, ни кюветы с окровавленными бинтами; его взгляд оставался устремленным на далекие опасные видения. Рейнес, радиотелеграфист, вел записи.
Все знают, что он использует любую свободную минуту, чтобы строчить рассказы или эссе для эфемерных литературных журналов; стоит какому-нибудь из них вылупиться на свет в одном из офисов на Патерностер Роу, как, можете не сомневаться, среди фамилий его сотрудников вы обязательно встретите имя Арчибальда Рейнеса.
Поэтому, не удивляйтесь несколько своеобразному стилю изложения финального монолога смертельно раненного моряка. Вся вина за это должна быть возложена только на Рейнеса, никому не известного литератора-неудачника, — именно он записал последние слова Баллистера. Но я торжественно подтверждаю, что содержащиеся в записанной истории факты полностью соответствуют тому, что было рассказано умирающим в присутствии четырех членов экипажа «Северного капера» — капитана Бенжамина Кормона, вашего покорного слуги, помощника капитана и главного рыболовного мастера Джона Коперланда, механика Эфраима Рози и уже упомянутого выше Арчибальда Рейнеса.
Вот что рассказал Баллистер
— Я встретил школьного учителя в таверне «Веселое сердце»; здесь мы обговорили дело и здесь он передал мне свои инструкции.
«Веселое сердце» — это скорее кабачок лодочников, чем таверна настоящих моряков. Его убогий фасад отражается в стоячей воде последнего тупика ливерпульских доков, где причаливают шаланды каботажного плавания.
Я внимательно рассмотрел хорошо вычерченный план небольшой шхуны.
— Это почти яхта, — сказал я, — которая в состоянии идти чуть ли не против ветра, а ее корма, имеющая достаточную ширину, позволяет успешно маневрировать при встречном ветре.
— На шхуне также установлен дополнительный двигатель.
Я презрительно поморщился, так как всегда предпочитал из спортивного интереса и любви к морю ходить исключительно под парусами.
— Верфи «Хэллетт и Хэллетт», Глазго. Год постройки — 1909, — задумчиво пробормотал я. — Великолепный такелаж. С экипажем в шесть человек и со своими шестьюдесятью тоннами водоизмещения шхуна будет держаться на курсе устойчивей, чем любой пакетбот.
На физиономии школьного учителя отразилось удовольствие, и он тут же заказал несколько порций отборного питья.
— Но почему, — добавил я, — вы не оставили шхуне ее прежнее название — «Веселый попугай» звучало совсем неплохо. Это красивое название. Мне всегда нравились попугаи — это птички, что надо.
— Ну, это потому, — неуверенно произнес он, — что тут замешаны дела… скажем, сердечные; если хотите, это просто выражение глубокой признательности.
— Значит, судно называется «Майнцский Псалтырь». Что же, весьма оригинально, хотя и несколько странно, по правде говоря.
Алкоголь сделал его язык несколько более развязанным.
— Дело совсем в другом, — сказал он. — В прошлом году скончался мой дядюшка, оставивший мне в наследство сундук, набитый старыми книгами…
— Тьфу!
— Подождите! Перебирая их без особого энтузиазма, я обратил внимание на один том — это была инкунабула!
— Что-что?
— Так называют, — с видом некоторого превосходства заявил учитель, — книги, относящиеся к первым годам книгопечатания; и каково же было мое изумление, когда я, как мне показалось, узнал почти геральдический знак Фуста и Шеффера!
Я не сомневаюсь, что эти имена ничего не говорят вам; это ближайшие помощники самого Гутенберга, изобретателя книгопечатания. Книга же оказалась редчайшим, великолепно сохранившимся экземпляром легендарного «Майнцского Псалтыря», напечатанного в конце XV века.
Я изобразил вежливое внимание и даже, не знаю, правда, насколько мне это удалось, фальшивое понимание.
— Вас, Баллистер, наверное, больше впечатлит, — продолжал он, — если я скажу, что эта книга стоит целое состояние.
— Вот как! — бросил я, внезапно заинтересовавшись.
— Да, книга стоит солидную пачку фунтов стерлингов, достаточную для того, чтобы приобрести бывшего «Веселого попугая» и платить жалованье экипажу из шести человек во время путешествия, которое я собираюсь предпринять. Теперь вы понимаете, почему я хочу дать нашему маленькому кораблику это имя, имеющее так мало отношения к морю?
Я сообщил ему, что прекрасно понял его мотивы, отметив попутно величие его души.
— И все же, — сказал я, — было бы более логичным дать кораблю имя вашего дорогого дядюшки, осчастливившего вас наследством.
Учитель рассмеялся неприятным смехом, и я замолчал, сбитый с толку таким некрасивым поведением воспитанного человека.
— Вы должны выйти из Глазго, когда я скажу, — сухо произнес он, — а затем пройти через Северный Минх к мысу Рэт.
— Опасные места, — бросил я.
— Я выбрал вас, Баллистер, именно потому, что вы знаете эти места.
Сказать моряку, что он знает этот жуткий водный коридор, каковым является пролив Минх, значит, произнести для него высочайшую похвалу, какую только может представить человек, связанный с морем. Мое сердце дрогнуло от горделивой радости.
— Да, — кивнул я, — это так. Я как-то чуть не потерял свою шкуру между Шикеном и Тьюмпен Хэдом.
— К югу от Рэта, — продолжал он, — есть небольшая, хорошо защищенная бухта, которая знакома лишь немногим рыцарям удачи, называющим ее Биг-Той. Замечу, что этой бухты нет ни на одной карте.
Я бросил на него взгляд, одновременно изумленный и восхищенный.
— Вы знаете даже это? — воскликнул я. — Черт побери! Такая осведомленность обеспечила бы вам с гарантией уважение людей с таможни, и, может быть, удар ножом, нанесенный каким-нибудь темным типом с побережья.
Учитель беззаботно отмахнулся.
— Я поднимусь на борт именно в Биг-Тое.
— И оттуда?
Он показал точно на запад.
— Гм, — проворчал я. — Плохие места, настоящая пустыня, усеянная скалами. Вряд ли мы увидим много пароходных дымов на горизонте.
— Именно это я имею в виду, — ответил он.
Я подмигнул, решив, что все понял.
— Ваши дела меня не касаются, — заявил я. — По крайней мере, до тех пор, пока вы будете платить, как мы договоримся.
— Думаю, что вы ошибаетесь в том, что касается моих намерений. Баллистер, мои дела имеют характер… скажем, скорее научный; я отнюдь не хотел бы, чтобы мое открытие украл какой-нибудь завистник. Впрочем, это не имеет значения, я плачу, как и сказал, достаточно щедро.
Несколько минут мы молча расправлялись с содержимым наших стаканов.
Я чувствовал себя достаточно уязвленным; мое достоинство моряка было задето тем, что я был вынужден признать: в захудалом баре пресноводных шлепунов, каким был, несомненно, бар «Веселое сердце», подавали весьма сносные напитки.
Затем, когда мы принялись обсуждать состав экипажа, наш разговор принял какое-то странное направление.
— Я не моряк, — резко заявил он. — Поэтому не рассчитывайте на мою помощь при навигации. Но я буду определять наше положение — я ведь школьный учитель.
— Я отношусь с большим уважением к науке, — сказал я, — да и сам имею к ней некоторое отношение. Значит, вы школьный учитель? Прекрасно, прекрасно…
— Да, я преподаю в Йоркшире.
Я добродушно улыбнулся.
— Вы мне напомнили о Сквирзе, — сказал я. — Он был учителем в школе Грета-Бридж, в Йоркшире. Это из «Николаса Никльби».
Но вы ничуть не похожи на этого неприятного типа. Постойте, постойте… Дайте-ка мне подумать минутку…
Я долго и внимательно рассматривал его небольшую костистую голову с упрямым подбородком, с красивыми прямыми волосами, обезьяньими глазками разного цвета, его скромную аккуратную одежду.
— Догадался! — наконец, воскликнул я. — Хедстон из «Общего друга»!
— К черту, — рассерженно бросил он, — я пришел сюда совсем не для того, чтобы выслушивать неприятные высказывания в мой адрес. Оставьте при себе свои литературные воспоминания, господин Баллистер; мне нужен моряк, а не знаток штампов из романов. Что касается книг, то, как мне кажется, я неплохо разбираюсь в них без посторонней помощи.
— Простите, — возразил я, сильно задетый, потому что обычно моя начитанность безотказно обеспечивала мне общее уважение в той среде, в которой протекала моя жизнь. — Я не такой уж невежда, и вы — не единственный человек с образованием; у меня есть диплом капитана каботажного плавания.
— Великолепно! — бросил он с таким видом, словно издевался надо мной.
— Если бы не эта дурацкая история с пропажей тросов, в которой я был почти что ни при чем, я бы не находился сейчас здесь, обсуждая вопросы оплаты своей работы с хозяином грязной калоши в шестьдесят тонн!
Он смягчился.
— Я не хотел вас задеть, — вежливо сообщил он. — Капитан каботажного плавания — это очень ответственная должность.
— Еще бы! Математика, география, гидрография побережья, элементы небесной механики! Я не могу удержаться, чтобы не повторить применительно к моему случаю фразу Диккенса: «Все… в Баллистере!»
На этот раз он жизнерадостно рассмеялся.
— Я недостаточно высоко оценил вас, Баллистер. Хотите еще виски?
Признаюсь, виски — это мое слабое место. В свою очередь, я тоже улыбнулся. На столе появилась еще одна бутылка, и воспоминания о нашей ссоре рассеялись, словно табачный дым.
— Вернемся к составу команды, — сказал я. — Смотрите, у меня есть на примете Тюрнип. Очень забавное имя, согласен, но его носит отличный парень и прекрасный моряк. В его сравнительно недавнем прошлом есть… Гм, скажем, довольно темная история с налогами… Вы не считаете, что это может помешать?..
— Ни за что на свете.
— Что ж, отлично. Вы сможете нанять его за весьма умеренную плату, особенно, если погрузите на борт как можно больше рома. О! Самого дешевого рома! Он не обращает внимания на качество, лишь бы его любимая жидкость имелась в достаточном количестве. Еще у меня есть фламандец Стивенс. Он большой молчун, но способен разорвать причальную цепь с такой же легкостью, с которой вы можете перекусить мундштук голландской трубки.
— Тоже какая-нибудь темная история с налогами? Не так ли?
— Такого понятия в его стране нет, но не исключено, что с ним было нечто подобное.
— Ладно, сойдет. Как там его?
— Стивенс.
— Стивенс… Сколько он потребует?
— Немного. Он постарается компенсировать невысокое жалованье тем, что приналяжет на солонину и бисквиты. И еще, на обычный джин, если вы запасетесь им наряду с прочим провиантом.
— Хоть целую тонну, если будет нужно.
— Тогда он будет вашим рабом. Еще я могу предложить вам Уолкера, но бедняга жутко уродлив!
— Вы большой шутник, Баллистер!
— Это не шутка. Дело в том, что у него на физиономии недостает половины носа и части подбородка, а также нет одного уха, а поэтому любой, кто не имеет привычки регулярно посещать музей ужасов мадам Тюссо, вряд ли будет испытывать удовольствие от созерцания этой особы. Весьма существенно, что эту операцию над ним провели — дьявольски небрежно — куда-то немного торопившиеся итальянские матросы.
— Кто еще, мой дорогой друг?
— Еще два отличных парня: Желлевин и Фриар Тукк.
— Боже, Вальтер Скотт после Диккенса!
— Я не стал бы так говорить, но раз уж вы обратили внимание… Итак, Фриар Тукк. Я знаю его только под этим именем. Он немного разбирается в поварском деле — своего рода морской мэтр Жак.
— Очаровательно, — протянул школьный учитель. — Господин Баллистер, я могу только поздравить себя с такой удачей: мне здорово повезло, что я встретил такого интеллигентного и образованного человека, как вы.
— Так вот, Желлевин и Фриар Тукк никогда не расстаются; кто видит одного из них, тот видит и другого. Кто нанимает на работу одного, одновременно нанимает и другого: это два взаимно дополняющих друг друга существа.
Я наклонился к собеседнику, словно собираясь сообщить ему нечто конфиденциальное.
— Это довольно загадочные личности; говорят, что в жилах у Желлевина течет королевская кровь и что Фриар Тукк — его преданный слуга, делящий невзгоды со своим господином.
— Не сомневаюсь, что плата этим двоим будет хорошим добавлением к их тайне!
— Вот именно. Есть надежда, что лишенный законных прав принц в свое время не напрасно крутил баранку своего автомобиля; поэтому, он просто создан для того, чтобы заниматься обслуживанием вашего вспомогательного двигателя.
В этот момент произошла небольшая интермедия, имеющая весьма отдаленное отношение к событиям, излагаемым в настоящем повествовании, но которую я до сих пор вспоминаю с неприятным ощущением.
Какой-то бедолага ввалился в бар, словно его подтолкнул сзади порыв ночного ветра. Это был тощий, промокший до нитки под дождем типичный забулдыга, промытый и обесцвеченный всеми несчастьями морей и портов, настоящий шут гороховый. Он заказал стакан джина и с наслаждением поднес его ко рту дрожащей рукой. Внезапно раздался звон бьющегося стекла, и я увидел, что бродяга, застыв с поднятой кверху рукой, уставился на моего собеседника с выражением неописуемого ужаса на лице. Через мгновение он одним прыжком вылетел в свирепствующую снаружи непогоду, оставив на прилавке монету в полкроны, с которой ему не успели дать сдачу. Я не думаю, что школьный учитель обратил внимание на это незначительное происшествие — по крайней мере, он не показал этого. Но хотел бы я знать, какая причина заставила этого беднейшего из бедных разлить джин, расстаться с деньгами и выскочить на пронизывающий холод, в то время как в баре царили тепло и уют?
* * *
В эти первые дни удивительно теплой весны пролив Северный Минх открылся перед нами, готовый к братским объятиям.
Правда, местами все же бушевали отдельные, почти незаметные для неопытного глаза, но весьма свирепые подводные течения, которые можно было определить по их зеленой спине, извивавшейся, словно разрубленная на куски змея.
Необычный юго-восточный бриз, который встречается только в этих местах, донес до нас с расстояния в добрых две сотни миль аромат первых цветов, ранних ирландских лилий; заодно он помог нашему вспомогательному двигателю быстрее толкать судно по направлению к Биг-Тою.
И вот тут-то все изменилось коренным образом.
Смерчи то и дело разрывали водную гладь, свистя при этом, словно паровые сирены. Мы с большим трудом уворачивались от них. Огромный массив водорослей, принесенный сюда из глубин Атлантики, зеленый, словно пласт мха, вынырнул почти перед ватер-бакштагом нашего бушприта и разбился, словно мрачное солнце гнили, о каменный утес.
Раз двадцать нам казалось, что вот-вот мы увидим, как «Майнцский Псалтырь» теряет мачту, снесенную словно одним ударом гигантской бритвы, К счастью, это был удивительный корабль; он нес трисель с элегантностью настоящего джентльмена океана. Установившееся на несколько часов затишье позволило нам запустить на всю мощность вспомогательный двигатель и преодолеть с его помощью узкий проход в Биг-Той как раз в тот момент, когда прилив в новом приступе бешенства кинулся вслед за нами в облаках зеленой водяной пыли, поднятой порывами ветра, резкими, словно удары бича.
— Мы находимся в не слишком дружелюбных водах, — сказал я своим парням. — Если типы с побережья увидят нас здесь, нам придется давать объяснения, а если они попытаются прогнать нас прежде, чем поймут, то мы будем вынуждены прибегнуть к оружию.
И действительно, ребята с побережья появились — и появились на свою беду. То, что случилось с ними, показалось нам столь же волнующим, сколь и непонятным.
* * *
Восемь дней мы стояли на якоре в небольшой бухте, более спокойной, чем утиный пруд. Жизнь казалась нам легкой и приятной. Наша шхуна была обеспечена продовольствием и напитками не хуже, чем какая-нибудь роскошная яхта.
В двенадцати гребках от судна, если перебираться на берег вплавь, или в семи ударах весел ялика находился миниатюрный пляж из красного песка, на который со скал стекал небольшой ручеек пресной воды, ледяной, как настоящий «Швеппс».
Тюрнип ловил на удочку мелкого палтуса; Стивенс то и дело уходил на берег, в дикие пустынные ланды; иногда, в соответствии с капризами ветра, мы слышали выстрелы его ружья, похожие на хлопки пастушьего кнута.
Он приносил куропаток, тетеревов, иногда даже зайца с нелепо большими лапами; чаще его добычей были небольшие вересковые кролики с ароматным мясом.
Школьный учитель не появлялся.
Это нас не беспокоило — плата за шесть недель была выдана нам авансом отличными банкнотами в один фунт и десять шиллингов, и Тюрнип утверждал, что он покинет стоянку только с последней каплей рома из нашего трюма.
Но однажды утром обстановка неожиданно изменилась в худшую сторону.
Стивенс только что наполнил бочонок свежей пресной водой из ручья под скалой и собирался вернуться на судно, как что-то с визгом пронеслось над его головой и в футе от его лица выступ скалы разлетелся в пыль. Стивенс, человек крайне флегматичный, не торопясь вошел в воду; оглядевшись, он заметил струйку голубоватого дыма, поднимавшуюся над расселиной на гребне скалы. Презрительно не обращая внимания на небольшие яростные всплески, вздымавшиеся вокруг него на поверхности воды, он спокойно добрался вплавь до шхуны. Поднявшись на борт, он вошел в кубрик, где просыпались остальные члены экипажа, и сообщил:
— Похоже, что в нас стреляют.
Два или три сухих щелчка о борт шхуны отметили, словно знаками препинания, окончание его фразы.
Я сорвал со стены мушкетон и поднялся на палубу.
Мне тут же пришлось инстинктивно отвесить поклон пуле, свирепо просвистевшей над головой; через мгновение пригоршня обломков дерева взлетела в воздух рядом со мной. Бронзовое кольцо гика зазвенело от удара кусочка свинца.
Я поднял ружье, направив его в сторону расселины в скале, на которую указал Стивенс и из которой к небу поднималось облачко дыма от старого черного пороха. Внезапно стрельба прекратилась и раздались вопли ужаса и крики о помощи.
Красный пляж под скалой зловеще дрогнул от глухого удара, и я пошатнулся от охватившего меня ужаса — на песке распласталось тело человека, рухнувшего с отвесной скалы с высоты трехсот футов. Его останки почти целиком погрузились в песок, но я все же смог разглядеть, что погибший был одет в костюм из грубо обработанной кожи, весьма популярный среди убийц кораблей из Рэта.
Не успел я отвести взгляд от жалкого неподвижного тела, как Стивенс тронул меня за плечо.
— А вот и еще один, — сказал он.
Странная бесформенная масса неслась с небесных высот к земле; это походило на беспорядочное падение огромной взъерошенной птицы, настигнутой свинцом на большой высоте. Побежденная своим весом и преданная воздухом, она рухнула вниз без каких-либо следов былого достоинства и великолепия.
Второй раз песок отозвался глухим хищным гулом. Физиономия висельника, оказавшаяся повернутой к солнцу, трепетала еще несколько мгновений, покрываясь большими розовыми пузырями. Стивенс медленно вытянул руку по направлению к гребню скалы.
— Еще один, — произнес он странно бесцветным голосом.
Дикие вопли неслись с вершины берегового уступа. Внезапно мы увидели, как на фоне неба появилась верхняя часть туловища человека, яростно отбивавшегося от противника, которого мы не видели. Потом несчастный в отчаянии взмахнул руками и взлетел в воздух, словно подброшенный катапультой. Через несколько мгновений его тело разбилось о землю рядом с двумя другими, но крик, казалось, некоторое время еще висел в воздухе, постепенно опускаясь к нам в медленном штопоре безнадежности.
Мы застыли в ужасе.
— Не имеет значения, что они охотились за нашими головами, — промолвил Желлевин. — Я все равно хотел бы отомстить за этих несчастных чертей! Не уступите ли вы мне свой мушкетон, господин Баллистер? Фриар Тукк, ко мне!
Бритый череп слуги Желлевина вынырнул из недр судна.
— Фриар Тукк вполне может заменить охотничьего пса, — объяснил Желлевин с некоторой долей снисходительности. — А если точнее, он стоит доброго десятка псов — он чувствует дичь с удивительно большого расстояния. Это настоящий феномен.
Он обратился к слуге:
— Что ты думаешь об этой дичи, старина?
Фриар Тукк полностью извлек на палубу свою приземистую фигуру и скорее скользнул, чем подошел, к планширу.
Его пронзительный взгляд остановился на расплющенных телах, отразив глубочайшее удивление; затем землистый оттенок покрыл его обычно такое розовое лицо.
— Фриар, — с нервным смешком обратился к нему Желлевин, — ты повидал немало трупов в своей жизни. Тем не менее ты бледнеешь, словно юная камеристка, увидевшая дохлую мышь.
— Ну уж нет, — глухо отозвался моряк, — дело совсем не в моих нервах… Там, наверху, находится нечто очень плохое. Там… Ваша Светлость, скорее! Стреляйте в расселину! — внезапно закричал он. — Туда, туда, скорее же!
Желлевин в ярости обернулся.
— Замолчи, Тукк! Я запретил тебе наклеивать на меня этот дурацкий ярлык!
Фриар ничего не ответил, а только молча покачал головой.
— Слишком поздно мы спохватились, это уже исчезло, — пробормотал он про себя.
— Что именно? — спросил я.
— Ну, то, что скрывалось в расселине, — прикинувшись простачком, ответил моряк.
— И что же это было?
Фриар Тукк бросил на меня взгляд исподлобья.
— Не знаю. И вообще, этого уже нет.
Я не стал расспрашивать его дальше. Меня отвлекли два пронзительных свистка, раздавшихся на скалах над нашими головами; затем чья-то тень замелькала на фоне узкой полоски неба, видневшейся в расселине. Желлевин снова поднял ружье, но я оттолкнул его.
— Осторожнее, какого дьявола!
По петлявшей по расселине незаметной снизу тропинке с вершины скалы на пляж спускался школьный учитель.
* * *
Я отвел школьному учителю удобную каюту на корме судна; для меня же пришлось переоборудовать смежный отсек, превратившийся в комфортабельную каюту с двумя койками.
С момента своего появления на борту судна школьный учитель заперся в свой каюте и занялся просмотром огромной груды книг; один-два раза в день он поднимался на палубу, требовал секстант и тщательно определял наше положение.
Мы двигались на северо-запад.
— Это курс на Исландию, — как-то сказал я Желлевину. Он внимательно посмотрел на морскую карту, потом нацарапал на бумаге показания компаса и еще какие-то цифры.
— Не совсем. Скорее, мы направляемся в Гренландию.
— Ба! — пожал я плечами. — Одно стоит другого.
С необычной для него беззаботностью он согласился со мной.
Мы покинули Биг-Той в прекрасный солнечный день, оставив за спиной горы Росса, греющие в лучах солнца свой бугристый хребет.
В первый же день мы повстречали судно с Гебридских островов с экипажем отвратительных плоскорожих типов — для жителей Гебрид почему-то характерно неприятно плоское лицо. Мы старательно окатили отборнейшей руганью этих уродов, не пожалев на это дело своих глоток.
К вечеру на горизонте вырисовался силуэт какого-то двухмачтового судна, шедшего под всеми парусами.
На следующий день поднялась большая волна; в середине дня мы увидели с триборда под ветром датский пароход, отчаянно боровшийся с волнением. Он был окутан таким густым облаком дыма из своей трубы, что мы даже не смогли разобрать его название.
Это было последнее судно, встреченное нами.
Правда, на заре третьего дня плавания мы увидели на юге два дыма; Уолкер сообщил нам, что это авизо британского флота. И это было все.
В тот же день до нас донеслись издалека звуки, издаваемые косаткой при дыхании. Эти низкие вибрации были последним проявлением жизни в водах вокруг нашего судна.
Вечером школьный учитель пригласил меня в свою каюту и предложил пропустить стаканчик-другой.
Сам он даже не пригубил спиртное; это был далеко не тот разговорчивый собутыльник, каким я помнил его по кабачку «Веселое сердце». Тем не менее он оставался умным собеседником и воспитанным человеком, потому что ни на минуту не оставлял мой стакан пустым. И все время, пока я опустошал один стакан за другим, он не отрывал взгляда от книжных страниц.
Я должен признаться, что у меня сохранились довольно смутные воспоминания об этих днях. Жизнь на борту текла крайне монотонно; тем не менее мне иногда казалось, что матросы чем-то озабочены. Возможно, это было связано с несколько неожиданным для всех нас незначительным происшествием, случившимся однажды вечером.
Мы все сразу, практически одновременно, испытали приступ сильнейшей рвоты. Тюрнип закричал, что нас отравили.
Я строго приказал замолчать.
Надо признать, что наше недомогание быстро прошло; резко сменившийся ветер заставил команду выполнить сложный маневр. За работой мы быстро забыли о своем плохом самочувствии.
Наступило утро восьмого дня плавания.
* * *
Я увидел вокруг себя озабоченные замкнутые лица.
Мне хорошо знакомо это выражение; на море оно не обещает ничего хорошего.
Эти лица отражали стадное чувство беспокойства и враждебности, объединяющее людей, сплавляющее их в одно целое, охваченное одним и тем же страхом или одной и той же ненавистью. Овладевшая людьми злобная сила определяет их поведение и всю обстановку на судне, отравляя атмосферу общения. Первым взял слово Желлевин.
— Господин Баллистер, — сказал он, — мы хотим поговорить с вами не как с капитаном, а как с другом, нашим старшим товарищем по бродячей морской жизни, каким вы стали для каждого из нас за прошедшие дни.
— Неплохо для начала, — бросил я, ухмыльнувшись.
— Мы обращаемся к вам таким образом только потому, что мы действительно считаем вас своим другом. Только поэтому мы и разводим тут эти церемонии, — проворчал Уолкер, и его жутко обезображенное лицо еще сильнее исказила отвратительная гримаса.
— Говорите! — коротко приказал я.
— Так вот, — продолжал Желлевин, — мы догадываемся, что вокруг нас происходит что-то плохое, и хуже всего то, что никто из нас не может понять, что именно.
Я мрачно огляделся и, внезапно приняв решение, протянул ему руку.
— Ты прав, Желлевин, я тоже, как и вы, ощущаю это.
Лица вокруг меня мгновенно прояснились; люди были рады найти союзника в лице своего начальника.
— Взгляните на море, господин Баллистер.
— Я видел все то, что видели вы, — ответил я, опустив голову.
Увы, уже в течение двух дней я видел… Я видел, что море приняло необычный облик; несмотря на два десятка лет, что я провел, занимаясь вождением судов, я не припомню, чтобы видел что-нибудь подобное на какой-нибудь из широт.
Странно окрашенные полосы змеились на поверхности моря; неожиданно налетавшие кипящие шквалы с шумом бороздили ее. Неведомые звуки, похожие на смех, то и дело срывались с гребня резко набежавшей волны, заставляя людей в испуге оборачиваться.
— Вот уже несколько дней ни одна птица не следует за нами, — пробормотал Фриар Тукк.
И это было чистой правдой.
— Вчера вечером, — медленно сказал он своим серьезным тоном, — небольшая стайка крыс, ютившихся в продовольственном отсеке, выбралась на палубу. Затем они разом, словно по команде, бросились в воду. Я никогда не видел ничего подобного.
— Никогда! — мрачным эхом откликнулись остальные моряки.
— Мне не однажды приходилось плавать в этих местах, — вмешался Уолкер, — и примерно в это же время. Море здесь должно быть темным от бесчисленных утиных стай. Большие стада дельфинов должны следовать за нами с утра до вечера. Может, вы видели их?
— Смотрели ли вы вчера вечером на небо, господин Баллистер, — шепотом обратился ко мне Желлевин.
— Нет, не смотрел, — ответил я, слегка покраснев. Еще бы, ведь я здорово нализался в молчаливой компании школьного учителя, так здорово, что даже не поднимался на палубу, побежденный сильнейшим опьянением, последствия которого до сих пор словно тисками сжимали мне виски в финальных приступах мигрени.
— Куда этот дьявол тащит нас? — спросил Тюрнип.
— Именно дьявол — вот это правильно сказано, — подтвердил обычно молчаливый Стивенс.
Каждый сказал свое слово.
Я принял внезапное решение.
— Послушайте меня, Желлевин, — обратился я к моряку. — Я командую здесь, это так. Но я не стыжусь признать перед всеми, что вы — самый умный из всех, кто находится на борту. И еще, я знаю, что вы — не совсем обычный моряк.
Желлевин удрученно улыбнулся.
— Ладно, не буду спорить с вами, — сказал он.
— Мне кажется, что вы знаете обо всем происходящем вокруг нас больше, чем все остальные вместе взятые.
— Нет, это не так, — честно признался он. — Но вот Фриар Тукк — это действительно создание… скажем, весьма своеобразное. Как я уже говорил вам, он способен предвидеть многое, хотя и не всегда может объяснить свои ощущения. Можно сказать, что у него на одно чувство больше, чем у обычного человека, и это чувство опасности. Говори же, Фриар!
— Я знаю очень немного, — ответил тот серьезным тоном. — Можно сказать, не знаю совсем ничего, если не считать ощущения того, что вокруг нас находится что-то нехорошее, что-то невероятно страшное, гораздо более страшное, чем сама смерть!
Мы в ужасе переглянулись.
— И к этому имеет какое-то отношение школьный учитель, — продолжал Фриар Тукк, казалось, с трудом подбиравший слова.
— Желлевин! — воскликнул я. — У меня на это не хватит мужества, так что придется вам сходить к нему и сказать все, что мы думаем о происходящем.
— Хорошо, — кивнул в ответ Желлевин.
Он повернулся и спустился вниз. Мы слышали, как он постучал в дверь каюты школьного учителя. Потом постучал еще, и еще. Затем распахнул дверь.
Прошло несколько томительно долгих минут мертвой тишины.
Когда Желлевин поднялся к нам на палубу, он был бледен, как стена.
— Его там нет, — сказал он. — Будем искать его на судне, хотя здесь нет укрытия, где человек может скрываться достаточно долго.
Мы обыскали судно. Затем, снова собравшись на палубе, боязливо переглянулись. Школьный учитель исчез.
* * *
С наступлением ночи Желлевин знаком вызвал меня на палубу и указал на верхушку мачты.
Мне показалось, что я рухнул на колени.
Над ревущим морем выгибало свой свод жуткое небо; на нем не было видно ни одного известного мне созвездия. Незнакомые небесные тела с совершенно необычным расположением слабо сияли в ужасающе мрачной межзвездной бездне.
— Иисусе! — пробормотал я заплетающимся языком. — Боже мой! Где мы?
Небо над нами заволокли тяжелые тучи.
— Так-то будет лучше, — спокойно сказал Желлевин. — Если наши спутники увидели бы это, они бы сошли с ума. Где мы, спрашиваете вы? Откуда я знаю? Пожалуй, стоит повернуть назад, господин Баллистер, хотя, по-моему, это уже бесполезно…
Я обхватил голову руками.
— Вот уже два дня, — прошептал я, — как стрелка компаса неподвижно застыла на месте.
— Я знаю это, — пожал плечами Желлевин.
— Но где мы? Куда нас занесло?
— Успокойтесь, господин Баллистер, — ответил моряк. В его голосе я уловил легкий оттенок иронии. — Не забывайте, что вы все же капитан. Я не знаю, где мы находимся, но могу высказать одну гипотезу — это ученое слова, которое прикрывает собой игру воображения, иногда слишком дерзкую.
— Какое это имеет сейчас значение, — ответил я. — Я предпочел бы услышать любую самую нелепую историю о колдунах, о чертях, о чем угодно, лишь бы только не это отравляющее дух «я не знаю».
— Хорошо, слушайте. Очевидно, мы попали в некий иной план существования Вселенной. Вы ведь знаете математику — это поможет вам понять меня. Вероятно, наш родной мир с тремя привычными измерениями потерян для нас окончательно. Этот новый мир я определил бы как мир энного измерения, что, разумеется, слишком неопределенно. Если бы мы силами какого-нибудь невероятного волшебника были перенесены на Марс, на Юпитер или даже на Альдебаран, то это не помешало бы нам увидеть в некоторых областях неба те же созвездия, которые мы видим с Земли.
— Но солнце? — неуверенно промямлил я.
— Чисто случайное сходство, совпадение в бесконечности. Скорее всего, это подобная нашему солнцу звезда, — ответил Желлевин. — Впрочем, это всего лишь предположения, слова, пустые звуки; поскольку, как я надеюсь, нам будет дозволено умереть в этом чужом мире с тем же успехом, что и в нашем, я полагаю, что мы вполне можем сохранять спокойствие.
— Умереть… Умереть? — воскликнул я. — Ну, нет, я собираюсь защищать свою шкуру!
— От кого же? — с коварным простодушием спросил мой собеседник. И добавил: — Не забывайте, что Фриар Тукк говорил о чем-то, более страшном, чем смерть. А если имеется мнение, которым не стоит пренебрегать, особенно в случае опасности, то это именно его мнение.
Мои мысли вернулись к тому, что он назвал своей гипотезой.
— Вы имеете в виду энмерное пространство?
— Ради Бога, — нервно сказал Желлевин, — не придавайте столь реальное содержание моим смутным соображениям. Ничто не подтверждает, что творение возможно за пределами трех наших вульгарных измерений. Точно так же, как мы никогда не сможем увидеть идеально плоские существа двумерного мира поверхностей или линейные существа одномерного мира, существа, принадлежащие к миру с большим, чем у нас, количеством измерений, скорее всего, просто не в состоянии увидеть нас. И вообще, у меня нет ни возможности, ни желания, господин Баллистер, читать вам в этот момент курс лекций по гипергеометрии. Единственное, в чем я уверен, — это то, что какие-то пространства, отличающиеся от нашего, должны существовать. К ним относится, например, пространство, с которым мы встречаемся в наших снах. Это пространство охватывает одновременно прошлое, настоящее и, скорее всего, будущее. Может быть, это также миры атомов и электронов, необозримые пространства релятивистского мира… Не исключено, что в них скрываются таинственные проявления жизни, способные вызвать у нормального человека головокружение при одной лишь мысли о них. — Он махнул рукой с крайне утомленным видом. — Какова была цель загадочного школьного учителя, завлекшего нас в эти края, где властвует сам дьявол? Как, и, в особенности, почему он исчез?
Внезапно я стукнул себя кулаком по лбу, вспомнив выражение беспредельного ужаса, которое мне довелось видеть на лицах двух совершенно разных людей в разных ситуациях. Это были Фриар Тукк в заливчике под скалой с расселиной, и тот несчастный бродяга в кабачке «Веселое сердце». Я рассказал об этом случае Желлевину.
Тот медленно покачал головой.
— И все же, давайте не будем преувеличивать достаточно неопределенную способность моего друга к восприятию всего необычайного. С первого же дня пребывания на судне Фриар, едва увидев нашего пассажира, сказал: «Этот человек вызывает у меня ощущение непреодолимого барьера, за которым может происходить нечто чудовищное, нечто ужасное». Я не стал расспрашивать его дальше — это бесполезно, потому что он и так сообщил мне все, что знал. Его оккультное восприятие выражается в образах, которые, очевидно, непосредственно возникают в его мозгу, и он совершенно не в состоянии анализировать эти образы. Надо сказать, что первые ощущения чего-то недоброго у Фриара Тукка относятся к еще более отдаленным событиям. Уже в тот момент, когда он впервые услышал название нашей шхуны, он проявил беспокойство, сказав, что за всем этим скрывается бездна коварства. Когда я сейчас вспоминаю его слова, я могу сказать, что в астрологии имена живых существ и названия предметов имеют первостепенное значение. Похоже, что астрология — это наука, объектом изучения которой является нечто, имеющее отношение к четвертому измерению. Некоторые крупнейшие современные ученые, как, например, Нордманн и Льюис, начинают со страхом сознавать, что тайны этой тысячелетней мудрости и такие ветви современной науки, как физика радиоактивных явлений и еще более поздняя теория о гиперпространствах — это троюродные сестры.
Я понимал, что Желлевин говорит все это для того, чтобы успокоить меня и самого себя; он словно пытался объяснить окружавшему нас миру свои воззрения, свое понимание сущности происходящего, надеясь победить таким образом ужас, стягивающийся к нам со всех сторон горизонта под зловещим, словно вырезанным из черной жести, небом.
— И куда нам теперь направить судно? — спросил я, почти полностью забыв о своем авторитете капитана.
— Мы пойдем галсами крутым бейдевиндом, — сказал Желлевин. — Бриз кажется мне весьма устойчивым.
— Может быть, стоит лечь в дрейф?
— Зачем? Нам лучше двигаться дальше; стоит также взять несколько рифов, если учитывать возможность неожиданного шквала, хотя пока и нет никаких признаков его приближения.
— Для начала за штурвал встанет Уолкер, — сказал я. — Ему нужно будет только следить, не появятся ли по курсу белые буруны; если мы зацепим подводную скалу, мы камнем уйдем на дно.
— Что ж, — бросил Желлевин, — может быть, для всех нас это будет наилучшим выходом.
Никогда бы не подумал, что он способен так здорово сказать.
Если возникшая опасность обычно укрепляет авторитет начальника, то неизвестность низводит его на уровень подчиненных.
Этим вечером кубрик опустел; все обосновались в небольшом помещении, служившем мне каютой. Желлевин выставил на стол две бутылки с отличным ромом из своих личных запасов, и мы соорудили из них чудовищный пунш.
У Тюрнипа внезапно резко улучшилось настроение, и он начал бесконечную историю о двух кошках, молодой леди и вилле в Ипсвиче. Сам Тюрнип играл в этой истории весьма выигрышную роль.
Стивенс ловко соорудил фантастические сандвичи из бисквитов и тушенки.
Плотный дым морской махорки густым облаком вился вокруг керосиновой лампы, неподвижно застывшей в карданном подвесе.
В каюте сама собой возникла приятная, дружелюбная атмосфера; после нескольких порций поддержавшего мои силы пунша я даже начал улыбаться, вспоминая небылицы, которые недавно мне рассказал Желлевин.
Уолкер отлил себе добрую порцию пунша в термос и, прихватив большой фонарь, отправился нести вахту, пожелав нам всем доброй ночи.
Мои стенные часы медленно пробили девять.
Довольно заметная качка судна сообщила нам, что на море началось волнение.
— У нас поднято не слишком много парусов, — сказал Желлевин.
Я молча кивнул в ответ.
Монотонно рокотал басок Тюрнипа, обращавшегося к Стивенсу; слушая собеседника, тот не забывал дробить один за другим бисквиты своими мощными челюстями.
Когда я, опустошив в очередной раз свой стакан, протянул его Фриару Тукку, чтобы тот снова его наполнил, меня поразил растерянный взгляд Тукка. Вздрогнув, он схватил за руку Желлевина, вцепившись в нее изо всех сил; казалось, оба моряка напряженно прислушиваются к чему-то, происходящему снаружи.
— Что это вы… — начал я.
В этот миг над нашими головами разразились страшные проклятия; затем послышались сначала топот босых ног, потом ужасный крик.
Охваченные ужасом, мы уставились друг на друга. Где-то вдали над морем прозвучал пронзительный вопль, нечто вроде тирольской рулады.
Вскочив разом, как один человек, мы ринулись на палубу, толкаясь в темноте.
Снаружи, однако, все было спокойно; ветер ровно шумел в парусах, возле штурвала ярким пламенем горел фонарь, освещавший приземистый силуэт стоявшего на палубе термоса. Но за штурвалом никого не было!
— Уолкер! Уолкер! — в испуге закричали мы.
Откуда-то издалека, с самого горизонта, затянутого, словно ватой, ночным туманом, к нам долетела вместо ответа загадочная тирольская мелодия.
Великая безмолвная ночь навсегда поглотила нашего несчастного Уолкера.
* * *
За трагической ночью последовала зловещая заря, фиолетовая, словно быстрый закат в тропической саванне.
Отупевшие от заполненной ужасом бессонницы, матросы молча смотрели на крутую волну. Бушприт судна яростно клевал клочья пены с гребней.
В нашем квадратном фоке появилась большая дыра, и Стивенс открыл люк отсека трюма, в котором хранились запасные паруса.
Фриар Тукк достал инструмент и приготовился к починке рваного паруса.
Все движения людей казались инстинктивными, автоматическими и нервными. Время от времени я подправлял небольшими движениями штурвала наш курс, бормоча про себя:
— Зачем все это? Ах, зачем все это…
Тюрнип забрался на большую мачту, хотя я и не отдавал ему такого приказания. Я машинально следил за ним, пока он не добрался до реи, после чего паруса скрыли его от наших взглядов.
Неожиданно мы услышали его свирепый вопль:
— Скорей ко мне! На мачте кто-то есть!
Послышался фантастический шум воздушной схватки, затем крик агонизирующего существа. Подобно тому, как над кромкой скалы в воздух взлетали тела морских разбойников из Росса, чье-то тело быстро пронизало воздух и рухнуло в волны довольно далеко от судна.
— Проклятие! — прорычал Желлевин, кидаясь к мачте вместе с Фриаром Тукком.
Мы со Стивенсом бросились к нашей единственной шлюпке, но едва могучие руки фламандца спустили ее на воду, как изумление и ужас заставили нас оцепенеть на месте. Что-то серое и блестящее, какая-то стекловидная масса, неотчетливо различимая в волнах, внезапно обволокла шлюпку, неудержимо потянув ее вниз. Неизвестная сила резко наклонила шхуну на левый борт… Потом натянувшаяся цепь лопнула, клокочущая вода захлестнула палубу и водопадом обрушилась в открытый трюм.
Через мгновение на поверхности моря не было видно никаких следов нашей небольшой спасательной лодки. Лодку поглотила бездна.
Желлевин и Фриар Тукк медленно спустились с мачты.
Они никого не увидели на ее верхушке.
Едва ступив на палубу, Желлевин схватил тряпку и принялся судорожно вытирать руки — все снасти наверху были выпачканы еще теплой кровью.
Надтреснутым голосом я прочитал молитву за упокой матросской души, беспорядочно перемежая святые слова с богохульственными проклятиями в адрес океана и его тайн.
* * *
Было уже довольно поздно, когда мы с Желлевином поднялись на палубу, решив провести ночь вместе за штурвалом.
Кажется, через какое-то время наступил момент, когда я разразился громкими рыданиями, а мой товарищ ласково похлопывал меня по плечу. Потом я несколько успокоился и даже разжег свою трубку.
Нам нечего было сказать друг другу. Потом я заметил, что Желлевин наконец задремал рядом со мной. Я бездумно блуждал взглядом во мраке.
Внезапно я оцепенел, завороженный невиданным зрелищем. Перед этим я перегнулся через планшир левого борта и сразу же отшатнулся с приглушенным восклицанием.
— Вы что-нибудь видели, Желлевин, или мне это померещилось?
— Нет, господин капитан, — ответил он едва слышно, — вы это действительно видели. Но, ради Христа, не говорите об этом никому. Мозг наших спутников и так уже слишком близок к грани, за которой наступает безумие.
Мне потребовалось совершить невероятное усилие над собой, чтобы вернуться к реальности; я попятился к релингам. Желлевин подошел ко мне.
Морские глубины были охвачены безбрежным кровавым заревом, простиравшимся под шхуной во все стороны до горизонта. Световые блики скользили под килем, освещая мерцающим светом паруса и снасти.
Мне показалось, что наш корабль очутился посреди сцены театра на Друри-Лэйн, освещенной огнями невидимой рампы, вдоль которой бежала цепочка бенгальских огней.
— Фосфоресценция? — неуверенно предположил я.
— Да смотрите же, — выдохнул Желлевин.
Вода под нами стала прозрачной, словно стеклянный шар, подсвеченный прожекторами.
На невероятной глубине мы увидели огромные зловещие массы фантастических очертаний — это были, кажется, замки с высоченными башнями, гигантские купола, прямые до жути улицы, обрамленные исступленно стремящимися ввысь сооружениями.
Казалось, что мы пролетаем на огромной высоте над центром какой-то безумной промышленности.
— Похоже, что там что-то передвигается, — пробормотал я, заикаясь от страха.
— Боюсь, что вы правы, — шепотом ответил Желлевин.
Действительно, на улицах невероятного города кишела беспорядочная толпа существ неопределенной формы, суетливо занимавшихся непонятной мне судорожной адской деятельностью.
— Назад! — внезапно заорал Желлевин, резко дернув меня сзади за пояс.
Одно из этих существ с невероятной скоростью устремилось вверх из глубин простиравшейся под нами бездны. Менее чем за секунду его огромная тень заслонила от нас подводный город. Перемещение существа можно было сравнить с мгновенным распространением в воде под нами облака чернил, выброшенных головоногим моллюском.
Страшный удар по килю потряс судно; в багровом свете мы увидели, как три чудовищных щупальца, каждое высотой не менее, чем три поставленные друг на друга мачты, отвратительно забились в воздухе. Огромная тень страшного лица с дырами глаз, заполненными расплавленным янтарем, поднялась на уровне деревянного парапета левого борта и бросила на нас жуткий взгляд.
Все это продолжалось не более нескольких секунд, после чего на шхуну обрушилась внезапная крутая волна.
— Руль на триборд, полностью! — закричал Желлевин.
Я автоматически подчинился и, похоже, сделал это весьма своевременно. Порвав топенанты, гик рассек воздух, подобно секире, и большая мачта затрещала, едва не переломившись. Фалы полопались один за другим с высоким звенящим звуком рвущихся струн арфы.
Страшная картина расплылась, вода вокруг судна забурлила, покрытая пеной. По правому борту, под ветром, по гребням скачущих волн промчался странный, похожий на пылающую бахрому, свет и пропал.
— Бедный Уолкер, бедный Тюрнип, — прошептал Желлевин, едва сдержав рыдание.
В рубке раздался звонок. Наступала полуночная вахта.
* * *
Следующее утро началось без происшествий.
Небо оставалось затянутым плотной неподвижной пеленой туч грязно-охристого цвета; воздух казался непривычно холодным.
Около полудня мне показалось, что я вижу за высокой стеной тумана светлое пятно, которое можно было принять за солнце. Я решил определить наше положение, вооружившись секстантом, хотя, по мнению Желлевина, это не имело смысла.
Море было довольно бурным; я попытался удержать горизонт, но каждый раз быстрые волны врывались в поле зрения, и горизонт буквально швыряло в небо.
Тем не менее у меня вот-вот должно было получиться.
В тот момент, когда я искал в зеркале секстанта отражение светлого пятна, которое, как я полагал, соответствовало солнцу, я внезапно увидел, что перед ним на большой высоте пульсирует нечто вроде молочно-белой ленты.
Из перламутровой глубины зеркала что-то неопределенное рванулось ко мне с ужасающей быстротой; секстант, вырванный из моих рук, взлетел в воздух, и я почувствовал страшный удар по голове. Затем до меня донеслись, словно издалека, крики, шум борьбы, снова крики…
* * *
Вообще-то я не потерял сознание полностью; я привалился спиной к рубке, и в моих ушах трезвонила бесконечная череда колоколов. Мне даже почудилось на мгновение, что я различаю в сумятице шумов солидное звучание вечернего Биг-Бена над Темзой.
На эти симпатичные звуки накладывались другие шумы, более тревожные, но гораздо более отдаленные.
Я собрался сделать над собой усилие, чтобы подняться на ноги, но почувствовал, что меня что-то схватило и приподняло над палубой.
Завопив, я принялся отбиваться изо всех сил, уже частично вернувшихся ко мне.
— Слава Богу! — воскликнул Желлевин. — Хоть этот остался в живых!
Я попытался поднять веки, тяжелые, словно свинцовые пластины.
В поле моего зрения появился и стал четким лоскут желтого неба, косо исполосованный снастями.
Потом я увидел Желлевина, стоявшего, шатаясь, возле меня и напоминавшего человека, только что сильно поддавшего.
— Ради Бога, скажите, что тут произошло? — промямлил я странно задребезжавшим голосом, потому что увидел, что лицо моряка залито слезами.
Не говоря ни слова, он увлек меня в каюту. Я увидел, что на одной из коек распростерлось неподвижное тело.
Ко мне сразу полностью вернулось сознание; я невольно схватился за сердце, потому что узнал страшно изуродованную голову Стивенса. Желлевин поднес к моим губам стакан. Я услышал его шепот:
— Это конец.
— Это конец. Конец… — негромко повторил я, пытаясь сообразить, что же все-таки произошло на судне.
Желлевин положил свежий компресс на голову матроса.
— Где Фриар Тукк? — спросил я.
Желлевин разразился бурными рыданиями.
— Как все остальные… он… Мы больше никогда не увидим его!
Голосом, прерывающимся от слез, он рассказал мне то немногое, что знал сам.
Все произошло с той же безумной скоростью, как и все предыдущие трагедии, составлявшие основу нашего теперешнего существования.
Желлевин был занят внизу проверкой маслопровода, когда внезапно услышал раздавшиеся на палубе крики о помощи. Взлетев наверх по трапу, он увидел Стивенса, в течение нескольких мгновений яростно отбивавшегося от охватившего его со всех сторон серебристого полупрозрачного шара и тут же рухнувшего на палубу и застывшего без движения. Вокруг мачты валялись принадлежности для починки парусов, но самого Фриара Тукка не было видно. Стрингер по левому борту был окрашен кровью. Я валялся без сознания, приткнувшись к рубке. И это было все, что он увидел и мог сообщить мне.
— Может быть, Стивенс расскажет нам еще что-нибудь, если придет в себя, — слабым голосом промолвил я.
— Придет в себя! — горько повторил Желлевин. — Его тело — это кошмарный мешок, заполненный раздробленными костями и раздавленными внутренностями. Он дышит до сих пор только благодаря своему атлетическому телосложению, но по сути он уже мертв, мертв, как и все остальные.
Мы предоставили шхуне возможность плыть в соответствии с ее фантазиями; «Майнцский Псалтырь» нес весьма небольшую парусность, и его сносило в дрейфе почти на столько же, на сколько он продвигался вперед.
— Все свидетельствует о том, что опасность грозит только тем, кто находится на палубе, — сказал Желлевин, словно рассуждая про себя.
Когда наступил вечер, мы забаррикадировались в моей каюте.
Дыхание Стивенса было настолько хриплым, что слушать его было просто невыносимо. Приходилось то и дело вытирать ему губы, покрывавшиеся кровавой слюной.
— Я не буду спать, — сказал я.
— Я тоже, — решил Желлевин.
Мы плотно закрыли и завинтили иллюминаторы, несмотря на застоявшийся в каюте тяжелый воздух. Судно испытывало слабую бортовую качку.
Около двух часов ночи, когда неудержимое оцепенение спутало мои мысли и полный кошмаров полусон начал овладевать мной, я внезапно очнулся.
Желлевин бодрствовал; он не сводил полный ужаса взгляд с деревянного потолка каюты.
— Кто-то ходит по палубе, — едва слышно прохрипел он.
Я схватился за карабин.
— К чему это? Оружие здесь не поможет. Нам лучше оставаться внизу. Ах, черт, — воскликнул он. — Там уже перестали стесняться!
Палуба гудела от быстрых тяжелых шагов. Можно было подумать, что там передвигается в разных направлениях множество людей, выполняющих какую-то работу.
— Я так и думал, — добавил Желлевин. Он криво ухмыльнулся. — Вот мы и стали рантье — там работают за нас.
Звуки на палубе стали более определенными. Скрипел штурвал; очевидно, выполнялся сложный маневр при встречном ветре.
— Они отдают паруса!
— Проклятье!
«Псалтырь» резко клюнул носом, затем дал сильный крен на правый борт.
— Мы идем галсом триборд. И это при таком ветре! — прокомментировал Желлевин. — Эти существа — настоящие чудовища, опьяненные жаждой крови и убийства, но они — прекрасные моряки. Не каждый известный яхтсмен Англии на яхте прошлогоднего выпуска осмелился бы идти так круто к ветру. И что же это доказывает? — спросил он с профессорским видом.
Я безнадежно махнул рукой, перестав понимать хоть что-нибудь.
— Это доказывает, что у нас имеется точное место назначения, и они хотят, чтобы мы обязательно прибыли туда.
Я подумал и сказал в свою очередь:
— И что это не демоны и не привидения, а такие же существа, как мы с вами.
— О, это, пожалуй, слишком смелое предположение.
— Я неточно выразился. Я просто имел в виду, что это материальные существа, располагающие лишь естественными силами.
— В этом, — холодно заметил Желлевин, — я никогда не сомневался.
Примерно в пять утра был выполнен еще один маневр, снова заставивший шхуну испытать сильную бортовую качку. Желлевин открыл иллюминатор: грязная заря едва просачивалась сквозь густую облачность.
Мы осторожно поднялись на палубу. Она была пустой и чистой.
Судно лежало в дрейфе.
* * *
Прошли два спокойных дня.
Ночные маневры не возобновлялись, но Желлевин отметил, что нас несет очень сильное течение, увлекающее шхуну в направлении, которое можно было определить, как северо-западное.
Стивенс все еще дышал, но все слабее и слабее.
Желлевин разыскал среди своих вещей небольшую походную аптечку и время от времени делал бедняге уколы. Мы почти не разговаривали друг с другом. Мне кажется, что мы даже не думали; что касается меня, то я был оглушен алкоголем, потому что поглощал виски целыми пинтами.
Однажды во время пьяных проклятий, когда я обещал школьному учителю, что разобью его физиономию на сто тысяч частей, я упомянул о книгах, которые он, как мне было известно, погрузил на шхуну.
Желлевин буквально подпрыгнул и принялся яростно трясти меня.
— Эй, — пробормотал я, — осторожнее! Я все же ваш капитан!
— К дьяволу таких капитанов, как вы! — разразился грубой бранью Желлевин. — Что вы сказали? Какие книги?
— Ну, да, в его каюте их целый чемодан. Я видел, они все на латыни, а я не разбираюсь в этом аптекарском жаргоне.
— Зато я разбираюсь. Почему вы никогда раньше не упоминали об этих книгах?
— Какое это могло иметь значение? — возразил я заплетающимся языком. — И потом, я капитан… И вы… вы должны уважать меня!
— Проклятый пьяница! — с гневом бросил Желлевин, направляясь к каюте школьного учителя. Я услышал, как он вошел в нее и запер за собой дверь.
Несчастный неподвижный Стивенс, гораздо более молчаливый, чем когда-либо раньше, оставался единственным моим собеседником на протяжении многих последующих часов беспробудного пьянства.
— Я… я капитан, — мямлил я, — я пожалуюсь… морскому начальству… Он назвал… назвал меня проклятым пьяницей… Но я первый после Бога на моем корабле… Разве это не так, а, Стивенс? Ты будешь свидетелем… Он грязно обругал меня… Я вышвырну его за борт!
Потом я заснул.
* * *
Когда вернувшийся Желлевин торопливо поглощал завтрак из бисквитов и консервов, его глаза сверкали, а щеки пылали.
— Господин Баллистер! — сказал он. — Школьный учитель никогда не говорил вам о предмете из хрусталя, может быть, о небольшом ларце?
— Я никогда не был его доверенным лицом, — пробурчал я, все еще не забыв о его наглом поведении.
— Ах, — с сожалением проговорил он, — если бы эти книги попались мне на глаза до начала всех этих событий!
— Так вы раскопали что-то? — поинтересовался я.
— Так, кое-что. В основном, неясные намеки… Я продолжаю искать; похоже, что я напал на верный след. Возможно, конечно, что это не имеет никакого смысла, но, если… Нет, это будет что-то неслыханное. Вы понимаете, неслыханное!
Желлевин был весь во власти странного возбуждения. Но мне так и не удалось ничего вытянуть из него. Вскоре он снова скрылся в таинственной каюте, и мне пришлось оставить его в покое.
Вновь я увидел его только вечером, да и то лишь в течение нескольких минут. Он прибежал, чтобы налить керосина в лампу и не сказал мне ни слова.
На следующее утро я встал очень поздно. Едва проснувшись, я тут же отправился в каюту школьного учителя.
Желлевина там не было.
Охваченный болезненной тревогой, я стал звать его — никакого ответа.
Я обшарил все судно и, забыв об опасности, всю палубу, непрестанно окликая его.
В конце концов я рухнул на пол в своей каюте, захлебываясь от рыданий и без всякой надежды взывая к небесам.
Я остался один на борту проклятой шхуны, один с умирающим Стивенсом на руках.
Со мной было только одиночество, жуткое одиночество.
Только после полудня я снова побрел в каюту школьного учителя. На глаза мне сразу же попался листок бумаги, прикрепленный к перегородке на самом виду.
Это была записка от Желлевина.
«Господин Баллистер, я отправляюсь на вершину большой мачты. Там я рассчитываю увидеть кое-что.
Может быть, я никогда не вернусь; в этом случае простите мне мою смерть, оставляющую вас в одиночестве. Потому что Стивенс — человек конченый, как вы знаете сами.
Но постарайтесь как можно быстрее сделать то, что я вам скажу.
Прежде всего, сожгите все книги; устройте костер на корме, как можно дальше от мачты, но старайтесь не приближаться к бортам. Думаю, что вам постараются помешать — об этом говорит все, что мне удалось узнать.
Но сожгите их, сожгите как можно быстрее. Не бойтесь, даже если вам придется устроить пожар на борту „Майнцского Псалтыря“. Не знаю, спасет ли это вас — я боюсь надеяться. Но, может быть, Провидение оставит вам хотя бы малейший шанс? Да сжалится над вами Господь, господин Баллистер, как и над всеми нами!
Герцог XXX[96], он же Желлевин».
* * *
Потрясенный этим поразительным прощальным посланием, я вернулся в каюту, проклиная свое постыдное пьянство, вероятно, не позволившее моему отважному товарищу разбудить меня.
В каюте я не услышал прерывистого дыхания Стивенса. Я склонился над искаженным судорогой лицом несчастного. Он тоже покинул меня.
Я взял в машинном отсеке две канистры с бензином и, движимый каким-то спасительным инстинктом, запустил на полную мощность вспомогательный двигатель.
Поднявшись на палубу, я свалили книги грудой возле штурвала и облил их бензином. Высокое бледное пламя стремительно взвилось кверху.
В этот момент до меня донесся крик — мне показалось, что кричало само море. Потом мне удалось разобрать, что кто-то окликнул меня по имени.
Оглянувшись, я, в свою очередь, тоже закричал, закричал от ужаса.
В кильватере «Майнцского Псалтыря», в двух десятках саженей за его кормой, плыл школьный учитель.
* * *
Рядом со мной потрескивало пламя, быстро превращавшее книги в пепел.
Адский пловец за кормой изрыгал то мольбы, то страшные проклятия.
— Баллистер! Я сделаю тебе сказочно богатым, ты будешь богаче, чем все люди Земли, вместе взятые! Нет, несчастный идиот, ты умрешь страшной смертью, ты скончаешься под невообразимыми пытками, еще не известными на твоей проклятой планете… Я сделаю тебя великим царем, Баллистер, властителем фантастического царства! Ах, сам ад покажется тебе раем по сравнению с тем, что я сделаю с тобой!
Он плыл изо всех сил, отчаянно взмахивая руками, но почти не приближался к идущему на большой скорости судну.
Неожиданно шхуну потрясли глухие удары, и она как-то странно шарахнулась в сторону. Я увидел, как вокруг меня поднимается вода — нет, это какая-то жуткая сила увлекала судно в морскую пучину.
— Послушай меня, Баллистер, — завопил школьный учитель. Он быстро приближался. Лицо его оставалось жутко неподвижным, и только глаза, сверкавшие невыносимо ярким блеском, жили на мертвом лице.
В этот миг я увидел среди массы еще раскаленного пепла свернувшийся в трубку пергамент, под которым блестело что-то непонятное.
Я сразу вспомнил слова Желлевина.
Фальшивая книга скрывала под своей обложкой загадочный хрустальный ларец, о котором он спрашивал меня.
— Хрустальный ларец! — громко воскликнул я.
Школьный учитель услышал меня; он испустил безумный вопль, и на мгновение моему взгляду представилась совершенно невероятная картина: он высоко поднялся над волнами и словно стоял на их гребнях, протянув вперед руки со скрюченными, как угрожающие когти, пальцами.
— Это величайшее во Вселенной знание, знание, которое ты хочешь уничтожить, проклятый невежда! — прорычал он.
Со всех сторон горизонта ко мне теперь неслись звуки тирольских трелей.
Первые волны обрушились на уходящую из-под ног палубу.
Прыгнув в середину костра, я одним ударом сапога разбил хрустальный ларец.
Меня сразу же охватило страшное головокружение; я почувствовал невыносимую тошноту.
Небо и море смешались в искрящемся молниями хаосе; чудовищный вопль потряс все вокруг. Я стремительно рухнул во мрак…
И вот я здесь. Я очнулся — будь благословенно небо — среди людей. Я все рассказал вам, и теперь могу умереть со спокойной душой. Может быть, вы решите, что все это приснилось мне? О, я хотел бы, чтобы это было так… Но я умру среди людей, на своей Земле… Какое это счастье!
* * *
Человека за бортом заметил первым Бриггс, юнга «Северного капера». Мальчишка утащил из камбуза яблоко и, уютно устроившись среди свернутых бухтой канатов, собирался насладиться своей добычей, когда увидел Баллистера, медленно плывшего в нескольких ярдах от судна.
Бриггс заорал, как оглашенный, поняв, что плывущего вот-вот затянет в водовороты от винта. Прибежавшие на крики моряки успели спасти несчастного. Он был без сознания и плавательные движения совершал, словно во сне, совершенно автоматически, как это иногда бывает у очень опытных пловцов.
Ни одного корабля на было видно на горизонте; на поверхности моря отсутствовали обломки, обычно свидетельствующие о кораблекрушении. Однако юнга рассказал, что он видел, — или ему показалось, что он видел, — прозрачное, словно стеклянное, судно, которое встало на дыбы по левому борту и исчезло в глубинах океана.
Эти слова обеспечили ему пару оплеух от возмущенного капитана Кормона, решившего отучить парня от привычки рассказывать бессмысленные истории.
Спасенному удалось влить в рот несколько капель виски; механик Рози уступил ему свою койку, на которую и уложили беднягу, укутав как можно теплее.
Вскоре его бессознательное состояние незаметно перешло в неглубокий лихорадочный сон. Все с любопытством ожидали его пробуждения, когда на корабле произошло нечто неожиданное и страшное.
Об этом теперь вы можете услышать рассказ вашего покорного слуги, Джона Коперланда, плававшего старшим помощником на борту «Северного капера». Его рассказ дополняют сведения, полученные от матроса Джилкса, столкнувшегося лицом к лицу с порожденными ночью тайной и ужасом.
* * *
Последнее определение нашего положения за этот день свидетельствовало, что «Северный капер» находился на 22° западной долготы и 60° северной широты.
Я сам встал за штурвал, решив провести ночь на палубе, так как накануне мы заметили, что большие льдины освещали отраженным лунным светом горизонт на северо-западе.
Матрос Джилкс зажег ходовые огни; поскольку он уже несколько суток страдал от сильнейшей зубной боли, усиливавшейся в теплом кубрике, он устроился со своей трубкой рядом со мной.
Это вполне устраивало меня, потому что одинокие часы вахты, продолжающейся всю бессонную ночь, кажутся невероятно монотонными.
Чтобы обстановка на судне была понятнее для вас, я должен сказать, что «Северный капер» — надежное прочное судно, но все же не являющееся шхуной последней модели, хотя его и оборудовали радиопередатчиком.
Все на судне дышит атмосферой примерно полувековой давности, включая систему парусов, помогающих паровой машине небольшой мощности толкать корабль вперед.
На «Северном капере» отсутствует эта высокая и такая неэстетичная рубка, характерная для современных судов, на которых она торчит в виде совершенно неуместной надстройки посреди палубы.
Штурвал на нашем судне по-прежнему установлен ближе к корме, что позволяет встречать лицом и ветры, овевающие морские просторы, и соленые брызги.
Я привожу здесь это описание только для того, чтобы сказать вам, что мы оказались свидетелями непонятной драмы отнюдь не в качестве посторонних наблюдателей, изолированных за стеклом рубки; мы находились непосредственно на палубе, в самой гуще событий. Без этого уточнения мой рассказ мог бы вызвать недоумение у тех, кто более или менее знаком с топографией паровых судов.
Луна не была видна, и только слабый рассеянный свет с затянутого облачной пеленой неба да гребни волн, слабо фосфоресцирующие, словно гряда бурунов, позволяли что-то различать вокруг нас.
Было, наверное, часов десять; тяжелый первый сон навалился на усталых матросов.
Джилкс, по-прежнему мучимый зубной болью, стонал и негромко ругался. Его искаженное болью лицо нечетко вырисовывалось в неярком свете лампы нактоуза на фоне окружающей темноты.
Внезапно я увидел, что гримаса боли у него сменилась сначала крайним изумлением, а потом — выражением невероятного ужаса. Трубка выпала из его широко открытого рта. Это показалось мне настолько комичным, что я отпустил в его адрес какую-то шутку.
Вместо ответа он указал мне пальцем на сигнальный фонарь по правому борту.
Моя трубка тут же присоединилась к трубке Джилкса при виде открывшегося моему взору зрелища. В нескольких дюймах от фонаря из мрака торчали две руки, на которых поблескивала вода. Руки судорожно сжимали самые нижние ванты.
Неожиданно руки разжались, и темная мокрая фигура запрыгнула на палубу.
Джилкс отскочил в сторону, и свет лампы нактоуза хорошо осветил пришельца.
Совершенно остолбенев от неописуемого изумления, мы увидели человека, чем-то похожего на клерка — в черном сюртуке и таких же брюках, с которых ручьями стекала морская вода. Бросалась в глаза его маленькая головка с пылавшими, словно угли, глазами, уставившимися на нас.
Джилкс едва заметно шевельнул рукой, намереваясь выхватить свой рыбацкий нож, но закончить это движение ему не пришлось: незнакомец кинулся на него и сбил с ног одним ударом. В это же мгновение лампа нактоуза разлетелась на мелкие кусочки. Секундой позже из кубрика послышались пронзительные вопли юнги, выполнявшего роль сиделки возле постели больного:
— Помогите! Его убивают! Его убивают!
С тех пор, как однажды мне довелось улаживать серьезную стычку между членами команды, я завел обычай иметь при себе ночью револьвер.
Это было оружие большого калибра, стрелявшее пулями в мягкой оболочке, которым я пользовался достаточно умело. Я быстро взвел курок.
Неясный шум наполнил, казалось, все помещения судна.
В это время, то есть через несколько мгновений после того как произошла описанная выше последовательность событий, сильный порыв ветра, нанесшего шхуне пощечину, разорвал облака и луч лунного света словно прожектором осветил палубу «Северного капера».
Крики юнги перекрывались оглушительными ругательствами капитана; послышался топот множества ног… И тут до моих ушей донеслись мягкие, словно кошачьи прыжки, раздававшиеся справа от меня. Я увидел клерка, перемахнувшего через борт и без всплеска ушедшего под воду. Через мгновение его небольшая головка поднялась на гребне волны почти до уровня палубы; хладнокровно прицелившись, я нажал на курок.
Человек испустил какой-то странный вопль; набежавшая волна подтолкнула его назад, прямо к борту судна.
Возле меня оказался Джилкс, еще не до конца пришедший в себя, но уже ловко орудовавший багром.
Неподвижное тело плавно колыхалось на поверхности воды вплотную возле борта судна, то и дело глухо ударяясь о него.
Багор подхватил тело за одежду, надежно вцепившись в нее, и матрос с поразительной легкостью поднял свою добычу из воды.
Затем Джилкс сбросил мокрую бесформенную груду на палубу, пробурчав себе под нос, что эта штука кажется ему легкой, как перо.
Бен Кормон выскочил из кубрика, размахивая зажженным фонарем.
— Кто-то попытался убить нашего утопленника, — крикнул он.
— Мы видели его, капитан. Он вышел из моря.
— Ты сошел с ума, Коперланд!
— Мы не дали ему уйти, капитан. Посмотрите. Я выстрелил, и вот…
Мы столпились вокруг жалких останков, но тут же шарахнулись в стороны, испуская вопли, словно обезумевшие.
Перед нами лежала только пустая оболочка — одежда, из которой торчали две искусственные руки и голова, искусно вылепленные из материала, напоминавшего воск. Моя пуля раздробила нос и пробила парик.
* * *
Теперь вы знаете все о том, что довелось пережить капитану Баллистеру.
Он рассказал нам свою историю на исходе этой адской ночи, очнувшись после сна, рассказал просто, как будто был счастлив, получив возможность облегчить душу.
Мы самоотверженно пытались вылечить его. Левое плечо у него было пробито в двух местах, словно ему нанесли мощные удары сапожным ножом. Если бы мы смогли своевременно остановить кровотечение, нам удалось бы спасти его, потому что ни один важный орган не был задет.
После продолжительного монолога спасенный погрузился в оцепенение, из которого вышел только для того, чтобы поинтересоваться, каким образом у него появились раны.
Возле него в этот момент находился Бриггс. Довольный тем, что оказался в центре внимания, он рассказал, что ночью во время дежурства внезапно увидел возникшую как бы из ничего темную фигуру. Проникший в кубрик человек подскочил к больному и нанес ему несколько ударов ножом. Потом он сообщил о метком револьверном выстреле и показал пострадавшему фальшивую оболочку.
Увидев ее, спасенный, охваченный ужасом, закричал:
— Я знаю его! Это школьный учитель! Школьный учитель!
После этого он впал в болезненное лихорадочное состояние, из которого вышел через шесть дней в Морском госпитале Галуэя, чтобы поцеловать образ Христа и умереть.
* * *
Трагический манекен был передан преподобному Леемансу, достойному духовному лицу, много путешествовавшему по свету и хорошо разбиравшемуся в тайнах моря и диких земель.
Он долго и внимательно изучал останки.
— Так что же могло находиться там внутри? — спросил его Арчи Рейнес. — Потому что, в конце концов, ведь было же там что-то. И это что-то было живым.
— Это уж точно. Оно было живым, пожалуй, даже слишком, — проворчал Джилкс, потирая свою распухшую и все еще болевшую шею.
Преподобный Лееманс обнюхал, словно охотничий пес, одежду и отбросил ее с отвращением.
— Я так и думал, — буркнул он, ни к кому не обращаясь.
Мы, в свою очередь, тоже сунули носы в груду все еще влажной одежды.
— Она, кажется, пахнет муравьиной кислотой.
— И фосфором, — добавил Рейнес.
Кормон помолчал, потом произнес задрожавшими губами:
— Она пахнет спрутом.
Лееманс пристально посмотрел на капитана.
— В последний день перед Страшным Судом, — сказал он, — именно из моря по велению Господа выйдет Зверь Ужаса. Давайте, не будем опережать судьбу своими нечестивыми изысканиями.
— Но… — начал Рейнес.
Подняв руку, Лееманс остановил его.
— Кто затемняет предначертанное мною своими речами, лишенными знания? — торжественно произнес он.
Мы молча склонили головы перед святыми словами и отказались от попыток понять.
Примечания
1
Книга историй о привидениях (нем.).
(обратно)2
Установленный в церкви или монастыре большой ларец в виде гроба или саркофага, в котором хранятся мощи святого. Объект поклонения верующих. Часто является произведением искусства.
(обратно)3
Имеется в виду Флавий Меррик (см. Жан Рэй «Книга призраков», новелла «Дом на продажу») (примеч. автора).
(обратно)4
Орден, первоначально носивший название монастыря Сито, первой обители ордена, позднее стал называться орденом цистерцианцев по латинскому названию монастыря Сито (фр. Cîteaux, лат. Cistercium). В связи с выдающейся ролью в становлении ордена, которую сыграл святой Бернард Клервоский, в некоторых странах принято называть цистерцианцев бернардинцами.
(обратно)5
Территория на западе Германии на границе с Францией со столицей в г. Майнце.
(обратно)6
Рюш (Ruche) в переводе с французского обозначает «улей».
(обратно)7
После полудня (лат.)
(обратно)8
Суть дела (лат.)
(обратно)9
Баранья голова (нем.).
(обратно)10
Жалкий червяк (исп.)
(обратно)11
Макака (англ.).
(обратно)12
Вельта — старинная мера емкости, равная 7–8 литрам.
(обратно)13
Боже небесный! (нем.).
(обратно)14
Название созвездия Большой медведицы в странах Европы.
(обратно)15
Плакат середины XIX века. Крайне редкий документ, предмет охоты коллекционеров (Примеч. автора).
(обратно)16
Франкония — историческая область на юго-востоке Германии.
(обратно)17
Иоганн Карл Август Музеус (1735–1787) — немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника литературных сказок «Народные сказки немцев».
(обратно)18
Народные сказки (нем.).
(обратно)19
Приготовленная с пряностями копченая гусятина.
(обратно)20
Проводник (нем.).
(обратно)21
Ночь святого Себальда (нем.).
(обратно)22
«Среда пепла» (фр.), день покаяния, с которого начинается пост у католиков. В 2018 году приходится на 14 февраля.
(обратно)23
Святая Гертруда, покровительница франков, жившая в VII веке, вторая аббатиса аббатства Нивеле (Бельгия), основательница и покровительница города Нивеле; ее день отмечается 17 марта.
(обратно)24
Жизнеописания святых.
(обратно)25
Старинная испанская монета.
(обратно)26
Сэр Уильям Рамзай (Sir William Ramsay, 1852–1916) — шотландский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1904 года.
(обратно)27
Tongs — щипцы, клещи (англ.).
(обратно)28
«Общественное благо» — периодическое издание, специализирующееся на новостях в разных сферах общественной жизни, в том числе, и в литературе.
(обратно)29
Фог — густой туман, мгла. Термин обычно используется для названия знаменитых лондонских туманов, насыщенных угольным дымом. В зависимости от состава дымовых частиц, фог мог быть синим, темно-серым, желтым или коричневым.
(обратно)30
Территория на юго-восточном побережье Австралии, где находится военно-морская база и столичный торговый порт.
(обратно)31
Флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
(обратно)32
Коносамент — документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу. Удостоверяет право собственности на отгруженный товар.
(обратно)33
Лаймхаус — жел. дор. станция, расположенная в районе Лаймхаус на востоке Лондона.
(обратно)34
Шедуолл — район в восточной части Лондона, в Лондон Боро Тауэр-Хэмлетс; он расположен на северном берегу Темзы между Уоппингом и Ратклиффом, к востоку от Чаринг-Кросс и является частью лондонского Ист-Энда.
(обратно)35
Уоппинг (Wapping) — район в восточной части Лондона, Лондон Боро Тауэр-Хэмлетс, на северном берегу реки Темзы.
(обратно)36
Гримуар — книга, описывающая магические процедуры и заклинания для вызова духов или содержащая различные колдовские рецепты. Здесь гримуаром иронично назван путеводитель.
(обратно)37
Уэстлианцы (вестлианцы) — протестантская секта, основанная в середине XVIII в. проповедником Джоном Уэстли (1703–1791). Основные положения учения: спасение достигается верой, необходимы духовная чистота, добрые дела и т. д.
(обратно)38
Самый знаменитый участник Порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году, которому было поручено зажечь фитиль, ведущий к наполненному порохом помещению под палатой лордов в Лондоне.
(обратно)39
Необразованный и грубый директор школы для мальчиков в романе Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».
(обратно)40
Персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфильд», неунывающий оптимист.
(обратно)41
Тюрьма на южном берегу Темзы в Саутверке (сейчас — часть Лондона). С 14 столетия до 1842 года в ней содержались осужденные за преступления на море, политические деятели и интеллектуалы, осужденные за антиправительственную агитацию, а также должники, находящиеся в заключении до тех пор, пока они не расплатятся с кредиторами.
(обратно)42
Главный герой рассказа или повести Диккенса «Колокола» («Куранты»), бедный пожилой рассыльный.
(обратно)43
Действующее лицо романа Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».
(обратно)44
Мошенник из романа Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
(обратно)45
Ежемесячный иллюстрированный журнал беллетристики, издавался в Великобритании с января 1891 по март 1950. В журнале печатались такие авторы как Артур Конан Дойл, Агата Кристи, П. Г. Вудхауз, Герберт Уэллс, Жорж Сименон и другие классики детективного, приключенческого и фантастического жанров. С 1998 года выходите США один раз в квартал.
(обратно)46
Энн (Анна) Радклифф (1764–1823) — знаменитая английская писательница, классик «черного» готического романа («Удольфские тайны», «Итальянец» и др.).
(обратно)47
Сотерн — французское белое десертное вино, производимое в регионе Грав, Бордо.
(обратно)48
Пойяк — французское вино, разновидность красного бордо из винограда «Каберне Совиньон».
(обратно)49
Полицейский чин, в разных англоязычных странах занимающий в полицейской иерархии следующее место за старшим инспектором (в Великобритании, Австралии и др.) или за инспектором (в Канаде, Ирландии и др.).
(обратно)50
Овсяная каша (овсянка) у населения Великобритании. Обычно подается на завтрак.
(обратно)51
На набережной Орфевр (Кэ-дез-Орфевр или просто Кэ) находится здание парижской уголовной полиции.
(обратно)52
Ярд — британская и американская единица измерения расстояния. Сейчас метрический ярд равен 36 дюймам или 91,44 см.
(обратно)53
Иниго Джонс (1573–1652) — английский архитектор, дизайнер и художник, который стоял у истоков британской архитектурной традиции.
(обратно)54
Город в Нидерландах, столица провинции Фрисландия,
(обратно)55
Название бывших западных ворот Лондона, а также примыкающего к ним района города.
(обратно)56
Знаменитый американский шоумен, антрепренёр, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века. Снискал широкую известность своими мистификациями, организовал цирк своего имени.
(обратно)57
Инн (Линкольнс Инн) — это одновременно Почтенное общество адвокатов и занимаемый ими квартал. Объединения адвокатов появились в Лондоне в XIII веке, вступить в них был обязан каждый юрист — таким образом, в городе возникли целые судейские городки. Линкольне Инн — один из четырех таких городков, сохранившихся до настоящего времени. В нем полностью сохранена историческая застройка.
(обратно)58
Небольшой остров, самая западная точка Франции.
(обратно)59
В сборник вошли 18 новелл, в том числе «Голова господина Рамбергера», «Знаменитости на Тюдор-стрит» и др.
(обратно)60
17 новелл, в том числе из числа наиболее знаменитых («Принцесса-тигр», «Золотые зубы», «Бог, ты и я» и др.). В сборник иногда включался короткий роман «Святой Иуда-ночной».
(обратно)61
Мера расстояния во Франции. На суше лье равно 4445 м, тогда как на море — 5557 м.
(обратно)62
Жакде Вокансон (1709–1782) — французский механик и изобретатель, конструировавший различные механические игрушки, в том числе человекоподобные.
(обратно)63
Бедлàм — психиатрическая больница в Лондоне (с 1547 года). Первоначально она называлась госпиталем святой Марии Вифлеемской, Позднее название Бедлам стало именем нарицательным, синонимом сумасшедшего дома.
(обратно)64
Харли-стрит — улица в Лондоне которая получила известность в XIX веке благодаря множеству обосновавшихся там специалистов самых разных областей медицины.
(обратно)65
Джесси Рамсден, английский механик и оптик. Разработал ряд моделей астрономических инструментов, усовершенствовал электростатический генератор для получения электричества.
(обратно)66
Бабочки, гусеницы которых имеют инстинкт странствования обществами, в виде длинных колонн или процессий, отчего они и получили название процессионных, или походных, шелкопрядов.
(обратно)67
Фаланстер — в учении утопического социализма Шарля Фурье дворец особого типа, являющийся центром жизни фаланги — самодостаточной коммуны из 1600–1800 человек, трудящихся вместе для взаимной выгоды.
(обратно)68
Пон (le pont) — по-французски мост.
(обратно)69
Морвана болезнь (Морвана хорея) — сочетание общей мышечной слабости, фибриллярных подергиваний, преимущественно в мышцах голеней, вегетативных расстройств (потливость, тахикардия, повышение артериального давления) и психических нарушений (депрессивные состояния, страхи, суицидальные тенденции): наблюдается при некоторых инфекционных болезнях, ревматизме, интоксикациях.
(обратно)70
Златки (лат. Buprestidae) — многочисленное семейство жесткокрылых (более 15 000 видов), распространенных повсюду, кроме Арктики и Антарктики. В европейской части России встречается около 180 видов. Наибольшая численность и видовое разнообразие златок наблюдается в странах с тропическим и субтропическим климатом (около 80 % известных видов).
(обратно)71
Церцерисы — небольшие (10–15 мм) осы. Охотятся на одиночных пчел и разных жуков; их добычей обычно становятся долгоносики, златки, листоеды. Парализованными жертвами осы выкармливают своих личинок. Взрослые осы питаются нектаром.
(обратно)72
Небольшой район в центре Лондона, в боро Вестминстер. Район Пимлико считается одним из самых фешенебельных и дорогих районов Лондона, наравне с Белгравией и Челси.
(обратно)73
Принц-консорт или принц-супруг — супруг правящей королевы, сам не являющийся суверенным монархом (за исключением тех случаев, когда он является королём другой страны).
(обратно)74
Герой произведения немецкого писателя Оскара Шмица.
(обратно)75
Круассан (фр. croissant — полумесяц) — небольшое хлебобулочное кондитерское изделие в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста с содержанием масла не менее 82 % жирности. Очень популярен во Франции, где подаётся на завтрак к кофе.
(обратно)76
Бриошь (фр. brioche) — сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла. Изготовлялась ещё в XVI веке в Нормандии и в XVII веке в Вандее, на западе Франции.
(обратно)77
Квадратурный прилив — самый слабый прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют под прямым углом друг к другу, и их суммарная сила поэтому является наименьшей.
(обратно)78
Вместе с Новым годом во Франции празднуют 31 декабря день Святого Сильвестра (причисленного к святым римского папы Сильвестра I, жившего в III веке нашей эры), якобы спасшего мир от библейской катастрофы конца света.
(обратно)79
Юлотт (la hulotte) — сова (фр.).
(обратно)80
Первый епископ Флоренции (337–417 гг.), проповедовавший христианство и совершивший ряд чудес.
(обратно)81
Гарпагон — тип скупца в комедия Мольера «Скупой». Имя сделалось нарицательным для скряги.
(обратно)82
Лиуварден — город в Нидерландах, известный своей тюрьмой.
(обратно)83
Свинья на немецком, английском и французском языках.
(обратно)84
«У забавного голландца» (нем.).
(обратно)85
Мраморная церковь.
(обратно)86
Полупустыня с редкими тополями и ивами в Южной Америке.
(обратно)87
Игра с использованием специальных пятигранных игральных костей и карт значением от 9 до туза.
(обратно)88
Вид ядовитых пауков из рода чёрных вдов семейства пауков-тенетников, находящийся на грани вымирания.
(обратно)89
Весенний аромат.
(обратно)90
Озеро на востоке Берлина площадью 2,5 на 4,5 км, одно из нескольких десятков озер и водоемов Берлина.
(обратно)91
Застольный тост, пожелание здоровья в западных странах (Ваше здоровье! На здоровье! Будьте здоровы! За ваше здоровье и т. д.).
(обратно)92
Название многих гор в Германии, где, по народным поверьям, ночью собираются ведьмы на шабаш.
(обратно)93
Лунный свет… над холодной могилой (нем.).
(обратно)94
Участок франко-немецкого фронта во время Первой мировой войны, на котором состоялось наступление войск Антанты на позиции германских войск; одно из важнейших сражений кампании 1918 года.
(обратно)95
Марка рейнского вина.
(обратно)96
Записка была подписана именем, которое мы не можем привести здесь, дабы не пробудить печаль у членов одной благородной правящей династии Европы. Желлевин нес на душе груз тяжких ошибок, но смерть искупила все его грехи.
(обратно)
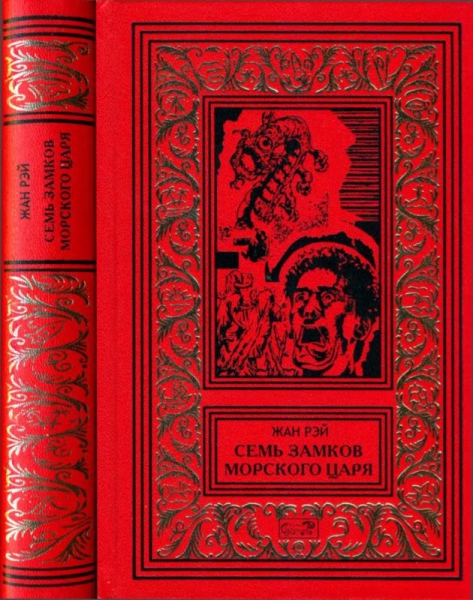


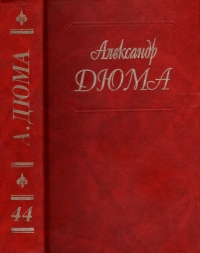
Комментарии к книге «Семь Замков Морского Царя», Жан Рэ
Всего 0 комментариев