Евдокия Нагродская НЕВЕСТА АНАТОЛЯ Фантастические рассказы
СНЫ
Посвящается
М. А. Кузмину
Земная жизнь моя — звенящий,
Неясный шорох камыша,
Им убаюкан лебедь спящий —
Моя тревожная душа[1].
М. ЛохвицкаяСегодня шла я из кухни… У нас весь день рубят капусту, некому было даже самовар поставить. Братцы должны вернуться из Евлова — ездили рощу покупать.
Перед отъездом братец Петр Акимович по обычаю зашел ко мне спросить моего согласия на покупку — так уж у нас заведено. Меня всегда спрашивают, но ведь это просто для приличия, так как после смерти мужа я стала их компаньоном. Только я ни во что не вхожу: я ничего в делах не понимаю — пусть делают, как знают, лишь бы мне женихов не сватали.
Замуж они меня уговаривают выйти тоже из приличия, чтобы люди не сказали, что они моей вдовьей частью овладели, а так — им же лучше, что я вдовею: еще какой бы муж навязался.
Я ни во что не путаюсь — пусть делают, как знают. Даже странно мне, когда о моих деньгах говорят. На что мне деньги?
После смерти мужа я хотела в монастырь уйти, да неловко: мы все-таки по старой вере. Хотя братья не очень держатся — Андрей Акимович у нас Петровскую Академию кончил — да перед родней неловко. Зачем с родней ссориться…
Можно, конечно, в скит уйти — у меня в скиту, в Сибири, родная тетка, только там работать заставят, а я ленива, да и здоровье у меня плохое. А хуже всего, что все время придется на народе быть. Особенно я баб не люблю.
Мужчины соберутся, о своих делах говорят — подам чай или закуску и делаю, что хочу: когда сижу — слушаю, когда уйду к себе. А соберутся дамы, — нужно и слушать, и разговаривать.
Молоденькие или дети еще ничего. Скажешь: «Ну, девицы, слушайте, я вам сказку расскажу». Они это любят.
Я очень хорошо умею сказки рассказывать и все больше из головы…
А самое главное — в скиту не позволят светских книг читать, а уж от этого я отказаться не могу.
Есть буду один хлеб с водой, спать хоть на голых досках — только бы читать.
Я всегда любила читать, а как овдовела — только и делаю, что читаю. Городскую библиотеку всю перечитала… Библиотечной барышне, чем могу, услуживаю, и вареньем и маринадами — только бы новые книжки мне первой давала.
Ах, как иногда хорошо бывает… Кажется, что весь мир позабыла…
Так вот — иду я из кухни и слышу, — Ваня в своей комнате возится, что-то тяжелое передвигает.
Я заглянула к нему.
— Что ты, Ваня, делаешь?
— Я, тетенька, кровать переставляю головой к окну.
— Зачем?
— Да я сны забываю.
Я засмеялась.
— А не все ли равно, как кровать стоит? — спрашиваю.
— Я, тетенька, жаловался приказчику Тимофеичу, что как я сюда, к вам, переехал, мне сны сниться перестали, а он мне говорит: «Человеку всегда сны снятся, а только ты, наверно, лицом к свету спишь. Проснешься — свет сразу в глаза— ты сон и позабудешь».
— А на что тебе сны помнить? — удивилась я.
— Так. Скучно без снов, — отвечает.
Я посмеялась и пошла.
Ваня наш дальний родственник — Петра Акимовича сватьи сын. Братцы за него в училище платили, а теперь взяли его к себе, чтобы к делу приучить, кажется, наследником его сделать хотят, потому что детей у нас, ни у кого, нет. Всем нам семейная жизнь не задалась.
У братца Петра Акимовича жена родила девять человек детей, но все в младенчестве умирали, а последний ребенок ее так попортил, что она теперь без ног совсем… в кресле мы ее возим. У брата Андрея совсем неудачная жизнь — живет с чужой женой. Мы это знаем — да и в городе все знают. Сначала болтали, а теперь перестали — шесть лет прошло.
Там есть трое детей, да кто их знает, — чьи. Муж-то ее, почтовый чиновник, с нею вместе живет. Он и моложе и красивее братца Андрея, так что мой муж, покойник, говорил, будто у нее не любовь, а денежный интерес, и не пускал меня с нею знакомиться. А теперь, после его смерти, она бывает у меня, и я к ней хожу. Мне что, это не мое дело — я в это не мешаюсь. Она ко мне ласкова, и книжки мне приносит, и очень хорошо на пианино играет…
Я другой раз по целым часам слушаю: так у нее все понятно выходит, как будто читаешь.
Я ей один раз говорю:
— Сыграйте мне, Надежда Алексеевна, то, что вы мне на прошлой неделе играли — длинное такое.
— Не помню, — говорит, — я вам так много играю.
— А вот начинается громко, словно кто-то сказал: «Слушайте, сейчас расскажу вам историю» и начинает сначала что-то страшное и все страшнее и страшнее… А потом там есть такое грустное, словно кто-то о чем-то умоляет, а под конец опять кто-то сказал: «А вот и все, вся история кончилась».
Она на меня пристально так смотрит.
— Чудачка вы, Серафима Акимовна, как же я могу это понять… а впрочем, постойте, постойте — не это ли?
И заиграла как раз то самое. Кончила и говорит:
— Это называется: «Патетическая соната», сочинение знаменитого музыканта Бетховена.
— Знаю, — говорю, — много о нем знаю, и недавно его жизнеописание читала, чуть не плакала: каково музыканту-то оглохнуть…
После этого разговора Надежда Алексеевна стала чаще ко мне ходить, на дружбу напрашиваться, комплиментымне говорить, — будто я такая умная и сама себя образовала, что я «тонкая натура» и чего-чего только не наговорила, но у меня сердце к ней не лежит — она понемногу и отстала.
Вечером чай пили втроем: невестка, Ваня и я. Невестке нездоровилось, я ее скоро отвезла в спальню, а сама вернулась еще чашечку чая выпить.
Ваня сидит за столом, перед ним стоит остывший чай, а он куда-то в стенку смотрит.
Лицо у Вани худое, длинное, в веснушках, волосы белокурые. Сам худой, тщедушный, сутуловатый, глаза, правда, большие, только всегда как-то странно смотрят, точно ничего не видят.
— Ваня.
Он вздрогнул, словно свалился откуда, рот раскрыл и так глупо на меня смотрит.
— Что же, — спрашиваю, — видел ты сон сегодня?
— Видел, — отвечает и сконфузился.
— Растолкуй ты мне, почему тебе так хочется непременно сны видеть?
— Я очень уж интересные сны вижу…
— Ну расскажи мне сегодняшний.
— Неохота, тетушка, вы смеяться будете… я теперь никому снов не рассказываю… прежде пробовал, как меньше был — все всегда смеялись… в школе дразнили…
— Я не буду смеяться.
— А другим не скажете?
— Не скажу никому.
— А вы побожитесь! — и весь покраснел.
— Ну, побожилась. Говори.
Ваня оглянулся кругом — встал, запер дверь в коридор, сел ко мне поближе и шепчет:
— Я, тетушка, не простые сны вижу…
— А какие? Пророческие?
Помолчал.
— Нет, не пророческие… а совсем, совсем особенные — и будто не сны, а вправду. Так вправду, что то, что я вот в конторе сижу, и Тимофеич бранится, и вы, и дяденька — это все сон, а во сне правда… Вы смеетесь, тетенька?
— Нет, не смеюсь — это и со мной бывает — только не от сна, а от книги. Когда книга интересная, так и не хочется ни о чем думать, и обедаешь кое-как, и одеваешься наскоро — только бы отделаться, да скорей читать.
— А вы, тетушка, не переделываете того, что читаете? — спрашивает Ваня.
— Как это? — удивляюсь.
— Да так — вот в книге, например, кто-нибудь умер, а вам жалко, и вы сочиняете, будто про себя, что тот человек жив, и дальше совсем другое выходит.
Ваня весь даже переменился — лицо как будто другое стало — и глаза не глупые.
Задумалась я над его словами и, помолчав, говорю:
— Видишь, Ваня, — это со мной бывает — только не всегда. Иногда в книге так все к месту, так хорошо выходит… и жалко до слез, если кого обидели, или кто умер, но только переменить этого даже не хочется… Будто так нужно, и иначе все испортишь: на правду будет непохоже.
— А вы ее любите — правду-то? — вдруг спрашивает Ваня.
Я на него смотрю и не знаю, что ответить.
Странно. Я смерть не люблю, когда лгут, а ведь в книжке читаешь иной раз неправду, или сама сказку сочиняешь, и любо. Что же делать, когда вся правда кругом скучная, а выдумка в книгах интересная.
Вздрогнула я и говорю Ване:
— Видишь — в жизни ложь не люблю… Когда лгут для чего-нибудь — это грешно. А когда так просто, в книгах выдумки пишут, — это ничего.
— А жизнь-то эту нашу вы любите? — спрашивает опять Ваня и словно дрожит весь.
— Нашу жизнь? — опять удивляюсь я. — Жизнь, как жизнь — другие в бедности, в нужде живут, голодают…
— А другие веселятся…
— Ну, я веселья не люблю. И барышней была, не любила, а теперь, на тридцать седьмом году, и подавно.
— Ах, тетушка, разве я о таком веселье говорю? Что у нас весельем называется? Для барышень — танцы да кавалеры, а для молодежи — собраться, выпить, к Миллерше за реку поехать… это не веселье.
Вот вы говорите… бедность, нужда… а другие, нищие — свою жизнь на нашу не променяют… Или вот странники… Странника кормите, сколько хотите, да посадите в контору — он сбежит. Ведь кто как веселье понимает. Вот бы за границу поехать… Разные страны посмотреть, или подвиги какие совершать… Я раз сон видел, что я, вот, рыцарь. Знаете, такой рыцарь, какие в прежние времена на турок ходили…
— Крестоносец, — подсказываю.
— Вот-вот. И лошадь у меня в такой юбке с оборкой, и на лбу у нее железное острие надето… Копье у меня длинное, с перехватом, и перья на шлеме… точь-в-точь как на картинке в романе «Ивангое»[2]… Вы, тетушка, эту книжку читали?
— Читала, читала… Ну, а что же ты дальше во сне видел?
— А будто я турок победил и с музыкой в их крепость въезжаю, все мне кланяются, цветы бросают… Ковры на балконах… И из гарема султанша выходит, за ней арапы, такие веера из перьев на палках несут… Красоты она неописанной…
Но Ваня сна не успел досказать. Пришел братец Андрей Акимович из клуба — и удивился, что мы так поздно сидим.
Странный этот Ванин сон.
Все в нем так складно. Все подробности он видит и рассказывает, и будто по книжке. Отчего это я таких снов не вижу?
Только как же это? У него султанша идолам молилась?
Ведь она магометанка, так какие же у них идолы?..
Я ему это сказала. Он удивился и словно растерялся, а потом говорит: «Ведь это во сне, тетенька».
Конечно, мало ли что во сне приснится… А только сама не знаю, почему мне это досадно стало: захотелось, чтобы все на правду было похоже…
Если начнешь о себе думать, да за своими чувствами и мыслями следить, странное что-то замечаешь…
У меня иногда бывает, что чувствую что-то, а что, — сказать не умею… Странно чувствую — будто одним сердцем…
Например, идешь мимо какого-нибудь дома и вдруг, — или весело, или грустно станет, и кажется, что я в этом доме жила, только я была не я, а совсем другая, и лицо было у меня другое, и характер другой… Будто сон наяву…
Вот спрошу Ваню: бывает это с ним?
Ваня говорит, что бывает. Недавно он себя разбойником вообразил и городского голову ограбил, потом со своей шайкой в лесу спрятался, а их солдаты искали…
Даже жутко слушать было, как ему это хорошо представилось — словно вправду.
Сегодня Ване приснился сон, будто он старец, спасается в пустыне, и дьявол его пугает и искушает…
Интереснее всего было, как каждая песчинка в бабочку превратилась, и вдруг все поднялось на воздух: «Будто пестрый снег», — говорит.
Если бы я такой сон увидала — мне бы иначе приснилось. У Вани потом тьма наступила, и волки завыли… а я бы увидала, как через это стадо бабочек идет Божья Матерь с Младенцем и кругом от нее свет…
Отчего я таких снов не вижу?
Братец Андрей Акимович сегодня на Ваню рассердился. Ваня что-то в счетах напутал. Иван всплакнул. Я зашла к нему — стала утешать.
— Ничего, тетенька, это я только немножко огорчился… У меня теперь такой сон есть, что мне все равно.
Хотела я было расспросить, что он видел, да уж поздно было, одиннадцатый час — все уж спать пошли.
Мы сегодня с Аннушкой шубы выколачивали. Шубы пришлось вынимать в этом году рано. Уже заморозки, хотя снегу еще нет.
Развешиваю я шубу и все думаю о Ванином вчерашнем сне… Вот бы мне увидать такое хоть раз!
Ему снилось, что мы живем где-то у моря, в том самом дворце, который нарисован на картине, что у нас в гостиной висит.
Кругом сад… Ваня говорит, — цветов много-много, и апельсинные деревья в цвету, а вдали, как на картине, горы видны… И будто мы с ним какие-то знатные нерусские люди…
— Вы, — говорит, — тетушка, графиня, и волосы у вас черные, а на черных волосах жемчужная корона. И даем мы праздник… в саду. Везде фонарики, цветные… гостей много… все нарядные, и одеты, как при Марии Стюарт одевались… И между гостями один итальянский принц…
Тут мы и поспорили.
Ему приснилось, что принц этот в меня влюбился, а я в него.
— Фу, — говорю, — да какой же принц в меня влюбится? — и рассмеялась, а Ваня обиделся.
— Ведь я вас во сне красавицей видел. Во сне ведь все не как вправду. И сам я был высоким брюнетом, в черном бархатном костюме, как у Гамлета… Вы видели в театре «Гамлета», тетушка?
— Нет не видала, а пьесу читала… Знаешь, когда много читаешь, книга за книгу словно цепляется. Мне часто в книгах имя Гамлета попадалось; и у Тургенева есть рассказ: «Гамлет Щигровского уезда» — ну, я заинтересовалась узнать и прочла… Прочла и «Короля Лира» и «Отелло»… Шекспира сочинения[3].
— Вы, тетенька, удивительно образованная: все-то вы знаете, — говорит Ваня с таким почтением, что я засмеялась.
— Ну, нашел образованную — прогимназию кончила.
— Что ж, что прогимназию, а вас о чем ни спросишь, вы все знаете.
— Глупый! Да что я «знаю»-то? Только то, что в книжках прочитала.
— А помните, тетенька, как вы подробно все про Иоанна Грозного нам рассказывали… А третьего дня дяденьке Петру Акимовичу объяснили, кто такие Мальтийские рыцари были.
— Так это я из исторических романов. Когда век свой читаешь, так как же таких вещей не знать.
Вечером пришли гости, и пришлось с ними сидеть.
Катерина Федоровна жаловалась, что не успела сливы вовремя сварить, и они сразу вздорожали. А я успела и сварить, и намариновать, и обрадовалась, а тут невестка вспомнила про рябиновую пастилу, и мне стыдно стало, что я ее, убогую, не порадовала… Завтра обязательно сварю пастилу… да заодно и настойку сделаю, рябина теперь морозом хвачена, отличная настойка будет.
Досадно, что Ваня сегодня сон досказать не успел, чудный сон.
В того самого принца, что меня любит, влюблена цыганка, а Ваня в эту цыганку…
Когда гости ушли, я хотела к нему пойти, да у него уж огня не было.
Утром братец Петр Акимович послал Ваню в банк, а потом в рощу на порубку. Приедет к ужину, или там заночует?
Очень уж дослушать хочется, чем там у него дело кончилось.
Ну и сон:
Цыганка-то хотела меня убить и, под видом гаданья, заманила меня в подземелье, а он, Ваня, в это время с принцем на дуэли дрался… Странно. Когда Ваня просто говорит, так двух слов связать не умеет, а как сны свои рассказывает — словно по книге читает. Я слушала… слушала и вдруг поняла.
— Ваня, — говорю, — да ведь ты это не во сне видел, а ты просто это, как сказку, выдумал.
Он сразу покраснел, даже до слез, голову опустил и тихо так говорит:
— А не все ли равно, тетенька, я как будто все это видел — как вам рассказывал… — и замолчал.
Сидим мы с ним тихо… ветер в печке шумит, лицо у Вани словно осунулось, грустное-грустное…
Смотрю я на него и так мне тоскливо стало, даже вздохнула я.
Ваня встал.
— Прощайте, тетушка.
— А чай разве пить не будешь?
— Нет, не хочется.
А слезы у него из глаз так и катятся…
Сварила рябиновую пастилу — очень удалась.
Невестка меня благодарила и даже со слезами сказала: — Бог тебя, Сима, не оставит за то, что ты ко мне, как родная сестра…
Я разревелась — к случаю придралась.
Мне со вчерашнего дня плакать хочется — Ваню жалко… Ну чего я ему сказала… Пусть бы рассказывал: ведь мне самой интересно слушать было.
Вернулась от всенощной. Лампадки затеплила. Села книгу почитать — пока, до ужина.
Входит Ваня.
Эти три дня он со мной не разговаривал, все рамки выпиливал.
Я посмотрела на него и опять книгу взяла.
Он стоит у двери, и слышу, как тяжело дышит.
— Что с тобой? — спрашиваю.
— Тетенька, вы на меня не сердитесь, что я про эти сны врал… Я ведь не совсем врал… Я, правда, вижу очень занятные сны… и потом от себя дальше придумываю…
Этот дворец у моря, я в самом деле во сне видел и праздник и фонарики… а дальше… дальше я, правда, сочинил — вы, тетушка, не сердитесь.
— Бог с тобой. Я и не думала сердиться… Мне даже интересно слушать. Только надо было сказать, что ты это сказку рассказываешь.
— Так ведь это не сказка вовсе. Ведь так все могло быть?
Правда — могло? — а сам смотрит на меня и руки сложил — словно я его судьбу решаю.
— Конечно — могло! Мало ли чего на свете бывает.
Помолчали…
— Тетенька, — опять начинает Ваня тихим голосом, — а вы сказали, вам интересно было слушать?
Я улыбнулась:
— Интересно.
— А если я вам буду и теперь рассказывать, вы захотите слушать?
— Рассказывай, — засмеялась я. — Ну, что у тебя там дальше было? Принц-то тебя ранил, а ты упал, и, падая, услыхал страшный крик…
Приехала к нам, в Кимры, наша двоюродная сестра, Варвара Тимофеевна. Вдова она. Женщина немолодая, постарше меня, а странные у нее разговоры. Все про мужчин… То офицеры, то актеры…
Перед братцами она стесняется, а при мне даже будто хвастает…
Вчера мы с ней долго просидели.
Болтала она, болтала про одного ротмистра, что за ремонтом приехал, а я на нее смотрю и думаю: а хорошо бы было посмотреть, как это ее свидание с этим ротмистром происходило… И так я себе ясно этого ротмистра вообразила: лицо у него красное, усы торчат, и он их вверх закручивает, и крякает, когда водку пьет… а папиросу вынет, постучит папиросой о портсигар… Ну совсем, как живой, представился.
— А большие у него усы? — спрашиваю.
— Нет, небольшие и бородка клинышком…
Что за глупый у меня характер. Чего мне досадно стало, что он не точка в точку такой, как я его вообразила?
И какое мне дело до этого ротмистра?
До настоящего-то мне дела нет, а вот того-то, выдуманного — я будто родного брата полюбила.
А почему полюбила? За что? Ведь выдумала я его и дураком, и пьяницей, и смешным, и даже очень нехорошим человеком… Встретила бы такого живого, противен был бы он мне. А вот выдумала и нравится, и мечтаю о нем. Сегодня, ложась спать, все о нем выдумывала: как он за дамами ухаживает и своей храбростью хвастает перед ними… А потом стала думать, что бы было, если бы его на Варваре женить… Как бы он ей предложение делал…
Надо будет Ване рассказать.
Вчера поймала Ваню на дворе, когда он покупателю рогожи отпускал.
— Ваня, — говорю, — а какой у меня есть смешной сон про одного ротмистра!
— Да что, тетенька, — отвечает — вы все с этой Варварой шепчетесь. Я за это время видел сон… то есть… не сон, а знаете… ну, сказку сочинил, — поправился он, — про одну женщину, которая мужа убила. Ах, тетенька, она была красавица, и косы у нее были рыжие, а глаза черные.
— Расскажи!
— Да когда же рассказывать, когда вы целый день с этой Варварой?
— Ну хорошо, когда все лягут, выходи на заднее крыльцо. Ты мне расскажешь про убийцу, а я тебе про ротмистра.
Просидели мы с Ваней на крыльце чуть не до рассвета. Андрон-приказчик домой вернулся поздно, часа в два. Увидел нас, остолбенел и даже перекрестился.
В темноте не мог разобрать, кто такой на крыльце сидит. Было холодно, так я Ване укрыться дала половину моей шали, ну, в темноте и кажется, точно кто толстый-претолстый сидит.
Когда мы расхохотались, он догадался, кто это, и очень удивился, что мы ночью на крыльце сидим.
Рассказала я Ване подробно про ротмистра и пока рассказывала, еще яснее себе его вообразила… И какая у него комната… и какой денщик… и на Варваре мы его поженили. Он после свадьбы стал денег требовать, а Варвара не дает — не таковская.
Ваня придумал, что интереснее выходит, если бы Варвара еще в актера влюбилась. Посмеялись мы, когда Варвара актера от ротмистра в шкафу прятала…
Ваня говорил за Варвару, я за ротмистра.
Актер у нас вышел высокий, худой, бритый, брюки у него короткие: актер из прогоревшего театра, а за Варварой ухаживает, чтобы подкормиться.
Актер, как живой.
— Ваня, — говорю, — а ты видишь, у него галстук красный, немного грязный.
— Да, тетушка, и пробор посредине головы, как у нашей Матрены, а когда разговаривает, лорнет крутит, а лорнет без стекла…
Очень уж у меня ноги замерзли: я в туфлях была, а то мы бы и дольше просидели. Ваня свое-то про убийцу не успел рассказать.
Сегодня у нас в доме большая радость. Братцы получили, наконец, подряд.
Гостей у нас много. Ужин. В преферанс играют, столах на десяти. У всех знакомых столы ломберные сегодня собирали.
Варвара Трофимовна платье одела модное, узкое, с вырезом, и прическу с локонами.
Она со всеми так кокетничала, что братцы на нее косились, невестка ворчала, а мне так это интересно было, что я глаз оторвать от нее не могла. Как влюбленная, за ней по пятам ходила, даже не вовремя шампанское подала. Братец Андрей мне замечание сделал. В другой раз стыдно бы было, а сегодня как-то мимо ушей пропустила, потому что очень было занятно на всех смотреть и про каждого что-нибудь придумывать подходящее.
Гости в четыре часа разошлись. Все легли. Я задержалась в столовой: серебро пересчитывала. Парадное серебро мы вынимали. Слышу, кто-то дверь в столовую тихонько отворяет… Ваня.
— Тетенька, — шепчет, — пойдемте на крыльцо.
— Поздно, Ваня.
— Ну хоть на полчасика: вы видели интенданта-то, в пенсне, его бы с ротмистром стравить… что бы вышло-то!
— Да, история…
— А интендант-то, наверно, на гитаре играет и цыганские романсы поет. И вот, поверьте моему слову, — у него экономка есть… ре-евнивая… Ведь идет это к нему? Правда, тетенька?
Я потихоньку засмеялась и шепчу:
— Иди, иди — поздно… да и интенданта как-то не надо. Мы лучше про него другую историю сочиним, а та уж кончилась. Ты сегодня мне расскажешь про ту, что мужа убила.
— А знаете, тетенька, — шепчет Ваня, — мне надоело все про разбойников и колдунов, — это все на сказку похоже. Лучше, как вы рассказываете, про «простое» выдумывать.
— Ну, всегда смешное надоест.
— Зачем смешное? Ведь жена-то у меня все равно мужа убьет, только это будет не в замке, а просто в городе, — ну, в Москве, что ли, они русские.
— Ну уж, рассказывай, только потихонечку.
— Я, тетенька, хочу рассказать, как следует, как в книжках начинается. Хорошо?
— Ну, ну.
— «Ночь была бурная, тучи по небу бежали, и луна то показывалась, то исчезала. Весь город спал, только в одном окне светился огонек…» Хорошо так, тетушка?
— Хорошо… Только уж все почти истории так начинаются: или «огонек светится», или «поезд, пыхтя, подходил к платформе». Я люблю, когда сразу начинают… Ну, хоть так… А как твою барыню-то зовут?
— Элиз.
— Да ведь она русская?
— Ее Елизаветой зовут, только ее так муж называет — Элиз. Мне очень это имя нравится.
— Ну хорошо… Так ты и начни: «Элиз отложила книгу и задумалась».
— Ах, тетенька, да мне надо начать с того, как ее муж нашел письмо, в котором ей один офицер, князь Потемкин, свидание назначает. Это огонек в кабинете горит, он читает это письмо, и «ревность охватила его сердце, хотя он не верил глазам».
— Хорошо… Так ты начни… Как мужа зовут?
— Андрей.
— Он старый или молодой?
— Старый, старый… Генерал он.
— Тогда нельзя просто Андрей. Либо Андрей Петрович, или Иванович, либо по фамилии. Как его фамилия?
— Не знаю.
— Ну, пусть хоть Вилкин.
— Что вы, что вы, тетушка, Вилкин худой должен быть, а этот солидный…
— Да, правда. Ну, пусть Андронов…
— Нет, не подходит… Ничего, потом придумаем, все равно.
— «Андронов сидел у стола, сжав голову руками, и пристальным взглядом смотрел на письмо, лежащее перед ним…»
— Да, да, тетушка — только письмо смятое…
— «На смятое письмо, лежащее перед ним…»
— А знаете, почему письмо смятое?!
Ваня позабылся и так громко крикнул, что я ему рот зажала.
Смотрим, Аннушка голову в дверь просунула.
— С нами крестная сила, — говорит, — вот я напужалась-то, — думала, воры забрались… Чего вы не спите, Серафима Акимовна?
— Серебро убираю. Иди, иди себе.
Аннушка ушла, а мы уж все шепотком говорили.
Хорошо у Вани вышло, только в одном месте смешно мне показалось. Это когда князь Потемкин в любви объяснялся. Я это Ване сказала, и он как будто обиделся.
— Что же делать, тетушка, я никогда в любви не объяснялся, может, вправду-то оно еще глупее выходит, если со стороны слушать.
— Так ты и пропусти этот разговор.
— А как же, если этого разговора не было, подруга Элиз могла его подслушать?
Я задумалась.
Потом, ночью, меня словно осенило: подруга услыхала шепот и подслушала под дверью, и, отходя от двери, сказала: «Ах, так она его любит» — вот всем и понятно.
Хорошо, очень хорошо вышло.
Только зачем эта Элиз уж такая негодяйка, а князь уж такой благородный?
Ведь это только в старинных романах так бывает, а не в жизни.
Интересно, когда описывается, как хороший человек и вдруг дурное сделал…
Братец Андрей мне сегодня муфту соболью подарил, модную. Большущая. Я давно такую хотела… Чудесная муфта.
Ах, какой у меня характер глупый. Мне бы обрадоваться, а мне все равно теперь, потому что в голове у меня история, чтобы хорошего человека, знаменитого, ученого, богатого — и украсть заставить.
Денег ему не надо… Он украдет письмо какое-нибудь…
А на что оно ему понадобится?..
Андрей Акимович как будто обиделся, что я муфте мало обрадовалась, а невестка даже спросила:
— Да не больна ли ты, Сима?..
А что, если он кражу эту сделает от болезни? Ведь бывает такое помрачение…
Нет, неинтересно. Мало ли что человек в помрачении делает…
Ключи потеряла. Петр Акимович спрашивал утром перцовки для желудка… А я ключей не могла отыскать… Петр Акимович рассердился и ушел в контору, а как только он ушел, я сейчас и вспомнила, куда ключи спрятала.
А для чего бы он, этот человек, стал красть?
Да мало, что украл. Мне бы хотелось, чтобы он убил.
Может же и хороший человек убить. Ну, хоть любовницу, например…
Нет — любовницу не стоит, это опять как бы не в себе убьет… А я хотела бы, чтобы он и украл бы, и убил, и чтобы потом он скрылся, а другого во всем этом заподозрили, а он открыться не может, потому что… Ну, хоть жену и детей жалеет, а совестью мучится… Мучится…
Сегодня у нас скандал вышел.
Аннушка, оказывается, солдата по ночам к себе пускала.
Как ей не стыдно, ведь у нее муж есть.
Аннушка подралась с Матреной, зачем та мне это сказала.
Шум, крик. Невестку совсем расстроили. Она стала мне выговаривать, что я теперь плохо за домом смотрю. Вспомнила, что я вчера ватрушки к обеду забыла заказать…
Ах, как все мне это надоело — все эти ватрушки!
Молодец Иван: все придумал.
Ученый-то был прежде революционером, и остались у него бумаги, которые могли много его друзей погубить… И бумаги у него украла его прежняя любовница и передала сыщику… Она хотела ученому отомстить, что он ее разлюбил и на другой женился… Потом ее совесть стала мучить, и она в этом ему созналась.
Ученый ночью пошел эти бумаги обратно украсть. Сыщик проснулся, и ученый его убил.
Я еще придумала так: возвращается он домой, убивши человека, — а у него ребенок родился.
За сыщика он не очень мучился, но тут арестовали одного человека — по подозрению…
Выдал себя ученый или нет, мы вчера так и не решили, хоть чуть не до свету сидели.
Сегодня Ваня проспал и ему влетело.
— Хорошо тебя выругали, Иван? — спрашиваю.
— Ничего. Меня ругали, а я не слушал, потому что очень я рад, что наконец решил дело… Выдал он себя, выдал, тетенька. Вы мне сегодня расскажите, как он себя выдавал. Интересно, как это у вас выйдет, надо потрогательней, ведь ему жены жалко.
Какую глупость Варвара выдумала!
Подошла ко мне сегодня, обняла и шепчет:
— Душка, ну что ты в нем нашла?
— В ком? — спрашиваю.
— Фи, — говорит, — разве это мужчина?
— Да ты про что, Варя?
— Про Ваню?
— Что «про Ваню»? Какой мужчина? Ничего не понимаю.
— Ах, какая ты скрытная! Я тебе все свои секреты рассказываю, а ты роман завела и мне ни гу-гу.
— Какой роман? Да говори толком.
— Ну-ну, не отпирайся. Только удивляюсь я твоему вкусу. Если уж ты хотела, чтобы все дома было, так Андрон красивее: у него усы темные.
Я смотрю ей в глаза и все понять не могу, о чем это она говорит.
— Ах, Симочка, ну чего ты притворяешься? Разве я не вижу, что ты с Ваней интригу завела.
У меня даже шитье из рук вывалилось. Смотрю на нее во все глаза и ушам своим не верю.
— Да уж не притворяйся, пожалуйста. Не разыгрывай удивления. Ты у него в комнате по ночам сидишь, а Аннушка раз ночью застала, как вы в столовой целовались.
— Что?
Я даже растерялась сначала, а потом злость взяла меня.
— Обалдели вы обе с Аннушкой, что такую глупость выдумали… Как вам не стыдно? Я Ване тетка, и чуть не на двадцать лет его старше.
— А что ж такое? За мной очень много гимназистов ухаживают, — говорит, — и что ты мне очки втираешь, когда Аннушка своими глазами видела.
— Врет.
— А ты скажешь, что не сидела вчера у него в комнате?
— Так что ж, что сидела? Если хочешь знать, мы истории друг другу рассказываем.
Тут она как принялась хохотать. По дивану валяется, охает даже.
Так мне обидно стало, что я со зла заплакала.
Она вскочила, на колени передо мной встала, целует меня и приговаривает:
— Ну, ну, душка — не бойся, я тебя не выдам.
И как я ей ни клялась — не поверила.
Вот скверная баба!
Сама развратница — так о других так же думает. Какая гадость! Тьфу!
Лежала я на кровати и думала: вот я вчера Варвару назвала развратницей, и она мне противна, а иногда в книге описывается женщина, которая вот, как Варвара, любовников меняет, и не противно, и не смешно выходит… Почему это? Значит, можно как-то с другой стороны видеть.
Вот бы придумать так про Варвару, чтобы она вышла и не смешной, и не виноватой.
Что они все, с ума сошли, что ли?
Сегодня зовет меня братец Петр Акимович в кабинет, и, не глядя на меня, говорит:
— Ты брось эти глупости, Сима, и выходи замуж. Курышев со мной говорил. Он человек солидный, вдовеет третий год, дочки его на выданье.
— Про какие вы глупости говорите? — спрашиваю.
— Зачем ты мальчишку с пути сбиваешь?
Я догадалась сразу, о чем речь, и озлилась.
— Вы, Петр Акимович, меня обижать не смеете, как вам только не стыдно Варварины сплетни слушать?
— Видишь, — говорит он, и все на меня не смотрит, — я не говорю, что у вас что-нибудь серьезное, ты так — от скуки глупишь, а мальчишка от рук отбился, все путает, как лунатик ходит.
— Я вам скажу правду: мы с ним истории сочиняем и друг другу рассказываем — только и всего.
— Хорошо, хорошо, Серафима, как знаешь — только ты не срамись.
У меня слезы так и брызнули.
Хотела я сказать что-то, да не могла даже слова вымолвить — повернулась и пошла.
Плакала я до обеда.
Стучалась ко мне кухарка, спрашивала, с чем вареники делать, — я ее прогнала.
Я бы и к обеду не вышла, если бы есть так не захотелось, а после обеда опять ушла и заперлась у себя, и сошла только к чаю.
За чаем Варвара болтала, и все ко мне с разговорами лезла. Сплетница.
После чаю опять ушла к себе, легла, не раздеваясь, на постель, и стала историю придумывать, только уж совсем, как в книжке…
«Ее» зовут, как меня — Серафима, только не Акимовна, а Александровна, и она тоже вдова… только молодая, красивая… Лицо это я видела на одной картине… Она очень мужа любила и после смерти уехала за границу, и живет в таком старинном городе.
Город вот как наяву вижу… Даже не знаю, видела ли где картинку с таким городом, или это мне так вообразилось… И живет она в доме тоже очень старинном, где прежде монастырь был… Окошко у нее узенькое, стрельчатое, а из окна весь город виден… На горе этот дом…
Хозяева, у которых она комнату сняла, — люди бедные… сторож в этом доме… Пусть даже это не дом, а развалины, и сторож себе квартирку в этих развалинах устроил… Она случайно пошла монастырь осматривать, вот и наняла…
Сад большой… под горку… В саду кладбище от монастыря осталось…
И на это кладбище ходит она грустить…
Не то, чтобы она очень грустила, а так странно сердце сжимается, как осенью в саду и грустно, и тихо, и сладко… И небо такое бледно-голубое… Листья желтые… И кругом могилки… Вот и у ней так. Будто ей ничего не хочется и она даже рада, что от всех ушла…
Нет, она не вдова.
Муж у нее жив, только ее бросил…
Стала я это кладбище так ясно себе представлять, — слышу: дверь кто-то дергает.
— Кто там?
— Я, тетенька.
Я вскочила, открыла дверь и говорю:
— Уходи, уходи, Ваня — опять сплетни выйдут. Слышал?
— Слышал… Да вы плюньте на это, не обращайте внимания… Не могу я, тетенька. Я такое сочинил, что сам удивился… Что же так никогда уж ничего и не рассказывать, — значит, так все и пропадет…
Голос у него дрогнул, на глазах слезы.
А я чувствую, что надо мне рассказать про Серафиму эту печальную, и про могилки. И сердце сжимается, и чувствую, что не могу не рассказать…
— Иди, — говорю, — и вправду, наплевать на их сплетни.
Слава Богу, Варвара уехала. Свободнее, никто не подслушивает.
Не можем мы с этим монастырем и кладбищем расстаться.
— Ваня, — говорю, — что же долго ничего не случается?
— Ах, ничего, тетенька, очень уж хорошо… Грустно, грустно и пусть она еще поживет так… Вон на могилках еще последние белые цветочки… с такими пушистенькими головками растут… Ей жалко этих цветочков, потому что себя жалко…
Так мы две ночи напролет на этом кладбище сидели и все ее мысли друг другу рассказывали…
Наконец Ваня вдруг говорит:
— Тетушка, а кто-то по кладбищу идет.
— Ну зачем? Так тихо было, и вдруг кто-то лезет… Досадно.
— Так и надо, чтобы досадно… Она вздрогнула и сердито повернулась… И кто же это пришел? Кто, тетенька?
— Незнакомый, высокий мужчина… худощавый, лицо красивое… волосы немного рыжеватые… Помнишь покойного отца Сергия, что у Воздвиженья служил, только брови гуще и темнее… слегка сходятся.
— А зачем он пришел?
— Погоди… погоди… Пусть художник! Ведь кладбище красивое, он рисовать пришел.
— Да, да, тетушка. Верно!.. Шляпу снял — кланяется, шляпа серая…
— Она только головой кивнула — встала и пошла… Вон, вон, Ваня, она идет — а кругом желтые листья, а платье на ней черное, а художник смотрит ей вслед… это ему очень нравится… красиво…
— Пусть он это и нарисует.
— Конечно, удивился, что красиво, как на картине, и стал рисовать.
— А она ушла и сердилась, зачем он все на кладбище сидит и рисует…
— Понятно. Это ее любимое место! Она даже сторожу пожаловалась, что ей мешает этот художник… Только, тетенька, миленькая, они все-таки разговорятся.
— Погоди… разговорятся из-за этой самой картины… Ведь он нарисовал ее самое на этом кладбище. Сидит она в черном платье, на могилке, в руках эти беленькие цветочки, желтые листья кругом… Хорошо так?
Вчера зовет меня опять братец Петр Акимович к себе в кабинет.
Вхожу.
Сидит он в креслах у стола. Андрей Акимович на стуле по другую сторону. Невестка в своем кресле на колесах тут же рядом.
У всех лица какие-то странные.
— Что случилось?
— Я, Серафима, тебя уже предупреждал, — начинает Петр Акимович. — Мы понимаем, что ты женщина еще не старая — вдовеешь ты восьмой год, и мы тебе не раз женихов предлагали. Может быть, нам и неудобно чужого человека брать в дело, но мы счастья тебя лишать не желаем, и ты этим не стесняйся. Это лучше, чем срам-то в доме терпеть.
Я так и вспыхнула.
— Вы это опять про Ваню. Сплетница Варвара сочинила, а вы мне, сестре вашей, это второй раз в лицо говорите.
— Не одна Варвара, и Аннушка видела… Андрон вас ночью поймал, как вы на крыльце обнявшись сидели.
Я подняла голову и пристально смотрю на брата.
— Я вам, братец, на образ побожилась, что это все вранье, а вы прислуге верите больше, чем клятве моей, — крикнула я.
— Ты бы постыдилась: ведь Ване всего семнадцать лет! — говорит невестка и заплакала.
— Как вам-то, Настя, не стыдно так говорить? Сколько лет мы вместе прожили! Вы меня не знаете, что ли?
— Что же, у меня глаз нет? — отвечает. — Вижу же я, что все хозяйство в доме вразброд идет, что ты совсем голову потеряла.
— Надоело мне ваше хозяйство, — отвечаю, — наймите за мой счет экономку и оставьте меня в покое. Кому я мешаю?
— Никому ты не мешаешь, — вступился Андрей, — но мы просим тебя вести себя осторожнее. В городе уже говорят.
— В городе говорят? — кричу я совсем уж не в себе. — Ты бы уж лучше молчал — мало про тебя говорили?
— Я сам это прекрасно знаю, но дело не в тебе, а в Ване. Ведь он почти ребенок. Стыдно тебе.
— Стыдно не мне, а вам всем, что вы таким глупостям верите. Так и верьте, во что хотите, и придумывайте, что хотите! Мне все равно.
Вышла и дверью хлопнула.
Пришла я в свою комнату и стала из угла в угол ходить…
Поскорей, поскорей бы забыть всю эту дрянь.
Коли моей клятве не поверили, так пусть думают, что хотят.
Тошно мне на них всех смотреть… А на кладбище тихо… хорошо… красиво… Идет она домой и видит, — художник картину рисует, она подошла тихонько… заглянула — это она сама… и желтые листья…
Все на меня дуются, все косятся. Все равно, я их мало вижу — у себя сижу.
Только обедать да ужинать выхожу.
После ужина приходит Ваня.
Ваня жалуется, что его допрашивал Петр Акимович, кричал на него, а Андрей заступился и сказал: «Иди себе». Уходя, Ваня услышал, что Андрей сказал:
— Что же, он благородно поступает, что ее не выдает.
Мы решили на них внимания не обращать. Смотреть на них всех, будто все это снится. Проснешься и пройдет.
Правда ведь — пусть они снятся, а начнешь выдумывать, словно проснешься — и все явь.
Мы даже с Ваней так в шутку говорим: «А мне снилось, что Тимофеич бранил Андрона». Или: «Мне снилось, что невестке письмо пришло».
Вчера встретил меня Петр Акимович в коридоре, остановился и так строго спрашивает:
— Когда этому безобразию конец?
— Оставьте вы меня в покое, — говорю, — и так это равнодушно говорю, точно и вправду мне это во сне снится, и прошла мимо.
Петр Акимович топнул ногой и кричит мне вслед:
— Я приму меры.
Ну и пусть меры принимает. Худо то, что в этих снах и холод, и голод, и боль, и обиду чувствуешь.
Сегодня мы с Ваней говорили, что хорошо бы было гашиша попробовать. Говорят, что тогда, о чем думаешь, въявь представляется. Опиум тоже хорошо. Достать бы где-нибудь.
А, вот такие меры они приняли?
Оказывается, они Ваню в Терхово, в лес услали. — Там в лесной конторе будет жить.
Все сижу в своей комнате. Тоска. Пока читаю, ничего, а как начну выдумывать, прямо несносно, потому что рассказать некому.
На третий день приехал лесничий и привез мне письмо от Ивана.
Пишет, что тоскует и только тем и спасается, что по вечерам сам себе рассказывает. Пишет тоже, что приезжал фельдшер и в аптечке у него он видел опиум. Очень просил, а фельдшер не дал. Ваня хочет у него опиум стащить, когда фельдшер в другой раз приедет… Спрашивал еще, чем кончилась последняя история.
Я ему написала и дала леснику ответ.
Оказывается, письмо мое Петр Акимович у лесника отнял и разорвал.
Что же, и письмо — грех?
А, так-то? Ладно!
Петр Акимович запретил мне письма передавать и от меня брать. Хорошо.
Да что я, — маленькая, что ли? Возьму лошадей и поеду к Ивану. Кто мне запретит?
Так и сказала брату.
Крик, шум поднялся; а я гляжу и думаю: «Это во сне», и стою на своем: «Выделяйте меня, я буду жить одна, не хочу вашей опеки, я — совершеннолетняя».
— Ты-то совершеннолетняя, да позабыла, что Иван несовершеннолетний, — говорит Андрей так ехидно.
— И плевать мне на вашего Ивана. Отдайте деньги, — я за границу уеду.
— Совсем баба сбесилась! — кричит Петр Акимович.
— Отстаньте от меня. Подавитесь и деньгами. Я и без денег уйду и вправду любовника заведу.
Вдруг Петр Акимович как размахнется… и ударил бы, да невестка не своим голосом закричала, и припадок с ней сделался…
Для невестки не хочу эту свару разводить. Потерплю, пока поправится. Смирюсь пока.
Скорей бы только этот сон прошел. А я уйду от них, хоть в скит.
Как это случилось? Я даже хорошенько не помню. Сидели мы за обедом, вдруг вбегает Аннушка и кричит:
— Верховой из конторы! Иван Семенович помер.
Мы все так и остолбенели.
Вот сижу я в горнице, где Ваня на столе лежит.
Петр Акимович в город поехал, гроб заказать.
Вечером везем домой покойника.
Это он опиум стащил у фельдшера, чтобы сны видеть, да много очень выпил.
Когда мы приехали из города, фельдшер уж там был и сразу догадался, потому что накануне у него банка пропала, и в стакане остатки еще не высохли.
Когда Ваню в большой горнице на столе положили, я, его каморку прибирая, за образом склянку нашла. Половину только выпил.
Когда Ваню обрядили и посторонние вышли, Петр Акимович схватил меня за плечо, пригнул к полу и говорит:
— Смотри, подлая, что ты наделала! — а у самого слезы из глаз.
Брат Андрей насмешливо улыбается и сквозь зубы цедит:
— Романическое приключение. Подумаешь, какие глубокие страсти у нас в Верховенках.
— В городе-то, в городе что будут говорить! — схватился за голову Петр Акимович…
Я смотрела на них, и так мне странно стало.
Все у меня в груди колотится, ноги тяжелые, как не мои, и голова кружится, но только я совсем спокойна.
Скорей бы кончилось, и покой мне дали… Да не скоро покой будет. Сцен этих, упреков и намеков не оберешься целый год.
Сижу я и смотрю на Ивана: спокойно так лежит. А ведь он теперь сон видит.
Знаю, что видит, потому что лицо у него всегда было глупое, а как станет рассказывать, сразу меняется — совсем другой…
Вот и теперь лицо у него умное и счастливое.
Видит. Наверно видит… и не сон, а явь.
Явь! Ему теперь уж не приснится, как Петр Акимович ругается, или там контора… или Варвара, и даже я не приснюсь.
И повезло тебе, Ваня! Снится тебе сон… там ведь один большой, прекрасный сон…
И что ты видишь? Может быть, тот праздник, что мы давали, когда я графиней была, и принц меня любил?
А может быть, и лучше, в тысячу раз лучше, потому что мы ведь только «из снов сны делали». Теперь ты все знаешь. Рассказал бы!.. Не хочешь?.. Хорошо, я и сама узнаю; банка-то за образом стоит.
Вернулся Петр Акимович. Народу набралось даже из го рода… Панихида…
Все на меня косятся… шепчутся…
Вот глупые-то, при чем тут я?
Да смотрите, смотрите: мне все равно… Вот отстою панихиду, и прощайте… Снитесь себе сами.
ОН Рукопись, найденная в бумагах застрелившегося доктора
Дорогой доктор! Простите, что я не ответила вам на ваше первое письмо. Вы пишете второе; как это мило, что вы не считаетесь письмами.
Ваше участие, ваша заботливость, поверьте, всегда останется одним из лучших моих воспоминаний.
Вы были так внимательны ко мне! А главное — я вам обязана рассудком.
Вы блестяще вылечили мою болезнь в самый короткий срок. Вы даже сами удивились, что галлюцинации, припадки бешенства вы исцелили несколькими баночками брома и теплыми ваннами в какие-нибудь две недели. Поразительный случай!
Милый, хороший доктор, я слышала, что вы докладывали о моем «случае» на каком-то медицинском съезде!
О, как мне совестно! За всю вашу заботу и ласку я так вас обманула!
Не сердитесь на меня и не думайте обо мне дурно. Согласитесь сами: кому охота сидеть в сумасшедшем доме?
Я и притворилась, что согласна со всеми, что страдаю галлюцинациями и бредом, что все случившееся — одно мое больное воображение… Мне хотелось на свободу.
«Пришлось здоровому человеку согласиться с другими, что он сумасшедший, чтобы его признали здоровым».
Оцените, доктор, этот житейский парадокс!
Посмотрите, как я смело даю вам в руки документ, удостоверяющий, что я никогда не вылечивалась от того, от чего вы меня лечили.
Но я нисколько не боюсь. Здесь, у тети в Сорренто, знают больше вас, а моим родным в Петербурге вы ничего не скажете. Маму и Шуру вы побоитесь огорчить, а брату Косте…
Сознайтесь, вы немного опасались, что я заразила брата моим безумием.
Вы сказали маме: «Нервные болезни иногда бывают заразительны. Константин Петрович — человек, кажется, нервный, и ему не следует долго оставаться с Еленой Петровной».
Костя сделал глупость, проболтавшись вам кое о чем.
Нет, вы никому не покажете этого письма, потому что я этого не хочу.
Письмо мое имеет цель, и вы ее узнаете.
Теперь хоть созовите целый полк психиатров для моего освидетельствования, никто меня не признает даже за особенно нервную особу. Недавно мне пришлось оказать помощь нескольким раненным при несчастном случае, и доктор, которому я помогала, советуя мне учиться медицине, сказал: «У вас большое присутствие духа и удивительно крепкие нервы». О моих слезах, припадках, обмороках — нет и помину. Ведь все это происходило потому, что я сама считала себя нервнобольною, боролась против «него», против «галлюцинаций» — боялась сойти с ума!
Я вздрагивала, озиралась со страхом, превращала ночь в день, плакала, просила помочь мне, вылечить меня, спасти, и все всем рассказывала… ну и пошло, пошло.
Вы меня часто просили рассказать и даже записать подробно всю эту историю; я знаю, у вас много хранится записок ваших пациентов — «записок сумасшедших», — вот я и исполняю ваше желание; приобщите эту рукопись к вашей «сумасшедшей библиотеке», но, повторяю, я имею свою цель.
Я встретила его в первый раз на набережной реки Пряжки. Я шла с урока английского языка, который давала трем идиотам — отвратительные были мальчишки.
Я была зла и, поверьте, думала только о том, как бы скорей дойти до трамвая и приехать домой. Я шла, по обыкновению, очень скоро. Было около четырех часов, и зимний закат догорал яркой багровой полосой. И вот я его встретила…
Я обратила на него внимание потому, что это был единственный прохожий в эту минуту.
Сначала мне бросилось в глаза его пальто с меховой шалью и рукавами, обшитыми мехом.
Теперь эти пальто вошли в моду, а тогда их мало носили. Поравнявшись, я взглянула ему в лицо.
Шура показывала вам мой набросок. Правда, красив? Но разве мало красивых людей! Меня поразило сочетание светло-зеленых огромных глаз с черными бровями и ресницами.
Дойдя до угла Офицерской, я оглянулась: его фигура уже скрылась.
Я даже удивилась, зачем я обернулась, и простояла несколько секунд, прежде чем повернуть на Офицерскую. Это случилось или в среду, или в понедельник, или в пятницу: я давала уроки три раза в неделю.
У меня было много дела на другой день, дела спешного и кропотливого — я делала выписки из многочисленных книг, два раза бегала в Публичную библиотеку, проверяла целые столбцы цифр. Все это я исполняла точно и аккуратно, но странные зеленые глаза ни на минуту не оставляли меня, они все время плыли передо мной.
Сидя за уроком в следующий раз, я была занята мыслью — встречу я его или нет и… мне хотелось его встретить… чтобы хорошенько рассмотреть.
Каждый раз, идя с урока, я давала себе слово на этот раз пристально вглядеться в него, но почему-то я видела только глаза… одни глаза.
Это злило меня.
Мы так привыкли с Шурой делиться нашими мыслями и впечатлениями, даже самыми мимолетными, что я раз вечером сказала:
— Какого красавца, Шурочка, я встречаю, идя на урок к Ивановым, — ты бы моментально влюбилась.
— Брюнет или блондин? — спрашивает Шура.
— Не знаю; у него светлые-светлые глаза и черные брови.
— А какой нос?
— Не знаю.
— А рот?
— Тоже не заметила. А у него нет ни усов, ни бороды.
— Вот это на тебя похоже! Кажется, первый раз ты обратила внимание на мужчину и то не сумела рассмотреть.
Я стала припоминать, припоминать… и мне сделалось досадно, что мои мысли заняты таким пустяком.
— В следующий раз рассмотрю и доложу тебе подробно, — засмеялась я.
Когда я встретила его, я опять увидала одни глаза.
Меня это взбесило. Я круто повернулась и пошла за ним.
Он шел медленно, я бы могла его обогнать, но почему-то не решалась. Таким образом я шла за ним до Торговой улицы и увидала на другой стороне знакомого студента, который мне поклонился. Я словно очнулась, мне вдруг стало мучительно стыдно, сразу вся глупость моего поступка ясно представилась мне, да еще в комическом свете: барышня, преследующая мужчину на улице! Бог знает что такое!
Я окликнула студента, поболтала с ним о каких-то пустяках и, взяв извозчика, вернулась домой.
За обедом я со смехом рассказала об этом приключении.
Мама покачала головой:
— Хорошо, что ты вовремя опомнилась, а то бы могла нарваться на скандал; хорошо, что он не заметил.
На следующий раз я решила идти с урока другой стороной, но едва я сделала несколько шагов, как он словно вырос из-за угла, — я чуть не столкнулась с ним.
Он, как всегда, пристально и равнодушно взглянул на меня и прошел.
Книги выпали из моих рук, и я невольно прислонилась к стене. Я как-то сразу разглядела его лицо: оно словно «засияло передо мною». Все кружилось вокруг меня. Какая-то старуха остановилась и спросила, что со мной; при звуке ее голоса я очнулась, подобрала книги…
На этот раз я ничего не рассказала дома, мне было стыдно, но мама спросила меня, отчего я такая бледная.
Через неделю я переменила часы урока у Ивановых, а немного спустя отказалась от него совсем, так как в котором бы часу, какой бы дорогой я ни возвращалась домой, я всегда встречала «его».
Я отказалась от урока, чтобы не встречать его больше и забыть о нем, но я ни о чем больше не могла думать.
Я вставала с этой мыслью и засыпала с ней.
Вы думаете, я не старалась избавиться от этого наваждения? Всячески старалась, дорогой доктор.
Я никогда так много не ходила по театрам и концертам, а днем не давала себе ни минуты отдыха. Усердно занималась немецким языком, набрала массу работы: переводов, компиляций… Я себе не давала думать, но… стоило мне выйти на улицу, безразлично — куда и в котором часу… я встречала «его». Несколько раз я решала проследить, где он живет, и узнать, кто он, но это мне не удавалось: я его всегда теряла из виду.
Несколько раз я решала не выходить некоторое время из дома и не выдерживала… я уже любила его.
Я теперь понимала то, что рассказывали мне подруги и сестра. Это замирание сердца при встрече, ожидание, похожее на страх, мечты и даже беспричинные слезы. Да, я чувствовала теперь все то, над чем всегда смеялась.
Шура видела перемену во мне, не спрашивала, но, очевидно, ее обижало мое молчание.
Я ей рассказала все.
— У этого господина, наверное, много свободного времени, вот он и следит, когда ты выйдешь из дома… Это ужасно интересно, Леночка.
— Зачем он будет следить за мной?
— Очень просто! Зачем все мужчины преследуют женщин? Покажи мне его, пожалуйста, завтра.
— Да он не думает преследовать меня! Он проходит мимо и глядит совершенно равнодушно, словно мимо меня. Я сама пробовала его «преследовать», а он даже не оглянулся назад.
— Странно… но, может быть, это его манера ухаживать: изображать равнодушного… а может быть, есть много людей, похожих на него, и ты…
— Ах, Боже мой, разве могут десятками попадаться такие лица? Да я узнаю его в целой толпе.
Я говорила с Шурой, сидя за столом. Передо мной лежала рукопись начатого перевода, я машинально чертила карандашом по чистой странице, и вдруг на бумаге начал словно просвечивать едва заметный абрис его лица… мне оставалось только очерчивать линии… Шура изумленно открыла рот:
— Как ты хорошо нарисовала! Я просто бы не поверила, что это такой рисунок: ведь ты совсем не умеешь рисовать… Знаешь, я как будто где-то видела это лицо.
Она хотела уже бежать к маме с моим рисунком, но я уговорила ее не показывать — мне было тяжело и неприятно. Я казалась сама себе смешной и глупой.
После этого я его не встречала несколько дней.
На меня напала ужасная тоска — почти отчаяние. Я несколько раз расплакалась из-за каких-то пустяков, нервничала, злилась, не находила себе места.
Мама подозрительно взглядывала на меня и удивлялась: до сих пор у меня был такой ровный характер.
Один раз тоска и желание видеть его дошли до того, что, идя по улице, я почти громко крикнула:
— Приди! О, приди!
И вот тут-то со мной случился первый обморок, потому что он словно вырос передо мной из толпы и первый раз улыбнулся мне.
Упав в обморок на улице, я, конечно, попала в приемный покой.
Хорошо, что я скоро пришла в себя и сообщила свой адрес.
Дома страшно перепугались. Костя, как угорелый, прилетел за мной.
Вечером, когда я совершенно оправилась, мама пришла ко мне в комнату и села на мою постель.
— Деточка, скажи мне, — начала она ласково, — что такое с тобой происходит? Ведь я замечаю, что ты сама не своя… Зачем ты так много работаешь? Слава Богу, теперь Костя служит, Шура имеет уроки. Ты сама видишь, что прежней нужды нет. Не надо себя так изнурять, ты зарабатываешь около ста рублей, — неужели этого мало? Здоровье нетрудно потерять. Брось ты переводы или брось уроки…
Голос мамы, этот милый ласковый голос, как всегда, подействовал на меня успокоительно. Я прижалась к ней и стала целовать ее руки.
— В детстве, когда ты уж очень ласкалась ко мне, я знала, что тебе хочется чем-нибудь важным поделиться со мной, — сказала мама, гладя меня по голове. — Отчего же теперь ты не хочешь сказать мне, что тебя мучает?
— Мамочка, если бы ты знала, какая это глупость! Это не от работы, а… не спрашивай меня… мне стыдно сознаться.
— Леночка, — начала мама после некоторого молчания, — Шура намекала мне на какое-то твое увлечение… Что, это серьезное что-нибудь? Скажи мне.
Я жалась к ней и молчала.
— Я вижу, что это серьезно, — вздыхает она, — и мне жаль, что не хочешь мне сказать правды.
Голос мамы полон тревоги.
— Я не знаю, что это такое, мама: увлечение или любовь… я никогда не влюблялась раньше но… но… мне страшно тяжело! — расплакалась я и все рассказала.
Мама так и всплеснула руками:
— Лена! Да от тебя ли я слышу! Ты — такая серьезная, уравновешенна я, в двадцать четыре года! Если бы еще это наговорила мне Шурка! А то — ты! Как тебе не стыдно!
— Да, мне стыдно… мучительно стыдно, но… но… — и я залилась слезами.
— Мой тебе совет — взять себя в руки и не встречаться с этим господином.
— Мама, мама! Да ведь я же тебе сказала, что я не ищу встречи, а всегда его встречаю!
— Ну, Леночка, это твое воображение. Ты заработалась, переутомилась. Не выходи несколько дней одна на улицу, успокойся.
Мама долго сидела со мной в этот вечер. Она со своим обычным юмором подсмеивалась надо мною, смешила меня, и я заснула совершенно успокоенная, дав себе слово позабыть «его».
На другой день я не выходила из дома до вечера, а вечером вышла пройтись с Шурой.
Мое сердце усиленно билось. Встречу или не встречу?
Мы шли по нашей линии и только что завернули за угол, как я увидела на другой стороне знакомую фигуру.
— Шура! Шура! Смотри! — указала я его сестре.
Шура глянула на другую сторону, и потом я увидела ее широко раскрытые глаза, полные ужаса, устремленные на меня.
— Ты его видела, Шура?
— Ради Бога, Леночка, пойдем домой! — она схватила меня за руку и потащила.
— Что с тобой, Шура? — придя в себя, спросила я, еле поспевая за ней.
— Леночка, дорогая, не говори об этом маме!
— Что, почему?
— Не говори, ты ее напугаешь… ведь там, на той стороне, никого не было.
«Значит, это галлюцинации! — с ужасом думала я. — Но когда же они начались?
Видела ли я его когда-нибудь?
Видела ли я в первый раз этого человека или мое воображение само создало его в дымке морозного дня, на красном фоне заката?
Не все ли равно? Факт тот, что я галлюцинирую».
Я пошла к доктору.
Он мне прописал брома и холодные обтирания и запретил «усиленные занятия».
Когда я возвращалась и увидала «его», я нарочно остановилась, решив, что, если я буду смотреть дольше, — галлюцинация рассеется.
Он поравнялся со мной и тихо сказал, словно уронил:
— Зачем тебе лечиться? Не проще ли верить?
«Вот уже и галлюцинация слуха!» — с ужасом подумала я, и тут со мной случился мой второй обморок.
С этого дня меня стали лечить и не отпускать одну на улицу.
С прислугой, с Шурой, с мамой — я всегда встречала его. Я ничего им не говорила, но они догадывались об этом, потому что я начинала дрожать и страшно бледнела.
Наконец, я совсем отказалась от прогулок.
Однажды вечером мама и Шура уехали в театр, а Костя предложил мне пройтись. Я отказалась, но он настаивал, и мне пришлось рассказать ему подробно о моей «болезни».
Я со слезами говорила, как я боюсь помешаться, что лучше смерть, чем безумие. Служить предметом ужаса и быть в тягость своим близким…
— И почему это случилось? Ведь всегда я была здорова! Сумасшедших у нас в роду не было. Чем это объяснить?
— Конечно, теперь трудно, — вздохнул Костя, — а лет триста-четыреста назад объяснялось просто: завелся, мол, «инкуб», как теперь заводится какая-нибудь бацилла или микроб, и все было ясно. Вели к попу, он отчитывал, и все, проходило.
— Почему проходило?
— Да потому, что сам пациент был уверен, что поп выгонит духа, ну и исцелялся самовнушением.
— Значит, прежде было лучше, — грустно вздохнула я.
— Ну, матушка, вовсе не лучше! Тебя за твои галлюцинации могли и на костер потащить. Меня, знаешь, очень интересовали все эти средневековые верования. Я много читал книг по демонологии и так называемым тайным наукам и уверяю тебя: если бы мы с тобой жили в то время, я сейчас же бы стал тебя отчитывать.
— Попробуем, Костя, — сказала я, смеясь.
— Ну, милая, тебе этим не поможешь, ты в это не веришь, — какое же это будет самовнушение!
— А ты знаешь заклинания?
— Представь, знаю несколько формул для изгнания бесов и ни одной для вызова. Впрочем, говорят, вызывать черта очень легко — прогнать трудно. У Гофмана есть рассказ «Стихийный дух»[4]; так там колдун, чтобы вызвать нечистую силу, берет французскую грамматику и начинает: «Avez vous un canif? Non, monsieur, mais ma soeur a un crayon»[5]. На девятой фразе черт уже является. Да пойдем, Леночка, погуляем; смотри, какая лунная ночь!
— Я боюсь.
— Брось! Ты мне укажешь своего инкуба, а я пойду и вызову его на дуэль или просто дам по шее. Ну, идем одеваться!
Костя был весел, болтал и понемногу развеселил меня. Мы скорым шагом шли через Николаевский мост, когда я слегка замедлила шаги и, дернув Костю за рукав, шепнула: «Вот он!»
«Он» поравнялся с нами и прошел. Костя обернулся и посмотрел ему вслед.
Я ждала от него того ужаса и испуга, который я видела в глазах Шуры, и с удивлением смотрела на него.
— Действительно, красивое лицо! Я, кажется, где-то видел его, — произнес он спокойно.
— Ты видел его?
— Кого? Господина в шубе и шапке? Конечно, видел.
— Да ведь это «он»! Он! Моя галлюцинация.
— Твоя галлюцинация? Но на этот раз ты указала не в пустое пространство, а на человека.
— Что ж это такое? — с ужасом произнесла я.
— Да чего же ты волнуешься? Слава Богу, что на этот раз ты не галлюцинировала.
— Да, но тогда «он» существует?
— Этот, что прошел, очевидно, существует, так как он даже задел меня рукавом.
— Но мама и Шура его не видели!
— Значит, тогда его не было.
— Костя, это еще хуже!
— Почему?
— Значит, он существует?
— Ну так что ж?
— Да ведь я его люблю! Понимаешь, люблю! — вырвалось у меня со слезами.
— Незнакомого, за один вид? Лена, постыдись!
— Я стыжусь! Стыжусь! Но мне от этого еще тяжелее. Все прекрасно понимаю и знаю. Что могли бы мне сказать другие, я тысячу раз сама себе говорила, и… и ничего не помогает. — Я расплакалась.
— Ну не плачь, Лена, если в другой раз мы его встретим, я узнаю, кто он, постараюсь познакомиться… Я уверен, что, когда отпадет фантастический элемент, твоя дурь сразу исчезнет.
Вы, дорогой доктор, со слов Кости знаете, как он несколько раз, бросив меня на улице, устремлялся за ним, но всегда терял его.
Последний раз мы шли все вместе: мама, Шура и Костя.
«Он» прошел мимо, и Костя, бросив маму, которую вел под руку, ринулся было за ним.
— Что с тобой? Куда ты? — спросила мама удивленно.
— А вот я ему… — начал Костя и вдруг побледнел, пробормотал: «Мне показалось», — и, взяв маму под руку, молча пошел вперед.
— Ты опять упустил его, Костя, — сказала я с упреком.
— Лена, милая, на этот раз я сам ошибся: на улице не было ни души.
С этого дня Костя перестал говорить со мной об этом.
А я все ходила, ходила к доктору и «не поправлялась». Только к доктору теперь я и ходила, боясь встречи.
Один раз, когда я шла с мамой, он вдруг повернулся и пошел рядом со мной. Я замерла от страха.
— Зачем ты не веришь? Зачем ты борешься сама с собой! — услышала я опять его голос.
— Не хочу, не хочу! Мама! Мама! Спаси меня! — закричала я на всю улицу.
Меня стали возить к доктору в карете с опущенными шторами.
Я была в полном отчаянии.
Я видела, что мама и Шура, хотя скрывают и стараются быть веселыми, страдают и живут в постоянном страхе за меня.
Я так измучилась.
Костя был мрачен и, казалось, избегал меня.
Я не видела «того» уже целую неделю. Я страшно боялась и в то же время мучительно хотела видеть его.
Вот тогда-то и начались мои сны.
Первый раз это был настоящий сон. Что-то несуразное. Я читала на ночь историю французской революции и вспоминала с Шурой о гимназии, в которой мы учились.
И я видела во сне, что спасаюсь с начальницей гимназии от Марата. Начальницу поймали, а я укрылась в какой-то погреб…
«Он» вошел в этот погреб, и я отдалась ему…
Я не проснулась, и сон продолжался, глупый и путаный.
Второй сон тоже был сон. Я очутилась с ним в какой-то комнате, низкой, темной, освещенной оплывшим огарком, с убогой мебелью и жесткой широкой кроватью, покрытой каким-то тряпьем, но… но «он» был со мной, и я была так счастлива!
Я вышла утром на улицу и… «не встретила» его.
У нас был словно праздник.
Мама ожила. Шура несколько раз принималась танцевать.
Я легла с надеждой, что я «поправлюсь».
Во сне я чистила какие-то ягоды, беспокоилась о филипповских калачах… и вдруг меня что-то встряхнуло, кто-то громко и властно позвал меня, и я проснулась.
Уверяю вас, доктор, что я проснулась.
Я стояла на каменной лестнице и отворяла двери в какую-то квартиру.
Я прошла две или три темные комнаты и вошла в ярко освещенную богатую спальню.
Я вам подробно описывала эту комнату, вы еще все хотели меня поймать и подробно расспрашивали о сюжетах гобеленов на стенах, о форме мебели, одним словом — о всех мелочах обстановки.
«Он» встретил меня словами:
— Наконец! Право, у тебя огромная сила воли. Как долго ты мне противилась — я уже начинал терять надежду.
Я стояла как потерянная и молчала.
— Иди же, иди ко мне, милая! — заговорил он, протягивая ко мне руку. — Ну, чего ты боишься? Я пугал тебя, когда хотел просто видеть тебя или говорить с тобою, а теперь вообрази, что это сон, — и он обнял меня.
— Ведь это — сон? — произнесла я, обвивая его шею руками и смотря в эти светлые, чудные глаза. «Странный, реальный сон!»
— Думай, что это сон, пока ты не привыкнешь ко мне, пока всецело не доверишься мне. Ты иначе слишком пугаешься меня, а вот теперь ты не бежишь, не сопротивляешься, — я нахожу, что так лучше. Ты любишь меня?
Любила ли я его?!
Теперь, во сне, я безумно, бешено целовала его и твердила: «Это сон, сон, сон».
Потом спустился какой-то туман, началась опять путаница обыкновенного сна, и я искала какие-то галоши, чтобы ехать на аэроплане.
Я теперь уже не встречала его больше. Все мы ликовали.
Я сказала, что вижу его во сне, но, конечно, снов моих никому не рассказывала.
А сны эти были моим счастьем! Я торопилась лечь вечером спать, а днем я была весела и спокойна, потому что я вспоминала.
Одно смущало меня — удивительная реальность этих снов и то, что он всегда уверял меня, что это не сон, а «он» вызывает меня к себе силою какой-то тайной науки.
— Все это глупости, моя фантазия, мои больные нервы и больше ничего. Сон! Сон! Оттого-то я так и смела, оттого так и ласкаю и целую тебя! — говорила я, прижимаясь к нему. — Ну, а скажи, отчего первые два сна были — сны?
— Я ехал из Петербурга сюда, в Неаполь, и мне было неудобно в дороге серьезно заняться вызовом тебя: я просто вошел в твой сон.
— А, значит, мы в Неаполе? — смеюсь я.
— Да, в Неаполе.
— Вот ты и попался! Мама вчера входила в мою комнату и сказала, что я крепко спала. Попался!
— Нисколько. Твоя телесная оболочка оставалась там, а твое астральное тело было у меня.
— Какое астральное тело?
— Это объяснять долго — потом сама узнаешь, а если интересуешься, прочти в какой-нибудь книге или спроси у брата — он знает. А теперь целуй меня, дай мне целовать тебя и забудь все другое.
Как только я вошла к Косте, я спросила:
— Дай мне, пожалуйста, книги, о которых ты говорил.
— Нет, Елена, это совсем тебе неподходящее чтение. Я сам их бросил читать, страшно действуют на нервы.
Я долго колебалась и наконец, откинув всякую стыдливость, подробно рассказала Косте мои сны.
Он смотрел на меня с удивлением:
— Ужасно странно, что эти нервные болезни появляются в одинаковой форме во все века и у всех народов.
— Костя, расскажи, что ты знаешь об этом! — в волнении схватила я его за руку.
— Я думаю, что тебе, Леночка, надо выйти замуж.
Я залилась слезами.
— Какая гадость! Какая гадость! — твердила я. — Этого больше не будет. Я попрошу маму разбудить меня ночью. Я не хочу! Я не хочу!
Со мной сделалась истерика, и Костя едва успокоил меня.
В ту ночь я вошла к нему со стыдом, со злостью и еще с порога крикнула:
— Я не хочу тебя! Слышишь, не хочу! Я ненавижу эти сны! Ненавижу тебя, твои чары!
— А, значит, ты веришь уже в чары? — с улыбкой спрашивает он.
— Нет, не верю! — кричу я. — Не хочу верить! Это — скверная, гадкая, позорная болезнь. Не смей дотрагиваться до меня. Я не хочу твоих поцелуев. Слышишь?
— Как я люблю таких смелых, энергичных противников!.. Когда я тебя увидел в первый раз, я сказал сам себе: вот девушка здоровая, сильная, без всяких признаков истерии, неврастении, девушка с железными нервами, с огромным характером, и… она будет моей! Мне нравится борьба, но все же для твоей пользы я тебе не советую бороться со мной.
— Нет, нет! Это болезнь, это сон! — кричала я в отчаянии, стараясь не смотреть на него.
Он подошел ко мне, и эти сияющие глаза, эти губы были так близко, и я чувствовала, что еще мгновение, и…
Вдруг все словно рушилось вокруг меня со страшным треском. Я проснулась!
Я увидела над собой испуганное лицо матери…
Я корчилась на постели от страшной боли в спине и затылке и кричала… кричала…
Три доктора возились со мной до утра. Пришлось впрыскивать морфий… но боли не проходили.
— Убейте меня! — кричала я. — Убейте, если есть у вас жалость! Что он делает со мною! Да помогите же мне чем-нибудь! Отчитайте меня! И «ты», ты, который говоришь, что любишь меня, зачем ты меня так мучаешь? Сжалься! Я не буду бороться против тебя. Я покоряюсь! — И вдруг боль сразу прошла.
Я смотрела на всех дикими глазами и понемногу приходила в себя…
— Мама, — сказала я в этот день, ложась спать, — ты уж, пожалуйста, не буди меня среди ночи.
— Хорошо ты была наказана? — спросил он меня на следующую ночь.
— Я больна и буду лечиться, — отвечала я упрямо, покорно отдаваясь его ласкам.
В этот раз я ходила по комнате, рассматривала все предметы, ощупывала их, пила вино, стоящее на столе, щипала себя, колола булавкой.
Он следил за мной с насмешливой улыбкой, сидя в высоком резном кресле.
На нем была накинута та же широкая белая одежда, в которой он всегда встречал меня.
Я подошла к нему, провела рукой по этому мягкому белому шелку, рассмотрела пристально арабеску золотой вышивки.
Он молча обнял меня, смотрел мне в глаза своими длинными зелеными глазами и улыбался ярким ртом.
«На этот раз я проснусь», — думала я.
Но я не проснулась…
Едва он выпустил меня из своих объятий, я вскочила с кровати и, шаркая нарочно сильнее по ковру босыми ногами, подошла к окну и взялась обеими руками за портьеру из старинной парчи.
Он говорит: мы в Италии. «Хорошо… я вот сейчас откину портьеру и „хочу“ увидеть за окном нашу пятую линию Васильевского острова, или русскую деревню, или…»
Я сразу раздвинула портьеру.
Передо мной узкая улица с высокими старинными домами — кое-где свет в окнах; на углу на высоте второго этажа статуя Мадонны с лампадой перед ней, а как раз напротив вывески «Sale е Tabacchi… Merceria…»[6].
Я с отчаянием закрыла портьеру.
Когда я со вздохом отвернулась от окна, я увидела, что он лежит на постели, облокотившись на подушку, и с насмешливой улыбкой смотрит на меня.
— Ну что? — спрашивает он тихим голосом.
— Нет, это сон, сон!
— Ну, пусть сон. Иди сюда, любовь моя, — и он протягивает ко мне руки.
Вдруг одна мысль словно молнией прорезала мою память…
От радости я даже подскочила и захлопала руками.
— Поняла, поняла! — вдруг залилась я радостным смехом. — Теперь мне все ясно, теперь я знаю, что это сон! Ведь перед тем, как заболеть, я читала… да-да, читала «Братьев Карамазовых»… Ведь это оттуда, это разговор Ивана Федоровича с чертом… тот тоже уверял, что существует… О, теперь я понимаю! Все понимаю!
— Я не понимаю — не объяснишь ли ты? — насмешливо сказал он.
— Читали ли вы, г-н черт, «Братьев Карамазовых»? — тоже насмешливо спросила я.
— Нет! Это фантастический роман? Я не люблю фантастических романов. Люди, не зная настоящей науки, пишут всегда ужасные глупости, все перепутывают.
— «Братья Карамазовы» — фантастический роман? — вдруг разразилась я.
— Да ведь там же говорится о каком-то черте.
Я сама не знаю, почему я вдруг страшно обиделась пренебрежением, с каким он говорил со мной, и, упав лицом в подушку, расплакалась.
— Ну, милая, не плачь! Как мы могли бы быть счастливы, если бы ты не сопротивлялась и верила мне. Ну, если тебе хочется, расскажи мне твою фантастическую историю…
Его руки обнимали меня, я, как всегда, чувствовала теплоту его тела, но на этот раз, когда я привязывалась ко всем мелочам, желая напасть на какую-нибудь несообразность, я почувствовала легкое давление кольца на моем плече.
Я схватила его руку:
— Дай мне твое кольцо! Если это не сон, я проснусь с ним завтра.
— Милая, астральное тело может переносить легкие предметы, и мое кольцо ты найдешь у себя завтра. Подумай, как ты испугаешься, сколько будет вопросов, допросов, докторов… Вот если бы ты мне верила… Я не хочу тебя мучить. Поверь мне — и мы будем счастливы. Мы могли бы путешествовать с тобой, я бы показал тебе так много прекрасного и интересного, но теперь я не могу вывести тебя из этой комнаты, потому что ты начнешь опять бороться против сна — бросишься к прохожим и… будут явления для меня нежелательные. Поверь, о поверь мне! Ведь рано или поздно я сломаю твое неверие.
— Вот дай мне кольцо, и я поверю.
— Я тебя хочу охранить от неприятностей и кольца не дам.
— Хорошо, вот я затыкаю эту розу в волосы и крепко сожму ее рукой, когда буду просыпаться.
— Напрасно — лучше бы верить мне просто.
Первой мыслью моей, когда я проснулась, была эта роза — я нашла ее и подняла отчаянный крик.
— Ты, верно, сама вчера купила цветок и забыла об этом, — сказала мама взволнованно, — теперь, после болезни, у тебя стала плохая память: помнишь, как ты уверяла меня недавно, что ты отдала прачке твою белую блузочку?
— Да, я могла забыть, что я отдала прачке, но забыть, как я вошла в магазин, купила розу, прятала ее где-то целый день от всех и потом утром нашла в постели!
— Напрасно вы так думаете, — заметил доктор, — у нервнобольных это случается. Еще более длинные периоды времени совершенно исчезают из памяти.
И доктор уложил меня в постель на целый день: я была так слаба и расстроена всем происшедшим и волнением и испугом мамы, которая, очевидно, начинала приходить в отчаяние.
Вечером Костя пришел навестить меня.
— Опять ты, Леночка, расхворалась. Пора бы тебе поправиться.
— Ах, Костя, Костя, ты знаешь про розу?
— То есть о том, как с тобой был припадок потери памяти? Да, доктор мне говорил, а ты не огорчайся…
— Слушай, Костя, ты читал в «этих книгах» о подобных случаях?
— Да… Э, брось, Лена. Я пришел к заключению, что эти книги читать нельзя. Недаром народ называет их «черными»; они, право, расстроят нервы, их нельзя читать… Не будем говорить об этом… Хочешь, я дам тебе совет. Сегодня, если опять увидишь сон, дай ты своему инкубу по физиономии. Посмотри — прахом рассыплется. Брось, сестренка, глупости, не думай, и все пройдет.
Совет, который шутя дал мне Костя, засел у меня в голове.
Когда я пришла к «нему», я все время улучала момент.
Я заметила, что он как-то особенно пристально смотрит на меня.
Я ходила по комнате, все более и более уменьшая круги и ближе и ближе подходя к дивану, на котором он лежал. Лицо его было странно насмешливо, глаза прищурены. Тело его, как желтовато-розовый мрамор, резко выделялось на темной кордовской коже дивана.
Я вдруг сделала несколько быстрых шагов и замахнулась, но он тотчас схватил меня.
Я вскрикнула: так крепко сжал он мою руку.
Брови его сдвинулись, и я испугалась его лица.
— Этого я не позволю. Никогда этого не пробуй.
Он толкнул меня, я упала в кресло, смущенная, испуганная и дрожащими руками закрыла лицо.
— Уходи теперь, — услышала я над собой спокойный, равнодушный голос, — сегодня я не хочу тебя видеть.
И я перешла в «простые сновидения».
Утром я всем показала пять круглых багровых синяков от схватившей меня руки.
Все это объясняли очень просто: я сама во сне сжала себе руку.
Этому я готова была верить. Один раз на даче я насадила себе синяков о деревянную кровать и не проснулась.
Прислуга наша последнее время стала побаиваться меня, как, вообще, простые люди боятся испорченных, какою она меня считала, но, видя мои синяки, она мне сказала:
— Вы, барышня, спать ложитесь без молитвы, эдак не годится: домовой это щиплется… один раз мою тетку прямо избил.
— Как же это было, Аннушка, расскажите мне.
— Тетка моя, барышня, очинно мужа своего покойного любила; как он умер, в речку кидалась… и все это выла, выла… смучились мы с нею. Батюшка ей это: «Смирись, Агафья, молись». А она ему: «Не хочу молиться: коли Бог меня моей жизни решил, — не хочу!» И такое еще сказала, что даже все обомлели от ее слов. Убивалась она это, убивалась — вся высохла даже. Мы ее в больницу возили, в земскую, да разве доктора что понимают… а была у нас в двадцати верстах знахарка… Тетку свозили к ней, и диву все дались: как рукой сняло. Верите, барышня, совсем как рукой сняло. Веселая стала такая, работает, песни поет, шутит. Только с нами в избе ночевать не стала — все на сеновал уходила. Под осень холодно уж стало, я ей и говорю, значит: «Тетушка Агафья, холодно на сеновале-то», а она мне таково весело: «С милым другом и в проруби тепло». Это, барышня, — таинственно подвинулась ко мне Аннушка, — к ней нечистый, будто ее Афанасий-покойник, ходил.
— Ну и что же потом было?
— Отчитывали в монастыре, у старца отчитывали: наш-то батюшка отказался — суеверие, говорит.
— Отчитали?
— Отчитали. Как она в себя пришла, так уже ужаснулась! На богомолье ходила и скоромное перестала есть.
— А как же вашу тетку избили-то?
— А это, барышня, было, когда мы замечать стали… Раз и говорит мне брат Никита: «Спрячемся на сеновал, посмотрим…»
— Аннушка, — вошла мама в комнату, — вместо того, чтобы болтать глупости, идите лучше в лавку.
Вечером Костя, придя навестить нас, со смехом спросил:
— Ну что, исполнила мой совет?
Я молча показала ему синяки.
Он осмотрел мою руку и, слегка побледнев, пробормотал:
— Странно… след правой руки на правой руке и руки больше твоей… это не ты сама…
— Правда, Костя?
— Да не волнуйся, Елена. При нервных болезнях и не то бывает. Существует такой вид болезни, что появляются раны и из них течет кровь. Эта болезнь носит даже особое название «стигматизм» и в Средние века была довольно распространена, да и теперь, хотя очень редко, наблюдается в женских монастырях на Западе.
— Какая же это болезнь?
— Раны, как у распятого Христа. Следы тернового венца на голове, раны от гвоздей на ладонях и на ступнях и от копья под ребром. Появлялась эта болезнь у экзальтированных монахинь, как говорят теперь, на почве истерии. У тебя, как у человека нерелигиозного, она, верно, проявилась в иной форме.
— Я теперь просто-напросто выброшусь из окна, должен же будет сон прекратиться тогда?
— Нет-нет, Елена, ты этого не делай. У людей в таких болезнях находили переломы и поранения, которые они наносили себе во сне. Один священник посоветовал женщине, которую, по ее словам, какой-то дух уносил к себе в башню, сброситься с этой башни. Неизвестно, последовала ли она его совету, но ее нашли наутро мертвой. Лучше, если ты хочешь проверить, возьми у него кольцо, только смотри, Елена, не показывай его никому… Тьфу! Какая глупость! Конечно, никакого кольца не будет, и ты успокоишься. Ну, прощай, сестренка, не ссорься со своим духом во избежание синяков.
Три ночи он не целовал меня!..
Он был ласков, приветлив, рассказывал мне много интересного, но… ни одного поцелуя, ни ласки, ни страстного слова…
А сам был прекрасен, так волшебно-прекрасен!
На четвертый день я лежала у его ног и с безумными слезами молила о прощении, и… он простил меня… «Это сон! Это сон! — говорила я. — Но пусть он снится, этот волшебный, чудный сон!»
— Ты стоишь на своем?
— Не будем поднимать этого вопроса. Дай мне кольцо… Я хочу верить, но не могу… я сама хочу верить.
— Возьми, — вдруг протянул он мне кольцо, — но я прошу тебя поверить сразу, не проверять, не показывать другим. Ты сама видишь, как ты пугаешь своих домашних, как ты волнуешься.
— Я не покажу, — тихо сказала я, одевая кольцо на свой палец.
Наутро поднялось целое следствие.
Розу я могла купить и потом позабыть об этом, но кольцо?
Купить я его не могла. Его возили к ювелиру, который сказал, что ему не случалось видеть такого изумруда, и после долгого осмотра он оценил его в несколько тысяч.
Значит, я «бессознательно украла» это кольцо где-нибудь?
Меня повезли к доктору.
Доктор меня пробовал усыпить, надеясь, не скажу ли я что-нибудь под гипнозом.
Но как он ни бился, я не заснула.
Взволнованная, измученная, я начала нервно хохотать ему в лицо и издеваться над его ничтожными знаниями.
— Ухватили хвостики великой науки, — кричала я, — назвали чары гипнозом и думают, что они могут бороться с волей человека, а может быть, духа, стоящего на вершине этого знания!
Я опомнилась. Зачем я это говорю; ведь все они сочтут меня за сумасшедшую.
Но было поздно: мама упала в обморок, окружающие смотрели в сторону, и я поняла, что все решили, что я сошла с ума.
Домой я вернулась мрачная.
Опять я ему не поверила, не послушалась. Я мысленно просила прощения. Я верила, я верила.
Ложась спать, я потребовала, чтобы мне отдали кольцо, я хотела возвратить его, я знала, что Шура заперла его в зеркальный шкаф.
Мне почему-то отказали. Я настаивала, хотела его достать сама — Шура схватила меня за руки.
Тогда я разбила зеркальный шкаф и бросилась на Шуру.
Доктор посоветовал не раздражать меня и отдать мне кольцо.
Я возвратила кольцо. Я просила прощения. Он смеялся и говорил, что я и так хорошо наказана.
В эту ночь мы в первый раз вышли из дома.
О, как прекрасно было море в эту тихую лунную ночь. Цвели апельсины и миндаль. Как легко, как хорошо мне было…
Я смущалась, что на мне нет одежды, и «он» дал мне какой-то тонкий белый блестящий плащ.
— Ведь тебя не видят, — смеялся он.
И правда, редкие прохожие проходили, словно не видя меня, только какая-то старуха с подавленным криком бросилась в сторону.
— Она кое-что смыслит в науке, — сказал он, ласково взглянув на женщину.
На следующий день меня поместили в вашу лечебницу, доктор.
Я не сопротивлялась. Поздно было разуверять окружающих.
Кольцо, как вам известно, искали очень тщательно, и не нашли; сами вы осматривали меня рентгеновскими лучами, думая, что я проглотила его.
Первую ночь в вашей лечебнице я от волнения и беспокойства за маму не могла заснуть.
Я вертелась с боку на бок.
Меня злило, что я заперта на ключ и что из окошечка коридора ко мне кто-то постоянно заглядывал.
— Неужели я не усну и он не позовет меня? — думала я и начинала приходить в отчаяние, но вдруг дверь отворилась, и «он» вошел.
Я бросилась к нему, счастливая, плачущая от радости, где я и что со мною.
— Хорошее ты себе доставила развлечение! Добилась-таки, что тебя посадили в сумасшедший дом, — смеясь и целуя меня, сказал он.
— О, теперь мне все равно. Ведь и здесь я могу спать, и ты будешь меня брать к себе. А сегодня хоть я и не заснула, а ты пришел ко мне.
— Мне было очень трудно это сделать, но мне хотелось утешить тебя немного.
— Немного! Да я опять счастлива! Но… но скажи, как тебя зовут и кто ты? Теперь я верю и хочу все знать про тебя.
— О, женское любопытство! Ты, конечно, знаешь миф об Амуре и Психее, легенду о Лоэнгрине, о рыцаре Реймонде и Мелюзине, русскую сказку о «Финисте — ясном соколе»? Помнишь, как те, кто желал проникнуть в тайны своих не совсем обыкновенных супругов, — теряли их? Эти истории сильно приукрашены, но факты верны. Ты любишь меня, ты теперь веришь мне — зачем тебе знать, кто я и как меня зовут? Разве ты не счастлива?
— Счастлива, но мне хочется называть тебя как-нибудь.
— Дай мне сама какое-нибудь имя.
— …Ну, как называла тебя твоя мать?
Он весело засмеялся:
— Моя мать? О, это было так давно, так давно.
— Но ты — юноша, ты, пожалуй, одних лет со мною.
— Я — ученый. У науки есть средства сохранять вечную юность.
— Но тогда бы все ученые были молоды!
— Настоящие — да. Они могут сохранить свое тело в том возрасте, в котором они узнали высшее знание, но обыкновенно высшего знания достигают уже в старческом возрасте; один Сен-Жермен сравнительно еще не старый человек.
— Граф Сен-Жермен… Калиостро… Я о них что-то читала.
— И, очевидно, очень мало, так как ставишь эти два имени рядом. Калиостро был посвящен в начатки науки, стоял еще на первых ступенях знания. Ему была дана одна небольшая миссия. Но он стал профанировать науку, и у него отняли силу. Лишенный силы, для поддержания своей славы и положения он пустился в шарлатанство, попался и жалко окончил свое существование в итальянской тюрьме. Употребление своего знания на пустяки — простые «фокусы за деньги» — должно караться рано или поздно.
— Постой, а разве ты добивался не пустяка? Что для тебя любовь такой ничтожной, простой девушки, как я?
— Ты сама не знаешь еще твоего великого назначения. Я взял тебя себе в супруги. Ты получишь и знания и силу, и не будет во всем мире царицы, равной тебе. Придет время, и ты возвеличишься над всеми женщинами, и всё преклонится перед тобою. Пока тебе больше не надо знать, но ты должна вполне довериться мне.
— Доверяюсь вполне.
— Отдаешь ли ты мне твою волю, сердце и душу?
— Отдаю, — прошептала я, полная земного восторга, склоняясь в каком-то страстном порыве к его ногам.
— Встань, супруга моя, и ты будешь царствовать вместе со мною.
Он поднял меня и прижал свои горячие губы к моим.
— А скажи, милый… — смущенно спросила я, когда он, усадив меня рядом с собою, гладил мою голову, — твоя сила ведь — добро и для добра? Не злой же ты дух?
Он расхохотался:
— Остатки старых суеверий! Не считаешь ли ты меня демоном? Стыдись! В двадцатом веке!
— Но в двадцатом веке ты пришел ко мне через запертую дверь.
— Это — наука. Люди ощупью ходят, думая, что они много знают: выдумывают сложные машины для телефонов, телеграфов, пользуясь «механической» силой. Все это давно знали мы, настоящие ученые, но пользовались силой «психической», и нам не надо сложных машин. А люди, ощупью добиваясь жалких результатов, уже со смехом недоучек отрицают «настоящую» науку. «Мы этого не знаем, значит, — это вздор», и упираются в своем невежестве или верят шарлатанам, подобным Калиостро, которые показывают им фокусы. Иногда приходится людям верить в то, над чем они недавно весело смеялись. Они дают тогда этому новое название, и им кажется, что все ясно для них: «электричество, магнетизм, гипнотизм» — жалкие крохи, которыми они умеют пользоваться!
Он говорил, тихо покачивая меня на своих коленях, и я, прильнув к его груди, спокойно заснула.
Проснулась я от звука вашего голоса, доктор. Вы, стоя в коридоре перед моей дверью, спрашивали сиделку, как я провела ночь.
Сиделка доложила вам, что барышня все время разговаривала «на два голоса» и что другой голос так не походил на мой, что она несколько раз заглядывала ко мне, но я сидела одна на постели.
Вы в этот день, доктор, вывели меня из себя. Вы издевались над тем, что я говорила, вы, как опытный следователь, желали меня сбить в моих показаниях. Я была сдержанна сначала, но потом это мне надоело — я наговорила вам дерзостей. Я не сдерживалась, меня даже забавляла мысль: а, вы считаете меня сумасшедшей, так вот же вам — не хочу стесняться. Я находила забавным положение человека, с которого снята ответственность за его поступки. Мне даже хотелось, простите, доктор, ударить вас, но я просто не привыкла к таким вульгарным поступкам. Ах, как мне понравилось, когда маленький, курносенький гипнотизер, которого вы привели ко мне, в ужасе бросился удирать, когда я погналась за ним. Я хотела его поймать и взъерошить его примазанный хохолок. Я не выдержала и расхохоталась.
Ночью я спала, была у него, и он пожурил меня за мои выходки.
— Зачем ты пугаешь их и заставляешь держать себя в сумасшедшем доме?
— Да не все ли равно! Было бы где спать ночью, чтобы приходить к тебе.
— А не лучше ли жить под теплым небом в роскоши и красоте, постоянно быть со мной и не только астральным, но и земным телом?
— Что же я должна сделать?
— Согласись с ними, что все это было бредом, слушайся их. Они выпустят тебя, и ты приедешь ко мне сюда, в Италию.
— Как в Италию? Мы — бедные люди.
Он засмеялся.
— Моя жена — бедна! Успокойся, это произойдет очень просто — без всяких чудес. Мои друзья устроят все самым прозаическим образом.
Помните, доктор, как на другой день я была кротка и послушна? И так благоразумна и тиха. Я так «здраво» говорила, что пустили ко мне Костю.
Костя принес мне фруктов и притворялся очень веселым.
— Костя, — прервала я его рассказ о каких-то пустяках, — скажи мне откровенно, считаешь ли ты меня за сумасшедшую?
— Бог с тобой, Леночка: никто тебя не считает за сумасшедшую, просто нервы у тебя… Доктор говорит, что ты скоро поправишься.
— Да, я думаю завтра прийти в себя, — сказала я спокойно.
— Как? — вытаращил он глаза.
— Да так, поправлюсь. Вот увидишь, все как рукой снимет. Мне надоело, что вы все волнуетесь; наконец, бессовестно с моей стороны так огорчать маму… Я завтра поправлюсь.
— Лена! — сказал Костя с волнением, — неужели ты притворялась? С какой целью?
— Как тебе не стыдно это думать, Костя, — возмутилась я, — вот теперь мне придется притвориться… одним словом, я завтра поправлюсь.
— Значит, ты сознала, что все «это» был бред?
— Да, да, сознала — сама вижу, что говорила глупости. Знаешь, ведь я вспомнила, как я купила розу.
— А кольцо?
Я смутилась:
— Видишь, я про кольцо еще не вспомнила, но, верно, вспомню и про кольцо… Снов я больше не вижу…
— А этот человек?
— Полно, Костя, ведь это же была галлюцинация.
— А тогда, на мосту… и потом много раз…
— Случайность, Костя.
— Странная случайность, — пробормотал он.
Костя помолчал несколько минут и потом нерешительно спросил:
— Мне хотелось бы тебя спросить, Лена, что он тебе говорил?
— Да ведь это мне все казалось… Эти души Шарко[7], теплые ванны действуют удивительно.
— Да, да, конечно… но не можешь ли ты припомнить, повторить мне ваши разговоры?
— Да, право, я все забыла, Костя. Мало ли какую чепуху я рассказывала во время моей болезни.
— Гм… конечно… да… да… Ну, прощай, сестренка, рад, что ты поправляешься, — пойду обрадую маму.
Ночью я сказала «ему», как мне неприятно было обманывать Костю.
— Людей приходится обманывать, как детей. Они скорее верят обману, чем правде, только бы этот обман был преподнесен в привычной для них форме, и не верят истине, если она не соответствует их привычным понятиям.
Когда я посвящу тебя в тайны науки, тебе не придется обманывать: ты будешь заставлять их действовать по твоей воле. Ты уже теперь имеешь силу, которую люди прежде называли «чарами» — теперь зовут гипнотизмом, — жалкими урывками, которыми они пользуются. Я дам тебе власть более сильную, чем власть короля: ты будешь иметь рабов, сколько захочешь… если останешься моей рабыней.
На другой день пришли мама и Шура.
Они обе робко смотрели на меня.
Мама была так бледна и печальна, что я расплакалась. Я целовала их и уверяла, что все прошло, что я совершенно спокойна, что я «поправилась».
Мама ушла сравнительно успокоенная и просветлевшая.
Как я была глупа, что не слушалась тебя, мой супруг, мой царь!
Вы помните, доктор, как мы с вами мило беседовали в тот вечер?
Сознайтесь, что вы с этого дня стали испытывать мою власть.
Мы говорили с вами долго и много о литературе, о политике, о театре.
Сначала вы наблюдали за мной, но потом увлеклись разговором.
Мне было ужасно смешно. Смешно, как взрослому человеку, когда он болтает с ребенком, подделываясь под его понятия и слушая его детский лепет.
В разговоре вы ловко избегали касаться моей болезни, но потом не выдержали и спросили:
— А не скажете ли вы, Елена Петровна, куда вы девали это знаменитое кольцо?
— Право, не помню, дорогой доктор.
— Не вернули ли вы его по принадлежности?
— Может быть, — и я засмеялась.
Помните, в каком вы были затруднении?
Расспрашивать дальше нельзя, можно «сумасшедшую» опять навести на ее прежнюю манию, но смех мой задал вам задачу.
Отчего я засмеялась?
Над своими ли галлюцинациями или над вами, скрывая что-то?
Как я хохотала в душе!
Простите, но не одни вы — все казались мне какими-то ребятами: я уже много «знала».
Дня через три вы пустили ко мне маму, и она ушла такая довольная и спокойная. Как она жала вам руки и благодарила вас!
После нее явилась Шура.
Шуре вами даны были инструкции позондировать меня.
Я блестяще выдержала и этот экзамен.
— Скажи, Леночка, — робко начала Шура, — откуда тебе пришло в голову лицо, которое ты нарисовала?
Доктор, доктор! Давая поручения Шуре, вы не забыли и себя; вам хотелось узнать, не существовало ли реальное лицо, в которое я была влюблена.
— Представь, Шура, ведь я вспомнила. Я нарисовала лицо по картинке какой-то английской иллюстрации; я даже вспомнила, как я брала эту иллюстрацию в библиотеке, — отвечала я совершенно серьезно.
— Да?.. А как же ты показывала его Косте… несколько раз?
— Да мало ли похожих друг на друга людей! Он, наверно, преследовал разных лиц по моему указанию. Ты же сама знаешь, что мне «он» чудился даже там, где никого не было.
— Ах, как хорошо, — захлопала она в ладоши. — Как я рада, что ты поправилась!
И она защебетала о своей любви к какому-то студенту, и я поняла, что возложенная вами на нее миссия окончена.
Я радовалась ее веселости, но мне она была немного жалка. Стоило отдавать свою любовь какому-то мальчишке. Я понимала теперь, почему я никогда не влюблялась, никогда ни один мужчина не казался мне достойным любви.
Я ждала «его»!
Любить «просто мужчину», хотя бы гения или монарха. Какая это мелочь перед «ним»!
А вы, доктор, в это время все более и более увлеклись мною и даже просили моей руки у мамы.
У вас явилась потребность проводить все свободное время со мною.
Вы стали нервны — то очень веселы, то мрачны. А я? Я играла «пустяком, капелькой силы», данной мне для развлечения.
Я помню, что «настоящая наука» должна быть обставлена глубокой тайной!
Как трудно удержаться от желания пробовать свою силу!
Я уверена, что если бы самому серьезному человеку дали бы эту силу, в первую минуту он обязательно стал бы пробовать ее на пустяках.
Как верно это схвачено Уэллсом в одном из его рассказов.
В рассказе Уэллса[8] один «простой» человек получил дар делать чудеса, и какая глупая путаница получается.
Уверяю вас, когда мне дана была ничтожная доля этой науки, на какие глупости я ее употребила! Заставила вертеться стулья в моей комнате, привела в отчаяние сиделку, заставляя скатываться простыни на кровати, которую она стелила, стучала в углах комнаты, но, когда кувшин с треском перескочил с умывальника на стол, я бросила эту игру, потому что сиделка чересчур перепугалась.
Когда она ушла, меня опять неудержимо потянуло испытать новую силу. Я заставляла подниматься на воздух разные мелкие предметы, поиграла на мандолине, не дотрагиваясь до нее, и, когда вы пришли, влюбила вас в себя, доктор.
Как видите, я была не умнее героя Уэллсова рассказа.
Нет, «эту науку» нельзя давать всем! Что бы за путаница вышла!
В эту ночь мне было стыдно взглянуть на «него». Когда я вошла, он покачал головой.
Я стала раскаиваться, а он сказал мне:
— Это неудивительно: люди посерьезнее тебя — старцы, убеленные сединами, отказавшиеся от мира, — первое время делают вещи не умнее.
— Слушай, — сказала я ему, — отчего ты своей силой не уничтожишь все зло на земле?
— И моей силе есть предел. А позволь спросить тебя, знаешь ли ты законы, которыми управляется Вселенная? Может быть, все, что ты называешь злом, нужно для какой-нибудь высшей цели, высшего блага? Мало ли и среди людей совершается зла и преступлений, цель которых — дать счастье многим?
— А ты знаешь эту «высшую» цель?
— Знаю. Но тебе еще рано знать; не торопись, любовь моя, всему придет время, а ты пока играй стульями в твоей комнате. Только помни — не разменяй на мелочь данный тебе золотой.
— Нет, нет! Этого больше не будет! Ты прав: что за глупые фокусы, детская игра! Клянусь тебе — этого больше не будет!
Проснувшись, я задумалась: на что употребить данную мне силу? И все казалось мне таким мелким и ничтожным. Сила эта годна была только на мелкие фокусы, которые стоит показывать разве в балагане. Я решила просить у «него» еще знания, и он сказал мне:
— Ты уже прошла первую ступень, тебя уже не занимает поражать и удивлять людей, потерпи — и скоро будешь знать больше.
Инцидент с кувшином и простыней не остался незамеченным — сиделка была так перепугана, что боялась войти в мою комнату.
Сплетня дошла до вас, и вы во время нашей с вами прогулки по саду спросили меня:
— Что за чудеса, Елена Петровна, показали вы сегодня Маше?
— Вы верите в медиумическую силу, доктор? — спросила я.
— Конечно, нет. Это одно шарлатанство.
— Я тоже шарлатанила, дорогой доктор; конечно, глупо было пугать бедную Машу, но это я со скуки. Мне адски скучно: я привыкла работать, гулять… Да, невесело сидеть в сумасшедшем доме.
Вы тогда схватили мои руки, сжали их и стали уверять, что я совершенно поправилась.
Лицо ваше было смущенное, виноватое.
Вам было стыдно, что вы удерживаете в лечебнице уже здорового человека, но вам казалось ужасным расстаться со мной.
Мама и Шура навещали меня теперь каждый день, и мама уговаривала меня ехать домой, но я сама не хотела.
Мне здесь было удобнее — я не рисковала, что мне помешают «спать» ночью.
Я ждала того, что он мне обещал.
Мама в последний раз пришла ко мне очень веселая, хотя немного взволнованная.
— Представь, Леночка, какая счастливая случайность, — начала она, — доктор только что вчера советовал для полного укрепления твоих нервов пожить тебе где-нибудь в хорошем климате, переменить обстановку. Я задумалась, как это устроить, и вдруг получаю письмо от тети Лиды. Ты помнишь тетю Лиду?
— Очень смутно, мама. Я была такая маленькая, когда она уехала… Ну, ну, рассказывай скорей, — спросила я, ужасно заинтересованная. Значит, «он» устраивает мою поездку через тетю Лиду, с которой мы в продолжение многих лет только изредка переписывались.
— Муж Лиды умер с год тому назад, она поселилась теперь в Сорренто, купила там виллу и предлагает тебе или Шуре погостить у нее… Для тебя лучшего и не выдумаешь! Ты согласна?
— Пожалуй, но я совсем не знаю тетю Лиду.
— О, она тебе должна понравиться, она удивительно умная и образованная женщина. Может быть, она теперь изменилась, но в молодости она была ровная, добрая, правда, немного гордая и чересчур сдержанная, но мы были всегда с ней друзьями.
Она написала такое милое и ласковое письмо и, посылая пятьсот рублей, прибавляет, что если ни одна из вас не захочет приехать, то пусть эти деньги я приму «на булавки девочкам»… Да вот, прочти сама это письмо.
Я развернула письмо и сразу увидала на бумаге водяной знак, хорошо мне известный, — «его» знак.
Когда мама ушла, я положила перед собой письмо и… конечно, я не объясню вам, доктор, каким способом вызвала на бумаге между строками «родственного письма» иные строки:
«Царица, служанка твоя ожидает тебя с покорностью и трепетом. Не медли, дай скорей нам всем счастье поклониться тебе».
Костя пришел к вечеру, чтобы помочь мне перебраться домой.
Он был бледен и взволнован, поцеловал меня крепко и, тщательно заперев дверь, сказал:
— Лена, я пришел узнать правду.
— Какую правду, Костя?
— Ты сама понимаешь, о чем я говорю.
— Право, не понимаю.
— Ты не хочешь сказать мне прямо… позволь задать тебе несколько вопросов?
— Пожалуйста…
— Как ты перемещалась к нему? Летала или…
— Костя, да что ты говоришь! Ведь это же был сон, галлюцинации!
— Хорошо, хорошо… Но как? Ты что-нибудь пила? Или натиралась мазью? — задавал он мне торопливо вопросы.
— Ничего подобного.
— Он заставлял тебя поклоняться какому-нибудь изображению?
— Нет.
— Да, да, для каждого века, для каждого интеллекта у «него» другая манера, — заходил он по комнате.
— Что ты говоришь, Костя?!
— А требовал он, чтобы ты всецело отдала ему свою волю, свою душу?
— Да.
— Ага! А отреклась ты от Бога?
— Какие пустяки!
— Конечно, конечно. Мы сами, «интеллигентные люди», давно все отреклись от Бога! «Тому» теперь лафа!
— О чем ты говоришь? — спросила я, испуганная волнением Кости.
— Не могу, не могу, не хочу верить! Это ужасно! — вдруг закричал он, хватаясь за голову. — Неужели это правда?
— Что правда?
— Нет, нет, это, конечно, вздор… я страшно расстроил себе нервы, и мне в голову лезут ужасно глупые мысли… но твой бред… твой бред был ужасно похож на бред… средневековых ведьм… Лена, милая, конечно, все это — вздор, но ты попробуй помолиться. — Он, дрожа с головы до ног, сжал мою руку.
— Костя, родной, да успокойся ты. Я совершенно поправилась.
— Помолись, помолись, Лена.
— Да как же я буду молиться? Я и в детстве никогда не молилась, никто и не учил меня. Нянька заставляла повторять за собой непонятные слова, а в гимназии я стояла на молитве и исполняла обряды, отбывая известную повинность. Смешно теперь заставлять меня вдруг молиться!
— Лена, Лена, ну прочти хоть «Отче наш», — с отчаянием, протягивая мне руки, снова зашептал он.
В эту минуту я почувствовала, что на мое плечо легла «его» рука и его милый, гармоничный голос произнес:
— Не волнуйся.
И в ту же минуту Костя как бы замер с протянутыми ко мне руками.
— Он все забудет, — снова услыхала я голос, — не беспокойся за него. Он хотел приподнять завесу науки, но он слишком слаб для этого и мог бы кончить безумием.
Голос замолк, и Костя, опустя руки, весело сказал:
— Так собирай вещи, Леночка, а я пока пошлю за извозчиком.
Теперь, доктор, я хочу вам сказать, зачем я все откровенно рассказала вам.
«Он» находит, что вы можете быть ему хорошим слугой.
Подумайте об этом серьезно. Вы страдаете от безнадежной любви ко мне, «сохнете и вянете», как пишет Шура. Я сниму с вас эти чары, и вы снова будете веселы и счастливы. «Он» вам даст дар исцелять больных одним прикосновением, одним взглядом или словом.
Подумайте о пользе, которую вы принесете человечеству! Слава, богатство — это пустяки, мелочь, которые всегда приходят к человеку, имеющему власть. И богатство, и слава, конечно, будут уделом «великого целителя»: вам будут воздвигать памятники и осыпать вас золотом. Хотите?
Ну, конечно, хотите. Вы еще не верите сейчас, но вы поверите, потому что хорошие слуги нужны всякому господину, а мой господин желает иметь вас своим слугой.
Под рукописью другими чернилами и другой рукой написано:
«Не верю! Не верю… Никогда!!»
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
«В отъезд требуется гувернантка к шестилетней девочке, 75 р. на всем готовом» — следовал адрес именья, лежащего вблизи одной из станций Балтийской дороги.
Я задумалась не надолго — положение мое было критическое. Я очутилась почти без средств в чужом городе и была рада всякому месту.
Случилось это потому, что отец семейства, где я служила, внезапно скончался, а его вдова с детьми, при которых я состояла гувернанткой, уезжали за границу.
Мне заплатили мои сорок рублей за месяц вперед и простились со мной.
Плохо заканчивался для меня старый год. — «Может быть, новый принесет мне счастье» — подумала я.
«Напишу-ка я этой баронессе Грабенгоф. Я молода, здоровье у меня цветущее, работа меня не пугает, а если мне не понравится — я уеду, все-таки проведу праздники в семье, хоть и в чужой, а вознаграждение даже блестящее». — Я написала письмо с предложением своих услуг.
Баронесса ответила мне телеграммой, прося приехать немедленно.
На одной из ближайших от Ревеля станций я сошла и справилась, присланы ли лошади из именья баронессы. Мне ответили, что лошади здесь, но кучер просит обождать несколько минут, пока он исправит какую-то порчу в упряжи.
В ожидании отъезда я пила чай в маленьком станционном буфете. За стойкой буфета стояла полная краснощекая немка. Она давно поглядывала на меня с любопытством и, наконец, не выдержав, вышла из за своей стойки и подсела ко мне.
— Вы едете в именье Грабенгоф? — спросила она. — Гостить?
— Нет, я приглашена баронессой в гувернантки.
— А каким образом вы нанялись к баронессе Юлии?
— По объявлению. Почему это вас интересует? — довольно сухо спросила я.
— Потому что, кажется, все бюро для найма гувернанток уже не хотят иметь дела с баронессой. Она должно быть очень капризна. Приедет какая-нибудь барышня, поживет два дня и сейчас же уедет. Баронесса отказывает ей под предлогом, что ее дочке не нравится новая гувернантка.
— Ну, я постараюсь понравиться, — сказала я.
— Все равно, вы долго не проживете, — уверенно сказала буфетчица, — через месяц заболеете и уедете сами; воздух там, что ли, такой, но те, которые уживались у баронессы, заболевали и уезжали, а две даже померли: одна гувернантка, другая служанка. Теперь вы не найдете ни одной девушки в окрестности, которая бы согласилась служить в Грабенгофе. Представьте себе, что старухам ничего не делается — живут себе, а молодые, да здоровые сейчас же заболевают.
Со странными мыслями я подъезжала к Грабенгофу и этих тревожных мыслей не успокоил вид старого помещичьего дома. Это было довольно длинное здание, в два этажа, под высокой черепичной крышей. Его стены были лишены всяких архитектурных украшений, кроме герба баронов Грабенгоф над воротами.
Старые развесистые деревья окружали этот дом. Теперь, в зимнем своем уборе, они резко отделялись от темных стен. Надвигались сумерки. Меня почему-то поразила тишина. Кругом было жутко тихо.
Выходя из саней, я нарочно громко что-то сказала кучеру и хотела сильней дернуть звонок, чтобы нарушить эту несносную тишину.
Но не успела я этого сделать — дверь открылась и на ее пороге я увидела старого слугу в темной ливрее.
— Баронесса ожидает барышню в гостиной, — кланяясь, доложил он, и, взяв канделябр с зажженными свечами, повел меня через большой темный зал, который я не могла рассмотреть при трепетном свете свечей.
В гостиной было и тепло и светлее от топившегося большого старинного камина.
С кресла поднялась мне навстречу дама в сером платье — высокая и стройная.
— Добро пожаловать, mademoiselle, — сказала она ласково слабым голосом, — благополучно ли вы доехали?
Я поблагодарила.
— Садитесь, дорогая, вот сюда, — указала она на кресло, по другую сторону камина, — и познакомимся.
Она протянула мне свою худую почти прозрачную руку и пошатнулась. Я поспешила поддержать ее.
— Я нездорова и очень слаба, — с грустной улыбкой сказала она, — и я, и моя маленькая Минночка очень слабы здоровьем. Может быть потому я так и люблю видеть кругом себя здоровых людей.
Едва я взглянула на баронессу — все мои тревожные мысли рассеялись и заменились жалостью к этой милой ласковой женщине, такой болезненной и слабой, с нежными и словно испуганными глазами.
— Как я рада, что вы такая симпатичная — я думаю, что вы понравитесь Минночке, моей милой, маленькой Минни — и полюбите ее… Она немножко избалована, я сама чувствую, что она избалована, но она у меня одна! Это — моя жизнь… Я живу только для нее. Она такая слабенькая и болезненная… Вы будете ее любить — не правда ли?
Баронесса взяла мои обе руки и смотрела на меня своими кроткими глазами.
Я была растрогана — эта нежная материнская любовь преобразила ее черты и сделала ее почти красавицей в эту минуту.
Слуга доложил, что обед подан.
Обед был роскошный. Баронесса неотступно потчевала меня и сама ела очень много, хотя с видимым усилием.
— Доктора мне советуют как можно больше есть, у меня сильное малокровие — кушайте и вы побольше, гуляйте на свежем воздухе, вообще берегите ваше здоровье.
Обед уже кончался, на стол подали фрукты и десерт, когда баронесса ласково сказала:
— Теперь я познакомлю вас с вашей ученицей.
Она вышла и через минуту вернулась, ведя за руку свою дочку.
Я люблю детей, люблю и красивых, и некрасивых, чистеньких и замазанных, здоровых и больных, но никогда ни один ребенок, как бы некрасив он ни был, не производил на меня такого отталкивающего впечатления, как эта девочка.
Она была необыкновенно худа, ее руки и ноги были похожи на паучьи лапки. На этой скелетообразной фигурке сидела большая голова с мертвенно-бледным лицом. Большой рот с тонкими губами был, наоборот, ярко-красен, при улыбке он растягивался в длинную щель и обнажались редкие, острые зубы.
Веки почти закрывали глаза и глаза из-под этих тяжелых полуопущенных век, светлые, почти белые, казались незрячими.
Что еще поразило меня в ее наружности — это уши. Очень большие, оттопыренные, тонкие — они напоминали крылышки летучей мыши.
Я даже слегка вздрогнула от неприятного ощущения, когда в моей руке очутилась паучья лапка девочки, но я сейчас же упрекнула себя.
«Бедный, больной ребенок, надо приласкать его».
— Вот мы и познакомились, Минна, — весело сказала я, — надеюсь, мы подружимся. Хочешь меня поцеловать?
Девочка медленно подняла свои тяжелые веки, взглянула на меня пристально и вдруг впилась в мою щеку каким-то жадным поцелуем.
— О, она вас полюбила, полюбила! Какое счастье! — воскликнула баронесса, сжимая мою руку. В ее кротких глазах блестели слезы восторга.
Шел уже третий день моего пребывания в Грабенгофе, и я уже чувствовала, что воздух его мне вреден. На первый же день моего пребывания, встав поутру, я почувствовала себя очень слабой и целый день у меня кружилась голова, чего раньше со мной никогда не бывало. Я решила, что это с дороги, так как ночь я спала, как убитая. Я едва имела силы, после чаю, который я пила с баронессой, дойти до постели и раздеться.
Меня удивило, что и на другой, и на третий день тот же свинцовый сон овладевал мною к вечеру. На четвертый день я думала, что я не встану — так я себя скверно чувствовала. Хорошо, что занятия с ученицей еще не начинались. Я ее видела только по вечерам, после обеда: она обедала отдельно.
— Минночке доктор предписал строгую диету, — сказала баронесса, обнимая девочку.
Кажется, сама девочка добровольно подчинялась предписанию доктора, так как с жестом отвращения отказывалась от десерта, который я ей предлагала.
Ко мне она чувствовала какую-то страстную нежность и все жалась ко мне.
Этот час после обета, пока Минна не уходила спать, был для меня тяжел. Я упрекала себя… но я чувствовала отвращение к этому ребенку.
На третий день мы, как и во все эти дни, пили чай у камина.
— Завтра канун Нового Года, — сказала я грустно. Мне вспомнилось, что в этот день все будут веселиться, а я буду сидеть одна с этой тихой женщиной в занесенном снегами, мрачном доме.
— Ах, и в самом деле завтра 31 декабря по старому стилю. Я перепутала все числа. Вся моя жизнь сосредоточилась на моем ребенке и для меня праздник тогда, когда моя крошка здорова и счастлива. Вы не осуждаете меня за такую всепоглощающую любовь?
— Что вы, баронесса. Что же может быть прекраснее и благороднее материнской любви, — сказала я.
— Не правда ли? Но почему вы так долго не пьете ваш чай?
— Благодарю вас, мне что-то не хочется, — отвечала я.
— Нет, нет, вы, пожалуйста, выпейте его. Это полезно… чай… пожалуйста!
— Право, мне не хочется, — отвечала я, удивленная ее настойчивостью.
— Как же так без чаю… Это нельзя… ну, милая, сделайте мне удовольствие! — ее голос дрожал и она нервно мяла в руках чайную салфеточку.
Выражение мольбы и тревоги на ее лице меня поразило, и чем больше она приставала ко мне, тем упорнее я отказывалась.
Она замолчала, грустно вздохнула и опустила голову.
Придя в свою комнату, я удивилась — мне вовсе не хотелось спать и я долго просидела, читая и работая, и на другой день встала гораздо бодрее, голова не кружилась.
Я подошла к зеркалу и увидала, что лицо мое не так бледно, и красное пятно, которое у меня появилось на шее, почти прошло.
Я целый день не видала баронессы, я даже обедала одна.
Только к вечеру она вышла, чтобы, по обыкновению, пить чай у камина.
— Сегодня, я надеюсь, вы будете пить чай, — любезно спросила она.
— О, да, — ответила я.
И вдруг, сама не знаю почему, подумала:
«А не подливает ли она мне чего-нибудь в чай, чтобы я спала… ведь вчера я не хотела спать». Зачем ей это нужно? Что она скрывает? Ведь я, кажется, помещаюсь так далеко от ее комнат, что не могу ничего подслушать или подглядеть.
Мне отвели большую комнату с тяжелыми, дубовыми панелями в верхнем этаже, тогда как внизу было несколько маленьких уютных комнаток.
Сама не знаю почему, но недоверие мое все возрастало и возрастало и я незаметно для баронессы не выпила, а вылила за кресло, налитый ею чай.
Я скоро ушла, сказав, что хочу спать, но спать мне совсем не хотелось. Сначала я думала почитать, но потом я решила не зажигать огня, чтобы баронесса не догадалась, что я не сплю. У меня почему-то явилась твердая уверенность, что она что-то подливала в мой чай.
Итак, я должна была встретить Новый Год одна, полубольная, далеко от всех близких, ожидая что-то — во всяком случае, не радостное и не приятное.
Я невольно прислушивалась.
За панелями часто возились мыши, но это меня не пугало — я не боюсь мышей.
Моя комната освещалась маленькой ночной лампочкой. стоящей на камине.
Вдруг, я услыхала скрип и часть панели отодвинулась, баронесса тихонько заглянула в комнату из темного квадрата потайной двери.
Я не шевелилась на постели.
Тогда баронесса подвинулась и пропустила Минну. Девочка прыгнула в комнату. С минуту она стояла, вся подергиваясь, шевеля руками и втянув голову в плечи, потом быстро метнулась в мою сторону, прыгнула на меня и впилась в мою шею.
Я дико закричала и, оторвав ее от себя, бросила на пол.
Мой крик слился с криком баронессы, которая бросилась к корчившейся на полу Минне.
О, как отвратительно было это чудовище, извивавшееся всем своим скелетообразным телом, с вытаращенными глазами и со ртом, полным крови — моей крови…
Я увязывала и укладывала свои вещи. Ночь под Новый Год я провела, дрожа от ужаса, спрятавшись в конюшне.
Кучер не понимал, что я ему рассказывала, — он едва знал десяток слов по-русски, но он не очень удивился, когда я вбежала полураздетая к нему я конюшню.
— В дома много чудес, — старая дома, ах, старая дома! Барон сраза умер — ходит, видят, старая барон.
Только когда совсем рассвело, я решилась пойти в мою комнату, чтобы собрать вещи и немедленно уехать.
Я была почти готова, когда вошла баронесса. Она едва дошла до кресла и, опустившись в него, с мольбою сказала:
— Не уезжайте, я согласна на какое угодно вознаграждение… сжальтесь над нами… сжальтесь над несчастным ребенком.
Я молча завязывала свою корзину.
— Послушайте, застонала она, ломая руки, — неужели у вас нет жалости! Ведь моя дочь, бедный ребенок умрет с голоду… Ведь она может питаться только человеческой кровью! Свою я ей отдала всю, я едва жива. Если я ее накормлю еще хоть раз, я умру! А если я умру, кто о ней позаботится? Неужели вы так жестокосерды, что не захотите спасти бедное дитя?
— Дитя, — крикнула я, — это не дитя, а отвратительное, вредное чудовище. Я бы на вашем месте радовалась, что умрет такой выродок, а вы еще жертвуете жизнью и здоровьем других людей, чтобы кормить эту гадину.
— Но я — мать! — зарыдала баронесса, — вы не имели детей, вы не знаете материнской любви — этого святого, всепоглощающего чувства.
Она упала на колени, схватив меня за платье, но я имела «жестокость» оттолкнуть ее и уехать.
Долго лечилась я от острого малокровия, никому не жалуясь, да и кто бы мне поверил.
Теперь я выхожу замуж и желаю только одного: если у меня будут дети — никогда не чувствовать к ним такой сильной материнской любви.
ВОСПОМИНАНИЯ
— Я хочу отдохнуть! Подумай, все лето, всю осень я гастролировала в провинции. В феврале мне предстоит дебют на императорской сцене, и я хочу хорошенько подготовиться к дебюту, — Нина Васильевна говорила весело и оживленно, наливая мне тарелку супа.
С Ниной Васильевной или Ниночкой мы состояли в дружбе с приготовительного класса гимназии. Правда, мы теряли друг друга из виду иногда на несколько лет, но это не влияло на наши отношения.
После окончания гимназии она уехала в провинцию со своим отцом. Лет через пять она написала мне несколько писем из Италии, и только из этих писем я узнала, что она училась петь в Москве и сделалась певицей.
Завязавшаяся переписка скоро зачахла, и опять в течение нескольких лет я не имела от нее известий. Потом в газетах стали попадаться заметки о ней:
«Пела в Париже»… «Ездила в Америку»… «Потеряла бриллианты»… «Купила пантеру» и т. д.
Видевшие ее за границей рассказывали о ее успехах, победах и эксцентричностях.
Однажды я совершенно неожиданно получила от нее письмо.
Она писала, что приехала и живет в дачной местности в получасовом расстоянии от Петрограда, где известный золотопромышленник Сонский предоставил в ее распоряжение свою великолепную виллу.
«Ты не можешь себе представить, какая здесь поэзия, — писала она, — очаровательный, роскошный дом, полный цветов, а вокруг деревья в инее, снег и тишина! Пожалуйста, не отказывайся приехать. Я пришлю на станцию автомобиль. Сонский премилый человек — я вас познакомлю потом, но этот день мы должны провести только вдвоем и вспомнить старое».
Встретила она меня преувеличенно восторженно, говорила без умолку.
— Боже мой, как я тебе рада! Ты не можешь себе представить, как я тебя люблю! С тобой связаны приятные и веселые воспоминания!
Замечала ли ты, что с одними людьми связываются веселые воспоминания, а с другими печальные? Вот, например, Верочка Плавнева… Ах, Боже мой, что же я молчу! Ведь Верочка живет здесь — ее муж тут чем-то на железной дороге! Вот отлично-то! Мы непременно пойдем сегодня к ней, ты ее не видала с выпуска? Неужели? Ее фамилия теперь Киренина, у нее куч а ребят, а дочери уже пятнадцать лет! Боже мой, какие мы старухи!
Она расхохоталась, глядя в зеркало, где отражалась ее стройная фигура и красивое, совсем молодое лицо.
После обеда мы отправились к Верочке по снежным, пустынным улицам.
— Смотри, какое у нас отличное освещение, — воскликнула Нина Васильевна, — электричество! Как хорошо идти! Слышишь, как скрипит снег? Вера страшно обрадуется… Она, наверное, уложила детей и сидит одна — ее муж теперь на линии. Ты знаешь, ведь она тоже стремилась на сцену, но после одного трагического происшествия испугалась «житейских бурь» и вышла замуж. А ведь сначала, стремясь на сцену, хотела отказать своему Петру Ивановичу!
— А что это было за происшествие? — спросила я и спросила больше для того, чтобы слышать ее голос, потому что тишина покрытых снегом улиц, эти заколоченные дачи, окруженные белыми деревьями, странно подействовали на меня. Меня охватило какое-то оцепенение, и казалось, что мы будем идти бесконечно этой белой дорогой, слабо освещенной линией фонарей, уходящих в морозную даль.
Мне казалось, что тишина втягивает меня в какие-то таинственные недра, и только эта линия фонарей удерживает меня на пути.
А Нина Васильевна говорила:
— Это случилось со мной в ту зиму, когда я твердо решила стать артисткой. Мы тогда жили с отцом в N. Ах, какой это скверный, захолустный городишко! Лето еще прошло сносно, я флиртовала и каталась на лодке, но зимой… Я умирала от скуки и умолила Веру приехать. Конечно, мы развлекались по мере возможности. Вообрази, танцы с гимназистами под разбитое пианино, игра в фанты и чай с ситным. Я твердо решила ехать в Москву. И вот, перед отъездом… Это было, как говорит Верочка, 27-го ноября. Верочка помнит число, а я совершенно забыла.
— Сегодня как раз 27-е ноября, — сказала я.
— Да что ты! Ха, ха, ха! Вот так совпадение. Ведь этому прошло уже шестнадцать лет. Признаться сказать, я совсем забыла об этом происшествии — это Верочка мне недавно напоминала о нем. У меня удивительное свойство все скоро забывать. Память у меня хорошая, но я просто не способна к воспоминаниям, да и к чему они? Когда жизнь так богата новыми впечатлениями, я всегда… Постой, куда же мы это зашли?
Она остановилась и, удивленно оглядевшись крутом, сказала:
— Я, верно, пропустила поворот в переулок, надо вернуться назад — тут такой-то овраг и фонарей больше нет.
Я лениво оглянулась тоже.
При слабом свете полускрытой тучами луны я увидела, что вокруг нас не было ничего, кроме занесенных снегом пустырей с торчащими кое-где плетнями.
— Это какие-то огороды… Повернем назад.
Повернувшись, она с недоумением сказала:
— Смотри, фонари потухли — верно, на электрической станции что-нибудь испортилось! Ну да ничего — мы шли все прямо — пойдем обратно.
Мы пошли.
Странное чувство безволия и оцепенения, охватившее меня, все усиливалось. Мне казалось, что темнота и тишина овладели мною, несли меня куда-то, а у меня не было сил сопротивляться.
Нина Васильевна, между тем, бодро шла вперед и со смехом говорила:
— Заметь, Маша — уж такова моя судьба, жизнь моя кишит приключениями большими и маленькими, и стоит кому-нибудь попасть в мою компанию, как сейчас же с ним «приключится приключение». Смотри, вон там видны огоньки, идем на них. Там спросим у кого-нибудь, куда нам идти. Смотри, вот и улица и фонари. О, здесь уже фонари-то керосиновые, — прибавила она, поравнявшись с первым фонарем.
Чем больше мы подвигались вперед, тем больше мы видели освещенных окон.
— Я никогда не думала, что здесь в дачной местности живет зимой так много народа! Удивительно, почти все окна освещены. Хотела бы я знать, какая это улица.
Пройдя еще вперед, она замедлила шаги.
— Странно… очень странно! — пробормотала она.
— Что странно? — с трудом произнесла я. Мне было трудно говорить, смотреть, поворачивать голову — я могла только идти вперед и какой-то удивительно легкой походкой.
— Повернем направо, — тихо и боязливым шепотом сказала Нина Васильевна.
Мы повернули на более широкую улицу.
— Лавка Прусова! Не может быть… И церковь… и аптека напротив! — голос ее звучал взволнованно, и она крепко сжала мою руку.
— Что же это такое? Повернем сюда, за аптеку.
Она быстро повернула и остановилась перед ярко освещенной стеклянной галереей с маленьким подъездом на улицу.
Вбежав по ступенькам, она приблизила свое лицо к двери, чтобы прочесть фамилию, написанную на доске, потом повернулась ко мне.
При бледном свете фонаря я увидела ее лицо со странно расширенными глазами.
— Я хочу… я хочу знать, что же это такое, — проговорила она срывающимся голосом, — я сейчас позвоню туда!
Я смутно чувствовала, что я должна ей помешать, но не было силы двинуться, я даже словно потеряла возможность говорить, а Нина Васильевна тем временем решительно дернула звонок.
По освещенной галерее мелькнула тень, и дверь отворилась.
Старик-лакей почтительно пропустил нас в маленькую переднюю.
— Это начинает становиться смешным! — воскликнула моя спутница, осматривая и переднюю и старика.
Я видела, что Нина бледна и губы ее дрожат.
Она сбросила шубку и повелительно произнесла:
— Раздевайся, пойдем дальше.
Я машинально разделась и пошла за ней через полутемный зал к ярко освещенной двери в другую комнату — очевидно, столовую. Проходя по гостиной мимо зеркала, я посмотрела в него, и мне показалось, что фигуры, отразившиеся в зеркале, совершенно на нас не похожи.
При нашем появлении в столовой из-за самовара поднялась бледная, худенькая старушка в черной наколке.
Увидав ее, Нина Васильевна отшатнулась, но потом, с каким-то ухарством махнув рукой, твердыми шагами подошла к хозяйке я, протянув ей руку, насмешливо сказала:
— Здравствуйте, Анна Ильинишна.
Старушка робко и как-то страдальчески улыбнулась.
— Вот как хорошо, что вы зашли, Ниночка. А Сережа пошел… пошел к вам — боялся, что вы и проститься-то не придете.
Нина стояла, пристально смотря на старушку, и лицо ее нервно подергивалось.
Печальные глаза хозяйки обратились на меня и, протянув мне руку, она сказала:
— Что же вы не садитесь, милая? Садитесь, пейте чай, замерзли, небось, — конец-то не ближний.
Я машинально опустилась на стул.
Нина села рядом со мной и, положив локти на стол, продолжала всматриваться в лицо хозяйки.
— Мороз-то сегодня, словно крещенский, — медленно продолжала старушка. — Любочка беспокоится, что яблони не укрыли… А вы едете завтра?
Нина как-то дернулась и со злобной насмешкой произнесла:
— Да, да, еду!
Старушка тихо вздохнула и стала мешать ложечкой чай. Мне казалось, что она сдерживает слезы. Потом, словно пересилив себя, она подняла голову и ласково обратилась ко мне:
— А вы тоже на сцену хотите поступить? — Она заговорила со иной, очевидно, для того, чтобы прервать неловкое молчание.
— Да, я тоже… только я поступлю на драматические курсы, — ответила я машинально.
Я сознавала, что говорю какую-то нелепицу, но почему-то не могла ответить иначе. Нина резко захохотала.
— Маша! И ты тоже? Что это: меня морочат или это сон?
А старушка, словно не слыхав ее слов, заговорила:
— Что же, коли чувствуете призвание… Дай вам Бог успеха, а только я…
Она не договорила, дверь в комнату растворилась, и вошла высшая девушка с гладко причесанными волосами, закутанная в темный вязаный платок.
Она молча и неохотно подала руку Нине, но мне она ласково улыбнулась и сказала:
— Здравствуйте, Верочка.
Наступило опять тяжелое молчание.
Я внутренне странно волновалась, стараясь стряхнуть с себя это страшное оцепенение, но не могла и вдруг почувствовала, что говорю.
Я говорила уже несколько минут прежде, чем стала прислушиваться к своим словам, как к речи постороннего человека, и услыхала, что рассказываю о поездке в какой-то монастырь и о том, что мать-игуменья велела вывести из церкви какого-то Ивана Игнатьевича.
Во время моего рассказа Нина вдруг вскочила и, ударив ладонью по столу, истерически крикнула:
— Замолчи! Замолчи! Это ужасно!
Но я почему-то совершенно не реагировала на эту выходку. Я продолжала свой рассказ, удивляясь, что это такое я рассказываю, а старушка и девушка слушали меня и тоже не обратили никакого внимания на Нину.
Выслушав мой рассказ, старушка обратилась к девушке:
— Ты бы, Любочка, велела подогреть самовар, а то Сережа, верно, сейчас придет.
Девушка встала и позвонила, вошла служанка.
— A-а! И Матреша явилась! Вое в порядке! — с хохотом крикнула опять Нина. И опять этот крик не произвел никакого впечатления.
Горничная унесла самовар, старушка вздохнула, а девушка, кутаясь в платок, говорила о незакрытых на зиму яблонях.
Часы мерно и хрипло пробили семь.
— Пойдем, Ниночка, — вдруг неожиданно для самой себя сказала я, — ведь нам нужно еще уложиться.
Нина быстро вскочила, но девушка заступила ей дорогу и резко спросила:
— Неужели вы не проститесь с Сережей? Стыдно, доведя человека до отчаяния, даже не хотеть с ним проститься!
— А-а, — захохотала Нина, — а вот посмотрим, что я вам буду отвечать. Ну-с, я согласна выйти замуж за вашего брата. Что? Ну, что? — застучала она кулаком по столу.
— Конечно, вы оберегаете себя от тяжелой сцены. Какая вы эгоистка, — укоризненно сказала девушка. — Сережа мучится, Сережа страдает! А мама? Посмотрите вы на маму! — скорбно добавила она.
— Так! Так! Слово в слово! — кричала Нина. — Ну, скажите теперь: «Бездушная кокетка!».
— Вы бездушная кокетка! — произнесла девушка возмущенно.
Старушка заплакала.
— Постойте, теперь посмотрим, что вы скажете! Анна Ильинишна, Люба! Я согласна быть женою Сережи. Ага! Что? — и Нина топнула ногой.
— Что же, уезжайте, — пожала плечами девушка, — и если можете жить спокойно с сознанием, что вы разбили жизнь человека, то Бог вам судья.
— A-а! Вы думаете, что я вам отвечу: «Все раны залечиваются». Ан нет! Я скажу… например, что очень люблю бегать на лыжах.
— Иногда раны залечиваются только смертью, — и я этого боюсь, — прошептала девушка, закрывая лицо руками.
Нина Васильевна опять топнула ногой и хотела что-то сказать, но вдруг лицо ее исказилось ужасом.
— Бежим! — крикнула она, схватив меня за руку. — Если все будет так, то и дальше… Скорей, скорей!
И она бросилась вон, увлекая меня за собою. В передней мы накинули шубки и выбежали на крыльцо. Но едва мы сделали несколько шагов, перед нами из темноты выросла фигура высокого молодого человека.
— Нина!
Голос его прозвучал таким отчаянием, что я замерла на месте.
— Да бежим, бежим скорей! — тащила меня Нина, — пойми, я не вынесу, не вынесу во второй раз! — кричала она с бешенством.
— Стой! Нам надо объясниться! — раздался его голос. Но Нина Васильевна бежала вперед, спотыкаясь и крича каким-то не своим голосом.
Теперь мое безволие исчезло. Мне некогда было думать о случившемся, я только старалась догнать Нину, черная фигура которой с развивающимися полами шубки мелькала в нескольких шагах впереди. Она бежала неровно, спотыкаясь, бросаясь из стороны в сторону, и казалось, что большая подстреленная черная птица мечется на белом снегу. Вот она шарахнулась вбок, споткнулась, вскочила, опять метнулась и вдруг приникла к белой земле, раскинув полы шубки, как крылья. Я подбежала к ней.
Нина лежала неподвижно, ее бледное, искаженное лицо ярко освещал электрический фонарь.
Очевидно, порча фонарей была исправлена, потому что передо мной, уходя в морозную даль, ярко горела линия электрических фонарей.
Мне некогда было раздумывать, надо было постучаться в первый попавшийся дом и просить о помощи.
Я оглянулась… крутом были заколоченные дачи, окруженные белыми деревьями.
Я стала громко кричать.
Какие-то двое прохожих поспешили на мой крик. Один из них привел мне извозчика, другой помог мне довезти бесчувственную Нину Васильевну до дома.
Только к полночи мы нашли доктора. Вызванный мною но телефону Сонский приехал около часа и привез другого доктора.
Нина Васильевна не приходила в себя, и только едва заметный пульс показывал, что она жива.
Видя волнение Сонского, я поняла, что от близок Нине Васильевне.
Ночь прошла без перемен, утром Сонский сменил меня у постели больной, и я только что хотела лечь отдохнуть, когда мне оказали, что меня желает видеть г-жа Киренина.
Я тотчас узнала Верочку. Правда, годи взяли свое, она сильно пополнела, но вьющиеся белокурые волосы и светлые кроткие глаза остались те же, даже круглые, полные щеки не утратили своего яркого румянца.
— Ах, Машенька, как я тебя рада видеть, — заговорила она, запыхавшись, — но при каких печальных обстоятельствах мы встретились! Что такое с бедной Ниночкой? Простудилась?
— Не знаю. Доктора еще ничего не могут определить. Мы вчера после обеда пошли к тебе, заблудились, попали к каким-то ее знакомым и…
Я остановилась.
Сидя ночью у постели Нины, я перебирала в уме все подробности нашего странного визита и, припоминая их, мне сделалось как-то жутко. Кто были эти Нинины знакомые? Отчего и она и я, мы вели себя так странно? Припоминая свое собственное поведение, мои слова, я удивлялась все больше и больше, и даже мне пришло в голову, что за вчерашним обедом какой-то яд попал в наше кушанье.
Но наши вчерашние собеседницы вели себя тоже очень странно? Или «это» было в воздухе всей этой местности? Может быть, как у Жюля Верна, какой-нибудь доктор Окс[9] наполнил весь воздух одуряющим газом!
Я решила не рассказывать ничего, ведь я была случайной свидетельницей какой-то Нининой тайны и не хотела быть нескромной.
Чтобы переменить разговор, я стала расспрашивать Веру о ее житье-бытье.
Она сейчас же оживилась, заговорив о своем муже и детях.
— Я вполне счастлива, Маша, — я даже с ужасом вспоминаю, что когда-то чуть отказала Пете и не сделалась актрисой. Подумай сама: ну, годилась ли я для артистической карьеры? Вот Нина, это другое дело, — она создана блистать, покорять. Она может идти вперед, преодолевая все препятствия и даже не поддаваясь чувству жалости, отбрасывая со своей дороги людей, мешающих ей идти к намеченной цели. Я бы не могла так поступить, — меня загрызли бы воспоминания.
У меня есть свойство до того «живо вспоминать», если так можно выразиться, что я иногда переживаю прошедшее вновь, как настоящее. Я вижу прошлое наяву! Да вот, например, вчера вечером… Видишь ли, вчера было 27-ое ноября, — этот день мне очень памятен. В этот день случилось одно трагическое происшествие, после которого я бросила все мечты о сцене и вышла замуж за Петрушу.
Этому минуло шестнадцать лет, а я все с таким же ужасом вспоминаю этот день, и в годовщину его мне тяжело, грустно, и я служу панихиду о рабе Божьем Сергии…
А между тем, я не была героиней этой драмы, я была только свидетельницей, героиней была Нина, а она-то совсем забыла о ней. Когда мы с ней встретились здесь, и я спросила, вспоминает ли она о Рамольцеве, — она с удивлением спросила, кто это Рамольцев. Я в свою очередь удивилась, что она забыла Сережу, а она засмеялась: «Вот охота вспоминать этого сумасшедшего».
Вера задумалась и вздохнула.
— Мне Нина как раз собиралась рассказать вчера эту историю 27-го ноября, — сказала я, почему-то волнуясь, — не расскажешь ли ты мне ее?
— Конечно. Все это так врезалось в моей памяти, как будто это происходило вчера. Нина тогда жила с отцом в N., и мы с ней переписывались. Сначала она с увлечением описывала природу и свою любовь к Сереже Рамольцеву, потом в ее письмах начались жалобы на скуку, на серенькую жизнь. Наконец, она стала меня умолять приехать к ней погостить. Я приехала, тут Нина напомнила мне о ваших мечтах, о «широкой, красивой жизни артистки».
Ты знаешь, какое Нина всегда имела на меня влияние, она совершенно сбила меня с толку, и мы решили ехать в Москву, где она должна была поступить в консерваторию, а я, за неимением голоса, хотя бы на драматические курсы. Отъезд наш был назначен, и мы ждали только возвращения из командировки ее отца.
А пока мы веселились. Устраивали пикники и импровизированные концерты.
Сергей ходил, как тень, за Ниной, страшно ее ревновал и торопил со свадьбой.
— Благодарю! Что я, дура, чтобы выйти за него замуж? Ты видишь, — он свяжет по рукам и ногам. Ах, скорей бы уехать! Только ты ему не проболтайся, а то наделает он мне скандалов. Ты тоже откажи Киренину. Смотри, как приедешь, так и откажи, — говорила Нина.
Отъезд наш был назначен на 28-ое ноября, а 27-го вечером мы отправились с прощальным визитом к Рамольцевым.
Нина знала, что Сергей уехал и вернется только через два дня, и потому торопилась уехать, чтобы избежать сцены прощанья. Наконец, она написала ему письмо, прося простить и забыть ее.
Но вышло так, что Сергей, словно предчувствуя что-то, бросил дела и вернулся.
— Пойдем, — решила Нина, — все равно объяснения не избежать. Знаешь, я начинаю его ненавидеть и покончу все сразу.
Мы не застали Сергея: приехав и прочитав письмо, он побежал к Нине.
У Рамольцевых мы сидели недолго, мать и сестра Сережи были так расстроены. Перед уходом Нина крупно поссорилась с Любой. Сергей нас встретил в нескольких шагах от их дома. Он стал умолять Нину остаться. Она сначала пробовала его убедить, потом вышла из себя, стала говорить резко и грубо и, наконец, крикнула:
— Отстань ты от меня! Я тебя никогда не любила, — у меня есть любовник, и я еду к нему в Москву!
Тут произошло нечто ужасное. Рамольцев выхватил револьвер и выстрелил. Нина отскочила в сторону, и пуля пролетела мимо нее.
Тогда Сергей выстрелил в себя и упал. Он промучился три дня и, не приходя в себя, умер.
Это происшествие так подействовало на меня, что я заболела, а Нина, хотя и очень расстроенная, все-таки уехала на другой день в Москву. Она об этом почти забыла, а я… я вспоминаю все это до несносности ярко.
Вот, например, вчера я не то задумалась, не то задремала и как наяву увидела, как мы идем с Ниной по занесенным снегом улицам народа N., как она звонит у подъезда Рамольцевых, я видела свет, падающий на снег из стеклянной галереи, видела, как Сидор отворяет дверь, видела даже, как я, проходя по гостиной, смотрюсь в зеркало… Ах, все, все, как было в тот вечер!
По мере того, как она говорила, холодный ужас охватывал меня, и я едва имела силы спросить:
— А где теперь мать и сестра Рамольцева?
— Мать давно умерла, а сестра вышла замуж и живет где-то на Кавказе, — отвечала Вера задумчиво, перебирая бахрому на скатерти.
— А не помнишь ли ты, что говорила тогда, за чайным столом? — спросила я таким взволнованным голосом, что Вера вздрогнула и посмотрела на меня с удивлением. — Ради Бога, припомни — это очень важно!
— Я говорила об одном господине, — которого игуменья монастыря…
Она не докончила, потому что у меня вырвался истерический крик.
Поспешно, путаясь, я передала ей наше вчерашнее приключение, стараясь не упустить подробностей.
Слушая меня, Вера все бледнела и бледнела и, наконец, схватив меня за руку, спросила испуганным шепотом:
— Что же это было, Маша?
— Не знаю, — таким же шепотом ответила я.
Нина Васильевна к вечеру пришла в себя. Она ровно ничего не могла вспомнить с того момента, как мы вчера заблудились.
Дебют ее на Мариинской сцене прошел блестяще.
КЛУБ НАСТОЯЩИХ
Посвящается
Елизавете Сергеевне
Кругликовой
Марсель стоял у окна и смотрел на темную улицу, где, увеличивая мокроту панели, шел большими хлопьями мокрый снег.
Марсель, — собственно говоря, его звали Маркел Ильич, а Марселем его называла maman, а за нею жена, сидевшие в эту минуту в соседней комнате, — Марсель был в очень странном настроении, которое продолжалось у него почти неделю.
Да, да, неделю — сегодня четверг, а «это» началось в пятницу на прошлой неделе. Началось неожиданно, без всякой причины, потому что нельзя же считать причиной найденную на улице маленькую истрепанную тетрадочку, в которой и написано-то было всего несколько несвязных строк, намазано несколько детских рисунков и… счет.
Он, Марсель, просто переутомился. Каждый день от часа до четырех он должен был ходить на службу в министерство, там он курил, пил чай и читал газету, но это утомляло его гораздо больше, чем игра в теннис в течение четырех часов, автомобильные и парусные гонки или футбол.
Он давно бы бросил эту тяжелую службу, но maman и жена требовали, чтобы он служил.
Он получал жалованья всего сто рублей в месяц, а они с женой проживали двадцать тысяч в год; из этого видно, что maman и женой руководило не корыстолюбие, а только честолюбие — они хотели, чтобы к известным годам он сделался действительным статским и получил «пост».
Между его maman и его женой существовало всегда трогательное единение, даже в мелочах.
Они были примерными свекровью и невесткой и всегда находили темы для нескончаемых интимных бесед. Вот и сегодня они там, в гостиной, очень оживленно разговаривают, но он не слышит их разговора.
Они ему видны в зеркало.
В зале, где он стоит, сгустились сумерки, и вот только минуту тому назад зажженный уличный фонарь слабо осветил комнату, и полулегли бледные полосы от окон.
Но гостиная освещена, и зеркало напротив двери в нее отбрасывает на паркет более яркую полосу.
Как в раме, он видит стол, часть ширм, шкафик-буль[10], полку с фарфором и золоченые рамы картин.
На столе, покрытом плюшевой темной скатертью, горит лампа в пестром абажуре, а у стола сидят maman и жена.
Странно, что между ними есть какое-то неуловимое сходство, хотя они совершенно не похожи одна на другую.
«Откуда же сходство? — сам себя уговаривает Маркел Ильич. — Это просто зеркало как-то не так отражает».
Или это следствие его «переутомления», что он все теперь разглядывает, даже maman и жену?
Зачем разглядывать? Это совершенно лишнее. Мало ли до чего можно доглядеться.
Вообще, долго смотреть в зеркало нехорошо. Можно вызвать у себя зрительную галлюцинацию — на этом основано гадание зеркалами.
Но он почему-то не мог отвести глаз от отражения.
Жена его, Anette, — блондинка с немного одутловатым лицом. Нос у нее с горбинкой и черные глаза со светлыми ресницами.
Она высока ростом, но плечи у нее узкие и покатые, бюст совсем плоский, но зато бока и бедра очень полны, так что в общем ее фигура напоминает пирамиду. Это сходство еще больше усиливается от капота песочного цвета.
Мать — наоборот, имеет пышный бюст, очень тонка от талии книзу, и тело ее в обтянутом платье черного атласа похоже на головастика.
Если долго смотреть в зеркало — все начинает заволакиваться туманом, и кажется, что там не гостиная, а аквариум с мутной водой, в которой вокруг большой каменной пирамиды плавает, извиваясь, крупный черный головастик, а лицо пирамиды (пирамида имеет лицо во всю обращенную к нему сторону) — улыбается, причем видны десны с мелкими зубами, щеки выпячиваются, а нос опускается на верхнюю губу.
Маркел Ильич встряхивает головой, с трудом отводит глаза от зеркала и опять смотрит на мокрую улицу. По улице бегут тени, ясно обрисовываясь на освещенных витринах магазинов и сливаясь потом с темнотой.
По бурому, талому снегу скользят тени саней и пролетают снопы света от автомобилей.
У него устали ноги стоять у окна, а отойти он не может, словно ждет чего-то.
Это состояние ожидания началось с того момента, как он нашел тетрадку.
Да нет! От тетрадки это не могло сделаться, просто находка тетрадки совпала с началом его болезненного состояния.
Ведь что же могла сделать эта маленькая синяя тетрадочка с белой наклейкой, из тех тетрадочек, в которые ученики вписывают иностранные слова? Она тоже была перегнута пополам в длину.
Он нашел ее на Кирочной, у Таврического сада, возвращаясь от знакомого, где он заигрался в бридж до трех часов ночи.
Она валялась на панели, и он сам не знает, зачем он ее поднял и положил в карман.
Приехав домой, он запер ее в письменный стол и лег спать, но спать не мог. Жена его давно уже спала с папильотками на лбу и в фланелевой фуфайке (она страшно зябкая).
Он ворочался с боку на бок — ему не по себе.
«Зачем я поднял эту тетрадку, — думал он, — может быть, она нужна владельцу, и он вернется искать ее и не найдет. Не следовало ли мне заявить о моей находке — отвезти ее в участок? Но что сказали бы в участке, если бы я явился в три часа ночи, чтобы заявить о находке истрепанной тетради? Да. Но ведь там могут быть написаны очень важные вещи!
Он не выдержал — встал и отправился в кабинет. Зажег лампу и вынул тетрадку.
Первые три страницы были чистые, а на четвертой стояло:
„Кариатида. Быть ею скверное занятие, кроме того, что у вас нет ног, вы должны еще что-нибудь поддерживать“.
На пятой:
Булка и колбаса………. 35 к.
Прачке………. 80 к.
Папиросы………. 6 к.
Трамвай………. 5 к.
Диадема………. 35540 р.
Стакан чаю на вокзале………. 10 к.
Каликике апельсин, чтобы не злилась………… 8 к.
Хлеб………. 5 к.
……………
35541 р. 49 к.»
Затем следовал рисунок, изображавший какого-то уродца с большим ртом, растрепанными волосами и пером в руке, что-то вроде рисунка дома и головы свиньи.
Шестой и седьмой лист были залиты чем-то темным — вероятно, кофе, восьмой испещрен рисунками столов, стульев, ламп и всевозможной посуды, потом следовали слова: «Надо во все всматриваться внимательно, но лучше через отражения — тогда виден смысл вещей».
«Чтобы освободить, голову, нужно…» (следовала клякса). Затем следовал рисунок того же растрепанного уродца с огромной головой, но уже со скрипкой в руке.
«Элия[11] знает, что лежит в агатовой чашке. Потому-то и одевается в шелковое платье».
Одиннадцатая страница была обведена красным и синим карандашом и на ней была тщательно нарисована свиная голова, а под ней надпись:
«Ненюфинька — милая».
А на следующей странице стояло:
«Если хочешь, ты можешь все узнать и быть счастливым. Но если в пятницу будет грязно — то надень галоши, потому что сам знаешь, если уж пойдешь — возвращаться нельзя — иначе грозит безумие. Приди в полночь на Пантелеймоновский мост и спроси Каликику — она тебя проводит».
На углу Большой Морской И Цепного моста Шел высокий господин Маленького роста.«Цепной мост называется теперь Пантелеймоновским и вообще все это надо понять».
Больше в тетради ничего не было.
Эта бессмыслица, конечно, не имела никакого значения, тетрадочка, очевидно, принадлежала ребенку и он пробовал писать и рисовать в ней.
Почему же Маркел Ильич всю эту неделю все думает об этом, и все его мысли сосредоточены на этих, очевидно, бессмысленных фразах?
Не то что бы он искал в них смысла, связи, — нет, наоборот — он принял все в буквальном смысле и старался приурочить окружающее к этим фразам — и тогда получались неожиданные результаты.
Вот и сегодня, что получилось, когда он пристально вглядывался в отражение? Что, если смотреть на все не прямо, а в зеркало?
«Надо освободить голову» — действительно, голова полна совсем лишними представлениями. Если бы их было меньше, то обдумывать все было бы легче, легче дать себе точный отчет.
Может быть, мудрец и есть такой человек, у которого является только по одному представлению зараз? Только по одному, но зато все это ясно и точно.
Насчет кариатиды — это истинная правда. Ужасное положение, когда ваши ноги вдруг обратились в какой-то завиток или в колонну, а на плечи, на голову и на руки вам положили тяжесть!
Можно, конечно, сбросить — но ведь не знаешь, какие могут быть от этого последствия.
Что касается агатовой чаши, то стоит только спросить Эллию, что там заключается, и она совершенно откровенно все объяснит… А в том, что придя в пятницу, в полночь на Пантелеймоновский мост, встретишь Каликику — в этом он нисколько не сомневался.
Конечно, он туда не пойдет, так как приглашение относится не к нему — но все написанное вполне ясно и понятно.
Рисунки? Да и рисунки будут понятны, стоит только пойти туда — и все объяснится совершенно просто и естественно.
Одним словом, все это правда и все естественно, а вот вся его остальная жизнь какая-то полная бессмыслица, а все окружающие и он сам что-то делают и говорят, совершенно неизвестно почему и отчего. Ведь стоит только посмотреть на все в зеркало….
Он опять тряхнул головой.
Он делал над собой усилие вернуться к окружающему и сказал себе торопливо:
— Буду смотреть просто, потому что понимать окружающее можно только тем, кто ходит туда, куда может довести Каликика, а ему туда нельзя идти, так как его не приглашали, и потом, раз решившись, передумывать нельзя.
Он уже хотел отойти от окна, как вдруг на фоне освещенной витрины магазина напротив остановились два черных силуэта.
Один был мужской, маленький, с огромной головой, покрытой шляпой с широкими полями, из-под которой торчали неровными клочьями волосы, другой силуэт был женский — чуточку повыше — страшно худой, с маленькой головкой на длинной шее и в остроконечной шляпке.
Сердце Маркела Ильича забилось шибко-шибко, ноги как-то ослабели.
Силуэт мужчины совершенно походил на рисунок уродца, два раза повторявшийся в тетрадке.
Вот он поднял руку до высоты освещенного квадрата витрины, и Маркел Ильич увидел в его руке какой-то довольно большой плоский предмет — он сразу догадался, что это футляр от скрипки.
Чувство не то ужаса, не то радости охватило его, а силуэты между тем двинулись влево, проплыли мимо окна, — (причем он заметил, что женщина слегка прихрамывала), — и слились с темнотой.
«Теперь я пойду чай пить», — как-то, словно успокоившись, решил Маркел Ильич и твердыми шагами пошел в гостиную.
Maman и жена при его появлении замолкли и как-то значительно переглянулись, очевидно, разговор шел о нем.
«Как просто — спросить: что вы говорили обо мне? Очень ведь просто, но почему-то нельзя».
У жены какая-то кислая, жалостливая улыбка, a maman делает «наивные» глаза.
Эти «наивные» глаза вдруг пробудили у него какие-то воспоминания и ему захотелось спросить: была ли она в близких отношениях с Пирулевым? Ему, Маркелу Ильичу, было тогда четырнадцать лет, и ему это совершенно не приходило в голову, но теперь как-то припомнились мелкие факты, даже не факты, а ощущения, но он прекрасно сознавал, что спросить подобную вещь невозможно.
— У тебя ужасно усталый вид, Марсель, — сказала maman, когда они сели в столовой за чайный стол.
— Да, maman, не правда ли? — подхватила жена, выглядывая из-за самовара. — Вчера у меня была Софи Нагатова и говорила, как хорошо в Финляндии, и как теперь это принято ездить в Финляндию зимой — вот мне и пришло сейчас в голову поехать туда недели на две.
Очевидно, эта поездка в Финляндию была уже ими обсуждена.
Маркелу Ильичу захотелось сказать:
— Зачем вы притворяетесь и не говорите прямо, что решили везти меня в Финляндию?
Но он не сказал и стал раздумывать над тем, отчего даже таких пустяков нельзя сказать таким близким людям, как мать и жена — ведь это гораздо таинственнее и непонятнее, чем изречения в тетрадке.
Чай пился медленно. Жена и maman говорили о театре, о войне, о знакомых, вспомнили его кузена, поступившего в действующую армию добровольцем. Maman его осуждала, говоря, что офицеров много, а у матери он один сын. Жена слабо заступалась, говоря, что он холостой. Маркелу Ильичу делалось все скучнее и скучнее, столовая как будто опять начинала заволакиваться мутной пеленой воды. Ему хотелось уйти, но уйти было нельзя. Ведь нельзя же вот так встать и уйти, хотя это совершенно естественно, в сущности, но этого почему-то нельзя сделать…
И вот он почувствовал, что ноги его деревенеют, сливаются в одно, плотно упираются в пол, а плечами и головой он поддерживает, да, да, поддерживает что-то — это что-то и maman, и жена, и его служба, и светская жизнь — одним словом, всё!
Отними он плечи и руки и все рухнет сразу! Сердце его замерло, и голова закружилась.
— Боже мой, Марсель, как ты побледнел, — привел его в себя голос maman.
Он очнулся и, проводя рукой по лбу, пробормотал, что у него закружилась голова.
— Тебе лучше всего лечь в постель, — посоветовала maman.
Маркел Ильич плохо спал эту ночь. Перед ним в тяжелой дремоте плыли силуэты растрепанного скрипача и хромой женщины, а ощущение кариатиды все не проходило.
И вдруг он сел на постель и произнес почти вслух:
— Чтобы освободить голову, нужно…. А что нужно? Если будет грязно завтра, я надену калоши и пойду на Пантелеймоновский мост.
Решив это, он вдруг почувствовал легкость, спокойствие и сразу заснул спокойным крепким сном.
Проснувшись, он был весел.
Решение — идти словно освободило его от какой-то тяжести.
Он ласково побеседовал с женой о выставке и о французском театре, пошел на службу, которая на этот раз не показалась ему такой противной. К обеду пришла maman и еще две дамы.
Он был любезен, остроумен — совсем как прежде.
Это было теперь совсем нетрудно, так как он знал, что в двенадцать часов он пойдет на Пантелеймоновский мост, и все окружающее стало таким не важным, что все его странности уже не тяготили его.
Отчего человеку не делать и не говорить того, чего от него требуют окружающие, когда вот он пойдет на Пантелеймоновский мост?
Он даже отыскал для этой прогулки благовидный предлог — посещение своего приятеля, где всегда играли в бридж, и, возвращаясь откуда, он и нашел тетрадку.
Товарищ был холостой, следовательно, ни жена, ни maman не могли его туда сопровождать.
Погода была такая же отвратительная, как и накануне, но он не взял извозчика.
У Марсова поля он провалился в какую-то яму, наполненную талым снегом.
— Это-то в столице и в ХХ-ом столетии, — возмутился он и принялся обдумывать письмо в газеты «о вопиющем неблагоустройстве столичных мостовых». Вообще, он совершенно не думал о том, куда он идет и что ждет его на Пантелеймоновском мосту.
Его мысли были совершенно ясны, но довольно бессвязны, как у всякого человека, когда он не обдумывает, а просто воспринимает впечатления извне.
Попробуйте иногда проследить ваши мысли, вы даже удивитесь их странному метанью.
Идя по бульвару вдоль Марсова поля, он приостановился полюбоваться на двойную арку огней над Троицким мостом и на каскад мелких, более желтых огонечков, словно пересыпающихся через нее.
«Очень красиво, — подумал он, — красиво, что мост такой горбатый, но зато неудобно на него въезжать. Очевидно, произошла какая-нибудь ошибка в постройке — теперь не строят таких горбатых мостов. В старину все мосты были горбаты — не умели строить плоских, как Pont d’Alexandre III в Париже, Pont.. Pont de Panleleymon…»
— Пон… пан… пон-пан, — стал беззаботно напевать Маркел Ильич.
Но едва он дошел до моста, он остановился, его охватила какая-то жуть, словно он стоял на высокой лестнице, лепившейся по отвесной высокой стене. У лестницы не было перил и там дальше он видел несколько обрушившихся ступеней. Хватит ли у него ловкости перепрыгнуть этот пролет? Вернуться же назад невозможно, потому что сзади ступенька тоже обрушилась.
Он нерешительными шагами дошел до половины моста, говоря сам себе:
— Дойду до конца моста и вернусь домой.
Но едва достигнув середины, он остановился, и замер, и прислонился к перилам — навстречу ему шла, прихрамывая, маленькая тощая фигурка в остроконечной шляпке.
— Каликика! — пискнул он.
Он совсем не хотел ее окликнуть, а это имя вырвалось у него невольно, от страха.
Фигурка остановилась.
При свете фонаря он увидел длинное узенькое лицо с тонким, как клюв скворца, носом.
Она окинула быстрым взглядом его высокую фигуру и, вытащив руку из муфты, взяла его за руку. Пальцы ее были цепкие, горячие и сухие.
С этой минуты Маркел Ильич ничего не помнил — словно большой темный платок покрыл его голову, и очнулся он в узкой темной передней.
Каликика отворила дверь в освещенную гостиную, повелительно сказала: «Идите» — и скрылась куда-то налево, в темноту.
Маркел Ильич успел только сбросить галоши и, как был, в пальто, в шляпе и с палкой — переступил порог.
Комната была большая, но довольно низкая, роскошно обставленная золоченой, крытой пестрым шелком мебелью. Масса диванчиков, эссов и козеток, огромное зеркало над камином и везде зажженные канделябры.
Едва он переступил порог, как к нему навстречу бросились три девушки и со смехом и щебетаньем принялись сдергивать с него пальто, отняли шляпу и палку и, хохоча и взвизгивая, повели его к столу, на котором был приготовлен чай, стоял десерт, фрукты и вино.
Они говорили все три зараз, усаживали, наливали чай, резали торт, толкали друг друга и смеялись.
Одеты все три были по моде восемнадцатого столетия, в огромных фижмах и чрезвычайно пестрых платьях со множеством лент, кружев, но прически их совершенно не подходили к стилю платьев: их черные кудрявые волосы были коротко подстрижены и причесаны на боковой пробор.
Маркелу Ильичу сначала показалось, что у него троится в глазах от путаницы желтого, голубого, малинового и зеленого хаоса, а девушка только одна — так они были похожи между собою.
Они все были маленького роста, брюнетки с круглыми черными глазками, вздернутыми носами и большими яркими ртами.
Сначала они показались ему девочками лет двенадцати-тринадцати, но, приглядевшись, он разобрал, что они гораздо старше.
Приглядевшись, он увидел, что одна была чуть-чуть повыше, другая немного пополнее, а у третьей нос был не так вздернут, как у других, но, так как они вертелись и постоянно меняли места — он сейчас же спутывался.
— Кушайте, кушайте! — восклицала одна.
— Вот это печенье миндальное, я очень люблю миндальное печенье! — тараторила другая.
— Я вам очищу грушу! Что вы любите больше, — яблоки или груши? — предлагала третья.
Усевшись за стол — они перестали метаться, и Маркел Ильич начал приходить в себя.
— Хорошо, что вы пришли рано, пока еще никто не пришел, мы пока успеем познакомиться с вами. Сегодня будет весело, Клим обещал сыграть нам «Свадебный марш», потому что Баритта (указала та, которая была потолще, на ту, которая была повыше) подарила ему новую квинту.
— Ты знаешь, Элия, Клим сегодня в отличном расположении, потому что у него прошел насморк.
Услыхав имя Элии, Маркел Ильич посмотрел на нее и сказал наугад:
— А я знаю, что вы очень интересуетесь тем, что находится в агатовой чашке.
Все три так и покатились со смеху.
— Это я дразню Тину! — отвечала Элия, совсем задохнувшись от смеха. — Она думает, что там вдохновение.
— Вам очень скучно дома? — спросила она, накладывая ему на тарелку кусочек земляничного торта.
— Гм, да, — ответил нерешительно Маркел Ильич.
— Вы живете один?
— Нет, с женой.
— Ах, как это хорошо! — воскликнули все разом. — Расскажите, как вы влюбились.
Он смутился. Что ему рассказать? Maman посоветовала, maman сказала… приличная партия… триста тысяч приданого… хорошие связи…
— Я… я когда-нибудь в другой раз, — начал он, слегка раздосадованный.
— Хорошо, хорошо, — воскликнули они опять вместе, — ведь мы только так спросили, потому что хотим научиться влюбляться и никак не можем понять, как это делается.
— Капитан обещал научить нас и стал нам было объяснять, но Каликика страшно рассердилась и чуть не прогнала его. Он сказал, что объяснять будет на картах, и это Каликика позволила, но мы ничего не понимали, и нам надоело слушать. Мусмэ уверяла, что она что-то понимает, — указала Элия рукой на ту, у которой нос был меньше вздернут и которая казалась моложе других.
— Нет, я немножко поняла. Если положить две красные и одну черную, потом опять красную и опять черную… нет, постойте, две черных — это будет холодность.
— Ха- ха-ха, — залились смехом Баритта и Элия, — просто Мусмэ хотела выйти замуж за полковника, когда у него вырастет нога.
— Выйти замуж очень весело! Как мило, что Петр и Туфа женаты! Они познакомились здесь и поженились, потому что у них одинаковое отражение. Мы были на свадьбе — их венчали в церкви Уделов. Мы все были, даже Каликика, только Клим не пошел. Ах, как было весело! Фанагрион такой элегантный во фраке, Карбоша в орденах!
— Потом, когда все «ненастоящие» разъехались, мы приехали сюда! Вот было-то веселье, даже бабушка оставалась чуть не до утра, а она всегда спешит домой, потому что дома ее очень строго держат! — восторженно рассказывала Элия.
— Скажите, а отчего же вы ничего не говорите, или, может быть, вы приехали сюда для молчания, так мы замолчим.
— Нет, пожалуйста, я готов беседовать, — несколько смешался Маркел Ильич.
— Ну, тогда расскажите нам, отчего вы ушли и почему пришли сюда? А то мы не знаем, о чем с вами разговаривать.
Они примолкли и уставились на него свои круглыми глазами.
— Отчего я ушел и почему я здесь? — переспросил удивленно Маркел Ильич. — Я не знаю.
— Как не знаете? Вот странно-то! Ведь вы почему-нибудь же пришли сюда?
— Я пришел невольно.
— Ха-ха-ха! Невольно и без причины? Вот странно-то! Этого не может быть. Вы не хотите сказать? Ну и не надо! А кто вас прислал?
— Никто.
— Как никто? А как же вас привела Каликика?
— Я случайно нашел тетрадку и в ней…
Он не договорил, потому что случилось нечто неожиданное.
Они все три вскочили и заметались по комнате.
Фрукты попадали и покатились по полу, упал и разбился стакан.
Они метались в хаосе своих пестрых платьев и разлетающихся лент, взмахивали руками, роняли стулья и столики.
— Каликика! Каликика! Каликика! — жалобно кричали они.
Маркел Ильич вскочил с ужасом, ему казалось, что какие-то пестрые птицы бьются в комнате, наполняя ее хаосом, бросаются во все углы, жалобно выкрикивая:
— Каликика, Каликика!
Он стоял растерянно, не понимая, что случилось, когда рядом с ним раздался звонкий повелительный голос:
— Молчать! Что случилось?
Это была Каликика.
— Это не тот! Это ошибка! Это не «настоящий»!
— Брысь! На место! — сердито крикнула Каликика и, отцепив от пояса арапник, ближе подошла к Маркелу Ильичу.
Все три девушки, между тем, быстро прыгнули на диван и, крепко прижавшись друг к другу, образовали целую пеструю кучу, из которой торчали три черных головки, а глаза их с ужасом смотрели на Маркела Ильича.
— Как вы смели обидеть девочек? — спросила Каликика, и арапник в ее руке звонко щелкнул.
Она смотрела на него пристально своими удивительно светлыми глазами.
Маркел Ильич стал объяснять ей довольно сбивчиво находку тетради, свое состояние и извинялся, уверяя, что ничем не обидел барышень и не понимает, почему они так испугались.
Теперь он хорошо рассмотрел ее худенькую фигурку, одетую в черное гладкое платье. Ее волосы были собраны на макушке и, завязанные белой тесемкой, образовали на темени пресмешную метелочку. У нее был очень большой лоб и удивительно странные брови, они были почти перпендикулярны к переносице.
— Г-м, — сказала она, внимательно выслушав его, — случай исключительный. Идите в контору, я позову madame Икс.
— Да, да, позовите мадамочку, — запищали на диване девушки.
— Ну, ну, успокойтесь, — сказала им уже ласково Кали-кика и повела Маркела Ильича в следующую комнату.
В противоположность гостиной, «контора» была обставлена очень скупо. Направо у окна стоял большой некрашеный стол, на нем несколько конторских книг, чернильница, большой лист клякс-папира и колокольчик. У стола два венских стула, а на стене календарь и счеты.
Кроме стола, в комнате стоял большой гардероб и жидкая этажерка.
С потолка спускалась лампочка под зеленым абажуром, а на столе горела другая под таким же абажуром.
Каликика, оставив Маркела Ильича в конторе, пошла дальше, не закрыв за собою двери, тогда как дверь в гостиную она плотно заперла.
Маркелу Ильичу показалось, что за конторой открылась бесконечная анфилада комнат, но это было неверно — там было только две, но в последней из них всю стену занимало огромное зеркало.
Он хотел было заглянуть в эти комнаты, но не решился и остался стоять на месте.
Он ждал недолго. Скоро послышались неторопливые, ровные шаги, и в комнату вошла высокая дама.
Дама эта имела вид в высшей степени корректный и строгий. Темные волосы ее были гладко зачесаны на пробор и уложены диадемой на макушке.
Она была довольно полна, затянута в высокий корсет и одета в синее платье, какие носят классные дамы. Безукоризненной белизны крахмальный воротничок оттенял ее полное, красивое лицо со строгими правильными чертами.
Не ней не было никаких украшений, кроме тонкой золотой цепочки старинного фасона, надетой через шею, на которой были часы, спрятанные за поясом.
— Присядьте, пожалуйста, — сказала она, садясь к столу и указывая Маркелу Ильичу на стул по другую его сторону.
Он сел.
— Потрудитесь сказать мне, кто вы такой, — сказала она, смотря на него строгим, но снисходительным взглядом.
Маркел Ильич схватился за бумажник и, вынув свою визитную карточку, подал ей.
Она прочла, что было написано на карточке и, отложив ее в сторону, тем же тоном сказала:
— Теперь будьте добры рассказать мне все подробно. Маркел Ильич растерялся немного, но потом передал краткую историю найденной тетради.
Она выслушала его внимательно и, продолжая смотреть на него, сказала:
— Хорошо — это факты «прямые», а теперь потрудитесь мне изложить факты отраженные.
Он молча смотрел на нее.
Она усмехнулась снисходительно и менее строго сказала:
— Судя по вашим поступкам, я думала, что vous êtes plus avancé[12]. Хорошо, я спрошу вас: почему вы придали значение тому, что было написано в тетрадке, найденной вами?
Он совершенно смешался. Он чувствовал себя совсем маленьким, нашалившим гимназистом, ему казалось даже, что он держит экзамен по географии. Почему именно по географии, он не давал себе отчета: ему хотелось пересчитать притоки Оки или вершины Кордильеров, он сделал усилие, чтобы удержаться, и сказал:
— Я сам не знаю, почему.
— Подумайте, я вас не тороплю, — снисходительно сказала она и, откинувшись на спинку стула, стала передвигать застежку на своей цепочке.
— Ну-с! — произнесла она после некоторого молчания.
— Вы обсудили ваш ответ?
— Я не знаю… я, право, не могу вам объяснить, просто — «придал значение» и пошел.
— А не припомните ли вы мысли, с которыми вы шли?
— Я… я думал об неустройстве мостовых в Петрограде, — ответил он сконфуженно.
— A-а. Хорошо, а потом?
— Да, право, больше ничего: что-то о мосте Александра III в Париже.
— Очевидно, вы не привыкли излагать свои мысли, но это происходит оттого, что вы… впрочем, мы только теряем время. Позвольте мне найденную вами тетрадку.
Он вынул тетрадку и подал ей.
Она посмотрела ее, покачала головой и, отложив в сторону, строго сказала:
— Вот до чего доводит страсть к писательству.
Помолчав, она заговорила опять.
— Конечно, особа, потерявшая тетрадь, за свою небрежность понесет известное наказание, но с вами я положительно не знаю, как поступить.
Она задумчиво подвигала вниз и вверх пряжку на своей цепочке и затем решительно сказала:
— Я вижу для вас только один выход из вашего положения: поезжайте в действующую армию.
Маркел Ильич приподнялся со стула:
— Я… я не подлежу призыву и… и… не чувствую себя достаточно здоровым.
— Тогда я положительно не знаю, что предложить вам. Что вы думаете о самоубийстве?
— Самоубийстве? Но почему? — воскликнул Маркел Ильич.
Она опять взяла тетрадочку и, перелистав ее, указала ему строки:
— Если ты уже пойдешь, то возвращаться нельзя — иначе грозит безумие.
Он смотрел то на написанное, то в лицо своей собеседницы, и его начал охватывать страх.
— Позвольте, я ничего не понимаю, — начал было он.
— Что за странная отговорка, — прервала она его, пожимая плечами. — Вы поняли все, что написано здесь, — уперла она палец в синенькую тетрадочку, — и вы должны были принять все целиком или ничего не понять, бросить тетрадь и остаться в том, что вокруг вас, а не идти на Пантелеймоновский мост, — строго сказала она.
— Да-да, вы правы, — забормотал он, чувствуя, что страх охватывает его все больше и больше, и ему казалось, что необходимо сейчас, во что бы то ни стало, расположить к себе эту madame Икс, «подлизаться» к ней, подумал он, чувствуя себя опять маленьким гимназистом.
— Да, да, я понимаю, что я поступил опрометчиво, но за то я знаю все притоки Оки, — проговорил он залпом.
Лицо madame Икс смягчилось, она наклонила голову и приветливо сказала:
— Очень хорошо. Теперь потрудитесь мне назвать главные города Северо-Американских Соединенных Штатов.
Он повиновался.
Она кивала головой все приветливей и приветливей, а когда он умолк, она сказала, улыбаясь:
— Я вам могу поставить 4.
Она откинулась на спинку стула и, подергав цепочку, решительным голосом произнесла:
— Ввиду вашего скромного поведения и прилежания, я могу сделать вам снисхождение: дать вам на переэкзаменовку неделю срока, до следующей пятницы. Обдумайте хорошенько ваше решение, и если вы решите прийти сюда — вы придете опять в полночь на Пантелеймоновский мост, если же перспектива сесть в сумасшедший дом вам более по вкусу, то вы сойдете с ума. Больше я ничего не могу сделать для вас.
Она поднялась со стула и позвонила.
Звук колокольчика был чрезвычайно приятен, он словно порхнул мелодично и звонко, и сейчас же в комнате появился маленький человечек, так знакомый Маркелу Ильичу.
Маленький человечек очень приветливо закивал ему головой, его огромный рот раздвинулся чуть не до ушей, а между тем, его улыбка была чрезвычайно приятна, и все лицо его вдруг стало до того мило Маркелу Ильичу, что ему захотелось обнять его и заплакать.
— Боже мой. Как я рад вас видеть! — воскликнул он совершенно невольно, протягивая руки и ощутив прилив радости, когда в его обеих руках очутилось по костлявой лапке маленького человечка.
— Откуда вы знаете нашего Клима? — спросила madame Икс строго.
— Ах, из тетради, из тетради! Вы сыграете мне на скрипке, ведь Баритта подарила вам новую квинту!
Маркелу Ильичу казалось, что вот, вот сейчас Клим ему поможет, что-то сделает для него.
— Отлично, пойдемте, там уже кое-кто собрался, — и Клим взял было его за руку, но madame Икс положила свою на плечо Клима.
— Остановитесь, Клим, — сказала она, — этот господин не настоящий, он попал сюда по ошибке.
Человечек изумленно посмотрел на Маркела Ильича.
— Странно, — сказал он, — он говорит совсем, как настоящий.
— У него все данные стать настоящим, но пока он еще не может оставаться здесь, и я звонила, чтобы позвать Каликику — она проводит его до моста.
Клим поклонился и пошел к двери.
— О, не уходите, не уходите! — воскликнул Маркел Ильич, протягивая к нему руки.
Клим обернулся и, улыбаясь, ласково сказал:
— Ничего, ничего! Я надеюсь, мы скоро увидимся — у вас большие способности.
И он вышел.
Маркел Ильич видел, как он пошел, быстро переставляя свои тонкие ножки с огромными ступнями и отражаясь в зеркале. Казалось, будто два одинаковых человечка шли друг другу навстречу и потом, повернув один налево, другой направо от себя — исчезли.
— Я вас прошу подождать минутку в следующей комнате. Каликика сейчас придет за вами, — сказала madame Икс, указывая ему на дверь.
Он повиновался.
В этой комнате, оклеенной малиновыми обоями, по стенам стояли банкетки, обитые малиновым бархатом, а посредине на мраморной тумбе красивая ваза из темного камня.
Комната была узкая, и большой портрет в золоченой раме занимал всю стенку, противоположную окну, завешенному тяжелой малиновой занавесью.
На портрете, написанном, очевидно, первоклассным художником, была изображена женщина, сидящая в кресле с высокой спинкой.
Одета она была в роскошный вечерний костюм из золотисто-палевого шелка, с таким большим декольте, что весь ее полный, безукоризненной красоты бюст был виден до пояса между газовыми оборками и кружевами, а разрез платья обнажал от пояса до колена ее стройную ногу.
Тело, газ и переливы атласа были написаны с удивительным мастерством. Женщина сидела прямо, перекинув одну из прекрасных рук на ручки кресла.
Но самое странное было то, что лицо на портрете закрывала маска, изображавшая голову свиньи — это была грубая картонная маска, какие продаются на святках в табачных лавочках.
Маркел Ильич опять почувствовал жуть, глядя на этот портрет. Это прекрасное соблазнительное тело от этой маски, казалось, делалось наглым, отвратительным и страшным.
Жуть все усиливалась, и он обрадовался, когда вошла Каликика.
Она принесла ему пальто и шляпу, дала в руки палку и, пристально смотря на него своими странно-светлыми глазами, взяла его за руку…
И опять Маркелу Ильичу показалось, что голову его накрыли чем-то темным, и когда это ощущение миновало, он увидел, что стоит, прислонясь к перилам Пантелеймоновского моста. Он оглянулся, ища Каликику — но ее не было.
— Что это? — пробормотал он. — Я спал или это было минутное бесчувствие с бредом?
Он подошел к фонарю и, вынув часы, посмотрел на них — было три четверти двенадцатого.
— Ну, конечно, это минутное бесчувствие, — обрадовался он, — это, говорят, бывает при переутомлении.
Решив это, он окликнул дремавшего на углу Фонтанки извозчика и поехал домой на Конюшенную.
Отворив своим ключом дверь, он порадовался, что везде темно, что жены, очевидно, нет дома, но, подходя к спальне, он увидел свет.
«Очевидно, Anette нездоровится, — решил он, — придется сказать, что бридж не состоялся, чтобы объяснить свое раннее возращение».
Но за полчаса он не мог съездить к Таврическому саду и вернуться.
А ведь как было просто сказать: «Дорогая, мне, право, не хочется рассказывать, почему я вернулся», но этого жене нельзя сказать — положительно нельзя — и это ужасно странно. Надо сейчас, сию минуту выдумать что-нибудь…
«Ага, я скажу, что забыл бумажник и вернулся с дороги».
Придумав это, он храбро пошел в спальню. Жена в папильотках и фланелевой фуфайке лежала в постели и читала французский роман.
— Представь, — заговорил он, входя, — я забыл бумажник и с дороги вернулся.
— Где же ты был? — спросила жена, удивленно поднимая свои белые брови.
— Как где был? Я доехал только до Пантелеймоновского моста и вернулся.
— Марсель, опомнись, что ты говоришь! — с тревогой села она на постели.
— Как что? Кажется, я говорю совершенно понятно: я заметил на Пантелеймоновском мосту, что у меня нет бумажника, и вернулся.
— Марсель, что с тобою? Ты нездоров?
Она спустила ноги с кровати, шарила ими, ища туфли и продолжая смотреть на него испуганными глазами.
— Я совершенно здоров, но ты сама, вероятно, больна, если не понимаешь таких простых вещей! — раздраженно воскликнул он.
— О, Боже мой, не волнуйся! Но как же я могу понять? Значит, ты не был у Канига?
Она глядела на него растерянно.
— Да как же бы я успел за полчаса съездить к Таврическому саду и вернуться? — еще раздраженнее закричал он.
— Боже, Боже мой, что он говорит! — всплеснула она руками.
— Да говорю же я тебе… — начал он, почти крича, объяснять ей свое возвращение с Пантелеймоновского моста. Она, совершенно испуганная, побежала к столу, нашла стакан воды и дрожащими руками поднесла ему.
— Пей, Марсель, пей скорей и успокойся.
— Да не хочу я воды! — крикнул он, отталкивая стакан.
— Марсель, ангел мой, ляг скорей, я сейчас пошлю за доктором, — со слезами сказала она.
— За каким доктором? — заорал он, затопав ногами.
Жена отскочила и, заломив руки, залилась слезами.
— Да скажешь ли ты, наконец, что случилось? — схватил он ее за плечо. Она с криком вырвалась и бросилась к звонку.
— Говори же! Что случилось? — рычал он, но она, заливаясь слезами, не оставляла звонка, который неистово трещал.
На этот отчаянный звонок из разных дверей сбежалась полуодетая прислуга.
— Скорей, скорей, Дуняша, Павел, — лепетала Anette, — поезжайте за доктором, звоните по телефону к maman, чтобы сейчас ехала сюда! Скорей, ради Бога, скорей!
Прислуга выбежала, а жена, рыдая, упала на стул.
— Она сошла с ума, — подумал Маркел Ильич и, подойдя к столу, взял только что налитый ею стакан воды и хотел предложить ей в свою очередь, но стакан выпал из его рук.
На часах в столовой громко и отчетливо пробило три.
Маркел Ильич схватился за свои часы, приложив их к уху — часы стояли.
Скверную ночь пережил Маркел Ильич.
Говорить теперь, что он был у товарища и играл в бридж, было уже невозможно, выдумать что-нибудь другое, значит навести жену на подозрение (она была очень ревнива). Рассказать правду? Да кто поверит? Пришлось покориться приговору съехавшихся докторов и согласиться, что у него случился припадок потери памяти на почве переутомления — он согласился. Было три доктора — их домашний врач привез своего ассистента, maman привезла еще одного с великолепной рыжей бородой, но тот молчал, так как оказался ветеринаром.
Когда доктора ушли и Маркел Ильич послушно выпил все принесенные из аптеки лекарства, он был так утомлен, что хотел заснуть, но вдруг услышал всхлипывания жены.
— Anette, о чем же ты плачешь? У меня все прошло, я чувствую себя прекрасно? — ласково сказал он.
— Да, но в припадке ты не помнил, что ты делал, — всхлипнула она, — может быть, ты был в каком-нибудь шантане! Я тебе этого никогда, никогда не прощу!
Наутро Маркела Ильича с постели не спустили и держали на строгой диете. Жена и maman ходили на цыпочках, печально кивали головами и вздыхали.
Маркел Ильич злился, но не смел показать свое раздражение, боясь, что это опять будет сочтено за припадок. Ему хотелось встать, ему хотелось есть.
— Вот, — думал он, — я, совершеннолетний человек и полноправный гражданин, лишен свободы и пищи, уложен в постель и даже не смею протестовать. Боже мой, какая бессмыслица!
Это бессмысленней того, что было вчера. А что было вчера? И было ли все это?
Он стал припоминать все происшедшее. Что ему говорили? Что говорил он сам?
Пролежав все утро в постели и раздумывая, он понемногу пришел к заключению, что все, что случилось вчера, было бредом, и что жена и доктор — правы: у него был вчера припадок потери памяти с бредом; но где же он провел время в минуты его беспамятства? Не мог же он простоять на мосту около двух с половиной часов. Ведь городовой заметил бы его и отвел в участок.
Уверенность, что это был припадок, совершенно укрепилась в нем и он испугался, позвал жену и maman и потребовал консилиума и приглашения на него известного психиатра, профессора Книпанского.
Жене и maman приходилось все время его успокаивать. Он чувствовал себя страшно несчастным, слабым, умирающим. Но вот, около пяти часов пополудни, случилась одна история, которая сразу успокоила его насчет здоровья, но зато опять задала ему задачу.
В пять часов его слуга Павел таинственно сообщил ему, что две какие-то барышни остановили его на черной лестнице, когда он возвращался из аптеки, дали ему сверток и наказали передать его ему, Маркелу Ильичу, потихоньку, чтобы никто не видел.
Сверток был довольно большой, завернутый в газету и перевязанный розовой лентой.
Маркел Ильич нерешительно взял его в руки, подумал, наконец, развязал — это были галоши.
Несколько секунд он смотрел на них, не доверяя глазам.
— Какие барышни тебе это передали? — спросил он растерянно.
— Не могу знать, две черненькие, маленькие барышни, такие веселые — все смеялись, — ответил Павел, усмехнувшись.
— Что они еще говорили? — поспешно спросил Маркел Ильич.
— Да вот, только и сказали: отдай, мол, это барину потихоньку, чтобы никто не заметил, что вы вчера это изволили у них забыть-с.
— Ну хорошо. Убери галоши и иди, — смущенно пробормотал Маркел Ильич.
Едва Павел ушел, он вскочил с постели и заходил по комнате, забыв даже надеть туфли.
Он почувствовал, что совершенно здоров и что какая-то радость охватывает его.
— Это, наверное, были Баритта и Элия, а может быть, Мусмэ и Баритта… Ну, да это все равно! Ах, милые девочки, сами потрудились принести галоши. Да, да калоши-то я и забыл, Каликика принесла мне пальто, и шляпу, а галоши оставила в передней. Милая Каликика! Она, правда, строга, но как она вступилась за девочек, думая, что я их обидел. А Клим! Милый Клим! Как там было хорошо! Зачем мне не позволили остаться?
Он задумался.
— Мне сказали, что придя, нельзя уже возвращаться… Куда? Домой? Где меня обижают? Не дают есть, укладывают в постель! Да я с удовольствием уйду! Я лучше повторю всю географию, и не только географию, а и арифметику — все, что пожелает madame Икс. А здесь я не хочу оставаться, здесь меня обижают, — уже всхлипывая, продолжал он — Я не хочу быть действительным статским! Я хочу играть в теннис! А-а-а! — уже заорал он и вдруг испугался. Maman услышит!
Он быстро юркнул в постель, но все было тихо, и он снова принялся раздумывать.
Отчего maman его не любит? Заставила жениться, когда ему вовсе этого не хотелось, принуждает служить. Она его и маленького не любила — всегда была такая строгая и неласковая. То ли дело его няня! Он с няней мог говорить обо всем, что приходило в голову. А вот жена…
При мысли о жене он сразу опомнился.
— Да что это я думаю — что со мной? — пробормотал он. — Или я действительно болен?
Он опять почувствовал слабость и позвал жену, потребовал, чтобы на консилиум пригласили еще двух врачей.
Ночью он поминутно просыпался, терзаемый противоположными чувствами.
Едва он начинал думать о своем ночном приключении, как о действительном факте — он чувствовал себя здоровым и нормальным. Все делалось простым и ясным, стоило только обмануть домашних и удрать на Пантелеймоновский мост; но едва мысль, что все происшедшее бред, мелькала в его мозгу, сразу он чувствовал отчаяние, слабость и страх за свой рассудок.
На другой день собравшиеся доктора долго ждали профессора Книпанского. Наконец он явился с большой помпой. Трем из коллег протянул по два пальца, а остальным кивнул головой. Он цедил слова сквозь зубы и едва удостоил больного взглядом. Доктора почтительно стояли вокруг кресла, куда он опустился.
Маркел Ильич дрожащим голосом рассказал, что, отправляясь играть в бридж, ему захотелось пройтись пешком, но, взойдя на Пантелеймоновский мост, он лишился сознания и, очевидно, простоял там около трех часов, потому что очнулся на том же самом месте.
В конце своего рассказа он замялся. Нужно ли рассказывать, что при потере памяти у него был бред, то есть не бред, а он был где-то и даже оставил там свои галоши. Может быть, это необходимо рассказать, чтобы точно представить картину болезни, иначе как же доктора станут его лечить?
И он решился.
— Видите ли, господа, — начал он, — у меня во время потери памяти был бред, или, может быть, и не бред…
— А, это очень важно! — вскричал один из докторов.
— Когда я взошел на Пантелеймоновский мост…
— Название моста совершенно не играет никакой роли, — оборвал его профессор Книпанский.
— Да, да, когда я вошел на мост… я совершенно ничего не думал…
— Зачем же вам сообщать нам, что вы ничего не думали? Потрудитесь говорить короче — я тороплюсь.
— Я… я сейчас на мосту я встретил, то есть мне показалось, что я встретил, одну хромую женщину. Я знал, что ее зовут…
— Послушайте, — опять строго оборвал его профессор, — содержание вашего бреда не играет никакой роли — довольно того, что у вас был бред. Для меня, господа, картина болезни пациента совершенно ясна, — обратился он к остальным докторам, — мы можем удалиться для консилиума — я тороплюсь.
Он поднялся и важно направился к двери, остальные последовали за ним.
Совещание было не долго. Профессор решил, что болезнь есть следствие переутомления. Серьезного ничего нет. Все остальные доктора почтительно согласились.
В передней, получив конвертик с двумястами рублей, профессор слегка смягчился и важно процедил:
— Проведите меня еще раз к больному — я хочу задать ему несколько вопросов.
Жена Маркела Ильича была страшно обрадована такой внимательностью профессора и повела его к постели больного.
Войдя, профессор понюхал воздух и строго сказал:
— Мало воздуха! Советую больному не только чаще освежать комнату, но даже спать с открытой форточкой.
— О, Боже мой, профессор, — воскликнула в ужасе жена Маркела Ильича, — но я очень подвержена простуде.
— Заведите себе отдельную спальню — это гораздо гигиеничнее, — отрезал профессор, — и потом, больной с завтрашнего дня должен делать прогулки по вечерам и один, чтобы не вынуждать себя к беседе, а потом…
Он строго посмотрел на нее.
— Потрудитесь выйти, я задам больному еще вопрос.
Жена послушно на цыпочках вышла из комнаты.
Едва дверь за ней заперлась, профессор вдруг вскочил и вытянулся перед Маркелом Ильичом.
— Ваше высокоблагородие, — убедительно произнес он, — не упирайтесь вы, идите в пятницу на Пантелеймоновский мост. Что вам за охота здесь-то околачиваться! Надо же ведь и душе отдохнуть.
Маркел Ильич привскочил на постели, готовый заорать не своим голосом.
— Да вы, ваше высокоблагородие, не пугайтесь, если я, значит, по-настоящему, что же, коли вам Бог счастье послал. Значит, идите вы в пятницу на Пантелеймоновский мост, только галоши да пальто так не бросайте, потому есть у нас такой, Фламом зовут, нестоющий человек, так он скрасть может, так уж вы мне под номерок сдайте.
— Я… я… конечно, — забормотал Маркел Ильич, — хорошо, хорошо — вот вам двугривенный.
— Покорно благодарю, — гаркнул профессор, принимая двугривенный — так значит, в пятницу ожидать прикажете?
— Да, да я непременно приду, — сказал Маркел Ильич, почти лишаясь чувств.
Словно сквозь сон слышал он, как вошла жена и профессор важно цедил:
— Совершенно пустячная болезнь, дамы всегда все преувеличивают. Больной может встать. Никакой диеты. Режим? Никакого режима.
Профессор подал два пальца maman (a Anette даже не подал) и важно удалился, почтительно сопровождаемый хозяйками.
Маркел Ильич стал одеваться, все еще плохо давая себе отчет, приснилась ли ему эта перемена в профессоре или это тоже был моментальный бред.
Одно было для него ясно: надо, непременно надо идти в пятницу на Пантелеймоновский мост, иначе… иначе грозит безумие. Никакой профессор Книпанский не поможет, потому… ну потому, что он сам посылает его на Пантелеймоновский мост.
Решив твердо — идти — он опять, как и в тот раз, совершенно успокоился.
Болезни он никакой не ощущал и опять, приняв решение, он мог жить так, как прежде: ходить на службу, делать визиты, сопровождать maman и жену в театры.
Боже мой, это было вовсе не так уж трудно.
Чем ближе подходила пятница, тем более его охватывало нетерпение, ему иногда казалось, что он где-то в закрытом учебном заведении, а в пятницу он пойдет домой, в отпуск.
Как и в первый раз, он отправился пешком и, как тогда — встретил Каликику — она, очевидно, его ждала.
Он очнулся в той же самой передней, но на этот раз она была ярко освещена. На вешалках висели мужские и дамские пальто, на столе перед зеркалом были навалены шапки, шляпки и капоры, из-за закрытой двери в гостиную слышался смех и разговор.
Профессор, одетый в потертый мундир с нашивками на рукаве, радостно его приветствовал, снял с него пальто и выдал ему номерок.
— Ты, Василий, запирай двери, теперь все в сборе, и можешь идти на кухню пить чай, — сказала Каликика и, сделав знак Маркелу Ильичу идти за ней, повела его по длинному коридору.
Дойдя до конца, она отворила дверь на черную лестницу и, вынув ключ, открыла противоположную, выходящую на площадку дверь.
Он покорно следовал за ней; пройдя какую-то бедно обставленную квартиру, Каликика в последней комнате отворила дверцу шкафа и, пошарив по его дну, дернула какую-то ручку, задняя стенка шкафа раздвинулась, и Маркел Ильич очутился в высокой, роскошно убранной комнате с дорогой мебелью и великолепными панно во вкусе Буше[13] на стенах.
Едва Каликика ввела его, портьера на противоположной двери раздвинулась и в комнату вошла высокая стройная женщина.
Одета она была в черное бархатное платье, расшитое золотом, а лицо ее скрывала маска в виде свиной головы.
— Добро пожаловать, — сказала вошедшая звучным низким голосом.
Маркел Ильич стоял, не двигаясь, и смотрел на нее не то со страхом, не то с надеждой.
— Сядьте, — сказала она, садясь и указывая ему на кресло рядом. Он повиновался.
— Вы попали к нам совершенно случайно, — заговорила она, — вы совершенно случайно узнали о существовании нашего общества.
Конечно, отведя вас обратно на Пантелеймоновский мост, мы могли не беспокоиться о вашей дальнейшей судьбе, но потому, что найденная вами тетрадь произвела на вас такое сильное впечатление, и по разговору с вами мы убедились, что вы желаете стать «настоящим», и вот мы решили принять вас в наше общество и под наше покровительство, но вы должны дать клятву исполнять наши несложные правила.
Первое, самое главное, при встрече с теми, кого вы будете видеть здесь, делать вид, что вы с ними незнакомы, если же познакомитесь — никогда даже и виду не подать, что вы узнали их, и не говорить здесь с ними.
Что вы нарушите нашу тайну, мы не опасаемся. Все равно вы не сумеете указать, где вы бываете, а рассказывать о нашем обществе не в ваших интересах — ваш рассказ примут за вымысел, а если вы будете настаивать — вас сочтут за сумасшедшего.
А теперь я прошу вас сказать мне все — все, что у вас на душе, все ваши мысли и чувства — все, что вы таите в себе, все, что не можете доверить самым близким. Те мысли и ощущения, что являются у вас рядом с обыкновенными — словно отражение в волшебном зеркале.
Она положила свою прекрасную руку на плечо Маркела Ильича, и в разрезах безобразной маски, казалось, засветились теплые, ласковые лучи. И эти лучи словно тянулись к его сердцу и мозгу — согревали его, освобождали от тяжести и темноты, а сердце вдруг растопилось, он зарыдал, упав на ковер и охватив стан женщины, заговорил, всхлипывая:
— Я, я очень несчастен… Мама строгая, мама велела мне жениться… и… и служить. Она велит мне сделаться действительным статским, а я люблю играть в теннис. Я бы хотел играть в казаки и разбойники, но… но… это нельзя, так уж хотя бы в теннис или футбол! Боже мой, отчего в теннис можно играть, а просто в мячик нельзя! Да и то!.. — продолжал он, захлебываясь слезами. — Говорят, что в тридцать два года смешно так увлекаться теннисом, а надо избрать другую игру: автомобиль, скачки или сделаться балетоманом! Мама уже сердится за теннис. Боже мой, как вчера мне хотелось купить у Дойникова железную дорогу! Там и семафорчик, и станция, и заводной паровоз и… и… нельзя!
Маркел Ильич совсем захлебнулся слезами.
— Полно, полно, дитя мое, — ласково заговорила женщина, гладя его по голове, — не надо плакать. Купи себе железную дорогу и какие хочешь игрушки, принеси сюда и играй. Баритта, Элия и Мусмэ будут играть с тобой во что хочешь. Они понравились тебе? Они хорошие девочки. Тебя, верно, стесняет твой жакет — ты получишь матросский костюмчик.
— Нет, я хочу гимназическую блузу! — сказал Маркел Ильич, вытирая слезы и еще нервно всхлипывая.
— Хорошо, хорошо, как хочешь. Но только дома ты должен слушаться маму, вести себя хорошо. Не правда ли? Если ты будешь паинькой, то раз в неделю ты будешь приходить сюда и играть с девочками и Климом. Каликика будет тебя приводить и уводить. Здесь, у меня, ты можешь делать все, что тебе хочется, но если ты дома будешь вести себя дурно и болтать лишнее — я не буду брать тебя к себе по пятницам. Слышишь!
— Нет, нет я буду, буду! Буду стараться сделаться действительным статским, буду играть только в скачки! — воскликнул Маркел Ильич.
— Ну, вытри глазки и пойдем! Как тебя зовут? — спросила, она вставая.
— Меня зовут… Марселем.
— Отлично. Идем.
Ведя его за руку, она пошла к противоположной двери, сделав знак Каликике.
Они прошли несколько темных зал и через потайную дверь очутились в комнате с зеркалом.
Эту комнату, контору, комнату с портретом и гостиную наполняла толпа людей разных возрастов — одни одеты были в какие-то костюмы, другие в обыкновенное платье.
— Ненюфа, г-жа Ненюфа, Ненюфенька, здравствуйте, — слышалось со всех сторон.
Спутница Маркела Ильича кому подавала руку, кому кивала головой, кого гладила по щеке.
— Господа, — громко и повелительно сказала она, — я привела вам нового знакомого. Он мальчик, и надеюсь, вы будете ласковы к ребенку, к его резвости и его шалостям. Его зовут Марселем.
Из толпы к нему подбежали уже знакомые ему три девушки.
Они со смехом и восклицаниями повели его в гостиную, где стали его усаживать за чайный стол.
Маркел Ильич сразу почувствовал такую легкость, свободу, такое веселье, что не мог усидеть, он радостно взвизгнул и заскакал по комнате. Девушки бросились его ловить, заливаясь смехом.
Бегая по комнате, он вдруг наткнулся на сидящего в углу высокого человека, одетого в римскую тогу, со шлемом на голове, опирающегося одною рукою на меч, а в другой держащего свиток.
Человек сидел неподвижно, гордо смотря куда-то в пространство, и только слегка покачнулся, когда Маркел Ильич толкнул его с разбега.
— Тише, тише! Не урони статую! — закричали девушки.
— А кто это такой? — с некоторым страхом спросил Маркел Ильич.
— Это памятник одного генерала. Видишь ли, генерал был знаменитый полководец и гениальный стратег, ему поставили памятник при жизни, в виде Юлия Цезаря… Ну, пойдем есть конфеты. С кем из гостей ты хочешь познакомиться? — спросила одна из сестер.
— Я бы хотел видеть Клима, — сказал Маркел Ильич и вдруг отскочил, почувствовав, что кто-то схватил его за ногу.
На полу между двух кресел сидел молодой человек с взъерошенными волосами, одетый в длинную холщовую рубашку, подпоясанную веревкой.
— Дай копеечку юродивому, — заговорил он, качаясь из стороны в сторону.
— Он меня не тронет? — спросил опасливо Маркел Ильич.
— Нет, нет! У нас строго запрещено драться. Конечно, апаш Флам и сыщик Курча иногда дерутся, потому что они хулиганы, но потихоньку от Каликики, она этого не любит, — сейчас хлыстом!
— А кто этот юродивый?
— Это Фанагрион. Ты дай ему копеечку или конфетку и не обращай на него внимания, лучше пойдем искать Клима. Сегодня я буду играть с тобой, потому что Баритта и Элия заняты с большими, — сказала Мусмэ и, схватившись за руки, они побежали отыскивать Клима.
Проходя по конторе, Мусмэ обратилась к женщине, сидящей в большом кресле.
— Бабушка, вы не видели Клима?
Женщина повернула к ней голову, и меж оборок чепчика Маркел Ильич увидал бледное личико девушки лет восемнадцати.
— Какая же это бабушка? — воскликнул он.
— Т-с. Как ты смеешь! — крикнула сердито Мусмэ. — Раз тебе говорят, что бабушка — значит, бабушка. Сейчас поцелуй у нее ручку.
Маркел Ильич повиновался.
— Вижу, вижу, шалун! — закивала девушка своим чепцом. — Шалить нехорошо, ах, нехорошо! Ну да Бог с тобой, я деток люблю, а то дома-то у меня все непочтительны. Вот, Мусмэ, вчера меня опять на бал возили, — платье декольте заставили одеть! Хотела я упереться, не поехать, да боялась, что Ненюфенька рассердится, да меня, старуху, к себе пускать не станет. Идите, детки, идите, да пошлите мне Каликику — домой пора, как бы не хватились: куда бабка пропала?
— Ты, Марсельчик, — строго сказала Мусмэ, идя дальше с Маркелом Ильичом, — никогда никому не перечь. Ведь ты не скажешь пожилой даме — «ты старая».
— Ну еще бы! — вскричал Маркел Ильич. — Меня мама в чулан запрет.
И он расхохотался, вообразив, что бы было, если бы он сказал такую штуку одной из приятельниц maman.
Клима они нашли в последней комнате. Он стоял, разговаривая с худощавой блондинкой, одетой очень нарядно, голову которой украшала диадема из стеклышек, снятых с люстры. Она что-то оживленно рассказывала Климу. Около них стоял господин с седыми баками и, слушая их, пожимал плечами и насмешливо улыбался.
— Это кто такие? — спросил Маркел Ильич, дернув Мусмэ за рукав.
— Эта одна миллионерша — у нее россыпи золота в Калифорнии, а седой господин — глава одной революционной организации. Он, наверное, будет говорить речь за ужином. Ты, конечно, маленький и этого не понимаешь.
Увидав их, Клим улыбнулся, закивал головой и ласково сказал:
— Вот и вы пришли к нам. Я знал, что вы придете.
— Клим, милый Клим! Я вас очень люблю, — воскликнул Маркел Ильич. — Вы сыграете мне на скрипке?
— Да, да за ужином — скоро будет ужин.
Ужин был очень веселый.
Ненюфа сидела на председательском месте, юродивый Фанагрион ползал под столом, профессор и какая-то пожилая дама прислуживали гостям, только памятник знаменитого генерала остался в гостиной — не двигаясь в своем углу.
Мусмэ подвязала салфетку Маркелу Ильичу и угощала его. Напротив, рядом с Бариттой, сидел старичок и очень печально рассказывал ей о нужде, в которой находится он и его семейство.
Лицо этого старичка было ужасно знакомо Маркелу Ильичу, но припоминать, где он видел его, как-то не хотелось.
После ужина стало еще веселее.
Все были такие милые и ласковые с ним, только кто-то поворчал, что дети слишком шумят.
Уходить ему не хотелось, но Каликика решительно объявила, что ему пора домой. Прощаясь, он расцеловался с Бариттой, Элией и Мусмэ и, расшалившись, возился в передней.
— Не балуйте, барчонок, одевайтесь, — уговаривал его профессор, и если бы Каликика не прикрикнула на него, он бы не скоро оделся.
Она прикрикнула очень строго и взяла его за руку.
Все исчезло.
Он стоял на Пантелеймоновском мосту. Была яркая лунная ночь, полозья проезжавшего мимо извозчика скрипнули по снегу, а в крепости протяжно и медленно играли часы.
Жизнь Маркела Ильича шла по-прежнему ровно и спокойно.
Никто не замечал в нем никакой перемены.
Maman и жена успокоилась за его здоровье, да и он сам чувствовал себя превосходно.
Иногда он долго не имел потребности идти на Пантелеймоновский мост — иногда ходил туда каждую пятницу.
Все бы было хорошо, но… но его мучила загадка. Если бы кто-нибудь объяснил ему, что это такое?
Ему хотелось наверно знать, что эти счастливые минуты беззаботного веселья не были бредом.
Он этого опасался, встречаясь со своими знакомыми из таинственного дома Ненюфы.
Помня свою клятву, он делал вид, что принимает их за то, чем они были в обыкновенном мире.
Он отлично знал, что намекни он на их отражение — они сделают вид, что приняли его за сумасшедшего. Да и сам он сделал бы то же, если бы юродивый Фанагрион, которого он всегда видел по субботам во французском театре, одетым в безукоризненный смокинг, вдруг обратился к нему, прося копеечку, и назвал бы его «младенчиком чистым».
А что бы сделало с ним одно важное сановное лицо, если бы он, Маркел Ильич, назвал его Карбошей и напомнил ему его ультрарадикальную речь, произнесенную за последним ужином Ненюфы?
Но действительно ли они бывали там? Может быть, это только его больное воображение, и ему все это только кажется?
Сколько раз он хотел спросить об этом у самой Ненюфы, у Клима или у madame Икс, но, увлеченный игрой и возней, забывал об этом. Да и гимназистику приготовительного класса, Марсельчику, как-то не хотелось думать мыслями Маркела Ильича — чиновника, собирающегося быть впоследствии губернатором.
Подходила весна. Вечера становились все светлее и светлее — сумерки делались лиловыми, словно напоминали о лиловой сирени.
И вот, в один из таких лиловых вечеров Маркела Ильича вдруг потянуло куда-то вдаль, вон из города, и он как-то машинально сел в трамвай, что прежде считал верхом неприличия, и поехал на острова.
Ехал он в глубокой задумчивости и только, миновав Карповку, поднял голову и увидел, что против него сидит Клим.
Маленький человечек сидел прямо, держа на коленях футляр от скрипки, тоненькие ножки его в огромных галошах не доставали до полу.
Маркел Ильич, помня свое обещание, испуганно отвел глаза, стараясь не смотреть на Клима, но, когда нечаянно взглянул опять, ему показалось, что Клим чуть заметно улыбается.
Боже мой, как хотелось Маркелу Ильичу ласково протянуть руку и пожать паучью лапку маленького уродца… сказать ему… ах, сказать много, много. Но что сказать? Он сам не знал. Что-то хорошее, давно позабытое, не те детские речи, что говорил он ему по пятницам у Ненюфы, а другие слова, но тоже настоящие слова, не слова кариатиды.
Кариатида не должна говорить таких слов! От этих слов разгорается сердце, и руки сами собою могут протянуться к людям, и тогда тяжесть, что до этого поддерживали эти руки — рухнет и… Нет, нет, он не будет смотреть в прекрасное лицо Клима.
Это лицо прекрасно! Что за беда, что у него огромный рот, смешной круглый нос, подбородок шильцем и китайские глазки! Что за беда, что его огромная голова сидит на худеньком маленьком тельце — Клим прекрасен! Когда Клим вышел на Каменном острове, Маркел Ильич не мог оставаться, последовал за ним и шел в некотором расстоянии по аллее вдоль Невки.
Не замечал ли этого Клим или делал вид, что не замечает?
Он шел медленно, мерно помахивая футляром от скрипки и слегка закинув голову, словно любуясь весенним небом.
Маркел Ильич тоже посмотрел наверх.
Как красиво было это тихое сиреневое небо, переходившее на западе в зеленовато-золотистый цвет, и в нем горела чистыми, словно хрустальными лучами яркая вечерняя звезда.
Пахло еще не весной, а обещаниями весны, будущими нежными ароматами, и все это видел и чувствовал Маркел Ильич в первый раз в жизни. Он не мог дать себе отчета, что за щемящее чувство наполняло его сердце: была ли это печаль или радость, он чувствовал, что что-то новое живет, реет, скользит в этом лиловом сумраке.
Не замечая дороги, шел Маркел Ильич за странной фигуркой, тихо двигающейся по дороге шагах в тридцати перед ним.
Кругом не было видно пешеходов, было очень грязно от тающего снега, только изредка проезжал извозчик или автомобиль.
Пройдя Елагин мост, Клим свернул налево и углубился в парк.
Он шел так же медленно, помахивая футляром. Дойдя до пруда, он остановился, открыл футляр, достал скрипку и стал настраивать.
Маркел Ильич тоже остановился, стараясь скрыться между стволами деревьев.
Окончив настраивать скрипку, Клим легко прыгнул, уселся на спинку скамейки и принялся играть.
Что это была за мелодия? И была ли мелодия в этих звуках?
Но они, тихие, нежные, сливались с этим шепотом обещаний, трепетом надежд, с сеткой еще голых, но обещающих листья ветвей, со вздохами пробуждающейся земли, они бежали, взмахивая прозрачными крылышками, по глади освобожденного пруда.
Казалось, они сливаются с лиловым сумраком, наполняют его, помогают проснуться миру к новой жизни, весне и свободе.
Вот-вот все смешается, все соединится и раздастся победная песня.
И она раздалась — гордая, чистая, громкая.
Где звучала она?
Она наполняла собою весь мир, она звучала везде и всюду!
Все вместе и каждый атом отдельно были полны ею.
Маркел Ильич стоял, сжав руки, весь дрожа, сам, казалось, звуча каждым нервом и не сводя глаз с маленькой фигурки, скорчившейся на спинке скамейки под сеткой дрожащих ветвей, между которыми торжественно горела яркая звезда.
Но вот Клим взмахнул последний раз смычком и песня смолкла.
Маркел Ильич в изнеможении прислонился к дереву, и слезы полились из его глаз.
— Марсель! — вдруг позвал его Клим.
Маркел Ильич бросился на этот призыв и вдруг остановился.
— Клим! Дорогой Клим! — воскликнул он, протягивая руки. — Могу ли я, смею ли я узнать вас?
Клим улыбнулся.
— Меня узнавать можно, мой милый Марсель: ведь я всегда настоящий, я не меняюсь в отражении. Я есть то, что я есть[14], — сказал Клим, — я сам никогда не подаю виду, что видел чужие отражения, но, если кому-нибудь захочется поговорить со мной — я всегда рад этому. Я не боюсь своего отражения, потому что оно одинаково с моим «я». Я не имею отражения или я только одно отражение — принимайте, как хотите. Вы шли за мной, вы, верно, хотели мне что-то сказать?
— Да, Клим, да, — заговорил взволнованно Маркел Ильич, сжимая его руку. — Я хочу говорить, я хочу спросить вас… Снимите с моей души тяжесть — объясните мне все. Я бываю так счастлив, когда прихожу к Ненюфе, отдыхаю душой, но потом меня охватывает страх, что я… что я безумен.
— Каждый человек, если он будет полчаса самим собою, будет говорить все то, что ему придет в голову — угодит в сумасшедший дом, — сказал Клим, смотря на него и перебирая струны своей скрипки.
— Да, да, вы правы, но я прошу, я умоляю вас: скажите мне все, объясните, что все это значит?
— Неужели вы еще не догадались? — удивился Клим.
— Нет, я ничего не понимаю.
— Объяснить? Марсель, милый, зачем вы хотите объяснения? От него испарится весь аромат фантастики. Ах, как люди любят доискиваться объяснений, а между тем ненавидят и гонят правду.
Люди лгут всегда и во всем! И только тогда, когда дело касается красоты и счастья, они требуют правды, чтобы упростить их до пошлости, чтобы убить мечту. Марсель, я могу сейчас все объяснить вам, но вы себя тотчас же почувствуете читателем книги, в которой автор, нагородив всякой фантастики, вдруг объясняет ее самым обыкновенным образом.
Вы закроете эту книгу со вздохом разочарования и недовольством на автора.
— Чего он морочит меня, — скажете вы.
Вы увидели фокусника, вы требуете во что бы то ни стало объяснения и, получив его, чувствуете презрение к этому человеку за то, что эти цветные и прекрасные фонарики он вытащил из рукава своего фрака.
Клим посмотрел на Маркела Ильича и погладил его по плечу.
— Может быть, вы правы, Клим, но… но все же объясните мне, а то я не могу быть спокоен, — жалобно сказал Маркел Ильич, опуская голову. — Скажите, что это за общество и кто такая Ненюфа?
— Ну, хорошо — будь по-вашему, — решительно сказал Клим, пряча скрипку в футляр и усаживаясь с ногами на скамейку.
Всякий человек живет с другими людьми — человек один жить не может. Почему? Это не касается предмета нашего разговора. Но всякий человек приблизительно половину души своей скрывает от окружающих. Возьмем хотя бы самый простой пример — одного из наших посетителей, владельца банкирской конторы. Перенеся в молодости нужду и голод, он привык жаловаться. Теперь это невозможно, а жаловаться на нужду — его отрада, его наслаждение. Он пробовал удовлетворять эту потребность, рассказывая о своем горестном положении случайным знакомым, но стали ходить слухи, что он ненормален, и он испугался. Вот профессор, в силу атавизма (его отец и дед были швейцарами в клубе, и он ребенком помогал им) хочет отвести душу, поиграв в швейцара, но это невозможно, и это угнетало его прежде.
Ненюфа очень красива и очень богата, но, к сожалению, очень умна и наблюдательна. Всю жизнь она искала людей, чтобы они любили ее не за красоту и не за деньги, и нашла только двоих — меня и Каликику, но она захотела сделать еще опыт — для того, чтобы найти себе мужа. Первый муж ее умер, оставив ей миллионы, и вот она распустила слух, что больна оспой.
По прошествии некоторого времени, она дала знать всем своим поклонникам, что просит их явиться в назначенный час.
Местом свидания она назначила мой бедный чердак.
Искусно загримированная, вышла она к ним и объявила, что обезображена оспой и потеряла все состояние. Если бы вы видели, как все быстро разбежались!
Остался только один бедный, очень талантливый художник.
Ненюфа была побеждена. Она попросила его удалиться и ждать ее в его мастерской.
Смыв ужасный грим, она — прекрасная, счастливая — поспешила к нему. Она вошла в густом вуале, чтобы еще больше обрадовать своего милого, когда он увидит ее опять прежней красавицей. Но, войдя в мастерскую, она остановилась, пораженная.
Вся комната была увешана ее изображениями, и везде она была написана обнаженной или полуобнаженной и в самых нескромных позах, лицо же ее было написано кое-как.
— Что это? — спросила она, указывая на картины.
И он рассказал ей, как случайно видел ее в Крыму, во время купанья, и в ту же минуту влюбился в нее.
— Что мне до того, что лицо твое безобразно, — говорил он, — когда тело твое так прекрасно! Смотри, я на память создал эти картины, а с тобою перед глазами я буду писать картины еще лучшие. Для лица мне будет позировать первая хорошенькая женщина. Что за беда, что ты бедна, я этими картинами заработаю состояние, за такое тело мне будут платить тысячи, а чем соблазнительней я его напишу, тем дороже мне заплатят за него.
Ненюфа застонала.
Она ушла и больше не хотела видеть художника.
— Те, — говорила она, — любили меня за мое лицо, за мое богатство, а этот за мясо, которым собирался торговать.
Художник преследовал ее, писал письма и, наконец, застрелился.
Она скупила все свои портреты и сожгла их, кроме одного, и, вырезав из него лицо, вставила вместо него свиную маску.
После этого Ненюфе стали противны люди — «Они вечно что-то скрывают!» — говорила она, и вот она решила основать этот клуб «настоящих».
О, какое множество людей сидит в сумасшедших домах только потому, что они не могли отвести душу, сдерживались, ломали себя и, один раз поддавшись соблазну, покатились в бездну, а если бы им давали изредка быть самими собою — не стесняясь и не боясь насмешливого или удивленного взгляда, они мирно бы прожили весь свой век. Как снисходительны люди к своим братьям, но самое невинное, иногда трогательное, но эксцентричное желание ставится им в вину. Почему старая дама, изображающая молоденькую, считается нормальной, а молоденькой девушке, нашей бабушке, нельзя одеться в чепчик и халат и поохать — ее посадят в сумасшедший дом. Подумайте над этим!
Кому мешает бедная Тиночка, продавщица перчаточного магазина, если она наденет стекляшки от люстры и радостно расскажет, что купила себе виллу за два миллиона? Ее изгонят за это из общества нормальных людей, а господину, пускающему пыль в глаза, можно носить фальшивые перстни и рассказывать о таких же виллах.
В Ненюфином клубе люди от времени до времени могут быть самими собою.
Иногда нашим членам, как например Карбоше, надо только высказать свои настоящие убеждения, взгляды и идеалы, о которых, в силу обстоятельств, он не смеет заикнуться в другом месте.
Ах, как иногда хочется человеку просто увидеть себя другим, тем, что иногда мечтается. Как хочется madame Икс, кафешантанной певичке, быть инспектрисой гимназии! У всех наших посетителей их отражения более или менее искажены. Поймите же, какая отрада быть минутку тем, чем человек хотел бы быть!
Клим замолчал и тихо прибавил:
— Ненюфа в отражении нашла людей, любящих ее за ее душу, и дала им убежище для их душ.
Маркел Ильич молчал, и разочарование все больше и больше охватывало его, а ему не хотелось, чтобы исчезла эта странная сказка.
Вдруг он встрепенулся.
— Но мне все же непонятно, как я попадал туда с Пантелеймоновского моста и уходил оттуда?
— Оставьте, пусть хоть это останется вам от фантастичности вашего приключения, — покачал Клим своей взъерошенной головой.
— Нет, нет, Клим, мне больно, что это все просто, но я хочу знать все до конца! — воскликнул Маркел Ильич с каким-то отчаянием.
— Каликика обладает исключительной гипнотической силой, ей поручают тех, в ком не уверены, других привожу я в закрытом автомобиле, третьи, самые надежные, приходят сами, — холодно сказал Клим.
— А Элия, Баритта и Мусмэ?
— Они получают большое жалованье.
Клим поднялся со скамейки.
— Как все просто и глупо! — пробормотал Маркел Ильич.
Они помолчали.
— Клим. Клим! — вдруг в отчаянии воскликнул Маркел Ильич. — Но где же настоящая жизнь? Неужели нельзя быть самим собою всегда? Неужели, чтобы быть самим собою, одно средство — идти на Пантелеймоновский мост и спросить Каликику?
— Есть еще одно средство, — торжественно и медленно произнес Клим, вставая, — но я его не скажу.
— Отчего?
— Оттого, что это слишком ясно и просто.
Клим повернулся, медленно пошел прочь, и его маленькая фигурка скоро исчезла в лиловых сумерках весенней ночи.
ГАЛЕРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО Фантазия
1
Темна морская глубина. Лучи солнца в ясный день слабо проникают в этот зеленый сумрак.
Водоросли сплелися и покрыли черную массу, бесформенную, непонятную.
Только смутные очертания видны и по ним едва ли можно догадаться, что это остатки затонувшей галеры.
Давно лежит здесь она. Песок засосал ее наполовину, от мачты остались одни обломки и жерла пушек превратились в убежище морских моллюсков.
Тихо. В морской глубине не надо слуха — там нет звуков.
2
Бурная, туманная ночь. Черно на море. Не видно ни зги. Маяки потушены — война.
И в этой жуткой темноте, там, под бурными волнами, как злые акулы, спрятались несущие разрушение мины.
С берегов жадно ждут жерла гигантских орудий, а во тьме по бушующему морю пробираются, словно ночные хищники, вражеские, закованные в сталь суда.
Притихла и молится ночь… Молится Русь.
И нет сердца, которое не молилось бы в эту минуту о чуде.
3
Что это? Луна прорезала тучи над влажной могилой петровской галеры, и по ее лучам, словно по снастям, спускаются тени. Тени исчезают под водой.
Лучи ли луны или свет от новых пришельцев осветил подводное царство? Но светло в нем и кипит работа.
Призраки поправляют корабль.
С неба пришли они, но это не ангелы…
Это души матросов этой галеры, давно умершие моряки.
Дрогнули их души там, далеко и высоко, от молитв родной страны и отпустил их Господь на землю еще раз послужить своей родине.
— Дружнее, братцы, с нами Бог!
И поднялась, словно лебедь, галера из могилы, расправила паруса и понеслась по седому морю.
4
В порт вернулись побитые вражеские суда.
Дело обследовали и решили, что произошла ошибка: в темноте стреляли по своим. Вот и все.
А матросы говорили другое. Они стреляли по странному судну, атаковавшему их у русских берегов.
Они стреляли в судно и расстреляли своих.
Маяки не горят… Темно, беспросветно темно на море, но галере Петра Великого — не надо маяков и морских карт… Она найдет свой путь.
НЕВЕСТА АНАТОЛЯ
Из крепости слышались частые выстрелы, вода в Неве и каналах прибывала.
Ветер дул порывами, а дождь то лил, как из ведра, то моросил легкою пылью.
В старинном деревянном особняке, какие еще попадаются на Петроградской стороне, были тускло освещены три низкие окна мезонина.
Вокруг дома, сжатого с трех сторон высокими стенами новых соседей, росло несколько старых деревьев — остатков когда-то большого сада.
Обнаженные деревья скрипели, и ветер срывал с них последние бурые листья.
Большая низкая комната была загромождена старинной мебелью, углы ее тонули во мраке, потому что две свечи, поставленные на небольшом ломберном столе, скупо давали свет. Пламя их колебалось — дуло из окон, дуло из плохо припертой двери.
Ветхие железные листы на крыше гудели под порывами ветра, а выстрелы из крепости заставляли дрожать стекла в ветхих рамах.
У стола, освещенная колеблющимся светом свечей, сидела странная фигура.
Это была страшно худая, высокая женщина, одетая в белое бальное платье, пышными складками ложившееся вокруг.
Из нарядного корсажа, из кружев и белых лент высовывалась длинная жилистая шея, на которой сидела голова с желтым пергаментным лицом и впалыми черными глазами.
Эта голова была украшена красными маками, приколотыми к остаткам седых волос.
Женщина раскладывала карты по зеленому сукну стола, покачивала головой и улыбалась. При улыбке обнажались ее желтые, но отлично сохранившиеся зубы, и тогда это лицо еще более походило на череп. Иногда она оставляла карты, брала со стола лежащее на нем ручное зеркало и смотрелась в него, продолжая шептать и улыбаться.
Порыв ветра хлопнул где-то дверью, в трубе завыло, стекла сильней задребезжали. Женщина вскрикнула и стала прислушиваться.
В глубине комнаты, на диване, кто-то завозился, и оттуда послышался сонный голос:
— Ну чего вы? Что случилось?
— Дверь хлопнула… Может быть, это Анатоль приехал?
— Глупости. Это опять Ефим забыл запереть черный ход. Вот наказанье-то!
Голос был молодой, звонкий.
При слабом свете свечи можно было разглядеть красивую женскую фигуру, приподнявшуюся с дивана.
Девушка села и стала шарить ногой по полу, ища туфель.
У нее было красивое круглое личико, обрамленное темными волосами, густыми и вьющимися, которые небрежно падали на шею и плечи. Она подобрала эти волосы, заколола их на макушке и, поведя плечами, ворчливо сказала:
— Ну и холодина! Что мы тут с вами в морозы делать будем?
Женщина не отвечала, продолжая смотреть в зеркало и улыбаться.
Девушка потянулась, взяла шаль со спинки стула и, завернувшись в нее, продолжала:
— А вы опять в зеркало смотритесь, вчера сами говорили, что не следует ночью в зеркало смотреться.
— Я не смотрюсь, а заглядываю, — не увижу ли чего, как вчера, — покачала та головой.
— Ну расскажите, что вы видели?
— Ага, и вы стали верить! — визгливо засмеялась женщина.
— Я еще не рехнулась, как вы, чтобы верить в такие глупости, а так, от скуки слушаешь, что вы плетете.
— Вы злая и грубая девушка, — сказала женщина веселым тоном, тряхнув головой.
— Если я злая и грубая, так чего же вы так настойчиво требуете от ваших племянников, чтобы я непременно жила с вами? Небось, как я ушла, — вы тут есть перестали, скандалили… Аркадий Филиппович ко мне в три часа ночи влетел, умоляя вернуться… Вы тут стекла стали бить… Скажите, на что я вам нужна?
— О, я знаю, зачем! — хитро прищурилась женщина. — Я не понимаю, чем вам плохо? Разве вам мало шестьдесят рублей в месяц? — захихикала она.
— Многоуважаемая княжна, я и без ваших шестидесяти рублей проживу. Поступлю сестрой милосердия в лазарет, или на войну уеду. Лучше за ранеными ухаживать, чем сумасшедшую пасти!
— Ах, как вы грубы! Как грубы! Где же это видано, чтобы сумасшедшей так в глаза и говорили, что она сумасшедшая! — всплеснула руками княжна, очень довольная.
— Ах, отстаньте! Я ужасно сожалею, что сдалась на просьбы Надежды Филипповны и опять замуравилась с вами в этом проклятом доме, — тут и в хорошую-то погоду могилой пахнет, а в такое ненастье, я думаю, на кладбище веселее.
Она раздраженно пожала плечами и плотней закуталась в шаль.
— Вот уж не понимаю, почему вы вдруг стали ругать дом? Весной вы его находили очаровательным, стильным, а когда узнали, что в этой комнате у моего деда ночевал когда-то Пушкин, — вы от радости запрыгали. — И княжна искоса посмотрела на свою собеседницу.
— Я уже много раз докладывала вам, что когда я нанялась массировать вам ногу, и вы меня упросили сидеть с вами до обеда, я не имела ничего против. Два часа — куда ни шло… Но вы меня совсем жить к себе перетянули! Мне надо больной сестре помогать, и если бы не это, да я не за шестьдесят, а и за двести бы рублей не согласилась тут с вами жить! Вот что! — топнула она ногой.
— Ах, ma chère[15], ну, я скажу, чтобы Надя прибавила вам жалованья… Вы ужасно корыстолюбивы! — покачала головой княжна.
— А зачем вы капризничаете? Другую сиделку нашли бы и за 25 руб. На что я вам? Зачем, когда я уйду, вы скандалы устраиваете?
— Ах, Боже мой, я — сумасшедшая! Если мне перечат, у меня делаются припадки бешенства, — улыбнулась княжна.
— Знаете, я иногда думаю, что вы вовсе не так безумны, как прикидываетесь. А прикидываетесь вы для удобства, чтобы все ваши капризы исполнялись. Я бы, на месте ваших племянников, взяла да и посадила вас в сумасшедший дом.
— Ах, злая, злая, жестокая девушка! — опять всплеснула руками княжна.
— Вот, сами видите, что я злая и жестокая, вы и прогоните меня. Вам наймут другую. Я вам рекомендую одну… Она добрая-предобрая. Она будет каждый день слушать, что вы про Анатоля рассказываете, ругать вас не будет, а будет…
Княжна вдруг залилась визгливым хохотом:
— Ах, напрасно, напрасно стараетесь — мне другой не надо! — замахала она костлявыми руками. Потом, как-то сразу сделавшись серьезной, со вздохом сказала:
— Вы же знаете, что вас заменить никто не может — только в вас я могу перевоплотиться. Что, если я умру, а Анатоль вернется? Ведь надо же, чтобы его встретила невеста.
— Да сколько раз я вам, пустоголовая вы, говорила: что если бы случилось такое чудо, и ваш Анатоль вернулся, то ему бы шестьдесят лет теперь было! Так неужели вы думаете, я бы за него замуж пошла?
Княжна лукаво прищурилась.
— Вы рассуждаете так, потому что вы грубая и низменная натура. Анатоль пропал без вести, но…
— Да уж если он за тридцать с чем-то лет не вернулся…
— Постойте, вы все меня перебиваете: Анатоль, прощаясь со мной, сказал: жди меня, Лина! Я вернусь, и мы будем счастливы. Дай мне слово, поклянись, что ты будешь ждать меня. Я хочу, чтобы ты меня встретила в таком же платье, какое было на тебе, когда мы встретились в первый раз! А в первый раз… Ах, это был бал! И я была его царицей… Я сама сознавала, что была хороша… Я только что окончила тур вальса с Жоржем Аргаевым, как вдруг слышу за моей спиной звук шпор и голос моего кузена Поля: «Лина, позволь тебе представить…»
— Да уж знаю, знаю, тысячу раз слышала — наизусть выучила, — оборвала ее девушка. — Вразумить я вас, конечно, не могу, но даже допустив, что вашего Анатоля и законсервировали там, где-то в пространстве, как вы уверяете, и он явится молодой и прекрасный, так захочет ли он жениться на вас?
Княжна захихикала и, лукаво прищурясь, раздельно произнесла:
— Я перевоплощусь!
— Глупости!
— Перевоплощусь в вас, Марианночка, вы теперь упираетесь, но придет время — вы согласитесь и…
— Да ну вас! Ложитесь вы спать, уже одиннадцать часов! — прикрикнула на нее Марианна.
Уложив княжну, Марианна спустилась вниз по скрипучей лестнице и, войдя в большую залу, зажгла электричество в люстре.
Княжна не любила света и позволяла у себя в комнате жечь только свечи, а Марианне хотелось света и движения.
Она ходила каждый вечер до устали по этой большой пустой комнате.
Сегодня она ходила как-то торопливо, нервно, большими шагами.
— Нет, уйду, уйду, — твердила она, — не могу! Все нервы измотались! Я на все раздражаюсь, я действительно невозможно груба с этой несчастной. Я чувствовала себя такой сильной, мне казалось, что я смогу жить здесь и ухаживать за нею, а теперь не могу, не могу!
То жуткое чувство, что она прежде изредка испытывала здесь, теперь охватывало ее чаще и чаще — особенно по вечерам.
Эта комната, едва освещенная двумя свечками, эта скелетообразная фигура, одетая по-бальному, это странное бормотание и хихиканье! Уже не в первый раз она собиралась бросить это место, но у нее была больная сестра с двумя ребятами, которая не могла существовать на ничтожную пенсию. Она, Марианна, знала, что нигде она не найдет такой высокой платы за свой труд, и, несмотря на это, она уже два раза отказывалась от места, и только усиленные просьбы племянников княжны заставляли ее возвращаться. Ее подруги завидуют ей. Еще бы! Полное содержание и шестьдесят рублей в месяц, дорогие подарки, вот Надежда Филипповна вчера прислала ей отличное боа из лисицы. Она здесь полная хозяйка, может даже менять прислугу по своему усмотрению, сестра ее счастлива, благодарит ее — все, кажется, хорошо… Нет, не все! От Вани вот уже вторую неделю нет писем.
Конечно, это случалось и раньше, но теперь, когда она вообще нервничает, ее сердце все время болит в тоске и страхе. Ведь там, на фронте, каждая минута может принести смерть.
Она всякий день замирает, развертывая газеты, и облегченно вздыхает, когда не находит между убитыми и без вести пропавшими имени Ивана Прохоровича Лукьянова.
Может быть, ее потому и раздражает княжна, что вечно говорит о своем женихе, без вести пропавшем в Турецкую кампанию. Княжна сделалась невестой незадолго до войны. Жених ее уехал и пропал без вести под Плевной. Княжна ждала его, грустная, молчаливая, служила молебны и никуда не выезжала.
Война кончилась, вернулись пленные, а Анатоль не вернулся. У княжны стали появляться странности…
И вот, в один прекрасный день, она оделась в белое платье, приколола в волосы красные маки и, сев за стол между двумя свечами, объявила, что теперь она знает, что Анатоль жив, что он вернется.
Мать была в отчаянии.
Княжну сначала лечили, возили от одной медицинской знаменитости к другой, но ничего не помогало. Княжна была тиха, целыми днями сидела смирно, ничего не требовала, кроме нового платья и новых цветов, когда старые при- ходили в ветхость, но если нарушали ее привычки и беспокоили ее чем-нибудь, она впадала в бешенство. Младшая сестра княжны вышла замуж, обзавелась семьей, а княжна Лина все ждала своего жениха.
Зять и сестра уговаривали княгиню отдать Лину в лечебницу или в санаторию, им хотелось на месте старого дома выстроить новый, пятиэтажный — Петроградская сторона обстраивалась, и земля все дорожала.
— Это такое частое явление — вечная невеста, ждущая жениха! — говорил княгине зять. — В каждом сумасшедшем доме найдется несколько таких. Вон, даже в одном романе Диккенса описывается подобный случай. Это все равно неизлечимо, отдайте ее в лечебницу, нельзя же из-за каприза безумной терять крупные суммы денег.
— Ни за что! — восклицала княгиня. — В сумасшедшем доме будут дурно обращаться с бедной Линой.
Зять постоянно заводил этот разговор, раздражался, и княгиня не спала по ночам от страха, что после ее смерти бедную Лину обидят. Она решила обеспечить свою любимицу. В завещании доходы с имений она оставляла своей замужней дочери с условием — содержать Лину прилично и отнюдь не отдавать ее в сумасшедший дом, в противном случае, или в случае смерти княжны, имущество должно быть продано, а деньги и дом на Петроградской стороне переходили к благотворительным обществам.
Зять позеленел со злости, узнав после смерти княгини о содержании ее завещания.
Поневоле пришлось всячески ублажать княжну и следить за ее здоровьем. Она была доходной статьей, а двадцать тысяч дохода не шутка.
Нездоровье княжны повергало весь дом в уныние, а выздоровление радовало.
Княжна, впрочем, болела редко и, пережив сестру и зятя, досталась, как самое драгоценное наследство, их детям, своим племянникам.
Племянники даже усилили заботы о княжне, так как она старела, и доктора находили, что сердце ее слабо, и надо избегать для нее волнений и огорчений.
Племянница княжны, Надежда Филипповна, была очень довольна Марианной. При Марианне княжна поздоровела и стала как будто веселее. Марианной дорожили, Марианну ублажали и осыпали ее подарками. Но Марианна делалась все мрачнее и мрачнее, она уже несколько раз уходила, но ее упрашивали, прибавляли жалованья, Надежда Филипповна даже плакала, умоляя ее остаться. Марианна не подозревала причины забот этих нежных племянников — приписывала заботы любви «добрых людей» к несчастной сумасшедшей и жестоко упрекала себя, что она сама так черства и бессердечна к ней.
Сестра Марианны смотрела на нее умоляющими, печальными глазами, когда изредка, зайдя на минутку домой, девушка говорила, что ей невмоготу жить в этом доме со скрипящими лестницами, слушать шорохи и треск во всех углах этого умирающего дома, вечно сидеть с «сумасшедшим скелетом» и быть вечно настороже!
Да, да, настороже! Потому что настороженность сумасшедшей действует и на нее.
Днем еще ничего, она может работать, читать, но по вечерам, особенно в дурную погоду, когда ветер воет в трубах, трясет рамы, а сумасшедшая княжна все время вздрагивает, прислушивается в своем вечном ожидании, — у нее, у Марианны, нервы совсем расстраиваются, и она тоже начинает к чему-то прислушиваться и чего-то ожидать. Она больше не может — уйдет.
Сестра ничего не говорила, смотрела печальным взглядом, подзывала кого-нибудь из детей, начинала гладить по голове и тихо вздыхала.
Марианна хмурилась, отворачивалась, переменяла разговор и, вернувшись, изливала свое раздражение на княжну.
Первое время она пугалась и упрекала себя, когда у нее срывалось резкое слово по адресу больной, но потом, заметив, что княжна нисколько этим не огорчается, даже как будто радуется этому, а всплескивает руками и удивляется грубости и резкости Марианны только как бы из приличия, Марианна все меньше и меньше сдерживалась, чувствуя, что характер у нее делается тяжелым.
— Вот распустилa-то себя! — иногда ворчала она, накричав на прислугу или на дворника, — с нормальными людьми разучилась разговаривать — привыкла к сумасшедшим.
Эти последние дни ей иногда даже хотелось побить или толкнуть княжну, до того она ее раздражала.
— А что, от жениха все нет писем? — спрашивала княжна.
— А вам какое дело? — обрывала ее Марианна.
— Я вам сочувствую.
— Я не нуждаюсь в вашем сочувствии.
— Напрасно. В огорчении сочувствие необходимо, — качала княжна головой.
— А я его не желаю! — уже кричала Марианна, топая ногами.
— Ну, ну, не раздражайтесь, ma chère! Не надо. Я замолчу, — успокаивала ее княжна.
Последнее время сумасшедшая часто успокаивала ее — здоровую.
Да, успокаивала, но по временам и дразнила.
— Можно ли было влюбиться в человека, которого зовут Иван! — начинала княжна, искоса поглядывая на Марианну.
Марианна молчала.
— Какой-то Лукьянов! Хи-хи-хи! Да еще Прохорович. Какой ужас!
— Помолчите вы хоть минутку. Все время вы бормочете, — обрывает ее Марианна.
— Лукьянов! — не унималась княжна. — Это пахнет луком, — и она заливалась смехом.
— А по мне, Анатоль — скверной помадой воняет.
— Неправда, мой Анатоль всегда душился чудными духами… Он был так красив и изящен… И вместе с тем, он был герой! Ведь он не должен был идти на войну, он нарочно перевелся в действующую армию…
— Знаю, все знаю! Ну и пускай. Вам нравится Анатоль, а мне Иван, и отстаньте от меня!
— Это потому, что у вас грубый вкус.
— Замолчите.
— А вот не замолчу, что вы со мной сделаете? — хихикала княжна.
Марианну злило, что княжна как будто радовалась, что Марианна не получает писем из армии, тогда как раньше эти письма приходили часто, иногда по два, по три зараз.
Но чего уже совсем не могла она переносить, что выводило ее из себя последнее время, это уверения княжны, что она понемногу воплощается в нее, в Марианну.
Один раз дошло до того, что Марианна швырнула стул. Ножка стула отскочила, попала в окно — стекла посыпались.
Марианна сразу опомнилась, а княжна в восторге залилась визгливым смехом.
Когда прислуга пришла убирать осколки, княжна бегала вокруг нее, суетилась и оживленно говорила:
— Вот, Дуняша, я разбила стекло! Бросила стул и разбила… и стул сломала… Хи-хи-хи! Что взять с меня, ведь я сумасшедшая!
Марианна побледнела.
— Ну что вы там врете! — злобно крикнула она. — Стул бросила я и попала в стекло. Убирайте скорее, Дуняша, — угрюмо прибавила она.
Прислуга, убрав осколки стекла, вышла.
Марианна стояла неподвижно, стараясь овладеть собою, а княжна сразу затихла, села к толу и, искоса поглядывая на Марианну, стала раскладывать карты.
Вечером Марианна ходила по пустой зале.
Вечером на нее нападала теперь тоска. Страшная, гнетущая тоска.
Днем она ждала. Ждала письма, а ночью… ночью мучилась неизвестностью.
Боже мой, — если бы узнать что-нибудь. Ну, пусть ранен, пусть… нет, нет, только не убит! Лучше тогда ничего не знать. Зачем она не умеет молиться! О, вот теперь какой бы отрадой для нее была молитва. Зачем, зачем ее не научили молиться, верить!
И она ходит, ходит взад и вперед по этой пустой, ярко освещенной зале.
«Вот, — думает она, — если я пройду до того угла, и ни одна паркетина не скрипнет, значит, получу письмо, и все благополучно».
Бьется сердце, дрожат ноги…
Не скрипнуло!
Она тяжело переводит дух и прислоняется к стене.
— Какие глупости! — говорит она вслух и сейчас же пугается.
Зачем она это сказала? Может быть, если бы она не усомнилась, что завтра получит письмо — оно бы пришло.
«Вот, если дойду до двери, и пол не скрипнет… Нет, нет, что-нибудь другое, пол наверно скрипнет, там у порога он совсем рассохся».
Эти загадывания у нее обратились в манию — она с замирающим сердцем считает, делится ли на три номер проезжающего извозчика, успеет ли она сосчитать до ста, пока фонарщик зажжет фонарь, четное или нечетное число цветочков на данном куске обоев. Это ее мучило, угнетало, но отстать от этого она не могла.
И теперь она, замирая от страха, чтобы пол не скрипнул, пробирается по стенке и перепрыгивает через порог.
Войдя в комнату, она видит обычную картину, — княжну, сидящую за столом.
Княжна держит в руках зеркало и, улыбаясь, смотрится в него.
— Что же, вы намерены сегодня ложиться спать или нет? — ворчливо спрашивает Марианна, начиная раздеваться.
— Погодите, погодите, дайте досмотреть, — машет княжна рукой. — Вот он верхом переплывает реку, выехал на берег… поднимается на холм… какая-то деревня… Ах, исчезло! Какая досада, сегодня так ясно было видно.
Марианна, с растрепанными волосами, закутанная в платок подходит к столу и решительно вырывает зеркало из рук княжны.
— Вам сказано: идите спать.
— Ах, ma chère, подождите, может быть, я еще что-нибудь увижу… Вот, вот, опять мелькает! — говорит княжна, стараясь взять зеркало из рук Марианны.
— Да ладно, ничего там не мелькает.
— А вы не умеете смотреть! Знаете, я ведь сегодня на вас загадывала… и видела. Хотите, я вас научу? — зашептала она таинственно. — Я вас научу, и вы увидите.
— Что я увижу? — спросила Марианна, чувствуя какой-то беспричинный страх.
— То, что вы хотите… Ну, вашего Лукьянова, — продолжала шептать княжна, — только вы зеркало держите вот так и сядьте вот тут, между свечами… Сядьте и скажите про себя: «Милый, покажись». Отчего вы дрожите?
— Я? Что за глупости — я совсем не дрожу, — говорит Марианна, силясь улыбнуться, но губы кривятся от дрожи, и вместо улыбки выходит гримаса.
— Будете смотреть?
— Да уж давайте — я погадаю, — и Марианна смотрит в зеркало.
В зеркале она видит свое лицо, так осунувшееся и побледневшее за эти последние дни, а за своим плечом, в темной глубине зеркала, черепообразную голову княжны с красными маками в волосах.
— Я ничего не вижу, — говорит Марианна, и жуткий страх охватывает ее все больше.
— Смотрите, смотрите, — шепчет княжна за ее спиною, — смотрите сквозь свое отражение… зовите! Вот, вот уже затуманилось… показалось… Видите… железнодорожная насыпь, телеграфные столбы… солдаты ползут по насыпи… Видите… видите…
Марианна дрожала мелкой дрожью, ее зубы стучали.
Да, да, она видела и железнодорожную насыпь, и телеграфные столбы, и какую-то движущуюся массу под ними, и все это поминутно заслонялось как бы дымом.
— Зовите, зовите его! — взвизгнула княжна и нечаянно толкнула свечу.
Тяжелый подсвечник с грохотом покатился по полу.
Марианна вскочила, так же дико взвизгнув, и стояла бледная, с трясущимися губами.
— Ага, ага! Видели! Теперь будете верить! — кричала с торжеством княжна.
Марианна, сжимая кулаки, тоже закричала в бешенстве:
— Ничего я не видела! Слышите, ничего! Вы сумасшедшая дура! Ничего я не видела.
— Нет, ты видела, видела. Ты моя! Радость моя, красавица, мое второе я! Невеста Анатоля! — в восторге кричала княжна.
— Ничего я не видала! Не смей говорить! Слышишь ты! — старалась перекричать ее Марианна, но княжна визжала и хохотала все сильнее:
— Милая, красавица! Ты — я, я — ты!
Марианна бросилась к ней, подняла руку и ударила княжну по лицу.
Княжна отскочила и в диком веселье закружилась по комнате, выкрикивая: «Свершилось, свершилось! Ты — я!»
Марианна уже не слушала ее, она села у стола, закрыла голову руками и зарыдала.
Княжна перестала смеяться и робко, бочком подошла с другой стороны стола и, постояв немного, тихонько спросила:
— Хотите воды? Нет? Ну, успокойтесь. Вот вы видите, какая вы злая и безжалостная девушка, вы бьете несчастную сумасшедшую.
Надежда Филипповна уже полчаса уговаривала сидящую перед ней Марианну.
Она предлагала увеличить ей жалованье до восьмидесяти рублей, предлагала взять помощницу, умоляла остаться хоть на несколько недель, пока она подыщет другую сиделку, но Марианна оставалась непреклонной.
— Я не могу, — угрюмо твердила она, — не могу. Я совершенно расстроила себе нервы, у меня даже была галлюцинация, и потом вчера вышла безобразная сцена, я… я ударила княжну. Это возмутительно, это жестоко!
— Но я вас прошу, останьтесь хоть до завтра, — попробовала Надежда Филипповна.
— Нет, ни минуты! Я сейчас возьму свои вещи и уеду.
— Послушайте, кто же останется с ней на ночь? Она без вас впадет опять в бешенство. Это безжалостно с вашей стороны.
— Да, да, я грубая, безжалостная, бессердечная, но делайте, как хотите! Я не могу.
И Марианна поднялась.
— Хорошо, — сухо сказала Надежда Филипповна, тоже вставая. — Хорошо, я к вечеру приеду.
— Нет, сейчас, не позже как через час — я уеду.
— Ну послушайте, Марианна Петровна, вы злоупотребляете моей деликатностью, я прошу вас остаться хоть два часа. Через два часа я приеду, и если не найду сиделки, то сама сменю вас.
Марианна поспешно укладывала свои вещи.
Она решила не отвечать княжне, которая вертелась вокруг нее, поминутно задавая ей вопросы.
Наконец, княжна совсем забеспокоилась и, подойдя к Марианне, спросила:
— Вы, кажется, собираетесь уезжать?
— Да, да, уезжаю! — раздраженно крикнула Марианна.
— Нет, ma chère, вы останетесь, — решительно произнесла княжна.
У Марианны дрожали руки, но она сдерживалась, кое-как запихивая свои вещи в корзину.
— А я знаю, что вы останетесь, — опять повторила княжна, — я приготовила вам сюрприз, я вам что-то дам. Хотите? Вот!
Княжна вытащила из-за корсажа смятую открытку и, помахивая ею, говорила:
— Это принесли еще третьего дня, а я спрятала.
Марианна вскрикнула, в один прыжок очутилась возле княжны и вырвала у нее открытку.
Княжна хихикала, а Марианна читала письмо, она читала очень долго… Прошла минута, другая, а она все стояла, не двигаясь.
Княжна хотела взять у нее письмо, но Марианна высоко подняла его одной рукой, а другой толкнула княжну в грудь.
Княжна пошатнулась, чуть не упала, но потом кинулась к Марианне и, охватив стан девушки своими костлявыми руками, тесно прижалась к ней, плача и взвизгивая:
— Теперь ты — я! Ты свободна! Ты невеста Анатоля!
Пальцы Марианны тихо разжались, и желтоватый квадратик открытки, трепеща, упал на темный ковер.
На этом квадратике были написаны только две строки;
«Поручик Иван Лукьянов в сражении 25-го сентября — убит».
Надежда Филипповна торопится. Она опоздала. Почти три часа металась по городу, ища сиделку.
На время войны открыта масса лазаретов, и сиделку найти трудно. Ей обещали прислать завтра поутру девушку, чтобы присматривать за больной, а эту ночь ей самой придется возиться с теткой, ведь эта дерзкая Марианна, чего доброго, бросит все и уйдет.
Надежда Филипповна звонит у двери и, когда дверь отворяется, даже отшатывается с изумлением.
Перед ней княжна.
Княжна полураздета, на ней рубашка и бумазейная юбка, а на шее лисье боа Марианны.
— Что с вами, тетя? Неужели вас бросили одну? Где прислуга? — тревожно спрашивает Надежда Филипповна, входя в сени.
— Т-с! Тише. Чтобы не услыхала кухарка, а Дуняшу мы послали за фруктами и за закуской… Сегодня Анатоль обязательно приедет, — оживленно говорила княжна и быстро стала подниматься по лестнице, мелькая из-под короткой юбки своими босыми, жилистыми ногами.
Испуганная Надежда Филипповна почти вбежала в комнату и остановилась…
У ломберного стола сидела Марианна. Она была одета в платье княжны, платье было узко, не сходилось сзади на четверть, оставляя голой смуглую спину; в растрепанных волосах Марианны были кое-как заткнуты красные маки.
— Марианна Петровна, что у вас тут случилось? — в испуге воскликнула Надежда Филипповна.
Марианна повернула к ней свое бледное, странно улыбающееся лицо и, посмотрев на вошедшую какими-то невидящими глазами, спокойно сказала:
— Я жду Анатоля.
РОКОВАЯ МОГИЛА
По наследству от дальнего родственника мне досталась земля в одной из средних губерний. Я отправился туда, чтобы ввестись во владение и по дороге подумывал, не обновить ли мне дом, не завести ли хозяйство, чтобы иногда уезжать в «свой тихий уголок», когда сутолока столичной жизни слишком утомит нервы, но, приехав на место, я отказался от этого проекта.
Хотя земля была «клад», по выражению моего приказчика, но она была ужасно плоска. Река — тоже клад, судоходная, — текла безнадежно прямо и в таких низких и неживописных берегах! Дом был старый, но не старинный и нисколько не поэтичный, так что я решил как можно скорей продать все это.
Я был женихом Нади Ромовой, был в нее безумно влюблен и мне не хотелось сидеть в деревне хотя бы лишние сутки.
— Продать можно, — сказал приказчик, — вот ваша соседка г-жа Горланова уже давно меня спрашивала, она на наши луга зарится. Вот съездите к ней, да смотрите — не продешевите, она дама-делец, — именье-то свое все округляет. Дождется случая и скупает за бесценок. Поезжайте завтра, она с хлебом почти убралась, — не равно в Петербург уедет.
Я отправился.
Усадьба г-жи Горлановой так же, как и моя, стояла на безнадежной плоскости. Это был такой же неуклюжий старый дом в один этаж с мезонином, но он был окружен большим садом — почти парком — и теперь, в ярких осенних красках, этот сад был очень красив.
Въехав на двор, я увидел несколько подвод, нагруженных мешками с зерном, которые, очевидно, собирались куда-то отправлять. За этой отправкой наблюдала какая-то высокая женщина в сером ватерпруфе, с черным платком на голове, которая, едва заметив меня, быстро убежала в дом.
Босая, растрепанная баба через минуту отворила мне дверь, и я с крыльца, через темную переднюю, по пестрому половику прошел в гостиную. Это была почти пустая комната с какой-то сборной мебелью, крытой пеньковой материей.
Я попросил доложить о себе и вручил бабе карточку.
Баба скрылась, а вместо нее в комнаты вплыла полная особа, лет сорока, и представилась мне, как компаньонка г-жи Горлановой.
— Я — Анна Семеновна Прутикова, а Лидия Сергеевна сейчас придет, присядьте.
Анна Семеновна старалась меня занимать разговором о том, о сем и, заметив взгляд, которым я обвел комнату, сказала:
— Здесь была прежде отличная мебель, — старинная, с бронзой, дом был полон старинными вещами. Кто продавал именье, в этом ничего не понимал. Лидия Сергеевна купила всю обстановку за триста рублей, а один клавесин барон Брек у нее за шестьсот купил. Говорят, за каждую вещь антиквары в Петербурге прямо дрались. А вот и Лидия Сергеевна.
Я поднялся и слегка вскрикнул, пораженный. В квадрате двери, ведущей из сада, стояла высокая, красивая, очень худая женщина, одетая в какой-то белый хитон, с охапкой желто-красных веток клена в руках. Я вскрикнул не оттого, что она появилась, а потому, что в Петербурге, в литературно-артистических кружках, я часто встречал г-жу Горланову, но знал ее под именем Лидии Андал.
Она была мне известна, как автор книги стихов туманно-эротического содержания и как исполнительница античных танцев.
— Неужели это вы, Лидия Сергеевна?! — воскликнул я, пораженный.
— Как видите, — улыбнулась она, откидывая движением головы прядь золотистых волос, упавшую на лоб. — Я рада видеть вас… может быть, больше, чем всякого другого… Анна Семеновна, дайте нам чаю.
Если бы я не был женихом и не так любил Надю, — я, может быть, влюбился бы в Лидию в этот день. Она была умна, образована, интересна и совершенно иная, чем в Петербурге, — словно другая женщина сидела передо мной. Что-то робкое, беспомощное было в ее движениях, голос звучал тихо, и на лице было какое-то странное выражение страдания.
— Я слышала, что вы женитесь на Наде Ромовой? — спросила она.
— Да.
— Как это странно… — она встала и сделала несколько шагов по комнате.
— Почему странно? — спросил я.
— Нет, нет, это я так сказала… — произнесла она, останавливаясь.
— Я завидую всем, кто может любить, не боясь призрака прошлого, — быть во власти его страшно… Этот призрак так силен… так властен…
— Надя слишком молода, а у меня, слава Богу, нет «призраков прошлого», — сказал я, смеясь, и вдруг вспомнил, зачем я приехал, и поспешил изложить свое дело.
Она выслушала меня внимательно до конца, потом рассмеялась.
— Неужели вы думаете, что я занимаюсь всем этим? Делами ведает Анна Семеновна, она любит меня и блюдет мои интересы, я ей дала как бы опеку над собой в этом отношении; я сама ничего не понимаю в житейских делах. Я пришлю ее завтра к вам, вы и поговорите с ней… Как она решит… А вы приезжайте опять вечером, я прочту вам мою новую поэму… Странную… непонятную для других… но вы ее поймете, я чувствую это… Здесь я сама перерождаюсь и пою другие песни. Я удаляюсь сюда, чтобы, как Антей, прикоснувшись к матери-земле, встать с новыми силами… Мое искусство — моя жизнь, но искусство — требовательный любовник; оно требует всех ваших сил, всех нервов… А здесь у искусства есть соперник, это — «призрак прошлого», — здесь он властвует и требует моей души.
Она говорила, словно в экстазе, закинув руки на затылок, словно поддерживая массу золотистых волос, готовых рассыпаться, и действительно, едва она опустила руки, ее длинные волосы рассыпались по ее плечам, но она не заметила этого и продолжала говорить:
— Пойдемте в сад… Этот сад наполнен воспоминаниями, и теперь, осенью, они встают… Там есть могила… Но нет… я не смею говорить… Вы единственный человек, которому я покажу эту могилу и пред которым я приподниму уголок покрывала…
Мы шли медленно под красно-желтыми деревьями… шли по ковру из опавших красно-желтых листьев… Мы шли в надвигавшихся осенних сумерках, и красно-желтая полоса заката горела в потемневшем небе.
Стройная женщина в белой одежде, опираясь на мою руку, вела меня вглубь парка, к какой-то одинокой могиле…
Это была, действительно, могила…
Маленькая насыпь почти сравнялась с землей, и полу-расколотая плита, покрытая кое-где зеленым мхом, покосилась. Из трещины поднималось несколько длинных травинок. Я наклонился, чтобы прочесть надпись, но Лидия тихо сказала:
— «Не ищите имени — камень нем». Здесь стоит только одно слово: «Amor».
Голос ее был и тих и печален.
— Кто же здесь похоронен? — спросил я.
— Не спрашивайте… вы один видели меня здесь, такую слабую и беспомощную. Я, может быть, сделала вам зло — эта могила роковая… Не раскаиваетесь ли вы, что пришли сюда со мной… Но одному вам я хотела рассказать о тех нитях, что связывают меня… с… но нет, теперь это невозможно… Я прошу только сохранить мою тайну… Простите меня.
Она закрыла лицо руками и опустилась на могилу.
На другой день Анна Семеновна явилась ко мне для переговоров. Я продал имение очень дешево — мне было неловко торговаться, а Анна Семеновна решительно объявила, что не может позволить «обидеть» Лидию Сергеевну.
Приказчик ахнул и стал было уговаривать меня подождать, но я даже не стал с ним разговаривать, дал ему доверенность и поторопился уехать потому, что я чувствовал, что Лидия произвела на меня слишком сильное впечатление, и не так она сама, как вся таинственность ее речей и поведения.
Анна Семеновна передала мне от нее записку, где стояло три слова: «Я жду вас». Но я не поехал, извинившись вежливо-официальным письмом.
Возвращаясь в Петербург, я в вагоне подумал:
«Хорошо, что я уехал — может быть, и вправду эта могила — роковая? Кто знает? Есть многое в природе, друг Гораций и т. д.»
— Так вот где это таинственное убежище Лидии Андал! — сказала, смеясь, Надя, когда я рассказал ей о моей встрече, конечно, умолчав о подробностях. — Что, она знает, что ты — мой жених?
— Знает, — отвечал я, сжимая ручки моей невесты. Все «призраки прошлого» моментально рассеялись, едва я увидел милое личико моей Нади, хотя в душе оставалось что-то неприятно-тревожное, будто в самом деле призрак прошлого.
— Ты не увлекся ею? — опять смеясь, спросила Надя.
— Какой вздор…
— Говорят, что она — роковая женщина и сотнями побеждает сердца… но, знаешь, один раз, — лукаво прищурилась Надя, — я отбила у нее поклонника, даже, злые языки говорят, любовника… Помнишь, два года тому назад приезжал в Петербург знаменитый скульптор N.? Я, право, не старалась, он мне совсем не нравился, и вдруг он мне сделал предложение… Я только потом узнала, что разрушила все планы Лидии Андал.
Лидия, вернувшись в Петербург, два раза писала мне, прося прийти, но я не пошел. Свадьба моя с Надей должна была состояться в январе.
Однажды я шел по набережной. Мимо меня проехал автомобиль и вдруг остановился. Меня окликнули — я подошел — это была Лидия.
— Умоляю вас, сядьте сюда, ко мне, — взволнованно произнесла она, торопливо отворяя дверцу автомобиля, — мне нужно сказать вам два слова, от этого зависит моя жизнь.
Я повиновался.
Мы ехали несколько минут молча.
Она сидела, прижавшись в углу, закутанная в меха, бледная, красивая — пристально смотря на меня.
— Ну, что вы скажете, Лидия Сергеевна? — шутливо начал я, желая прекратить это неловкое молчание.
— Я хочу вас просить об одолжении, даже о милости… Будьте завтра на концерте в пользу N-ского общества! Я танцую… Но будьте один… мне это надо… страшно надо — необходимо… от этого зависит многое. Вспомните могилу! Именем лежащего в ней заклинаю вас!
— Зачем же так просить, Лидия Сергеевна? — удивился я. — Я приду на концерт.
— Ах, это еще не все! Я умоляю вас на другой день после концерта поехать со мной туда, в Никоново… на могилу. Ведь всего четыре часа по железной дороге, а там три версты на лошадях от станции… Заклинаю вас!
Она схватила мои руки и смотрела мне в глаза расширенными глазами.
Я смутился.
— Лидия Сергеевна, ведь концерт будет 23 декабря — значит, 24-го, в сочельник, я должен ехать с вами, а этот день я привык проводить в семье.
— Боже, Боже мой! Что же мне делать? — воскликнула она с отчаянием. — Поймите же, что это единственное средство спасти меня! Вы молоды, вы храбры, вы сильны, и вы отказываетесь спасти человека… Сжальтесь надо мной!
Она в каком-то экстазе прижалась ко мне, осыпая поцелуями мои руки. Смущенный, потрясенный, я согласился.
В Никоновке нас ждали. Дом был протоплен, стол накрыт.
Было около девяти часов, когда мы, скрипя полозьями, подъехали к занесенному снегом дому.
Лидия переоделась в тунику из легкой материи, в которой она накануне танцевала свои античные танцы, на ее распущенных волосах белел венок из нарциссов.
Надо сознаться, она была странно хороша в этом фантастическом наряде, почти обнаженная.
Глаза ее блестели, щеки горели, все движения были нервны, и ее нервность сообщалась мне.
Шампанское, которое мы пили, не веселило нас, мы все время молчали. Она поминутно вздрагивала, к чему-то прислушивалась и взглядывала на часы.
— Чего вы ждете? — спросил я равнодушно.
— Молчите, — шептала она испуганно.
Я чувствовал, что мои нервы совсем расшатались, я хотел было подняться с низкого дивана, на котором мы сидели, — как вдруг она, схватив мою руку, прошептала:
— Пора, пора… приготовься защищать меня, призрак встал из могилы… слышишь, он отвалил плиту… он идет.
Я жутко прислушивался, но слышал только отдаленный лай собак.
— Милый, милый, милый, — шептала она, обнимая меня, — охвати меня крепче… защити меня!
— Лидия Сергеевна, да скажите, что это все значит?
Я сам был испуган. В этом пустом доме, занесенном снегом, наедине с этой женщиной, которая казалась безумной, я начинал чувствовать, что меня охватывает ужас.
— Слушай… слушай… — шептала она, приникая к моей груди.
Я, действительно, услышал — словно скрип полозьев по снегу. Потом где-то стукнула дверь. Шаги. Да, шаги я уже слышал ясно… Они приближались… Дверь распахнулась. Я вскочил, готовый защищаться от опасности, естественной и сверхъестественной, но… только тихо ахнул.
Передо мной, в шубке и шапочке, стояла Надя, а за ней ее брат-студент.
— Как вы сюда попали, Надя? — воскликнула Лидия. — Надя, милая Надя, дитя, дитя мое, ради Бога, не подумайте чего-нибудь дурного.
— Я ничего не думаю, а я вижу, — гордо сказала Надя. — Я получила анонимное письмо, приглашавшее меня сюда… Брат мой не советовал мне ехать, но я настояла, и очень довольна. Прощайте.
Она повернулась и вышла.
Свадьба моя расстроилась. Вся жизнь изломалась. Надя не хотела слушать никаких объяснений. Лидия не приняла меня, когда я пришел к ней, чтобы требовать от нее объяснительного письма к моей невесте и выслала мне записку: «Могила эта — роковая для всякого, кто хотя раз приблизится к ней».
Я уехал служить за границу.
Прошло несколько лет. До меня дошли слухи, что Надя вышла замуж. Ни ее, ни Лидии я больше не встречал. Встретил я в каком-то курорте Анну Семеновну, которая состояла компаньонкой при больной даме.
Анна Семеновна мне несколько осветила «загадочную» Лидию Андал, так как долгое время жила у нее в качестве ширмы, за которой воздушная Лидия пряталась, совершая свои коммерческие сделки.
— А что это была за могила в парке, в Никоновке? — спросил я.
— Это в углу парка, у речки-то?
— Да.
— Это еще бабушка прежних владельцев похоронила там свою любимую болонку Аморку, — ответила спокойно Анна Семеновна.
РОМАНИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ[16]
Посвящается
П. И. Федотовой
— Да-с, бывают в жизни человека случаи, когда охотнее веришь или хочешь верить, что это было колдовство, а не собственная глупость. Впрочем, то, что случилось со мной… Постойте, хотите, расскажу?
— Романическое приключение?
— Да, да, Анна Ивановна, самое что ни на есть романическое.
Вы улыбаетесь насмешливо, качаете головой, не верите, что у меня, старого холостяка, «прозаика» — как вы изволите величать, — было романическое приключение? А вот послушайте, может быть, это приключение и было причиной тому, что я не женился в то время, а если хотите, — то оно имело еще более важные последствия: оно заставило меня потерять всякое доверие к людям… Сейчас, сейчас, дайте закурить папиросу, и я не буду отвлекаться.
Это случилось как раз в тот год, когда я, окончив университет и проведя год в петербургском «вихре света», вдруг почувствовал желание очутиться на лоне природы, тем более что наступила весна и все стали разъезжаться.
Я отправился домой, в недра семьи. Все, казалось, улыбалось мне, все сложилось, чтобы я мог жить и наслаждаться жизнью.
Отец мой был человек с большими средствами, имение имел хорошее, благоустроенное, в двадцати верстах от губернского города.
Для меня было им приготовлено уже место чиновника особых поручений при губернаторе. Я был единственным сыном. Две замужние сестры мои приехали, чтобы повидаться со мной, одна даже издалека, из Италии, где ее муж был консулом.
И еще, к моему благополучию, подруга моей младшей сестры-барышни Любочка согласилась прогостить у нас лето.
Эта Любочка чуть не с четвертого класса гимназии занимала мои мысли.
Она была очаровательна со своей русой косой, румяным личиком и добрыми карими глазками.
А тут… теплые лунные ночи, начинающая желтеть рожь… венок из собранных вместе васильков на прелестной головке и в результате — клятвы в вечной любви.
Родители согласились, ее отец тоже, сестры радовались, ангелы с неба улыбались… вот тут-то чертям захотелось позабавиться.
Было начало августа, когда по делам службы мне пришлось переселиться в город, и я устроился в нашем городском доме.
Жара стояла удушливая, и только по вечерам я выходил немного пройтись.
В ту «роковую» ночь, совершая подобную прогулку, я замечтался.
Ночь была красоты неописанной — лунная, душная.
В двадцать пять лет влюбленный жених и не в такую ночь замечтается…
Я шел куда глаза глядят и очутился у «Старого дворца».
«Старым дворцом» у нас в городе называли дом, построенный каким-то екатерининским вельможей. Имущество, давно вымороченное, принадлежало городу, и город все собирался устроить во дворце больницу или богадельню, да не было денег на ремонт. Так и стоял старый дом с полугнилой колоннадой среди большого сада, окруженный с трех сторон высокой каменной стеной, а с четвертой — смотря с обрыва на реку своими заколоченными окнами. Об этом доме ходило множество легенд.
Рассказывали о криках и стонах, об окровавленных призраках, ломающих руки, о мелькающих по саду огнях.
Если бы на моем месте в ту ночь был суеверный человек, он бы пустился бежать, потому что, едва я сделал несколько шагов вдоль ограды «Старого дворца», как на стене вдруг появилась женская фигура. Она с минуту колебалась и потом соскочила на дорогу.
Прыжок был рискованный, и женщина слегка вскрикнула.
Она попробовала подняться на ноги, но опять с легким стоном опустилась на землю.
Я бросился к ней.
Она метнулась в сторону, как раненый зверь, сделав страшное усилие подняться, но не могла, и вдруг в руке ее блеснул револьвер.
Я остановился.
На этот раз ей удалось подняться, и она стояла, прислонясь к забору, и пристально смотрела на меня, не опуская револьвера.
Луна ярко освещала ее.
Я никогда не видел такого красивого лица, таких глаз, в которых в эту минуту горело отчаяние, бешенство.
Высокая, стройная и очень худенькая, она была одета в темное платье, слишком широкое и короткое для нее. Ноги ее были босы, а голова повязана красным платком концами назад, из-под которого на лоб падала прядь золотисто-белокурых волос.
— Позвольте мне вам помочь, вы ушиблись… Почему вы боитесь меня? — заговорил я ласково.
— Кто вы? И почему вы хотите помочь мне? — спросила она тихо.
Голос ее был низкий, но удивительно красивый.
— Моя фамилия Никонов — я чиновник особых поручений при губернаторе… Я хочу вам помочь, как, я думаю, всякий порядочный человек помог бы женщине в затруднительном положении.
— Что? — спросила она и с удивлением посмотрела на меня: вдруг лицо ее словно преобразилось, пропала резкая складка между бровей, сжатые губы полураскрылись, и это лицо, за минуту такое суровое и даже жесткое, озарилось чудесной улыбкой. Огромные светлые глаза глянули с такой мольбою.
— Да, да, помогите мне, — заговорила она умоляюще, торопливо пряча револьвер в карман, — спасите меня! Ах, я вижу, есть еще рыцари на свете. Только скорей, скорей, мне грозит опасность!
Она доверчиво протянула мне руки, и я помог ей выйти на дорогу.
Цепляясь за меня, она сделала несколько шагов, закусив губы от боли.
— Неужели нога вывихнута! — с отчаянием произнесла она. — Постойте… нет, нет! Ах, какое счастье! Я могу идти… только не скоро, а мне надо спешить, скорей, скорей, — заговорила она резко и глухо.
— Я понесу вас, — предложил я.
Она произнесла решительно: «Не надо».
И опять пристально, словно испытующе, посмотрела на меня.
В ее низком голосе прозвучала такая власть, что я сейчас же опустил руки, готовые подхватить ее.
Она оперлась на мою руку, и мы медленными шагами направились по дороге.
— Куда мне отвести вас? — спросил я после минуты молчания.
Вдруг она прижалась ко мне и, подняв на меня свои великолепные глаза, заговорила тихо и нежно:
— Хотите спасти меня? Спасти несчастную женщину от грозящей ей опасности — может быть, смерти… Если… если вы не поможете мне — я про… про… пропала!
— Конечно, я сделаю все, что вы хотите! Говорите, что я должен сделать? — сказал я пылко, взяв ее руку.
Ее рука сильно стиснула мою, и, еще теснее прижавшись ко мне, она заговорила дрожащим голосом:
— Мне негде спрятаться, а мне надо спрятаться… скорей… сейчас, иначе… Спрячьте, спрячьте меня где-нибудь! Где хотите! И чтобы никто не знал, никто не видел…
— Я вас спрячу у себя — идемте! — решительно проговорил я. — До моего дома недалеко.
Мы шли медленно.
Очевидно, каждый шаг причинял ей страшную боль и стоил больших усилий.
Она иногда останавливалась, закусив губы, слегка закинув голову, и ее рука судорожно, до боли сжимала мою руку.
Я… Я любовался этим страдальческим лицом и восхищался мужеством этой женщины.
Что, если бы какая-нибудь из наших барышень или дам попала в такое положение?
С трудом мы добрались до калитки нашего сада.
Я протянул руку, чтобы позвонить.
— Ради Бога! — схватила она меня за руку, — не звоните! Меня увидят!
— Как же быть? Калитка заперта.
— Я спрячусь здесь в кустах. Тогда позвоните — вам отворят, вы войдете, отошлете прислугу и впустите меня.
Я повиновался.
Когда через пять минут я привел ее в столовую, она опять схватила меня за руку, когда я хотел зажечь лампу.
— Не надо, с улицы увидят!
— Здесь ставни — увидят только свет. Успокойтесь, отдохните — я хочу предложить вам чего-нибудь покушать.
— Да, да — дайте мне есть… я так хочу есть… и спать… Я так из… изму… измучена.
Она упала в кресло и закрыла голову руками.
Я зажег лампу.
Когда комната осветилась, она быстро встала и, хромая, подошла к зеркалу.
Долго стояла перед ним, пристально смотря на свое отражение. Поправила на голове платок, выправив кокетливо из-под него на лоб и на виски короткие завитки волос. Эти золотистые волосы, густые и вьющиеся, были у нее острижены и красивыми локончиками завивались из-под платка около ушей и на шее.
Заметив мой взгляд, она обернулась и заговорила смущенно:
— Вы удивляетесь, что женщина в моем положении еще может смотреться в зеркало? Я… я хотела видеть, как я выгляжу… после… после… этого ужасного случая…
— Но что случилось с вами?
— Ах, не спрашивайте, не спрашивайте меня, — прошептала она, с мольбой складывая руки. — Будьте милосердны… будьте рыцарем до конца… Дайте мне опомниться, успокоиться… дайте мне… Я завтра, завтра все расскажу вам, а теперь… я… я…
Она закрыла лицо руками.
— Пожалуйста, успокойтесь, — взволнованно сказал я, — здесь, у меня, вы в совершенной безопасности; поверьте, что я не позволю никому обидеть вас. Отдохните, вот закуска. Попробуйте покушать.
— Да, да, я буду есть. Я не… не… ела уже со вчерашнего дня… только вчера кусок хлеба… Ах, вино… дайте мне вина. Может быть, у вас есть… — она остановилась.
— Чего вы хотите?
— Нет, нет… ничего… может быть, у вас есть чай? Так стакан чаю.
Она ела быстро и жадно и иногда исподлобья посматривая на меня.
При свете лампы я рассматривал это лицо с нескрываемым восхищением. Это лицо было поразительно красиво. Гордое, энергичное лицо. Пожалуй, очертания подвижных ноздрей красивого носа были немного резки, резки линии подбородка, но глаза были прекрасны, а между красиво изогнутыми губами сверкали ослепительно белые зубы.
Надо вам сказать, что тогда в моду только что стал входить так называемый style moderne[17], и ее худенькая, стройная фигура, казалось, выпорхнула из современной виньетки.
Поношенное, темное платье, как видно, было с чужого плеча, но это неуклюжее платье, состоящее из суконной блузы и ветхой юбки, не могло все-таки обезобразить этой фигуры. Руки ее были немножко велики, но тонки и изящны.
Когда первый голод был удовлетворен, она залпом выпила стакан вина, со вздохом откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.
Я продолжал смотреть на это странно-красивое лицо — и она, словно почувствовав на себе мой взгляд, быстро выпрямилась и посмотрела на меня пристально. В ее глазах блеснул как будто испуг, она схватилась за ручки кресла, словно готовясь вскочить.
— Что вы так на меня смотрите? — резко, почти грубо спросила она.
— Простите, — смутился я, — я… видите ли я… я невольно залюбовался вами, не сердитесь за эти слова.
Это лицо менялось мгновенно. В эту минуту прищурились ее глаза, губы улыбнулись не то ласково, не то насмешливо.
— Даже теперь? Даже в этих лохмотьях? — спросила она, опуская ресницы.
— Я восхищаюсь вами, — воскликнул я пылко, — я восхищаюсь вашим спокойствием, вашим присутствием духа! Другая на вашем месте падала бы в обморок, в истерику, плакала бы… а вы… Ведь, наверно, с вами случилось что-то ужасное…
— Да, да ужасное! Такое ужасное… и мне надо спрятаться и потом бежать. Поймите — бежать!
— Куда? Отчего?
— Я все, все расскажу вам, все… Только, если можно, завтра — а теперь позвольте мне заснуть, я так ус… устала. Можно мне лечь тут? — указала она на диван. — Сюда никто не войдет?
— Нет, нет, я могу устроить вас гораздо удобнее. Вы ляжете у меня в спальне, а я здесь.
Она на минуту задумалась.
— Хорошо. Дверь спальни закрывается на ключ?
— Вы не доверяете мне? — с упреком сказал я.
— О, нет, нет! Могу ли я не доверять вам? Вам! Моему спасителю, моему доброму гению! — заговорила она восторженно, протягивая обе руки. — Я боюсь, что меня найдут, увидят…
— Кто?
— Ах, завтра… Завтра я все расскажу! Прошу вас, если хотите меня спасти, достаньте мне завтра платье. Хорошее, но не слишком нарядное… Вот такое, что носят на прогулку… с жакетом, что ли… юбку подлиннее… я дам мерку… не можете ли и немного денег? И еще парик. Парик с темными волосами… От этого все зависит… зависит моя жизнь, — она с мольбою смотрела на меня, сложив руки.
— Хорошо, хорошо — все будет исполнено, — бормотал я, смущенный этим взглядом лучистых глаз, — лягте, засните спокойно, никто не знает, что вы здесь, никто вас не потревожит.
— Да, вы правы, кому придет в голову искать меня у вас! — вдруг рассмеялась она. — Слушайте, можете вы мне дать приют на несколько дней… на неделю, может быть… пока заживет нога, и чтобы никто, ни одна душа не знала этого и не подозревала даже моего присутствия у вас?
— Конечно! — воскликнул я, и сердце мое радостно забилось, сам не знаю почему.
— Спасибо. А потом, — тихо и нежно сжимая мою руку, сказала она, — а потом вы дадите мне возможность бежать! Уехать… Ведь правда? Дорогой… хороший… правда? Я сразу, когда увидела вас, решила, что вы добрый, благородный и я сразу… сразу…
Она смутилась, опустила глаза и, пробормотав — «Спокойной ночи», — взялась за ручку двери.
— Скажите мне, как ваше имя?
— Меня зовут… Лаурой.
— Что?
— Конечно, я шучу, — засмеялась она, — меня зовут Марья Николаевна — зовите меня Маней. Покойной ночи.
Всю эту ночь я не спал.
Это приключение взволновало меня своей необычайностью.
Кто эта женщина? Женщина, во всяком случае, интеллигентная, хотя манеры ее очень странные… Что с ней случилось? Чего она боится? От кого прячется? Может быть, у нее что-нибудь темное в прошлом? Но с такими ясными глазами нельзя быть дурной женщиной; она, очевидно, жертва.
Я восхищался ее мужеством и вспоминал ее глаза.
Кроме того, забота, как скрыть ее в доме, мешала заснуть.
Старик-сторож и его жена, на попечение которых был оставлен дом, могли удивиться, если бы я запретил им убирать комнаты…
Отослать их? Подкупить, чтобы они молчали?
Только к утру я обдумал все.
Я решил спрятать мою гостью в кабинете деда, который с его смерти стоял всегда запертый.
Платье купить нетрудно, парик я надеялся если не найти, то заказать. А деньги? В эту минуту в моем столе лежало около двух тысяч рублей отцовских денег, которые мне надо было внести в казначейство. Вышли какие-то задержки — и деньги эти остались пока у меня. Если я их спрошу у отца? Конечно, он мне их даст, но начнутся расспросы… придется лгать, выворачиваться… я решил взять из этих денег некоторую часть, а потом, после отъезда Марьи Николаевны, я бы рассказал все откровенно; не могу же, думалось мне, из щепетильности подвергнуть опасности женщину, доверившуюся мне.
Только под утро я заснул.
На другой день я постучался тихонько к ней в дверь. Скрипнула постель, но ответа не было.
Я скорее догадался, чем услыхал, что она, сдерживая дыхание, стоит за дверью.
— Марья Николаевна, это я…
— Ах, это вы… простите, я не… не одета.
— Я сейчас иду покупать вам платье, дайте мне мерку.
— И, пожалуйста, парик.
— Постараюсь…
— Нет, нет, парик необходим!.. Вот мерка… ах, вот еще, купите мне туфли побольше… нога страшно распухла.
— Хорошо, все сделаю. Будьте покойны, сидите тихо, вернувшись, я вас устрою удобнее.
— Какой вы добрый…
Мое сердце дрогнуло от этого ласково-печального шепота.
Я купил ей темно-синий костюм тальер[18] с пышной белой жилеткой, большую черную шляпу, не забыв густую вуаль. Я купил ей немного белья, дорожный несессер, плед в ремнях и… красивый сиреневый капот.
Оправдывал я себя тем, что надо же ей ходить эту неделю в чем-нибудь дома. Как я это вспомню… Впрочем, я продолжаю свой рассказ.
Мне повезло, и у театрального парикмахера я достал красивый темно-каштановый парик с длинными локонами, — я помню, что заплатил за него очень дорого, что-то около ста рублей.
Бывают в жизни человека такие периоды, когда все вокруг завертится вдруг в каком-то фантастическом танце… Так случилось и со мной!
Все завертелось, все запуталось…
На другой день она мне рассказала свою историю. Она бежала из родительского дома и повенчалась с неким Федором Ивановичем Малыганьевым. Этот господин оказался негодяем, темным авантюристом — торговцем живым товаром. Он хотел торговать ею и сделать из нее свою сообщницу. Она не соглашалась. Он связал ее, запер в какой-то погреб, бил, обрезал ей волосы, грозил зарезать. Она показала мне кровоподтек на шее около плеча и следы веревок на локтях. Наконец, вчера ей удалось бежать.
— Если бы видели мое тело! Оно все в синяках, — сказала она, опуская голову.
Я был возмущен до глубины души! Я хотел сейчас же ехать к губернатору, но она, схватив меня за руку, молящим голосом заговорила:
— Что вы! Что вы! Ради всего для вас святого, никому не говорите — пока я не уеду. Вы не знаете… ведь у моего мужа огромная шайка, у них шпионы и убийцы; пока их будут ловить — они меня убьют. А если не убьют, и вы всех их переловите — тогда тоже ужасно. Ведь они меня запутают, ведь я все знала… Скажут, что я их сообщница… Ах нет, нет, сжальтесь надо мною — дайте мне уехать, а потом… потом вы отомстите за меня. Я не буду вас долго стеснять, вот заживет нога… чтобы я могла ходить… и…
— Марья Николаевна! Как вам не стыдно! — заговорил я пылко. — Вы не стесняете меня ничуть — напротив, я счастлив, что могу служить вам, что вы доверяете мне.
— Значит, вы жалеете меня? — нежно спросила она, улыбаясь и заглядывая мне в глаза.
— О! я… я… — я смутился и поспешно спросил: — А подумали ли вы о том, что у вас нет паспорта?
Она еще ближе нагнулась ко мне — и в сумерках надвигающегося вечера я увидел устремленные на меня лучистые глаза и полураскрытые яркие губы, — руки ее опустились на мои плечи.
— Милый, вы достанете мне паспорт, — шепотом, почти страстным, произнесла она и вдруг губы ее легко коснулись моей щеки.
Я вздрогнул, как под электрическим током.
— Каким образом? — смущенно пробормотал я.
— Вы говорили, — тем же шепотом продолжала она, — что ваша сестра имеет заграничный паспорт… Она могла его потерять — я найти.
Я отшатнулся… но… но через два дня я взял — ну, если хотите — украл паспорт сестры. Я не знаю, какой огромный гипноз был в этом существе, но я действовал тогда под гипнозом, не иначе, как под гипнозом.
Она целый день сидела, запершись в кабинете, куда я ей относил еду за завтраком и за обедом, и все умоляла меня скорее уходить, чтобы прислуга не догадалась о чем-нибудь, и попросила только дать ей книг.
— Дайте мне каких-нибудь романов поглупее и поинтереснее, — улыбаясь, сказала она. — Можно и французских — я знаю французский язык; лучше что-нибудь из уголовных романов.
Я однажды пошутил — не боится ли она этой комнаты, где, по рассказам прислуги, нечисто.
— Напротив, это мне на руку, — поспешно сказала она, — если услышат что-нибудь — можно свалить на тень вашего дедушки.
Она только поздно вечером решалась спускаться ко мне, когда сторож и его жена уже уходили в свое помещение.
Блаженные вечера.
Мы засиживались почти до рассвета.
Что за умная женщина! Какие широкие взгляды, какие оригинальные суждения обо всем.
Образование ее было какое-то неполное и странное: она, например, знала немного латынь и греческий, а между тем, почти не имела понятия о русских классиках и, кажется, никого из них не прочла толком.
Первые три дня она говорила мало, как бы принужденно, словно обдумывая каждое слово. Но потом стала разговорчивее, а иногда даже делалась весела и оживлена.
Меня коробили в ней резкие выражения и грубые слова, но она сейчас же спохватывалась, смущалась и смотрела робко, словно стыдясь и извиняясь.
На десятый день своего пребывания она задумчиво сказала:
— Ну, Андрей Осипович, — завтра возьмите мне билет — я еду.
— Завтра? — растерянно спросил я. — Уже?
— Да, голубчик, пора. Мне жаль уезжать, но это необходимо — тяжело прятаться.
Я с тревогой смотрел в ее печальное лицо.
Она сидела у окна, облокотившись на подоконник и смотря в глубь сада. Как она была хороша, вся облитая лунным светом! Лампу мы потушили, и только эта луна освещала комнату.
— Так скажите же мне, куда вы едете и что вы будете делать?
— Еще не знаю… Отдохну там за границей — огляжусь. Радости жду мало, больше горя… Ах, Андрей Осипович, иногда думаешь, как скверна жизнь — для чего мы живем… Я еще мало на свете прожила, а уж так устала. Одно хорошо, что у меня нет матери — давно умерла моя мама… а, впрочем, может быть, если бы она была жива, — все было бы иначе… все…
Она сложила руки на подоконнике, уронила на них голову и заплакала — заплакала не по-женски, а по-детски — со всхлипываньем, горько, горько, как обиженный ребенок.
Тут все вокруг меня словно обрушилось.
Я стоял на коленях, целовал ее руки, ее мокрые от слез глаза, клялся ей, что полюбил ее больше всего на свете — предлагал ей всего себя, всю свою жизнь.
Просидели мы с ней эту ночь до рассвета.
Решение наше было таково: она едет завтра в Бельгию, там мы спишемся, и я займусь ее делом, то есть узнаю, где ее муж, — куплю или вытребую у него ее вид на жительство и, взяв отпуск, приеду к ней.
Что будет дальше — я об этом не думал и не давал себе отчета в эту минуту.
Повторяю — я был под гипнозом.
Она слушала весь этот бред, пересыпанный страстными словами, улыбалась, тихо поглаживая мои волосы, и молчала.
— Марья Николаевна, Маня, — спрашивал я, кладя голову на ее колени, — отчего вы молчите? Неужели вы не верите в будущее? Не верите мне?
— Верю, милый, вам верю… но будущее… оно темно… Кто знает, может быть, потом вы меня проклинать станете.
— За что, Маня?
— Да так. Ворвалась я, незваная, в вашу жизнь. Как бомба упала… с забора… — улыбнулась она, — и кто знает?., у вас невеста…
— Не надо, Маня, не говорите, это кончено… — тихо сказал я.
Какой бледной, неинтересной показалась мне Любочка. Кисейная барышня.
Даже фигурка Любочки, женственная и нежная, с высоким бюстом и широкими бедрами, казалась мне такой неизящной рядом с этой высокой худенькой женщиной, гибкой, как змея.
И эта женщина с загадочными глазами, то жестокими, то ласковыми… Женщина смелая, ловкая… Вчера, когда в дверь неожиданно постучали — пришла телеграмма — как красив, как ловок был ее прыжок к окну, к которому она прислонилась с револьвером в руке. Когда тревога прошла, она гордо закинула свою красивую голову и, пряча револьвер в карман, сказала:
— Я свою свободу дешево не продам.
И вот в этот прощальный вечер я плакал, припав к ее коленям, я чувствовал, как она стала дорога мне и необходима.
Голова моя кружилась, горела, мои руки невольно обвились вокруг ее стана, и губы невольно искали ее губ, но она быстро вскочила, выскользнула из моих объятий.
Я закрыл лицо руками.
— Маня, — с мольбой произнес я, оставаясь у ее ног.
— Ах, милый, милый… не надо… я люблю, люблю вас — я это говорю вам прямо… но… вы еще не свободны… Слушайте, лучше не думайте обо мне — женитесь. Я не хочу зла ей… вашей невесте… будьте счастливы. Ведь что же я… я не для вас… Андрей Осипович, милый… Ну, потом… потом, когда вы приедете ко мне… мы поговорим тогда… на свободе, а теперь… ах, дайте мне сохранить в чистоте ваш рыцарский образ. Если судьба не даст нам счастья, то воспоминание о вас останется светлым и незапятнанным.
Ее рука опять с лаской опустилась на мою голову и, нагнувшись, она поцеловала меня в лоб и быстро ушла.
Наутро сторож и его старуха разинули рты, когда увидели Марью Николаевну, совсем готовую к отъезду, в шляпе под вуалью и с дорожной сумкой через плечо.
Они смотрели растерянно и едва поняли, когда я их послал за извозчиком и велел выносить вещи.
— Боже мой, вот-то рожи они сделали, — сказала она весело, когда мы остались одни.
Она была оживлена и смеялась.
— Вы веселы, Маня, — сказал я с упреком.
— Ах, Андрей Осипович, я весела сквозь слезы! Я радуюсь, что наконец буду далеко, на свободе и в то же время готова плакать… разве мне легко уезжать от вас?.. — она быстро вынула платок и приложила его к глазам.
— Вот ваш паспорт, Маня, а вот деньги — тут тысяча рублей — вам хватит на первое время, потом я вышлю еще или, Бог даст, сам привезу.
— Да, да, спасибо, какой вы добрый, — поспешно пряча деньги и паспорт, сказала она. — Я телеграфирую сейчас же, как приеду… Извозчик приехал, едемте, — заторопилась она.
— Маня, — нерешительно проговорил я, — простимся здесь — там, на вокзале, будет народ — простимся хорошенько, милая.
Она улыбнулась, и, приподняв вуаль, крепко поцеловала меня в щеку.
— Не так, Маня, не так, — умоляющим голосом сказал я, и с отчаянием, охватив ее плечи, припал к ее губам.
Эти губы были покорны, но холодны, словно мертвые.
Я не выдержал, упал к ее ногам и зарыдал, спрятав голову в складках ее платья.
— Андрей Осипович, Андрей… дорогой… верьте, верьте, я люблю вас, — растерянно говорила она. — Я очень люблю вас, только, только… пора ехать… ведь уже восемь часов.
На вокзале она не захотела оставаться в зале, и мы вышли на платформу.
Она шла рядом со мною, опираясь на мою руку, еще слегка прихрамывая и молча слушая меня, а я все говорил, говорил, как в бреду, о моей любви к ней.
Не буду описывать этих минут, тяжелых для всякого провожающего. С каким отчаянием я прижал к губам ее руку!
Она высунулась из окна, и ее последние слова были:
— Спасибо — не поминайте лихом.
Поезд уже скрылся, а я все стоял на конце платформы, смотря в темноту.
Не знаю, сколько времени простоял бы я, но громовой бас вывел меня из оцепенения.
— Андрей Осипович! Мое почтение!
Я вздрогнул. Бас принадлежал нашему исправнику.
— А, Иван Ильич, здравствуйте, — рассеянно сказал я.
— Провожали? — лукаво улыбнулся он, покручивая усы.
— Да… подруга сестры…
— Гм… Когда же вы к папаше? Я утром, как ехал в город, был у вас, там все беспокоятся, чего вы пропали — нарочного посылать хотят.
— А… я думаю ехать завтра утром.
— Зачем завтра? — едем сейчас, вон у меня тройка стоит — ночью-то не так жарко.
— А вы опять в уезд?
— Я, батенька, только и вытребован был для реприманда. Генерал вызвал меня, чтобы распушить. И уж распушил, скажу вам. Кричал, кричал.
— За что? Все за Иваньковскую шайку?
— Не говорите вы мне о них, с… детях! Кажется, поймаешь, держишь, а они, как у Лескова говорится, как Спинозы промеж ног проскользнут — и ау!
Он долго жаловался и ругался, но я его не слушал, я ехал, как в чаду: одна мысль была у меня в голове — скорей, скорей покончить со всем прошлым, сказать Любочке, что я не могу быть ее мужем. Если нужно, порвать всё — со всеми и начать дело освобождения Мани.
— Иван Ильич, — обратился я к исправнику, — есть у вас в уезде Федор Иванович Малыганьев?
— М-м… нет, как будто нет. Да кто он такой?
— Отставной поручик — личность темная.
— Г-м, нет такого. Может быть, в городе живет.
Мы опять замолчали.
— А вот и Никоновская роща! — оживился исправник.
— Сейчас ваша маменька нам водочки, закусочки…
— Иван Ильич, — вдруг спохватился я, — пожалуйста, вы там… не рассказывайте о сегодняшних проводах.
— Эге! — прищурился он. — Хорошо, хорошо. Значит, совсем не сестрицина подруга? — подтолкнул он меня локтем.
— Нет.
— А я знаю, кто это! — весело крикнул он.
— Кто? Вы знаете?
— Я бы да не знал. Да ее узнал сию же минуту, даром что она вуальку надела. Это Пахомова — податного инспектора жена.
Я молчал.
Для меня это был роковой вечер, одно из самых неприятных воспоминаний.
С Любой я объяснялся в саду… она горько, горько плакала, но гипноз был так велик, что я почувствовал не жалость, а, стыдно сказать, презрение к бедной девочке и, прислушиваясь к ее рыданиям, думал:
— Стала бы «та» плакать? Нет — сверкнула бы глазами и отошла… или вынула бы револьвер и…
Да, я был под гипнозом, в бреду, я был маньяком.
На другой день — отъезд Любочки, тяжелая сцена с родителями, все эти упреки, жалобы матери, резкие слова возмущенного отца.
Целую неделю на меня дулись, со мной почти не разговаривали, сестры ходили с заплаканными глазами.
Я уезжал верхом подальше, бродил по лесу, катался на лодке — я искал уединения, чтобы вспоминать и мечтать.
Она! Она одна была в моих мыслях — только она.
Я писал ей каждый день огромные письма, сумасшедшие, страстные, умоляя ее любить меня, верить мне.
Письма эти я адресовал: Брюссель, poste restante[19], как мы уговорились, но дни проходили, прошла неделя, а ответа от нее не было.
Что могло случиться с ней?
Я то воображал всякие несчастья, то замирал от отчаяния, что, может быть, она меня не любит. Я умолял ее сказать мне правду — хоть самую горькую, самую ужасную правду, но не оставлять меня в этой мучительной неизвестности.
Еще одно обстоятельство смущало меня — ни в городе, ни в уезде отставного поручика Малыганьева не оказалось. «Может быть, этот негодяй, после побега жены, уехал или скрывается под чужим именем», — думал я.
Вскоре мое беспокойство, моя тоска превратились в отчаяние, и я решил сам ехать в Брюссель.
В тот роковой вечер, когда это решение созрело, я почти не разговаривал с домашними и, сидя за вечерним чаем, делал вид, что читаю газету.
Все сидели молча, как на похоронах, когда доложили, что приехал исправник.
Иван Ильич влетел как бомба, и первое его слово было:
— Подаю в отставку! Сил моих больше нет!
— Что такое? — спросил отец.
— Выговоры, выговоры… Знаете-с, почтенный Осип Семенович, что мне было генералом сказано-с? Устарел, мол, я! Появился, мол, «тип интеллигентных преступников», — так нужна и «интеллигентная полиция». Что же мне, в университет поступать прикажете, так как братцы Иваньковы — один из университета, другой из седьмого класса гимназии были выгнаны? Завтра горного студента я не могу ловить, потому что горного дела не знаю… я, видите, устарел! Я не виноват, что теперь разбойники, держащие в страхе целые губернии, восемнадцатилетние мальчишки, как Васька!
— Да ведь вы старшего-то, Сашку, поймали.
— Ловил я обоих неоднократно, совсем в руках были! Сашка вчера бежал из острожной больницы! — с отчаянием заключил Иван Ильич.
— Каким образом? Кто помог?
— Кто — конечно, младший братец!
— Как это вы тогда упустили его?
— Наваждение, колдовство… Когда мы его накрыли в притоне у Афросиньи Черной, ведь он в одной рубашке в окно выскочил. Выскочил, отстреливаясь, двоих стражников ранил — и из глаз пропал. На другой день доносят мне, что видели Маньку Кривую, как она с каким-то узлом прошмыгнула в «Старый дворец», — очевидно, платье ему несла. Мы оцепили дворец с обрыва — удрать можно только с обрыва — через стену не перелезешь… Вошли… а птичка-то уж улетела! А была там — кейфовать собралась, в одной из комнат на полу зажженный фонарь стоял, колбаса и хлеб валялись… Весь дом, весь сад обшарили! Думали было, что есть лазейка в стене. Только наутро увидели, что кусты около стены на Низовой улице изломаны, и на дороге следы — одни босых ног, другие в сапогах. Три дня мы по всем дорогам, по всем деревням шарили — весь город вверх дном перевернули… Кто помог ему скрыться? Куда? Денег у него не было. Да и на вокзале еще и теперь дежурят — уехать не мог… А теперь и Сашку, братца, вызволил! Скажите, кто помог? Откуда у них деньги?
Я слушал, как во сне — странные совпадения ударили меня словно хлыстом, а исправник, стуча кулаком по столу, продолжал:
— Не иначе как бабы помогли, потому красив подлец, как картина. Когда я его поймал и отправлял в город, помните, еще он с дороги ушел… жена моя, Парасковья Петровна, расчувствовалась: «Ах, такой мальчик, нежный, хорошенький, словно ангельчик!» — «Милая, — говорю, — этот ангельчик в шести грабежах обвиняется». — «Не может быть, — уперлась, — не может быть, это какая-нибудь „роковая ошибка“, как у г-на Гейнце[20] в романах! Не может такое дитя преступником быть — отпусти его, Ильюшенька». — «Да ты с ума сошла! Я его развязать боюсь — как раз убежит». — «И пусть бежит — с такими глазами преступников не бывает». Я его поспешил в город отправить. Верите — рыдает моя Парасковья Петровна. А, думаю, чем черт не шутит — ведь что бабе иногда в голову может прийти. Был же такой случай: мать одного станового выпустила раз Ваську-то! Да не думайте, что дама какая-нибудь бальзаковского возраста — нет, старушка древняя, из раскольниц. «Умилил», — только и твердила.
— Что с тобой, Андрей? Отчего ты такой бледный? — спросил отец.
Скажите, было отчего побледнеть?
Вы спрашиваете, Анна Ивановна, встречал ли я его когда-нибудь. Нет, но я имел только удовольствие прочесть в газетах, что он и его братец были повешены по приговору военного суда.
Жестоко так говорить? Что делать?
Этот человек отнял у меня веру в людей. Вы говорите, он защищал свою жизнь? Пожалуй. Скажи он мне тогда правду, я бы взял его за шиворот да с рук на руки сдал бы Ивану Ильичу… Но как я вспомню его, все кипит во мне: он ограбил меня, он отнял у меня всякую иллюзию любви.
Я не люблю кротких и робких женщин, а смелые, мужественные мне стали противны по воспоминанию. Терпеть не могу полных, а когда передо мной змеится плоская фигура модерного стиля, мне все кажется: а не Васька ли это Иваньков? Тьфу!
Биографический очерк
НАГРОДСКАЯ Евдокия Аполлоновна (урожд. Головачёва, в первом браке Тангиева, 1866, Петербург — 19. 5. 1930, Париж, похоронена на кладбище Тие, близ Парижа), прозаик, поэтесса. Дочь А. Я. Панаевой и А. Ф. Головачёва. Н. училась в школе Страннолюбских и частной г-зии (пансионе) М. П. Спешневой и М. Д. Дурново в Петербурге (с нояб. 1876 — бесплатно), в к-рой быт достаточно высокий, приближенный к курсу мужских г-зий уровень образования (среди преподавателей: В. И. Водовозов, А. Я. Герд, математик А. Н. Страннолюбский, Л. С. Таганцев и др.). Определяющее влияние на формирование характера и круг интересов Н. оказала лит. и жизненная позиция матери. В молодости Н., испытывая материальную нужду, пыталась стать актрисой, работала в Малом т-ре. В 1882 вышла замуж за кн. Бек-Мелик-Тангиева, прапорщика Кавк. милиции, впоследствии ранние свои произведения подписывала «Е. Тангиева», «Е. T.», «Е. Т-а». Оставшись адовой с двумя детьми (сын Александр, р. 7 авг. 1883, и дочь Валентина, р. 13 дек. 1885), в янв. 1888 возвратилась в Петербург, жила с матерью, бедствовала.
Именно в эти годы Н. предпринимает попытки заработать на жизнь лит. трудом: ее первое произв. «Рождественский подарок» («Звезда», 1889, янв.) написано в жанре «святочного» рассказа. Зависимость от лит. заработков предопределила выбор жанров и изданий, с к-рыми Н. сотрудничала. Интрига уголовных романов «Черное дело» («Свет», 1889, 21–30 июня) и его продолжения «Мертвая петля» (там же, 1889, 16 сент. — 7 окт.) связана с борьбой за княжеское наследство, на к-рое претендует католич. церковь, действуя через коварного иезуита и его любовницу. В 1890 в той же газете печатался ее второй детектив «Петербургские тайны» (14 июня — 10 июля), сюжет к-рого, позволяющий показать все слои столичного общества — от нищих до аристократов, ассоциируется с романом В. В. Крестовского «Петербургские трущобы». Более традиционные для жен. литры тех лет произв. — миниатюрные «поэмы в прозе» «Потерянное счастье» (ЖО, 1892, N» 16), «Розы», «Под ивами» («Север», 1892, № 19, 32) — поднимали тему человеческого одиночества, но для Н. трагедия не в «непонимании» как таковом, а в разрушении иллюзорного мира, в к-ром только и может быть счастлива душа (в дальнейшем этот мотив станет одним из ключевых в новеллистике Н.). Мистификации и загадочные происшествия продолжаются на всем протяжении ее ром. «Дочь дьявола» (СО, еженед. прил., 1894, № 1-10): в размеренную жизнь рус. аристократа врывается загадочная женщина, к-рая кажется ему порой «дочерью дьявола», пока к концу не выясняется, что героиня — сама добродетель, всю жизнь посвятившая тайной благотворительности. Сходный мотив Н. разовьет в позднем произв. «Правда о семье моей жены», показав, как самые близкие люди могут принимать непохожесть другого за проявление чуть ли не «сатанизма». Противопоставление «отцов и детей» новейшего времени («народников» и «прагматиков») — тема ее рассказа 1899 «Два поколения» (ЖО, № 19).
22 янв. 1896 Н. венчалась вторым браком с Вл. Адольфовичем Нагродскнм (9. 6. 1872 — не ранее 1930). Сын поляка и итальянки, лютеранин, женившийся на православной, Нагродский был в то время еще студентом петерб. Ин-та инженеров путей сообщения, после окончания в 1897 служил на Владикавказ, ж. д., а с 1911 преподавал в этом ин-те. Не завися теперь от гонораров, Н. не спешила печататься. Ее ром. «Гнев Диониса» (СПб., 1910; 10-е изд., П., 1916; общий тираж ок. 25 тыс. экз.), подписанный новым лит. именем — Е. Нагродская, — в сознании читателей никак не связывался с забытыми уже к тому времени газетными детективами, и поэтому современникам оставалось только удивляться необычной яркости «дебюта». Книга имела исключительный успех у читателей. Однако критика была большей частью недоброжелательной.
Имя Н. ставилось, с одной стороны, рядом с А. Вербицкой — хота и с оговорками, чго стиль Н. выгодно отличается от бульварных «женских романов» (см.: Левицкий В. По стопам Вербицкой. — «Неделя “Вест. Знания”», 1912, № 18: Доротин С., Роман, о к-ром говорят. — «Изв. кн. маг… М. Вольфа…», 1910, № 10: его же. Госпожа Н. и ее роман. — «Вест, лит-ры», 1911, № п); с др. стороны, его ставили рядом с М. Кузминым, и тогда это сравнение было не в пользу Н.: «Те банщики, которые “на крыльях” («Крылья» — название романа Кузмина) поднимают Кузмнна, не подняли героя Н.» (В. (П.) Кр<анихфельд> — СМ, 1910, № il, с. 164). М. Морозов писал: «… бывают чудеса — посредственная книга выходит на рынок и сразу завоевывает его, никем не поддерживаемая, не рекламируемая»; не отказывая Н. в «чувстве меры» и отметив, что она «выше обыденной банальщины», он назвал роман в целом «болтовней о любви естественной, неестественной и противоестественной» («Всеобщий ежемесячник», 1911, № 5, с. пб, 115).
Читателя привлекали не только рискованная интерпретация темы, но и острый сюжет с неожиданными ходами. Герои классич. любовного треугольника (талантливая художница, от лица к-рой ведется исповедальный рассказ, преданный ей муж, олицетворяющий гармоничное аполлоническое начало, и любовник, женственный красавец, с к-рого художница пишет фигуру Диониса) связаны настолько запутанными нитями, что для их «распутывания» в роман введен герой-резонер, к-рый дает «анализ женской физики и психики» (Б. Гл<линский> — ИВ, 1911, № 9, с. 1161), ориентируясь на популярную в те годы в России книгу О. Вейнингера «Пол и характер», — т. е., как писал критик, автор пытается «все сложные… переживания своих героев свести к страничке из учебника частной патологии» (В. Кр<анихфельд> — СМ, 1910, № 11, с. 164). Эмансипированная героиня романа, чей характер необычен для женщины, но вполне обычен для мужчины (по определению героя-резонера), должна переступить последнюю грань: принять любовь к двоим как естеств. путь соединения «аполлонического» и «дионисийского» начал. Конец романа, как бы возвращающий героиню в рамки общепризнанной морали, вызвал возмущение А. М. Коллонтай: «… в покорившейся обстоятельствам Тане… мы не узнаем былой смелой, цельной личности, Тани — человека. Жалко, что автор так оклеветал свою Таню» (СМ, 1913, № 9, с. 163). Положит, отклики на роман появились в среде эстетически близких Н. писателей: хвалебный отзыв С. А. Ауслендера («Речь», 1910, 26 июля); Кузмин отмечал родственную и ему самому «манеру французского романа» («Аполлон», 1910, № 9, с. 34); то же наблюдение в рецензиях непредвзятых критиков, к-рым была чужда проповедь сексуального раскрепощения женщины, но импонировало «тонкое, почти нерусское искусство рисунка» (Кранихфельд, ук. рец., с. 163); см. также восторженную оценку В. Пяста: «Какое редкое чутье правды… к-рую дает автор в ситуациях, в великолепно задуманной завязке, в непогрешимом развитии ее, в блестящих очерках всех без исключения действующих лиц. Каждая деталь на месте, ничего лишнего, ничего невыясненного, ничего неоконченного» («Счастливая женщина» — «Студенч. жизнь», 1910, № 33, с. 10).
Символич. план романа, заявленный уже в его заглавии, зависимость от мифологем Ницше и от их рус. адаптации Вяч. И. Ивановым критика не заметила, заведомо подходя к произв. как к «бульварному» и отказывая ему в каких-либо претензиях на философичность. Напряженная эмоц. исповедальность («повышенно истерический стиль» — В. Левицкий — «Неделя “Вест, знания”», 1912, № 18, с. 276), безусловная психол. убедительность и достоверность характеров (при всей их необычности для рус. прозы) во многом объяснялись тем, что гл. герои имели конкретные прототипы. Если художница Таня, без сомнения, — автопортрет, то подробно выписанная внешность Старка — один из лучших портретов в словесной иконографии Кузмина, отразивший, вероятно, впечатления Н. от мимолетных встреч с писателем в богемной среде и от его прозы (прежде всего образ Штрупа в пов. «Крылья»). Кузмин читал «Гнев Диониса» явно до знакомства с его автором (запись в дневнике от g июля 1910: «Чтение романа “Гнев Диониса” и рассказы о сомовских последних картинах чем-то мне напомнили весну после “Крыльев"» — сообщено Н. А. Богомоловым). Поэтому историю страсти героев можно воспринимать лишь как утверждение гипотетической возможности любви между женственным мужчиной и одаренной необычным характером женщиной; в жизни же Н. с Кузминым связывали дружеские отношения. С июля 1913 по окт. 1914 Кузмин после ухода с «башни» Вяч. Иванова и перемены неск. адресов занял комнату в большой квартире Н. на Мойке (сама квартира описана в «Плавающих-путешествующих», повести Кузмина, к-рая там и создавалась). Своеобразный лит. салон Н. Посещали Ауслендер. Ю. И. Юркун, Г. В. Адамович, Г. В. Иванов, Т. Г. Шенфельд, Матвей Ив. Семёнов (издатель всех книг Н. в России, опекавший ее; в изд-ве Семёнова выходило также Собр. соч. Кузмина). Собрания эти пользовались в Петербурге дурной славой. О своем знакомстве с Кузминым в квартире Н. в 1914 вспоминал Р. Ивнев (в его кн.: Избранное. М„1988, с. 536). «Метафизическая квартира» была известна своими спиритич. сеансами. Кузмин в «Плавающих-путешествующих» придал облику хозяйки квартиры — Ираиды Львовны (внешнее описание не оставляет сомнений в портретном сходстве с Н.) черты нарочито добродетельные («все пристают ко мне. что я Ираида, я этого не отрицаю…» — письмо Кузмину — РНБ, ф. 2571, оп. 1, д. 255). Кузмин посвятил Н. ром. «Тихий страж» (1916) и неск. стихотворений, в т. ч. посвящение к «Глиняным голубкам». Н. посвятила ему ключе-вой для ее творчества рассказ «Сны» («Весна», 1914, № 2)[21], а рассказ «Похороны» (о похоронах собачки) — другу Кузмина Юркуну. Явно желая продлить дружбу, Н. приглашала Кузмина «заходить»: «Ведь сами знаете, что нам обоим беседовать полезно, но полезно исключительно о наших писаниях — так мы и сделаем» (письмо 1915 — РНБ, ф. 2571, оп. 1, № 255), в поздних записях в дневнике Кузмин отзывался о Н. насмешливо-неприязненно. В 1911 в Петербурге вышел оставшийся незамеченным сб. «Стихи» — живые наблюдения совр. жизни, вкрапленные в достаточно банальную поэтич. ткань. Сб. рассказов «Аня. Чистая любовь. Он. За самоваром» (СПб., 1911; 5-е над., П., 1915) продолжал тему поиска путей женского самопознания и самовыражения.
Е. Нагродская и М. Кузмин. Нач. 1910-х гг.
Отзывы были отрицательными: «Недавно вышедший сб. рассказов по достоинству ниже романа, зато в них нет философии… Что-то больное, патологическое притаилось в этих рассказах. Поражает эта настойчивость, с к-рой автор возвращается все к одному и тому же — к аномалиям любви» (М. Морозов — «Всеобщий ежемесячник». 1911, № 5. с. 116). Анонимный автор ж. «Современник» (1912. № 1) находил содержание рассказов «нелепым», писал о неспособности автора «изображать трепетное, неуловимое. к-рое необходимо для сотворения рассказов… хоть притворяющихся, будто они — с “той стороны"» (с. 371: имеется в виду, прежде всего, рассказ «Он», где героиня сходит с ума от любви к таинств, незнакомцу, обладателю сатанинской силы).
Ром. «Бронзовая дверь», задуманный как первая часть трилогии о сексуальных извращениях — «Усталый мир», в 1911 был запрещен цензурой, по приговору Петерб. окружного суда от 27 апр. 1912 был конфискован весь тираж в тип. «Обществ, польза» (мат-лы Петерб. к-та по делам печати — РГИА, ф. 777, оп. 17, д. 134, 1911 г.; справка В. М. Лупановой). Бурное возмущение Н., выражавшееся как в личных письмах (см. РНБ, письма Кузмину), так и в публичных скандалах в кабинетах чиновников, только прибавило ей популярности и привлекло обществ, внимание. Под назв. «У бронзовой двери» (СПб.) в отрывках и со значит, купюрами это произв. о молодом музыканте, к-рый «греховной» любовью приводит своего единств, друга к самоубийству, увиде-ло свет в 1913. В заключит, словах персонажа слышен голос самого автора: «Порок наказан, добродетель торжествует: история кончилась торжеством людской морали. Все в своих стойлах и люди должны быть довольны. Будь они прокляты!». В том же 1913 появился ром. «Борьба микробов» (СПб.; 5 переизданий; рец.: А. Ожигов (Н. П. Ашешов) — «Совр. слово», 1913,17 июля), в основе сюжета — соперничество охотников за богатой вдовой; по мысли Н. вложенной в уста одного из персонажей, законы биологии распространяются и на социальную жизнь: побеждает самый жестокий и молодой, поскольку новое поколение циничнее и расчетливее прежнего. Наличие отточий (пропусков текста) Н. объясняла в письме от 10 июня 1913 к О. Г. Базанкур-Штейнфельд: «Я этой книгой сама недовольна, потому что пришлось много выбросить из нее — для цензуры, не хотелось, чтобы опять конфисковали» (ИРЛИ, ф. 15, № 520). Герои сб-ка рассказов «День и ночь. Смешная история. Волшебный сад. Кошмар» (СПб., 1913) — старая дева, провинц. учитель словесности, юная девушка — живут в мире собств. грез, не совпадающих с реальностью. В 1914 (П.) выходит мистич. роман «Белая колоннада». Видение красоты, иной реальности — белой колоннады, не существующей в действительности, — приводит к обновлению души героини и тех людей, которые поверили в возможность чуда. Увлечение Н. спиритизмом, впервые сказавшееся в рассказе «Он», получило дальнейшее развитие в ром. «Злые духи» (П., 1915).
Критика усмотрела в романе «мотивы эротики и садизма, возвеличивание войны как очищающего начала» (ЖЖ. 1915. № 5; см. также рец.: А. Добрый — НЖдВ, 1915, № 7, с. 61). вызвал скептическую усмешку рецензентов и его герой — «сверхчеловек», неспособный к любви, от скуки манипулирующий людьми, «неотразимый красавец, с змеиной улыбкой, с необыкновенными глазами»: «Тянется, тянется на сотнях страниц скука, пошлость, убожество духовное…» (С. Ас<тр>ов — «Летопись», 1915, дек., с. 392; также рец.: He-Буква (И. М. Василевский) — ЖЖ, 1915, № 10).
В 1912-16 в разных изданиях («Летучая мышь», 1912, № 2; «Синий жури.», 1914, № 1, 35, 40; «Жури, для женщин», 1915, № 24; БВед, 1916, 19–23 марта; альм. «Полон», П., 1916) печатаются рассказы Н., многие из к-рых составили впоследствии сб. «Сны. Сандрильона. Мальчик из цирка. Романическое приключение. Невеста Анатоля. Клуб настоящих» (П., 1917). Первый рассказ сб-ка выражает кредо самой писательницы. История нежной романтич. дружбы молодой женщины, томящейся в мещанской семье, и наивного подростка, рассказывающих друг другу придуманные «сны», чтобы избавиться от скуки существования, оканчивается трагически, столкнувшись с грязью и людской пошлостью. Едва ли не единств, раз прорвались глубоко личная боль и обида писательницы, своими произв. призывавшей к терпимому отношению к чужой индивидуальности — в т. ч. и в сексуальном плане, отстаивавшей право женщины на духовное раскрепощение — через раскрепощение ее в любви и страсти, и встречавшей в ответ ханжескую отповедь критики. «Я проповедую откровенность всегда и во всем», — писала она А. Л. Волынскому (ГЛМ, ф. 1387).
Н. фактически была издателем ж. «Петерб. вечера» (с 1914 — «Петроградские вечера»), печатала в нем рассказы, выступала как рецензент. В 1914 в ж. «Петрогр. вечера», кн. 3, печатался роман Т. Краснопольской (Т. Г. Шенфельд) «Над любовью», где под именем «Несветской» изображена Н., завсегдатай кафе «Заблудшая овца» (в реальности — «Бродячая собака»; см.: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д., Программы «Бродячей собаки». — В кн.: Памятники культуры 1983, Л., 1985, с. 225).
До революции популярность Н. удерживалась на высоком уровне (ее книги — одни из самых ходовых в библиотеках), но для читающей публики она была прежде всего «автором романа “Гнев Диониса”» (так называют ее, напр., предваряя публикацию в «Летучей мыши», 1912, № 2), а для критики — «бульварной беллетристкой». Острая любовная интрига, яркие типы талантливых, красивых и «роковых» любовников привлекли внимание первых рус. киносценаристов, появились инсценировки романа («“Гнев Диониса” в семи картинах» — авторы Е. Ю. Геркен и А. С. Смирнов, СПб., 1911; Нагродская Е., Гнев Диониса. Пьеса в 5 д. и 6 картинах. Переделка Ю. Грубина. Орел, 1913). Примечателен и интерес самой Н. к кино: см. заметку «Кинематографические горести и радости» («Кинематограф», 1915, № l), стих. «Синематограф» (в ее поэтич. сб-ке; перепечатка — «Кинематограф», 1915, № 2) — одно из немногих в рус. лит-ре нач. века на эту тему. Предпринимались попытки экранизировать также ром. «Белая колоннада» (см.: «Театр, газ.», 1915, № 48) и рассказ «Он» («Театр. газ.», 1915, № 49). Н. принадлежит также «худож. кинодрама в 5 частях» «Ведьма» (см.: Ук. заглавий произв. худож. лит-ры. 1801–1975, т. 1, М. 1985. № 9859).
Революция заставила Нагродских в окт. 1918 бежать из Петербурга, где у издателя остались первые три части начатого романа «Житие Олимпиады девы» (ч. 1, кн. 1, 2, б. м., б. г.; рукопись — ч. 2 (1914–1916) — РГАЛИ. ф. 1118, оп. 1, № 2). Во время дальнейшего бегства из Киева в Одессу, ограбленная петлюровскими солдатами, Н. лишилась всех рукописей (две драмы, книга стихов, последняя часть романа). В эмиграции Н. поначалу «работает на ферме во Франции… Готовит труд по герметич. философии» («Рус. книга», Б., 1921, № 3, с. 32). Семья не бедствовала, т. к. муж служил инженером на восстановлении железных дорог на севере Франции. Это, как и их связи через масонские ложи, давало возможность Н. помогать нуждающимся эмигрантам. Н. была «мастером стула» в основанной в 1926 ложе «Аврора», а также активным членом француз, ложи «Le droit humain». В Париже, где они жили, Н. — хозяйка популярных «сред». В эмигрантской прессе Н. не участвовала, но ее новые произв. по-прежнему имели читательский успех. О ром. «Правда о семье моей жены» (Б., 1922) критик писал: «Н. из тех писательниц, к-рых не любят критики, но признает, стыдясь, из-под полы, так называемая большая публика… Для чтения в вагонах трамвая — это незаменимая книга» (И. <Ф. Иванов> — «Новая рус. книга», Б., 1922, № 3, с. 12–13). В эмиграции Н. опубл. ром. «Записки Романа Васильева» (ч. 1, Париж, 1922), ист. роман-трил. «Река времен» (кн. 1–3. Б., 1924-26), герои к-рого связаны между собой не только сложными родств. узами, но и принадлежностью к масонскому обществу, общей идеей совершенствования мира и человеческой природы, причастностью к тайне ухода и похорон Александра I, кн. «Тайна сонетов» (Париж, 1927; имеются в виду сонеты У. Шекспира). Беллетристику Н. считала отдыхом а гл. делом — труд по герметич. философии (неизвестен). Посмертно была издана драма, написанная по-французски, «La dame et le Diable» (P., 1932). H. Умерла от рака печени.
Др. произв.: «Как мы работаем? И мой ответ» (ЖЖ, 1915, № 2). «Клуб настоящих. Петрогр. рассказ» (БВед, веч. в., 1916, 19–28 марта), «Воспоминания» («Огонек», 1917, № 32), Изд.: Белая колоннада. Рига. 1930 (предисл. В. А. Нагродского); Гнев Диониса, 2-е изд. Рига, 1930; М., 1994 (послесл. М. В. Михайловой); Гнев Диониса. Сб. СПб… 1994 (вступ. ст. С. Савицкого; состав: романы «Гнев Диониса», «Белая колоннада», рассказы); (стих.) — В кн.: Сто поэтесс (справка Т. Л. Никольской).
Лит.: Колтоновская Е., Голос читателя. — «Речь», 1910, 6 дек; Кто бы ни был, На красном яичке (Дружеские надписи). — ЖЖ, 1916, № 15; Грачева А., Рус. ницшеанство и жен. роман нач. XX в. — In: Slavica Tamperensia II — Tampere, 1994, с. 77–87; Силард Л., Аполлон и Дионис (к вопросу о рус. судьбе одной мифологемы). — «Umjetnost Rijeci», Zagreb, God XXV, 1981, с. 155–72; Берберова Н., Люди и ложи. Рус. масоны XX столетия, Н.-Й, 1986 (ук.); Письмо М. Горького Ф. И. Шаляпину — НМ, 1986, № 1, с. 192; Иванов Г., Ссбр. соч., т. 3. М., 1994, с. 102–03, 660; Чуковский К. И., Дневники, 1930–1969, М., 1994, с. 436–37; Ивнев Р., Дневник 25 нояб. 1930. — В кн.: Река времен. Книга истории и культуры, кн 2. М. 1995, с. 208; Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э., М. Кузмин: иск-во, жизнь, эпоха. М., 1996, с. 181–83; Dalton М. A Russian best-seller in the early twentieth century: E. A. Nagrodskaya’s The Wrath of Dionysus. — В кн.: Studies in Russian Literature. In honor of Vsevolod Setchkarev, Columbus (Ohio), 1986. + Некрологи. 1930: «Театр и жизнь», Б., № 28 (С. Рогов); ПН. 21 и 23 мая (П. Н. Милюков); «Руль», Б., 22 мая;«Возрождение», 21 мая (н. р.); «Сегодня». 21 мая (П. М. Пильский); «Илл. Россия», № 26 (Г. В. Адамович). Брокгауз; ЛЭ; КЛЭ; Муратова (2); Абызов; Алексеев; Dictionary of Russian women writers.
Архивы: РГАЛИ, ф. 1118, оп, 1. Ns 3 (статья M. И. Семенова о Н. датиров. 10 авг. 1937); ф. 5, оп, I. № 89 (письмо В. И. Аннескому-Кривичу); ф. 95, оп. 1, № 658 (письмо А. Л. Волынскому); ф. 232, оп. 1, № 304 (письмо М. А. Кузмину); ф. 2567, оп. 2, № 263 (письмо H. С. Гумилева); ИРЛИ, ф. 155 (о назначении пенсии в 3876 А. Я. Панаевой на воспитание дочери). 1894, VI. 12, VII. 5 (прошение А. К. Михайлова-Шеллера и Н. в Лит. фонд об оказании помощи Н. с указанием периодич. изданий, в к-рых она сотрудничала до 1894), ф. 540. 1895, № 360 (прошение Н. 1895 в АН о помощи с указанием своих лит. публикаций в 1889-90) (справка А. Г. Носовой); ф. 15, № 88 (письмо к О. Г. Базанкур); ф. 123, оп. 1, № 632 (письмо Кузмину); № 747 (письмо Б. А. Садовского от 19 нояб. 1914 с рекомендацией для сб. «Петрогр. вечера» В. Ф. Ходасевича); ф. 123, оп. 1, № 898 (письмо А. А. Чеботаревской); РНБ, ф. 2970 (автограф стих. Н.; письма Ю. П. Анненкову. Кузмину (5). Э. П. Юргенсону (6); ф. 774. № 31 (письма А. И. Тинякову); РГИА, ф. 229. оп. 19, д. 1187, 1897–1914 гг. (ф. В. А. Нагродского) (справка В. М. Лупановой).
О. Б. Кушлина при участии А. В. Катковой
Комментарии
Евдокия Аполлоновна Нагродская (1866–1930) принадлежит к тому странному разряду авторов, о которых люди сколько-нибудь начитанные «слышали», однако — не читали. В этом частью сказывается инерция советских времен, когда романы и рассказы Нагродской были исключены из литературы. Заметка о писательнице, опубликованная в 1934 г. в Литературной энциклопедии, буквально истекала ядом: «Типичная выразительница мещанской идеологии начала столетия <…> белоэмигрантка <…> Полная антихудожественность в описании лиц и событий, монотонность изложения, дешевые мелодраматические эффекты, смакование порнографических деталей <…> Ее “творчество” — бульварное чтиво с претензией на разрешение проблемы женской самостоятельности в условиях буржуазно-капиталистического общества». Тридцать четыре года спустя КЛЭ оказалась много сдержанней, отметив в нескольких строках о Нагродской лишь «сексуальные проблемы, проповедь “свободной любви”», «проблему извращений в любви» и «мотивы эротики и садизма, возвеличение войны как очищающего начала» (заимствовав эту фразу из журнальной рецензии 1915 г.).
С подобными аттестациями, конечно, и речи не могло идти о каких-либо переизданиях «белоэмигрантки» и «извращенки» в СССР. Положение изменилось только в 1994 г., когда одновременно в Москве и Петербурге был републикован наиболее известный роман Нагродской Гнев Диониса; в петербургский сборник вошел также роман Белая колоннада и ряд рассказов. Через несколько лет в 4-м томе биографического словаря Русские писатели: 1800–1917 (М., 1999) появилась и обстоятельная статья о Нагродской, написанная О. Б. Кушлиной при участии А. В. Кохановой[22]. Из более новых и, соответственно, не отмеченных в данной статье работ следует упомянуть кандидатскую диссертацию И. Лю Творческая эволюция Е. А. Нагродской в контексте идейно-эстетических исканий 1910-х годов (М., 2014) и монографию И. Лю и М. В. Михайловой Творчество хозяйки «нехорошей квартиры», или Феномен Е. А. Нагродской (М., 2018).
Фантастические — точнее, фантастическо-мистические — рассказы Нагродской до сих пор оставались несобранными и в ряде случаев републикуются впервые; другие были ранее впервые переизданы нами в томах II и X антологии Фантастика Серебряного века (Salamandra P.V.V., 2018). Предлагая этот томик читателям, мы убеждены, что Нагродская (несмотря на ее «бульварную» репутацию) — писательница оригинальная и бесспорно заслуживающая внимания, и разделяем оценки некоторых ее современников, к примеру Г. Иванова: «Писала бойко и отнюдь не бездарно, во всяком случае, головой выше так называемой “средней литературы” из толстых журналов, куда ее не пускали»[23]. Уместно привести и мнение П. Пильского: «С первого же романа ее перо отметилось твердостью, ее неровный, не всегда безукоризненный язык был смел, ее литературные и человеческие тяготения отличались ясностью даже тогда, когда Нагродская влеклась к таинственному»[24].
Два из предлагаемых рассказов, Он и Материнская любовь, занимают весьма достойное место в рамках не слишком развитого русского вампирического текста; в Воспоминаниях неожиданным образом решена традиционная фантастическая тема путешествий в прошлое и мир памяти; многие вещи пронизаны характерным для эпохи Серебряного века мотивом непреодолимого (гипнотического) внушения. Еще два рассказа относятся к распространенному в годы Первой мировой войны поджанру мистическо-агитационной фантастики[25], хотя и в Невесте Анатоля Нагродская остается оригинальной. Мы также включили в подборку рассказы Роковая могила и Романическое приключение, обыгрывающие штампы неоготического хоррора и авантюрно-любовной прозы.
Все вошедшие в книгу произведения публикуются по первоизданиям, откуда взяты и иллюстрации. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.
Сны
Впервые: Петербургские вечера. Кн. 2. (СПб., 1913). Публикуется по авторскому сб. Сны; Сандрильона; Мальчик из цирка; Романическое приключение; Невеста Анатоля; Клуб настоящих (Пг., 1917).
Рассказ посвящен поэту, прозаику, критику, драматургу, композитору и виднейшей литературной фигуре Серебряного века М. А. Кузмину (1872–1936). Кузмин жил в кв. Нагродской на набережной Мойки (которую описал в написанной там же повести Плавающие-путешествующие) с июля 1913 по октябрь 1914 г. и посвятил писательнице роман Тихий страж (1916) и неск. стихотворений, а ее мужу — рассказ Капитанские часы (1913).
Крайне неубедительна трактовка А. М. Грачевой, предлагающей видеть в Снах воплощение «фрейдистской природы сновидений» и толкающего героев друг к другу «скрытого влечения»[26] — напротив, именно сексуально-инцестуальное влечение между ними и опровергается в рассказе.
Он
Публикуется по авторскому сб. Аня; Чистая любовь; Он; За самоваром (СПб., 1911).
Настойчивые попытки И. Лю, М. В. Михайловой и др. увидеть в рассказе Он один из конкретных претекстов Мастера и Маргариты М. А. Булгакова[27] не представляются состоятельными, а отмеченные этими исследователями черты сходства скорее объясняются чрезвычайной насыщенностью романа Булгакова расхожими описаниями и мотивами прозы начала XX в.
Материнская любовь
Впервые: Синий журнал. 1914. № 1. Илл. В. Н-ского.
Воспоминания
Публикуется по: Огонек. 1917. № 32, 20 августа (2 сентября).
Клуб настоящих
Впервые: Биржевые ведомости. 1916.19–28 марта (веч. вып.), с подзаг. «Петроградский рассказ». Публикуется по авторскому сб. Сны; Сандрильона; Мальчик из цирка; Романическое приключение; Невеста Анатоля; Клуб настоящих (Пг., 1917).
Адресат посвящения Е. С. Кругликова (1865–1941) — художница, график, известна своими эстампами и силуэтами.
Галера Петра Великого
Впервые: Синий журнал. 1914. № 40. Илл. Николаевского.
Невеста Анатоля
Впервые: Полон: Литературный сборник (Пг., 1916).
Роковая могила
Публикуется по авторскому сб. У бронзовой двери (Пг., 1914).
Рассказ, пародирующий штампы неоготических «ужасов» (уединенная усадьба, несчастная красавица, роковая могила, призраки и т. п.), в действительности не столь невинен, как может показаться: могила и впрямь оказывается роковой, а в образе героини Лидии Андал И. Лю усматривает карикатурное изображение писательницы Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (1866–1907), жены Вяч. Иванова.
Романическое приключение
Впервые: Петербургские вечера. Кн. 1. (СПб., 1913). Публикуется по авторскому сб. Сны; Сандрильона; Мальчик из цирка; Романическое приключение; Невеста Анатоля; Клуб настоящих (Пг., 1917).
Примечания
1
Земная жизнь моя — звенящий… — Эпиграф взят из. стих. М. А. Лохвицкой (1869–1905) Спящий лебедь, вошедшего в ее кн. Стихотворения. Т. 2:1896–1898 (М., 1898).
(обратно)2
…романе «Ивангое» — Устаревшая транскрипция заглавия романа В. Скотта Айвенго (1819).
(обратно)3
…как у Гамлета… Шекспира сочинения — Ключевая для понимания рассказа отсылка к гамлетовской материи снов («For in that sleep of death what dreams may come / When we have shuffled off this mortal coil» — этим знаменитым вопросом из монолога Гамлета и задается героиня в финале) — и, через упоминание «Шекспира сочинений» — к неназванной «Буре» и не менее знаменитым словам Просперо: «We are such stuff / As dreams are made on, and our little life / Is rounded with a sleep».
(обратно)4
У Гофмана есть рассказ «Стихийный дух» — Имеется в виду рассказ Э. Т. А. Гофмана (1776–1822) «Der Elementargeist» (букв. «Дух-элементаль», 1821); переводился на русский яз. также как «Огненный дух».
(обратно)5
«Avez vous… crayon» — У вас есть перочинный нож? Нет, месье, но у моей сестры имеется карандаш (фр.).
(обратно)6
…«Sale е Tabacchi… Merceria…» — «Табачная лавка»… «Галантерея» (ит.).
(обратно)7
…души Шарко — Душ Шарко — контрастный душ с сильным напором воды; применялся для лечения нервных заболеваний в клинике известного французского невролога Ж.-М. Шарко (1825–1893), однако не был изобретен последним.
(обратно)8
…в рассказе Уэллса — Речь идет о рассказе Г. Уэллса «Человек, который мог творить чудеса» (1898).
(обратно)9
…доктор Окс — персонаж повести Ж. Верна Une fantaisie du Docteur Ox (1872), который освещает городок во Фландрии газом, вызывающим небывалые явления. Повесть переводилась на русский яз. под назв. «Причуда доктора Окса» и «Опыт доктора Окса».
(обратно)10
…шкафик-буль — Буль — стиль мебели с богатой инкрустацией, названный по имени франц. художника и мастера-мебельщика А.-Ш. Буля (1642–1732).
(обратно)11
…Элия — В ориг. изд. встречается написание «Элия» и «Эллия»; нами оставлено первое как более частое.
(обратно)12
…vous êtes plus avancé — здесь: вы продвинулись дальше (фр.).
(обратно)13
Буше — Ф. Буше (1703–1770), блестящий французский художник эпохи рококо, гравер, иллюстратор, декоратор, создатель пасторальных сценок, идиллическо-соблазнительных аллегорий и т. д.
(обратно)14
Я есть то, что я есть… — Исх. 3:14, в неточном русском синодальном пер. «Аз есмь Сущий»; однако здесь скорее намек на 1 Кор. 15:8: «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь».
(обратно)15
…ma chère — моя дорогая (фр.).
(обратно)16
Романическое — Так у автора, т. е. «подобное описываемому в романах». Нет никаких оснований менять на «романтическое» (как сделано в изд. Гнев Диониса, СПб., 1994 и словаре Русские писатели: 1800–1917), поскольку эти определения не синонимичны.
(обратно)17
…style moderne — стиль модерн (фр.).
(обратно)18
…тальер — также тайер (от фр. tailleur), обычно строгий и практичный дамский костюм, состоящий из юбки и жакета.
(обратно)19
…poste restante — до востребования (фр.).
(обратно)20
…Гейнце — Н. Э. Гейнце (1852–1913) — прозаик, журналист, драматург, автор многочисленных исторических и уголовно-бытовых романов.
(обратно)21
Ошибка или опечатка: в указ. номере «Весны» был напечатан рассказ «Сын»; посвященный Кузмину рассказ «Сны» был впервые опубликован во 2-й кн. «Петербургских вечеров» (1913) (А. Ш).
(обратно)22
Приложена к наст. изданию как «Биографический очерк».
(обратно)23
Иванов Г. О Кузмине, поэтессе-хирурге и страдальцах за народ: В «литературных салонах» (Из петербургских впечатлений) // Сегодня (Рига). 1930. 2 февр. С. 4.
(обратно)24
Пильский И. Е. А. Нагродская // Сегодня (Рига). 1930. 21 мая. С. 3.
(обратно)25
См. наши антологии Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны, тт. I–III (Salamandra P.V.V., 2017) и указанную антологию Фантастика Серебряного века, особ. т. XI Машина неизвестного старика (Salamandra P.V.V., 2018).
(обратно)26
Грачева А. Русское ницшеанство и женский роман начала XX века // Slavica Tamperensia II. Tampere, 1994. С. 77–87.
(обратно)27
См.: Лю И. Творческая эволюция Е. А. Нагродской… С. 228; Михайлова М., Бобров С. Читал ли Михаил Булгаков Евдокию Нагродскую? // Новое литературное обозрение. 2016. № 2. С. 209–217.
(обратно)
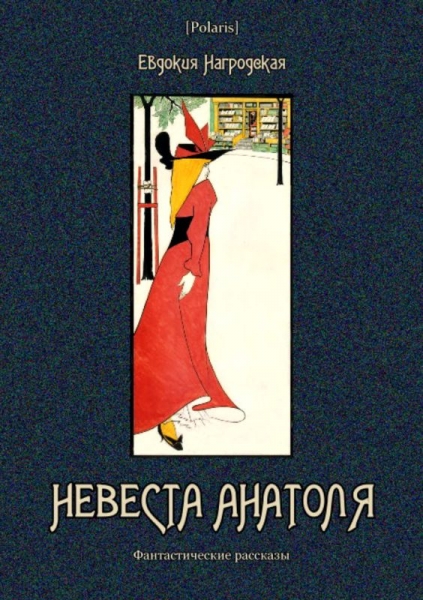


Комментарии к книге «Невеста Анатоля», Евдокия Аполлоновна Нагродская
Всего 0 комментариев