ДВОЙНАЯ СТАРУХА Фантастика Серебряного века Том VIII
Георгий Адамович ВОЛОГОДСКИЙ АНГЕЛ
Илл. М. Рошковского
Тихий город Вологда. Только звон колокольный несется по широким улицам да птицы чирикают. Может быть, там, на соборной площади и ходят люди, извозчики кричат, торговки бранятся, но у палисадника Анны Тимофеевны не слышно, — далеко. Палисадник чистенький, зеленый и на самом краю города. Выйдешь за калитку — тут же и поле в зеленых холмах и дальше темный лес, от которого далеко веет свежестью. В поле и лес все больше и ходила гулять Анна Тимофеевна еще при покойном муже, когда была молода, да и теперь с соседкой Марьей Корниловной Синицыной. Не любили они города. В лесу лучше — птички поют, трава пахнет. И ветерок лесной приятный, пыли не несет.
Соседи вокруг были все старожилы, все друзья, — есть и поговорить о чем, и что вспомнить. Вот только этой весной желтый домик за канавой купила купчиха из Москвы, по фамилии Королькова. Не понравилась она никому в околотке — гордая какая-то и насмешливая, и о прежней жизни ее ходили темные слухи. А Анна Тимофеевна, хоть и не была знакома с Корольковой, имела особые причины быть ею недовольной. Что же, правда, разве можно не очень уже молодой женщине, вдове, юношу неопытного соблазнять?
Алеше было восемнадцать лет. Он никогда еще не покидал родного города, и ему и не представлялось, что где-то, за этими синеглавыми соборами, за серебряной узкой речкой есть еще мир широкий и шумный.
Рос он один, без игр, без друзей, и, правда, мать его и не думала, что придут дни и будет он, как и все другие, вздыхать и томиться по какой-нибудь курносой девице. Да и сам Алеша боялся этих предчувствий. Даже в городе бывал он редко. Только каждую субботу, как запоют колокола, уходил к всенощной и стоял всю службу, не двигаясь, не мигая, перед золотым высоким иконостасом. И утром, когда Анна Тимофеевна еще спала, вставал он к ранней обедне, — только удивлялась его мать, откуда в мальчике этот страх Божий.
Говорила Анна Тимофеевна с сыном мало, — не о чем. Алеша часто уходил с утра за город. Был такой камень в поле, выдолбленный и тяжелый, будто кресло. Тихо стелилась река, тихо плыли облака, — Алеша сидел молча, пока не тускнел над лесом узкий розовый закат.
— Что, Алеша, гулял где?
— Нет, я у речки был.
— Рыбу, что ли, ловил?
— Нет, так.
Иногда ночью слышала Анна Тимофеевна его шепот в соседней комнате. И в щелку она видела, что Алеша стоит на коленях перед иконами и крестится. Растроганная и смущенная, ложилась она опять, — молитва — дело Божье, но всему ведь свое время.
Воспитал Алеша в сердце своем на долгих вечерних стояниях, на этих уединенных мечтаниях печаль и отвращение к нашему бедному миру.
Весной был в Вологде захожий инок из дальней обители. Анна Тимофеевна, как женщина благочестивая, предложила ему кров и пищу, и светлыми северными ночами сидел с ним вдвоем Алеша на крыльце у домика. Инок рассказывал о трудной монастырской жизни. Алеша слушал, вздыхая.
— А купола-то у вас золотые?
— Какие золотые! Так, синенькие.
— А золотые лучше…
Так шли дни. Только в самое последнее время стала Анна Тимофеевна замечать, что Алеша грустит и тревожится. И пропадает целыми часами где-то, и дома ходит, молча, из угла в угол. Что с ним — понять трудно. Пробовала Анна Тимофеевна поговорить с сыном, но ничего не вышло. Он смутился и сказал:
— Нет, мама, это тебе кажется…
Но было ясно, что Алеша томится.
И вот, все открылось.
Раз как-то, когда к вечеру Алеша вышел гулять, Анну Тимофеевну будто толкнул кто пойти за ним. Она побрела под забором в кустах.
Был ясный и нежный вечер.
Алеша дошел до пригорка и остановился, оглядываясь. Через несколько времени показалась женщина в черном платке и густой черной шали на голове, подошла к Алеше и увела за собой. Лицо женщины было закрыто, но по этому черному платью, по медленной, будто разваливающейся походке Анна Тимофеевна узнала Королькову и долго смотрела на удалявшиеся две тени и лес, темневший под ясным и холодным закатом.
Алеша вернулся домой поздно. Анна Тимофеевна все слушала его шаги по скрипучему полу и, наконец, решила зайти к нему.
— Где ты был, Алеша, — у речки?
— Да.
— Пыли-то набралось сколько, что это Дуня смотрит. И лампадки все мигают.
Алеша сидел на кровати в темном углу.
— Алеша, что же ты мне не сказал?
— Что?
— Да вот… Вместе гуляете, встречаетесь, ведь так и рассказывать начнут.
— Ах, это…
— Да… Уж, пожалуйста, ты брось это знакомство.
— Отчего?
— Как отчего? Долго ли до греха… Хорошего мало.
Алеша встал и закрыл лицо руками.
— Я, мама, совсем не знаю, что мне делать.
Ночью Анна Тимофеевна видела, что в комнате сына светло, и слышала слова «Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня», все одно и то же, глухо и беззвучно. На этом она и заснула.
На следующий день вечером Алеша опять ушел, — Анна Тимофеевна и не видела, когда. Уже перед чаем вышла она подышать и, проходя мимо дома Корольковой, заметила, что в щели ставень пробивается свет. Ее и потянуло подсмотреть, дома ли купчиха и что она делает. У ворот залаяла собачонка, но, узнав Анну Тимофеевну, смолкла и завиляла хвостиком. Окна за ставнями были раскрыты.
Королькова, в черном атласном платье, ходила по комнате. Анна Тимофеевна в первый раз и разглядела ее хорошенько. Может быть, она была нарумянена, — слишком уж ярко горели щеки на белом полном лице. Волосы ее сбились, и она, ходя, то и дело поправляла прическу.
Под стеной сидел Алеша и блестящими глазами смотрел на Королькову.
— Что же я, право, вас не понимаю. Вы ведь уже не мальчик, а сами собой не владеете.
— Вы не сердитесь только…
Королькова усмехнулась.
— Мне зачем сердиться? Делайте, что знаете.
Она села с ним рядом, дыша в лицо, и взяла обе руки.
— Ну вот, завтра я уеду, больше вам ничего не скажу, как хотите… У-y, неженка… А любишь?
Алеша поднял глаза.
— Люблю.
— А я не верю… Вот и не верю! Если любишь, поцелуешь…
Вдруг ставня скрипнула и Королькова, подозрительно прищурившись, умолкла.
Анна Тимофеевна испугалась, что ее увидят, и убежала.
Алеша возвратился только к полуночи, хотя свет у Корольковой погас уже давно. Анна Тимофеевна сидела в спальне и вязала.
— Ты уже спать?
— Да, мама.
— Ну, Господь с тобой.
Перекрестив его, она опять села у лампы работать, но мысли тревожные и растерянные так и неслись в ее голове. Что-то будет еще с Алешей?
Уже глубокой ночью, — а она думала, он спит уже, — Алеша опять вошел к ней, очень тихо, будто в забытьи.
Анна Тимофеевна уронила работу.
— Мама, а можно обещание нарушить?..
— Что такое?
— Обещание… Вообще, если дал кому.
— Да, если потаскухе какой, так и Бог велит… Уж и не глядела бы я лучше.
Алеша улыбнулся.
— Ну, спасибо, милая.
Опять до света не спала Анна Тимофеевна, слышала, ходит кто-то по комнатам и тихо, тихо поет духовное. Потом будто и двери открылись, или это к чиновнице Синицыной племянник с архангельского поезда приехал.
Утром Алеши не было дома. Не пришел и к обеду. Уже вечереет, дождь моросит, а Алеши нет. Вдруг догадалась Анна Тимофеевна. Как была, побежала она по грязи через улицу к Корольковой. Ей отворила босая девка и сказала, что госпожа уехала в Москву и когда вернется, неизвестно.
Анна Тимофеевна была в ярости, — ей все стало ясно. Так обмануть ее. Убежать в Москву с этой тварью. Посидела она у себя, прождала еще немного и побежала по соседям рассказывать о своем несчастий.
— Нет, вы подумайте, Мария Корниловна, каково мне. Ведь на первую бабу променял…
Отца Георгия она застала уже отходящим ко сну. Решили ждать возвращения Корольковой, а если ее не будет очень долго, попросить племянника попадьи, служившего в Москве, поискать влюбленных беглецов.
— Хорошо, если в Москве? А они, может, и в Америку заехали.
— Ну зачем же, голубушка, в Америку.
Со днями Анна Тимофеевна успокоилась и свыклась с мыслью об отлучке сына и его любви к развратной бабе. Только ночевать все больше ходила к Синицыной, — одной в пустом доме страшно.
Однажды Синицына прождала до полуночи, выпила уже чай и, решив, что Анна Тимофеевна не придет, закрыла дом и легла, немного обиженная ее невежливостью.
На рассвете ее разбудил стук в ставни. Сначала ленилась встать, но ей послышался голос Анны Тимофеевны. Тогда она поднялась и, вздыхая, раскрыла ставни.
— Матушка моя! Да что с вами?
Анна Тимофеевна, бледная, с будто выкатившимися глазами, стояла перед окном в грязном и мокром платье, с листьями в волосах.
Синицына, правда, испугалась.
— А…леша.
— Что такое?
Анна Тимофеевна вдруг молча села на землю.
Синицына разбудила девку, побежала к фельдшеру, — Анну Тимофеевну внесли в дом и уложили в постель. Она все молчала.
— Ах, какой ужас… Ах, чаю горячего скорей.
Синицына разнервничалась и решила, что Анна Тимофеевна умирает…
Но Анна Тимофеевна чаю пить не стала, но вдруг поднялась на кровати и сказала:
— Пожалуйста, позовите отца Георгия.
— Вот, вот… я и сама думала… Сейчас пошлю.
Пришел священник, взволнованный, со Святыми Дарами.
— Что с вами, Анна Тимофеевна?.. Приобщиться, может быть, желаете?
Анна Тимофеевна опять бессильно упала на подушки.
— Ах, нет, батюшка… Я вам должна рассказать… Вот, я говорила вам, что Алеша… сынок мой… пропал… с барыней этой уехал. А нет… Алеша не уехал с ней… Нет.
Она замолчала.
— А что, весточку получили?
— Нет, батюшка… Какая весточка! Вот… Пошла я вчера в лес… за поляну, думала грибов набрать… для сушки, самое время теперь, грибов много. Пошла… Погода тихая, ветерок дует… Перешла поле, да в лес пошла… Все не вижу грибов… Так, попадались, конечно, только больше грузди или опенки… Я и иду все глубже да глубже… там, знаете, батюшка, у Кириллова родника грибы всегда… Уже и темнеть стало… Может, и заблудилась я, не знаю. Иду тропинкой, тихо, только сучья да листья хрустят под ногами. И вдруг слышу голос, да ясно так и близко:
— Мама…
Я и остановилась… Что такое? Вокруг никого… И такая тишина, батюшка, сделалась, даже птицы умолкли. Ну, думаю, показалось… Иду дальше. Прошла несколько шагов и опять слышу… уже как будто дальше немного, впереди:
— Мама…
Так ясно и голос такой звонкий, — как же обмануться? Я испугалась-то и не знаю, что мне: назад бежать или спрятаться… Стою да крестное знамение и сотворила… Уже и темно совсем, деревья густые. И вдруг вижу, в чаще меж кустов светлеет будто, а голос и был оттуда. Свет белый такой, как снегом засыпанный. Сделала я шаг или два… и вижу… стоит на мху мой Алеша, руки на груди сложил и мне улыбается. Светло так вокруг него. А я и не знаю, как, и не удивилась совсем, смотрю на него и говорю:
— Алеша, а ты что здесь?
Вот как во сне. Он ничего не ответил, только пошел от меня, да будто и не по траве, а по воздуху, тихо, даже ногами не ступает совсем. И я тоже пошла за ним.
— Подожди, — говорю, — Алеша, пойдем вместе.
А он будто и не слышит, все дальше идет. Я хочу догнать его и никак не могу.
— Куда же, Алеша, — говорю, — ты ведешь меня?
А он молчит. Так шли мы, шли, я и не знаю сколько, и все светлей и светлей становится. Наконец, вижу я — полянка, маленькая такая, травкой покрыта, а посредине часовня деревянная. Алеша прямо и прошел туда, а меня словно кто держит, не могу.
Сел Алеша на ступеньке, взглянул на меня и поклонился. А я тоже вдруг стала на колени и кланяюсь и все не понимаю, батюшка, где я. Алеша тут ручки поднял, да в колокол на часовенке и ударил. Динь-бом, динь-бом. Колокол тонкий такой, а на весь лес будто слышно. И вот, батюшка, вдруг все сосны да дубы закачались так тихо и мерно, динь-бом, динь-бом звенит все, и лес весь светится. Даже в траве будто звон идет. Трава ведь в лесу нашем глубокая. И смотрю я, бегут из лесу звери разные, пушистые, темные, я таких и не видывала, и все к часовне, да медведь вдруг совсем около меня вышел, я вскрикнула со страху, вот, больше ничего и не помню. Будто потонуло все.
Ничего и не знаю, что со мной было. А только вот утром проснулась я и вижу, что лежу в лесу, на траве. Все березы вокруг. Светло так, тихо, а на душе у меня грустно и сладко. Встала я, оглянулась и вижу, батюшка, вижу, сидит под березкой мой Алеша в белой рубашечке чистой, перед Пасхой только сшила ему. Сухой такой, бледный, как воск, и ручками на груди крестик резной сжимает. Я к нему кинулась и гляжу, батюшка, он уже окоченел, высох весь будто, руки — так одни косточки. А глаза открыты и смотрят на меня. Я крикнула:
— Алеша! Алеша!
А он молчит. И вдруг такой на меня страх напал, бросилась я бежать, на знаю, как и добежала. Вот, батюшка…
Отец Георгий покачал головой.
— Странно что-то, голубушка…
— Вы поезжайте туда, батюшка, у Кириллина колодца, взгляните.
— Да я поеду.
Под вечер к домику Анны Тимофеевны привезли на телеге холодное и сухое, слегка позеленевшее тело Алеши.
Георгий Адамович МАРИЯ-АНТУАНЕТТА Петроградский рассказ
1
Дом Воробьевы купили небольшой, но теплый и приветливый. Он только прошлым летом был выстроен на новом участке и еще весело желтел палисадник, еще не окружили его со всех сторон соседские сараи и кухни. И с городом сообщение было удобное — на трамвае полчаса езды, не более. В городе жить хуже, да и квартиры не найти, а в Сосновке тишина и воздух будто деревенский. Приятно чувство, что все свое: этот балкон с широкой парусиной и круглые клумбы. Пахнет сыростью земля, и деревья, еще золотые и живые, качаются на ветерке. За садом переулок и поле, кочковатое и пустое. Когда все заметет снегом, будет еще лучше и тише.
По вечерам спускали на окнах только что повешенные портьеры и зажигали камин.
Трещали доски от ящиков, кольцами свертывались стружки, и все были довольны, что всю зиму проведут «на даче». Марья Константиновна даже решила журналы выписать. Она и теперь уже внимательно, как никогда, прочитывала всю газету — и хронику, и о причинах падения рубля, а потом ведь, в декабре, вечера все длиннее будут. И никуда не поедешь из такой дали, ни в гости, ни в театр.
Только Лена грустила, что жениху ее надо будет вечерами рано уезжать, иначе на трамвай опоздает. Но зато она ходила его встречать в половине восьмого к остановке, на площадь, и затем они в темноте, по тонким тропинкам, шли домой и из шалости стучали иногда зонтиком в чужие окна.
Леонид Николаевич прижимал ее к себе.
— Милая, вы не простудитесь? Как у вас хорошо здесь… Мы тоже так будем жить, да?
— Да… Хорошо, только страшно немного.
Он смеялся и, сняв пенсне, слепыми глазами смотрел на нее. Лена знала, что он любит, чтобы она была беспомощная и пугливая, как ребенок.
Но по ночам, когда в саду скрипели на ветру ворота или слышался глухой чей-нибудь голос, Лена, правда, боялась. Каждый день случаются грабежи и убийства, могут и к ним забраться. Здесь такая глушь, даже городового нет.
Только старый Воробьев сердился, когда говорили о ворах. В глубине души, он считал даже неуважением к чину статского советника мысль о возможности грабежа у него. Это было бы слишком дерзко, и на такое дело не всякий решится. Он лениво зевал и говорил:
— Глупости! Эти господа знают, где деньгами пахнет… К нам не пойдут, незачем.
Незачем, конечно, а все-таки страшно. Лена с матерью вечером тайком осматривали сад и крепко, на два замка, затворяли двери и ворота. И когда, за низкими ставнями, вдруг тревожно и хрипло лаяла собака, Лена с тоской вспоминала о пятом этаже на Можайской. Туда уж, если следить за дверьми, никто не заберется, и живешь, как в крепости. А здесь, эти деревья и пустое поле тревожат и пугают. Теперь так рано темнеет, и, кажется, за каждым кустом спрятался разбойник.
Конечно, страхи были легкие и шутливые. Но вскоре стали замечать, что, действительно, вокруг дома происходит что-то странное.
Первой оказалась кухарка. Она уверяла, что ясно видела, как под забором пробежал какой-то человек, и когда она окликнула его, он исчез. Марья Константиновна не обратила даже внимания на ее рассказ, — мало ли людей бегает под заборами? Но как-то к вечеру, возвращаясь домой, она ошиблась тропинкой и, проходя мимо чахлой рощи, вдруг где-то совсем близко услышала торопливый шепот.
— Ты здесь? Ты?..
Потом вспыхнул бледный огонь, и все смолкло.
Марья Константиновна вернулась встревоженная и рассказала мужу, что она видела. Решили известить околоточного, пусть он выяснит, что это за люди и огонь. Может быть, шпионы?
Воробьев не верил и пожимал плечами.
— Пустяки. Вы обе всего боитесь.
На ночь особенно старательно обошли сад. Леонид Николаевич, уезжая, решил пошутить и сказал:
— Тут вчера… дачу обокрали. Хозяина убили, кажется.
Лена чуть побледнела и коротко засмеялась.
Но на следующий день жених приехал раньше, чем всегда, и, будто за сигарой, пошел в кабинет к Воробьеву.
— Знаете, я, правда, удивляюсь… Это странно. Я вчера нарочно пошел той дорогой, что говорила Марья Константиновна. И под деревом, у ручейка… знаете?.. я увидел две тени. Теперь ведь лунные ночи, ясно видно… Женщина какая-то была… Они меня заметили и отошли… Это, конечно, не страшно, но все-таки… я думаю, тут притон какой-нибудь… Вы обратите внимание!..
Но дни проходили, и никто не приходил грабить зеленый домик, никто не забирался в сад. Даже забытое как-то на балконе осеннее пальто Марьи Константиновны пролежало всю ночь, и никто его не утащил.
Лена привыкла к пустым и грязным улицам и пустому полю. Возвращаясь из города, она надевала крепкие старые сапоги и шла гулять. Совсем выцвело небо с высокими сонными облаками. Дальние трубы и лес терялись в голубом тумане. Уже по утрам лежал на домах и на мятой траве снег, и потом капало с крыш, — будто и весна. Только воздух был острый и жесткий, — уже не весенний.
2
Лена шла и думала, — сама не знала о чем. Ей было хорошо и весело. К Новому году будет свадьба, в спальню надо будет обои, белые, с веночками наверху. Мама даст зеленую мебель. Леонид сказал вчера: «Я знаю, что это навсегда…» Что? Любовь? Странно, это — только боль какая-то и тревога. Ни минуты спокойной. Этот лесок и дом совсем, как в Парголове, только там колокольня налево и вокзал.
За низкими кустами лежало упавшее дерево. Маленькая серая птица прыгала по стволу и весело чирикала. Лена села на дерево и смотрела, как поднимается, тихо и прямо, дым из труб.
Сзади хрустнули сучья. Она обернулась.
Высокий господин в пальто с поднятым воротником и мягкой шляпе стоял и пристально смотрел на нее. Лена встала и, слегка испугавшись, хотела идти к дому.
Господин приподнял шляпу.
— Вы гуляете… здесь?
— Да…
Она покраснела и не хотела выдать испуга. Только с тоской оглянулась, — никого вокруг, лес и поле.
— А вы живете здесь? Простите… я вас испугал, кажется?
— Нет, отчего же…
Она взглянула на господина и вдруг рассмеялась. Как глупо, чего бояться, — он тоже гуляет. И такой вежливый.
— Знаете, здесь вообще страшно… не сейчас, конечно… Но вообще, говорят, какие-то люди бродят по ночам.
Господин слабо усмехнулся.
— Где? Я не знаю?
— Здесь, как раз… и дальше, в поле.
Лена подняла голову и концом зонтика сбивала редкие желтые листья.
— Подождите… вы не видите?.. сейчас… за вами… вы видите?
Она смотрела на кусты и слегка попятилась.
Там, в ветвях, в уже сгущающихся сумерках, вдруг вспыхнул мутный зеленоватый огонек.
Господин обернулся и покачал головой.
— Нет, вам показалось.
— Может быть… Я пойду домой. Как холодно сегодня.
Она сделала несколько шагов и опять остановилась.
— Смотрите, что это? Что?
Из-за кустов, будто из-под земли, показался человек, закутанный в плащ, и, увидев говоривших, исчез. Господин постоял минуту, будто в недоумении, и потом пошел к Лене.
— Я… ничего не видел.
Он тихо взял ее за руку.
— Я не знаю… человек какой-то… Я видела.
Она вздрогнула и хотела идти, но почувствовала, что незнакомец твердо держит ее руку в своих холодных пальцах.
— Что вы? Оставьте… Я пойду домой.
Он улыбнулся.
— Да? Подождите. Какой сегодня ясный и прозрачный день. Вы видите звезду над лесом? Скоро будет темно.
— Я не понимаю… Вы с ума сошли… оставьте мою руку. Он вдруг бережно обнял Лену за плечи и наклонился к ней.
— Не надо… Я не сделаю вам зла… А вас здесь все равно никто не услышит… Вы не бойтесь, я не разбойник.
Лена тихо заплакала.
3
Незнакомец медленно и твердо вел ее к кустам. У Лены не было силы сопротивляться, и она шла, покорно и растерянно, догадываясь, что сейчас, наверно, ее убьют. Как все странно, — все прошлое пролетает, — Москва, детство, золотое пенсне у Леонида Николаевича.
Под грудами веток и щебня было в земле широкое отверстие, будто вход в погреб или большую нору. Незнакомец взглянул на Лену и улыбнулся.
— Войдите… Это не страшно, правда.
И все не выпуская ее вздрагивающей руки, он потащил ее за собой. Она пронзительно закричала, но никто не ответил.
Сразу стало совсем темно. Лена поняла, что это она умерла уже, или все только снится ей. И по старой, еще институтской привычке она ущипнула себя, чтобы проснуться. Но ничего не изменилось. Она чувствовала под ногами твердую и гладкую почву, будто каменный пол. Пахло сыростью и гнилью. Она протянула свободную руку и поняла, что идет по узкому коридору, и стены, кажется, выложены кирпичом.
— Где мы?
— Ничего… Не бойтесь.
И голос был уже не такой, как прежде, а ласковый и мягкий. Ей все стало все равно. Только бы скорей, скорей.
Коридор все спускался, и, наконец, Лена и ее спутник остановились перед какой-то стеной.
Лена услышала несколько сложных ударов по деревянной двери, это — ее похититель подал какой-то знак. Дверь открылась и стало светло.
Низкий сводчатый зал был весь затянут зеленым сукном. По стенам горели восковые свечи, и в тишине пламя их стояло, как застывшее.
Узкие пустые диваны под стенами казались покрытыми старой и въевшейся пылью. У дверей сидел старик в черном глухом сюртуке и шарфе вокруг шеи.
Господин, приведший Лену, тихо сказал ему несколько слов и ушел обратно. Сторож добродушно и просто посмотрел на Лену.
— Пожалуйте, сударыня…
Лена стояла, прислонясь к стене, и хотела еще спросить старика, где она, но тяжелый и густой воздух подземелья, запах цветов и дыма одурманили ее. Она с тихим вздохом упала на диван и только успела сказать:
— Спасите меня… я умираю.
4
Комната была маленькая и душная. У покрытого ковром низкого дивана стоял бронзовый кувшин с водой. В углу горела свеча.
Лена лежала несколько секунд без движения.
Потом она испуганно вскочила.
— Что вы? Вы должны быть спокойной.
Она обернулась. В полутемном углу сидел человек странно и причудливо одетый, с золотом на груди и на руках. Он тихо покачал головой и опять сказал:
— Вы должны быть спокойной. Здесь есть вода. Может быть, вы голодны?
Лена все молчала. Она узнала в покрытом золотом человеке того господина, которого встретила там, в роще, у гнилого пня, и который привел ее сюда.
— Вам никто не сделает зла. Я уйду теперь и оставлю вас. Позовите меня, если вам это будет надо. Меня зовут Альберт.
Он вышел и закрыл дверь.
Тогда началась для Лены томительная и грустная жизнь. Она лежала на ковре часами, днями и не знала, утро теперь или вечер. Она вспоминала, что ее, наверно, ищут по городу, Леонид Николаевич волнуется и недоумевает.
И, повернувшись к стене, она плакала от бессилия и отчаяния. Лена ничего не понимала, что с ней случилось. К ней входили люди, приносили пищу, странные кушанья на бронзовых блюдах — приносили воду, меняли свечи. Она их спрашивала, кто они и откуда, и ей отвечали короткими и простыми словами. Но Лена их не понимала. Иногда она слышала за стеной голоса веселые и возбужденные, иногда долетал смех и вскрики. Где- то очень далеко и глухо пели, и звенела легкая, нежная музыка. Лена засыпала, и ей снилось, что она дома и это у них танцуют. И какой смешной Леонид Николаевич, все не то делает, и руки у него висят беспомощно. Что? Нет, я не могу. Что?
— Вы не должны бояться.
Она открывала глаза. На темном диване сидел Альберт. Он редко приходил к ней, иногда в те часы, которые она считала ночью или еще глубоким утром. Его посещения были единственной отрадой для Лены, и когда он входил в низкую комнатку, Лене казалось, что сейчас он спасет ее и уведет опять в зеленую рощу, где чирикают воробьи и белеют далекие городские трубы.
Но Альберт только пристально и грустно смотрел на нее и говорил мало. Лишь один раз он пришел оживленный и будто усталый.
— Какая вы молодая… Вы были счастливы?
— Я не понимаю… Зачем вы меня держите?
Он сел и взял ее руку.
— Скоро все кончится. Скоро! У нас такие законы. Вы не понимаете, где вы? Все просто, совсем просто… Мы живем здесь всегда.
— Но… это подземелье какое-то?
— Под Петербургом люди живут очень давно. Это началось еще при Павле.
Альберт замолчал и скоро ушел. Через несколько часов он вернулся.
— Вам скучно? Вы ведь только четыре дня у нас.
Она робко спросила:
— А что будет… после?
Альберт будто не слышал ее.
— Никто не знает, что мы живем здесь… А этот дворец так давно устроен. Здесь так спокойно и так хорошо. Знаете, мы бываем… там, в городе, но живем здесь. Только раньше мы были вдалеке. Теперь город растет, все ближе. Это очень плохо.
Он помолчал. И вдруг встал.
— Как вы могли жить там? Этот шум… телефоны, извозчики… эта ваша грязь, и кривые вывески!.. Вам нравится, да? А я смеюсь… и я презираю. Здесь столько золота, что мы могли бы залить им весь мир… Золото! Оно нам не нужно, но оно останется у нас. Лучше все разрушить… уничтожить, чем отдать.
Сто лет мы строили этот дворец, но разве теперь есть где-нибудь такая красота? О, они скажут — свобода и равенство — и братство, кажется? Знаете… с дней этого безумия в Париже… с дней Бастилии только мы помним, как надо жить… А другие? Что на вас надето, посмотрите, посмотрите, — он все еще зло и сухо смеялся и тянул Лену за рукав, — тряпки какие-то, вороньи перья? Бедная, какая вы бедная были… Вы думаете, это была жизнь? Вы, верно, стучали на машинке, или были классной дамой, да, да? И ходили обедать в кухмистерскую за полтинник, с чаем?
Лена покраснела.
— Я хотела поступить в кредитное общество.
— Да, — Альберт закрыл лицо руками, — этого ничем не удержать. Идите, идите в кредитное общество. Какая вы молодая. Вы очень красивая… Вы останетесь у нас, правда? Отсюда не возвращаются. У нас хорошо… Мне вас жаль… Я не имею права освободить вас, но мы пойдем… на прием к королеве. Хотите?
— К королеве?
— К Марии-Антуанетте… Да, вы думали, она умерла? Да… тогда в Париже? Encore un moment monsieur le bourreau[1]. Xa-xa… королева здесь…. она всегда с нами.
Лена растерянно смотрела на говорившего. У него горели глаза и худые руки судорожно мяли бархатные портьеры.
5
Лена одевалась при тусклом свете свечи и в зеркало смотрела на бледные свои плечи, так страшно выступившие из серебряных кружев и парчи. Ей только что принесли эти платья. Лена не знала, зачем ей камни и серебро, но ей нравился наряд, и она с тревогой и радостной дрожью оглядывала себя.
За стеной постучали.
— Вы готовы?
— Да.
В дверях стоял Альберт в черном глухом плаще. Он молча смотрел на Лену.
— Вы любите розы? Я принес вам цветы. Возьмите их.
Он подал ей два длинных стебля и легкий черный плащ.
— Пойдем. Не бойтесь и верьте мне.
Лена закрылась плащом и вышла из комнаты. Ее охватил сырой и пронизывающий холод. Она была совсем слабая от тревоги и долгого заключения и, шатаясь, нашла руку Альберта.
Они пошли сначала узким коридором, где далеко одна от другой горели свечи, и в промежутках было совсем темно. Иногда они встречали людей, которые молча кланялись им. Потом поднялись по лестнице и снова спустились. За лестницей чернело пустое пространство, как пещера, и оттуда веяло холодом и журчал ручеек. Далеко во тьме горел, как звезда, высокий зеленый огонь и отражался в быстрой воде. Лена вспомнила, что в «Луна-парке» она видела такой грот и каталась по узким каналам с Леонидом Николаевичем. Но ее уже не тронуло и не взволновало воспоминание.
Узкий мост вел через ущелье во вторую часть подземелья. Он будто висел в воздухе, легкий и весь белый. Высоко на плоских бронзовых кругах горели свечи.
В тишине, над свечами и темными потолками вдруг глухо что-то зазвенело. Лена вздрогнула.
— Это… трамвай?.. Да?
— Я не знаю… Не вспоминайте, не думайте… Вы слышите музыку?
— Да. Как здесь тихо и страшно…
Альберт слегка сжал ее руку. Она улыбнулась.
— Вас найдут здесь… когда-нибудь.
— Может быть… Я думаю, это последние годы. Но мы готовы всегда… и все.
— Как?
Альберт закрыл глаза и ничего не ответил. Они вошли в сводчатый зал, такой же, как первый, который видела Лена, и здесь оставили плащи. Потом перед ними раздвинули высокий зеленый занавес.
Лена и Альберт проходили по странным и сияющим залам, где на диванах сидели и лежали на полу люди в тяжелой парче и в шелку. С потолков спускались золотые, как кружево, люстры с тихими желтыми свечами. Иногда скрывались, будто за упавшими стенами, пустые дали и там снова лестницы, огни и люди. Где-то пели и иногда слабо вскрикивали.
В розовом, с прозрачными и светлыми стенами, зале лежали глубокие ковры и стояло несколько столов, покрытых золотом и розами. За столами были мужчины и дамы, веселые, в падающих с плеч и груди одеждах и сияющих камнях. У огня кружились, тихо и нежно танцуя, совсем голые люди.
Лена видела стол, и золото на нем, и розы и не помнила, как она очутилась среди гостей, и рядом кто-то наклонился к ней, лил ей в стакан холодное, горькое вино. Она слышала смех вокруг и пение, и совсем близко ласковый и задыхающийся шепот.
— Вы рады? Вы останетесь?
Альберт держал ее слабые руки и целовал медленно и тяжело. Воздух был дымный и жаркий, далекие стены и люди казались совсем туманными. На диване, за гобеленом тонкий юноша целовал даму, ее голые плечи и грудь. Танцующие, тихо кружась, приближались к столу.
Из широкой двери вошла в зал женщина. Она не казалась очень молодой, но ее чуть увядающая красота была пленительна до крайности. Она вся была завернута в серебро и на лбу горел большой зеленый камень.
Женщина улыбалась, говорила что-то и высоко держала руки, которые целовали обступавшие ее кавалеры. Потом она подошла к столу и, будто изнемогая от смеха, упала на широкую спинку кресла.
Альберт встал.
— Королева…
— Что?
— Королева Мария-Антуанетта. Она прекрасна, правда? Вы счастливы, Елена?.. Вы рады?
Лена уже ничего не понимала. Ее отуманили этот блеск и веселье, ей было сладко и хорошо.
Кто-то целует ее плечи, дышит тяжело и жарко. И слова — разве раньше с ней говорили так?
Какая счастливая королева, какая она красивая. Это принц, верно, бледный и влюбленный, — он лег у ее ног и целует их. У королевы зубы блестят, как алмазы.
— Вы любите меня, Елена?
— Мне хорошо… да…
— Пейте вино… Это последние годы… последние дни… Мы будем счастливы, да?
Он низко наклонился к ней и смотрел в ее закрытые помутневшие глаза.
Вдалеке все расступились. Поднялся занавес. Потом зажегся беловатый огонь. Кто-то сказал:
— Рождение Венеры из пены!
И вдруг, среди этих вскриков и смеха, заглушая музыку, голоса, и стоны, раздался длинный, тревожный и пронзительный свист оттуда, из-за моста, с другой стороны подземелья. Поднялся короткий, судорожный крик, и потом все смолкло. Только свист еще летел по тихим залам, трепеща и падая.
Тогда произошло что-то жалкое и страшное: люди метались и падали, некоторые бились на полу, крича и плача, другие стояли безмолвно, с потухшими, остановившимися глазами. Бегали из одного зала в другой и гасили свечи. Кто-то кричал, повелительно и гневно:
— Своды, своды!..
Но голос терялся в рыданиях и стонах.
— Спасите королеву!
Лена все лежала на низком своем кресле и не понимала, что произошло. Она чувствовала только, что все гибнет и что кто-то целует ее, держит и обнимает.
— Ты любишь меня… да?
Она прошептала:
— Спасите меня… Альберт, спасите меня.
И тогда сильные руки подхватили ее и понесли через толпу и валявшиеся на полу тела. Последнее, что видела Лена, — это была королева Мария-Антуанетта. Она стояла, высоко вскинув тонкие руки, посреди лежащих у ее ног, стонущих и молящих людей. Лене показалось, что вокруг шеи королевы обвилась тонкая кровавая полоса. Может быть, это рубиновое ожерелье сияло еще при оставшихся трех свечах. Потом все погасло, и раздался оглушительный и страшный грохот.
6
По городу ходили странные и смутные слухи о подземелье, найденном в Лесном. Предполагали, что там укрывался какой-нибудь тайный союз, революционный или немецкий. Наверно, его целью было взорвать Петроград. Другие уверяли, что когда полиция вошла в первый коридор, то еще ясно слышалось пение и звон колоколов. И только потом все было залито спущенной откуда-то водой и погребено под упавшими сводами.
Мечтатели и восторженные вспоминали римские катакомбы, думая, что и в Лесном подземелье обитали святые отшельники. Но определенного ничего не знали. Уже начали производить раскопки, и в грудах земли и камня находили — то золотой подсвечник, то кусок золота. Находили трупы и почерневшие тяжелые ткани. Но только в передних частях подземелья можно было рыть и искать. Далее оно уходило под город, под дома и улицы, где раскопки были немыслимы.
У Воробьевых после нескольких дней тревог и отчаяния была радость. Ранним утром дворник с какой-то отдаленной улицы привез на извозчике Лену. Она была в крови, в каком-то грязном и оборванном платье с камнями и ржавым золотом. Лена молчала и вздрагивала. Но она была жива и, кажется, даже здорова. Марья Константиновна, еще ничего не спрашивая и не узнавая, рыдая, обнимала ее. Дворник, привезший Лену, сказал, что ее нашли на окраине, у старого забора, лежавшей без памяти. Через несколько часов только она с трудом могла назвать улицу и дом, куда отвезли ее.
Лену вымыли и переодели. Кровь на лице оказалась легкой царапиной. Воробьевы бессвязно, радостно и растерянно расспрашивали, где она пропадала и что с ней было. Вызвали по телефону Леонида Николаевича.
Но Лена будто окаменела. Она молчала и смотрела тупыми глазами на окружающих. Она будто не слышала вопросов и слез и изредка только вздыхала и бормотала что-то. Марья Константиновна решила, что это — нервное потрясение. Иначе и быть не могло, — Бог знает ведь, где она пропадала. Лену уложили в постель и позвали доктора. Но доктор сказал, что болезни нет никакой, есть, впрочем, глухие хрипы в правом легком, но это — остаток прошлогодней инфлуэнцы и не связан, вероятно, с общим состоянием барышни.
Леонид Николаевич волновался больше всех. Он не отходил от постели Лены, просил всех уйти из комнаты, пробовал говорить с ней то нежно и тихо, то сердито. Но ничего не помогало. Лена лежала, повернувшись к стене. Раз только она приподнялась и сухо проговорила:
— Оставьте! Не все ли вам равно?!
Наконец Леониду Николаевичу пришла в голову мысль. Он смотрел на странное платье, в котором привезли Лену, грязное и порванное, но со следами роскоши, на Лену, вспомнил о подземелье, о глухих слухах, что все более и более волновали и захватывали город. Тогда он отозвал в самую отдаленную комнату обоих Воробьевых и закрыл двери.
— Я понял… все. Странно, мы не знали, что она принадлежала… к этой организации. Другого ничего быть не может. Но надо молчать… теперь надо молчать. Иначе мы ее погубим. Ведь вы знаете, там нашли… порох… и бумаги какие-то.
Марья Константиновна побледнела и без сил упала в кресло. Догадка Леонида Николаевича показалась ей так беспощадно ясной. Ведь Лена всегда была скрытной и увлекающейся.
Лену, наконец, оставили в покое. К вечеру она встала и пила чай со всеми, за круглым столом. Марья Константиновна смотрела на нее боязливо и вопросительно, старый Воробьев сердито пожимал плечами и ворчал. Лена слабо улыбалась, слушая рассказы и новости Леонида Николаевича. Он нарочно шумел, чтобы все было, как всегда.
Совсем рано, не допив чаю, Лена простилась и ушла к себе.
— Я так устала.
На следующий день было то же самое. Лена говорила только необходимое, здоровалась, отвечала, но было ясно, что мысли ее и воспоминания далеки. После обеда она ушла и вернулась к вечеру. Марья Константиновна робко спросила, где она была.
— Там. Мне надо было…
Так тянулись дни. Лена уходила из дому и бродила по городу. Она жадно ловила все, что слышала о подземелье, читала короткие и неясные заметки в газетах, подслушивала в трамваях. Она ходила к той роще, где встретила когда-то Альберта, но стражники остановили ее и не пустили ко входу в пещеру.
То, что так недавно еще казалось Лене милым и родным — грязь, вывески, шум, кривые шляпы и каблуки, — все теперь возмущало и томило ее. Она вспоминала Альберта, его слова и гнев, и думала его мыслями. Она закрывала глаза и видела розовые светлые стены, цветы, огни, и будто опять пила горькое вино, и опять кто-то целовал ее.
7
Из окна трамвая Лена узнала вдруг эту наклоненную, седеющую голову и поднятый воротник. Она заметалась и выбежала на площадку. Но трамвай летел и спрыгнуть было нельзя. Лена видела, как седой господин вошел в подъезд невысокого красного дома.
Она бежала по улице, толкая прохожих, и останавливалась, задыхаясь. В подъезде уже никого не было. Лена крикнула швейцара, но не дозвалась его. Может быть, и не было в доме швейцара. Стояли чахлые пыльные растения. Первая дверь — акционерное общество Варт. Нет, надо подняться выше. Лестница была старая, с высокими и тяжелыми ступенями. На порыжелой клеенке висела приколотая кнопкой визитная карточка: «Анна Степановна Пирожкова».
Лена постояла несколько мгновений в раздумьи, потом позвонила. Дверь сейчас же открылась. В маленькой передней, со шкафами и ситцевой занавеской, стоял еще в пальто Альберт.
Лена вскрикнула. Он будто совсем не удивился и наклонился к ней.
— Тише, тише!..
— Вы живы? Боже. Я ведь не знала… ничего.
Альберт опять, как тогда в роще, взял ее за руку. Они вошли в комнату с кривыми и плоскими тюлевыми гардинами.
— Зачем вы пришли сюда? Вы виноваты… Вы напрасно искали меня.
— Как?
Он не оборачиваясь подошел к окну.
— Я вас унес… тогда, помните?.. но я не мог вернуться. Все было кончено. И королева… ее тоже спасли. Это принц Луи. Зачем?.. Я не понимаю.
— А там… все погибло?
Альберт, не отвечая, покачал головой. Из-за стены послышался тонкий и капризный голос.
— Зачем вы ушли? Где вы?
Альберт растерянно поднял руки и исчез за дверьми. Лена слышала его ласковый и уговаривающий голос и чьи-то слезы и вздохи. Она тихо подкралась к двери и заглянула в соседнюю комнату.
На шаткой железной кровати сидела в теплом платке женщина. Прекрасное и бледное лицо ее было заплакано и чуть вспухло. Белокурые волосы сбились и висели на лбу.
Она заметила Лену и порывисто встала.
— Вы ко мне? Вы меня знаете?
Это была бледная королева Мария-Антуанетта.
Альберт бросился к Лене.
— Уйдите! Мари, успокойтесь… Вы мне верите? Мари…
Он почти со злобой толкнул Лену и через несколько секунд вышел к ней.
— Она больна… Она все ждет и плачет. Зачем ее спасли? Только скоро все кончится.
Лена торопливо простилась. Он чуть задержался в дверях.
— Простите. Мне теперь уж все, все равно. Но я должен жить, пока живет… она.
Лена вдруг заметила, что он совсем старый.
Она вернулась домой возбужденная и как-то неестественно веселая. Теперь Лена уже не молчала, но вдруг беспричинно и судорожно смеялась, рассказывала что-то и сердилась. Лишь по ночам иногда, во сне, она плакала и звала. Прибегала Марья Константиновна, будила ее. Лена вскакивала и испуганно оглядывалась.
— Нет, ничего, ничего… Какой шум, какой шум!
Леонид Николаевич решил, что ее надо развлечь. Надо уехать куда-нибудь, надо ходить в театр. Раньше ведь Лена хоть в городе бывала, а теперь она даже и в окно не смотрит, и все худеет и чахнет.
В. Шелговская ЗЕРКАЛО В ЧЕРНОЙ РАМЕ
Илл. С. Спирина
Воистину, святая Церковь весьма справедливо порицает тех, кто смотрит в зеркало слишком часто, ибо сказано в писании: «Не искушай Господа Бога твоего всуе»[2], человек же сотворен по образу и подобию Божию. И еще таится в этом иная, более зловещая опасность.
Ибо отражение есть тело души, душа же, подобно женщине, — великая нарядница и, как дама-щеголиха, тщится украсить себя многими платьями и различными прическами, так и душа любит видеть себя воплощенной в другие формы и другие оболочки, чем та, в которой она временно обитает. И, по легкой и текучей природе своей, она ищет сосудов, которые могла бы собою наполнить, и, найдя, заполняет их с великой охотой.
И, как ребенок, ускользнувший от присмотра няньки, забирается то в голубятню, то в дальний овраг, то к речке лесной, так и душа неразумная стремится забегать в различные тела и различные вещи, но более всего в предметы блестящие, обладающие свойством отражения. И таковыми являются наичаще зеркала, поверхность вод, глаза человека.
И здесь кроется ключ и разгадка тайны, которая от века смущала сердца и умы людей и которая называется любовью. Ибо вот корень и основание любви.
Проникнув случайно в чужое тело, душа наполняет его собственной сущностью и начинает влечься к этому телу, подобно тому, как катушка тянется за сматывающейся с нее ниткой, или же подобно тому, как разлившаяся вода идет охотнее уже по омоченному влагою месту. Но она любит не его, а себя в нем. Стремясь к нему, она лишь стремится слиться с собой же. И так как душа, как весьма справедливо думает св. Ориген, не бестелесна, то в оном растянутом состоянии испытывает она превеликую боль. Ибо та часть, что переселилась в другое тело, по закону сцепления частиц, влечет ее к себе, иная же половина, что еще осталась в прежнем теле, жаждет вернуть к себе половину убежавшую. И это похоже на детскую игру «кто перетянет». И состояние это весьма мучительно и причиняет многие страдания, которые люди называют страданиями любви.
И, доколе не объединятся разъединенные части души, длится любовь. Когда же душа объединится и окончательно покинет чужое тело, то видит его внезапно как бы опустевшим, потерявшим всякую прелесть и недостойным внимания, и кажется ей тогда, что она заблуждалась и что любить было не за что. И разочарование, неизменный спутник любви, в своей одежде серого цвета приходит и становится на пороге, держа в руке бледную чашу из хризолита, наполненную горьким отваром камфары и рутовых листьев.
Однако, будучи по составу гибкой и весьма растяжимой, душа в своих блужданиях не вовсе отрывается от тела, но оставляет за собой как бы некую нить, подобную той, что некогда Тезей прикрепил у входа черных пещер лабиринта, и соединяющую ее с телом, как пуповина соединяет дитя с чревом матери. Но, как малый ребенок, отошедший от дома, беспомощен против грубого дорожного бродяги или развратного насильника, которые могут без помехи овладеть им и сотворить с ним все злое, что пожелают, и даже продать его купцам, так и душа, ускользнувшая из тела, не защищена от нападения того, который, найдя ее безоружной и не имеющей места укрыться, может поступить с нею по воле своей.
Когда я в первый раз увидел маркизу на балу у кавалера дю Гренье, я понял, что отныне судьба моя неразрывною цепью связана с судьбой этой маленькой белокурой женщины, пустой и изменчивой.
К чему повторять историю нашего сближения? Да, я добился ее благосклонности, и любовь эта дала мне несколько мгновений незабываемого счастия; но память о нем заслонена призраками мучительных бессонных ночей, когда задыхающаяся ревность заставляла меня кусать от злобы подушку, и сладость его отравлена воспоминаниями о долгих — о, каких долгих! — днях, когда, убеждая себя порвать эту недостойную связь, я бродил по замку, среди отблесков цветных стекол, таких же багряно-кровавых и мрачных, как мои размышления. И чаще всего избирал я местом своих скитаний западную галерею дворца, исполинские окна которой выходили прямо на закат и на дальние горные озера, переливавшиеся одно в другое между странных голубоватых вершин, угловатых и иглистых, как сталагмиты. И вдоль всей левой стены галереи тянулись высокие бледные огромные зеркала, удваивавшие в своей призрачной глубине странные горы и кровавое пламя заката. И здесь-то, в западной галерее, родилась во мне впервые мысль о возмездии. Непостоянная и вероломная маркиза искала все новых и новых похождений. И она не желала изменить своей натуры, хотя, пересиливая непокорную гордость сердца, я просил и даже умолял.
И, пресытившись обычными изменами, маркиза начала предаваться все более изощренным и порочным наслаждениям, превзойдя скоро в чудовищной изобретательности самого Жиля де ла Реца[3]. В последнее же время появилась у нее необъяснимая и почти болезненная страсть, страсть, которую, без сомнения, внушил ей сам дьявол. Так, стало ей казаться необходимым, чтобы в комнате, где она совершала грех, находились зеркала. Зеркала она считала непременною приправою ласк и, таким образом, созерцая свое любодеяние в полированном стекле, она еще удваивала преступление.
И, когда ее спрашивали о причине столь странного и неестественного желания, она как-то чудно смеялась в ответ и с кощунственной улыбкой возражала, что, если человек сотворен по образу и подобию Божию, то, следовательно, тот, кто наиболее часто созерцает себя в зеркале и наслаждается наичаще лицезрением образа Божьего. А так как сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»[4], то из нас двух она, чаще созерцающая Бога в его подобии, и есть более чистая сердцем.
Эти и им подобные гнусные шутки приводили меня в неописуемую ярость.
И я много раз убивал ее любовников, подвергая неоднократным опасностям свою жизнь и честь, ибо не всегда можно было прибегнуть к поединку (так как среди соперников моих были и особы весьма высокого положения, а также и лица духовные), но чаще бывал я вынужден освобождаться от них иным путем, не пренебрегая ни ядом, ни тайным ударом кинжала, ни засадами подкупленных убийц. И я утомился, душа моя наполнилась гневом, и я приступил к маркизе с жестокими угрозами и впервые увидел, как ее проклятые лживые зеленые глаза затянулись пеленою боязни. И она дала мне клятву верности и некоторое время свято соблюдала ее, чтобы затем нарушить еще более преступно.
И было это так. Приехал тогда из провинции представляться ко двору младший мой брат, юноша нежный и красивый, томная прелесть которого не преминула обратить на себя ненасытное внимание моей презренной подруги. И то, что должно было произойти — произошло. Я не подозревал ничего. И, вот, случилось, что, отправившись однажды на охоту, я, не помню зачем, вернулся обратно домой и застал их вдвоем в положении, соблазнительном и не оставляющем сомнений в виновности.
И было это в башенной комнате, где стояло большое зеркало в раме из черного дерева.
И я вошел, и первый взгляд мой — о, великая и непостижимая тайна! — упал на зеркало, а из зеркала смотрели мне навстречу зеленые глаза, обезумевшие от ужаса.
Я не раз вызывал духов и знаю все, что называют страшным. И в красных от факелов подземельях видел я невероятные корчи и судороги тех, кому вбивают горячие гвозди под ногти, выматывают кишки, вырывают кровавые, подернутые перламутровой пленкой мускулы или наливают в жилы растопленный свинец. Многократно также наблюдал я чудовищные гримасы тех, кого медленно поджаривают на желтом костре или распиливают деревянною пилою, но никогда — о, никогда! — не забыть мне того выражения нечеловеческого, почти сверхъестественного ужаса, который отразился в чертах маркизы Аманды, когда глаза ее встретились с грозящими глазами моего отражения. И, вместе с тем, я заметил, заметил с трепетною злобною радостью, что она не в силах оторвать взгляд от блестящей поверхности зеркала. И тогда сама собою родилась во мне мысль о такой казни, перед которой показались бы детской игрой все перечисленные выше истязания и еще другие пытки, в тысячу раз более страшные и причудливые. Недаром я был членом ордена, к которому от беззаконно замученных Филиппом V рыцарей Храма перешли все сокровенные и неисповедимые тайны Востока[5]. Убить изменницу — нет: это было бы карой незаслуженно легкой, но я знал иные способы, более достойные ее вероломства и не менее действительные, чтобы утолить мою месть, ибо теперь обрел я в сердце своем твердую решимость положить предел позорной и распутной жизни маркизы.
И потому, продолжая глядеть в зеркало, я медленно ступил на четыре шага вперед и, призвав того, имени которого нельзя говорить, начал чары. И вот, отражение маркизы заволновалось и задрожало, и как бы замутилось на мгновение, и тогда нечто, похожее на волокна или пряди золотые, протянулось через комнату от постели к эбеновому зеркалу; и были те пряди, как нити света, что идут от фонаря, если смотреть на него сквозь ресницы, прищурившись. И, помогая себе движениями и творя заклинания, я напряг все свои силы. Глаза маркизы то с мольбой, то со свирепой ненавистью глядели на меня из глубины серебряного блеска. Душа ее бешено боролась с моей волей, обрекавшей ее на вечный плен в мертвом стекле. И уже тоньше паутины, что висит на, осенней траве, стали нити.
Настал решительный миг. Одно неверное движение, и нити те золотые пополам разорвутся и, свившись сверкающим клубом, от меня ускользнут — одна половина в черное зеркало, другая в черное сердце маркизы, и тогда она очнется, хотя и с опустошенной душой, но живою и, пожалуй, еще более распутной. Нет, этого быть не должно! И, как бы отрубая нечто, резко взмахнул я рукой, и вот, сияющие нити, закручиваясь, как закручивается перерезанная внезапно проволока, и хлестнув в воздухе, оторвались от постели и пропали в зеркале, на мгновение загоревшись странным огнем. Странным огнем вспыхнуло зеркало, и зловещий вопль, в котором не было ничего человеческого, сердце мое растерзал. Затем настала тишина, великая тишина гроба. Но из эбеновой рамы по-прежнему с мольбой и ненавистью глядело на меня ужасное, искривленное нестерпимой мукой лицо.
Не знаю, сколько еще времени прошло, пока я стоял перед зеркалом. Быть может, несколько быстротечных мгновений, быть может, много долгих часов. Смутный шорох в стороне ложа пробудил меня, и я освободился от своего оцепенения. И, обернувшись, я взглянул. И вот, некто, бледный, как смерть, и с белыми, как смерть, волосами встал подле ложа. Лицо его было лицом брата моего, но неужели эти белоснежные локоны могли быть когда-то черными, как смоль, кудрями юноши, которого я знал? И этот голос, хриплый и странный, и звучавший, как будто он доносился откуда-то издалека, неужели он мог быть голосом того, певучую томность речи которого сравнивали с нежно-звенящей свирелью? И потом, не мог же он стать выше ростом? Кто же он? Кем была эта сумеречная тусклая тень, что медленно отступила к дверям и исчезла в их темной пасти?
Я подошел к постели. Маркиза без движения лежала на подушках. Рот ее был окрашен кровью, и губы жестоко искусаны в последнем боренье. Когда я дотронулся до тела, оно было уже холодное. Ангел Смерти наложил на него свою руку.
Брата своего я с тех пор не видал. Говорят, он в тот же день уехал в провинцию и живет там отшельником в нашем родовом пятибашенном замке, где ветер горных лесов шумит вокруг стен. Ходят слухи, что он потерял разум. Не знаю. Что мне брат теперь!
С того времени прошло три десятилетия и даже более. Но когда тайным ходом проникаю я в заколоченную наглухо красную комнату, куда свет неясно льется сквозь пыльные алые стекла — с зеркала в эбеновой раме по-прежнему смотрит страшное, искривленное нестерпимой мукой лицо той, чье тело давно уже распалось прахом в забытой могиле под ивами на перекрестке дорог, но что некогда в мире было моею подругою и звалось маркизою Амандою де Шато-Руж.
А. Дунин ТАЙНА КОЛЛЕР-МЕЙСТЕРА БРАУНА
I
Шел тысяча семьсот пятьдесят девятый год.
В Москве выдалась прелестная, очень ранняя весна, какой не помнили старожилы; в начале апреля уже зацвели сирени и яблони, лужайки покрылись травой, какая не всегда бывает и на Егорья, и только прилет птиц был необыкновенно поздний; жара была неслыханная, и москвичи и москвички, после суровой зимы, обрадовавшись теплу и солнцу, шумными толпами наполняли сады и бульвары, щеголяя без верхнего платья, в одних камзолах и робронах[6].
Был полдень, когда вся Москва предавалась тяжелому послеобеденному сну. Немецкая слобода, с ее маленькими, аккуратненькими домиками, преимущественно деревянными, с тесовыми или черепичными крышами, с садами и огородами, вся утопала в зеленовато-розовых красках, позолоченных лучами солнца, посылавшего влюбленной земле такие пламенные поцелуи, что слобожане, задыхаясь от зноя, поспешили закрыть ставни у окон, опустили занавеси и сидели дома, потягивая ледяные квасы и браги.
В саду при домике гоф-фурьера Саввы Сергеича Правдинцева, стоявшего наотставе, в конце улицы, собралась шумная компания студентов, расположившаяся под сенью лип и акаций, образовавших своими стволами и кронами некоторое подобие обширной и уютной беседки, где молодежь и сам Савва Сергеич любили посидеть, поболтать и выкурить трубку кнастера.
Студенты, отпущенные, по случаю праздника, из университетского пансиона, спеша как можно шире использовать свою кратковременную свободу, дурачились без конца, оглашая сад взрывами заразительно-веселого смеха. Один из них, Гриц Потемкин, силач, высокого роста и атлетического сложения, грудастый, как боевой петух, с мягкими, темными, слегка вьющимися волосами, рассыпавшимися по широким плечам, с темными, мечтательными, немного насмешливыми глазами, на правах хозяина, снимавшего квартиру в доме Правдинцева, забавлял гостей, передразнивая графа Ивана Ивановича Шувалова, куратора[7] университета, причем с таким совершенством передавал голос и манеры графа, что студенты, следившие за артистической игрой товарища, просто покатывались со смеху.
— А ну, Гриц, — попросил его Козловский, задушевный товарищ Грица, — представь, голубчик, Зосиму.
Гриц смешно повел глазами и принял солидный вид монаха Зосимы, первого баса в Чудовом монастыре, любившего водить компанию с университетской молодежью и не дурака выпить. Салонно-мягкие манеры и вкрадчивый голос вельможи Шувалова исчезли.
— И бе бог, Бахусом именуемый, его же царствия во кабацех московскиих не прейдеши и захлебнешися в пу-ччи-ин-не-е ви-нно-ой! — провозгласил Гриц высоким протодьяконским басом, гремевшим на добрую версту кругом, и вдруг, переменив бас на низкий тенорок, смеясь и притопывая каблуками, запел: — И, ах, вы, сенички мои, сени темненьки, у девчонки глазки востреньки! Эх, шарила-не шарила, милого ужалила, да прямо в гу-бонь-ки-и! Эх-ма! Жарко!
— Браво! браво! — неистовствовали студенты.
— У девчонки глазки востреньки… хе-хе! — засмеялся, скосив на сторону злые рысьи глазки, белокурый и долговязый студент Секвин. — Уж не Минка ли Браунова? У ней, кажется, ничего… глазки востреньки… хе-хе! И насчет того…
Он не успел окончить грязный намек относительно Мины Брауновой, как, запнувшись на полуслове, широко взметнул в воздухе длинными ногами и растянулся на земле.
— Я сколько раз тебе говорил, долговязый журавль, чтобы ты не смел пачкать имя женщины, а тем паче девушки. Прохвост!
Гриц, тяжело дыша, с сжатыми кулаками стоял над поверженным товарищем, как разъяренный бык, готовый растоптать врага; жилы на лбу посинели и вздулись веревками, а глаза метали молнии; он был страшен.
Секвин, с проворством кошки, быстро вскочил на ноги и, — Гриц даже не успел мигнуть, — нанес ему сильный удар по лицу, так что бедняга пошатнулся от острой боли около глаза, заставившей его громко вскрикнуть и закрыть другой глаз.
— Это тебе за прохвоста! — злобно прошипел Секвин и, не дожидаясь новой схватки с Грицем, прежде, чем ошеломленные студенты успели опомниться, в несколько прыжков перебежал сад, перескочил через забор и скрылся на улице.
Трое студентов с криками «Держи его!» погнались было за ним, но скоро вернулись, сообщив товарищам, что Секвин укрылся в своем доме.
Гриц, — все еще с закрытыми глазами, — стоял, не двигаясь с места; он то вытирал платком кровь, обильно струившуюся из носу, то ощупывал около глаза большой красный «фонарь», который рос, как на дрождях.
— Кровь, кровь… — бормотал юноша с выражением испуга на лице: он не выносил вида крови.
Товарищи, громко негодуя на поведение Секвина, спешили всячески выразить Грицу свое сочувствие; кто-то из них сбегал в дом за льдом, и его прикладывали к ушибленному месту; Козловский принес склянку с арникой.
— Вот подлец! — возмущался Козловский, останавливая кровотечение. — И это называется — российский благородный дворянин! Ударил и — бежать… да с таким даже на дуэли драться совестно. Прямо, как собаку, избить, и дело с концом.
— С какими глазами он покажется в пансион!
— Его убьют!
Гриц наконец открыл один глаз и с отвращением швырнул на траву красный, весь пропитавшийся кровью платок.
— Ах, черт! — выругался он. — Знатно же он засветил… аж искры из глаз посыпались! Думал: и глаз вышиб…
— Ничего, Гриц, — утешал Козловский, — мы с ним разделаемся по-своему. Удовольствуем!
— Э! — поморщился Гриц. — Бросьте его к бесу. Не принимать в компанию, сторониться, как зачумленного… и довольно с него. А около скандала, знаешь, сейчас же поднимется шум, наживем одни неприятности.
— Ну, это — шалишь-мамонишь, на грех наводишь! — свистнул Козловский. — Мы его, голубчика, про-у-чим, будет помнить!.. Ага! Вон и Савва Сергеич идет сюда, — сказал он, взглянув по направлению к дому. — Растревожили старика…
По дорожке, посыпанной желтым песком, путаясь в полах длинного парусинного халата, шел к ним мелкими, припрыгивающими шажками Савва Сергеич Правдинцев.
— Что у вас туг случилось, соловьи-канашки? А? — спросил старик, останавливаясь против своего жильца и с изумлением осматривая его с ног до головы. — Никак подрались? Охо-хо! — вздохнул он, покачав головой. — Неладно дело выходит… Кто же это… так тебя разукрасил, Григорий Александрыч?!
Потемкин молчал.
— Васька Секвин, — ответил за него Козловский.
Он передал старику, как произошло столкновение между Секвиным и Грицем.
— Ишь ты! — усмехнулся Савва Сергеич. — Из-за девчонки подрались, соловьи-канашки. Мало их… Ох, Гриц, и девушник же ты… сломишь ты себе когда-нибудь голову из-за баб. Да нечего на меня так глядеть, правду говорю… Погоди, сейчас старуха примочку принесет… С таким-то фонарем, соловьи-канашки, срам и в люди показаться. Не знаю уж, как ты и в университет явишься…
«В университет — ерунда, а вот как я Мине-то покажусь?» — печально думал Гриц, ощупывая «фонарь».
— К доктору Роземблюму сходи, — посоветовал товарищу Мякишев. — Непременно сходи, Гриц. Даст билет и — лежи, пока не заживет.
Пришла Анна Захаровна, жена Саввы Сергеича, и принесла примочку. Добрая старушка, любившая Грица, как родного сына, вздыхала и охала, несколько раз приложила к «фонарю» медную гривну, а потом наложила тряпочку, смоченную какой-то специей, и забинтовала ушибленное место чистым полотенцем.
— Так, говоришь, из-за Миночки подрались-то? — спрашивала старушка своего любимца.
— Да, он нехорошо отозвался о Мине.
— Знаю, знаю Ваську Секвина: пакостник он. Никто про него доброго слова не говаривал. Весь в отца пошел. Покойничек-то из приказных был: ябеда и пакостник.
— Хорошо, что матушки твоей, Дарьи Васильевны, не случилось дома, — вздохнул Правдинцев, с сожалением смотря на Грица. — Было бы тогда дело… Строгонька она, матушка-то твоя, соловьи-канашки…
— Дарья Васильевна, слава Богу, не скоро поворотит из деревни, — радостно усмехнулся Козловский. — Без нее-то пока и пожить.
II
Теплая, благоуханная ночь, залитая лунным светом, давно спустилась над Немецкой слободой, погруженной в крепкий сон. Напрасно пели соловьи, напрасно испускали сладкий, одуряющий аромат сирени, яблони, акации, — всемогущий сон, всегда желанный гость, накрывший Москву с семи часов вечера, властно царил над столицей; спали даже дозорные, сторожившие обывателей от лихих людей. Только в домике Правдинцева, в окне комнаты Грица, выходившем в сад, светился огонек. Гриц, не находя покоя от ноющей боли в голове, не мог заснуть и метался на жаркой перине; он то поглядывал на мерно тикавшие на стене старые голландские часы, тоскливо считая время, оставшееся до рассвета, то прикладывал к ушибленному месту влажный компресс. На столе догорал шандал, освещая скромную обстановку, — стол, полку с книгами, несколько стульев и широкое вольтеровское кресло. В переднем углу сияли золотые венчики икон, уставленных в два ряда в массивном киоте, и чуть-чуть трепетало темно-гранатовое пятно мерцающей лампады. Над столом висел портрет покойного отца в золоченой раме. Александр Васильевич Потемкин, майор в отставке, имел большое фамильное сходство с сыном, хотя старик, прошедший сложную житейскую школу, — о чем свидетельствовали складки обидной горечи около рта, — выглядел надменным и суровым, а Гриц пока — добрым малым, мечтавшим осчастливить весь мир; даже немножко увальнем.
«Странно, для чего бился отец? — спрашивал себя Гриц, в бесчисленный раз изучая портрет. — Стоило ли уж так стараться, чтобы умереть в чине майора?.. А сколько унижений, мытарств пришлось перенести, чтобы стать хотя бы и такой незначительной величиной! Были ли у него радости, минуты большого душевного подъема? Вероятно, были. И у курицы, говорят, бывает радость, когда петух приласкает или цыплята вылупятся. Удивительно, однако, как люди легко мирятся со всякими обстоятельствами, исподволь, но — мирятся… А что, ежели и нас ожидает то же, что и отца, — куриные радости? Не уйти ли подальше от житейского моря, в монастырь? Как ты полагаешь, беспутный Гриц, а? Жизнь там строже, чище, и в стороне от мирской жизни. А со стороны-то как будто и виднее — где мерзость, где грех… да и за собой следишь построже, не распускаешься, как в миру. А что, ежели станешь таким же забулдыгой, как и монах Зосима?..»
— Тук! тук! — постучали в окно.
Потемкин вздрогнул. Радость и испуг, попеременно, с быстротой молнии, озарили изуродованное лицо. Он вскочил с постели, торопливо надел шлафрок и распахнул окно.
— Это ты, Мина?
— Я, я, Гриша… Да ты, милый, не выходи в сад. Я сама к тебе…
Он радостно подался к ней всем корпусом. Девушка, с затаенным смехом, уцепившись за его шею маленькими горячими ручками, как бабочка, летящая на огонь, впорхнула в комнату и остановилась перед ним с немым вопросом.
Мина Браунова, дочь немца-живописца Иоганна Брауна, — из-за которой у Грица произошло столкновение с Секвиным, — с год, как конфирмировалась, и ей шел восемнадцатый год. Среднего роста, с античной головкой Дианы, увенчанной ореолом золотистых кудрей, с матовым лицом, с выступавшим на щечках нежным розовым румянцем, с глубокими голубыми глазами, опушенными темными ресницами, Мина была прелестна, особенно когда смеялась, показывая ряд жемчужных зубов, причем на щечках показывались маленькие ямочки, сводившие Грица с ума.
— Гриша! мой бедный Гриша! — ужаснулась девушка, взглянув на потемневший и вздувшийся синяк, закрывший весь глаз. — Чтоб руки у него отсохли, у этого Васьки Секвина!
Потемкин, испытывая величайшее смущение, стоял пред ней, понурившись, кань виноватый, стыдясь за свое безобразие.
— Да что ты, милый, какой скучной? А? Это пустяки, пройдет… Глаз цел?
— Цел.
— Ну, и ничего все будет. Хочешь, завтра весь синяк сведем?
— Что ты?! — изумился Гриц. — Раньше, как через неделю, нечего и думать, а то, пожалуй, и дольше затянет…
— Ах, какой же ты Фома неверный! — горячилась Мина, надув губки. — Уж если а говорю, так, значит, знаю. Завтра сведем, и даже следа не останется.
— Ой ли! — обрадовался Гриц. — Милая! Радость моя!
Он подхватил девушку на руки, как перышко, и завертелся с ней по комнате, покрывая ее лицо, в припадке бурного веселья, безумными поцелуями.
— Гриша! Гриша! — отбивалась она, силясь освободиться от его ласк. — У, медведь! Да отстань же, бессовестный!! Или я уйду.
Наконец он отпустил ее; но, сев в кресло, снова притянул к себе. Она уже не сопротивлялась и, заглядывая в его лицо, мягко упрекала:
— Всем хорошо, а одно плохо: никогда ты не слушаешься меня, Гриша.
— В чем же я пред тобой провинился?
— Брось ты этих попов и монахов. Ну к чему они тебе?
— В монастырь пойду, пригодятся, — усмехнулся Гриц.
— Везде нужно знакомство.
Лицо Мины потемнело. Она спрыгнула с колен и, насмешливо кланяясь, обдала его холодным, уничтожающим взглядом.
— Желаю вам, Григорий Александрыч, сделаться игуменом, архиереем, чем хотите, — саркастически проговорила она, — а я… я ухожу!
Она шагнула к окну.
— Что ты, Мина? Бог с тобой… Постой! Куда ты?
— Больше сил моих нет. Вам попы, видно, дороже меня…
— Ну, я пошутил… ну, не сердись!
— Скажи мне прямо: ты в самом деле надумал уйти в монастырь?
Потемкин пристально, с блуждающей улыбкой, посмотрел на девушку.
— А ты поставишь меня на ноги? Ежели поставишь, — скажу.
— Я уже сказала, что завтра через час, много через два, ничего не будет. Да ты что? Смеешься, что ли, надо мной?! — рассердилась Мина.
— Тсс! — остановил он. — Успокойся: в монахи я не пойду.
— Верно?
— Вернее смерти.
— Поклянись.
— Эка, не верит! По военной пойду. Довольна?
— Вот за это я тебя расцелую! — засмеялась Мина, обнимая его шею полными, белыми руками, обнаженными выше локтей.
— Минка, за-ду-шшишь! — хрипел Гриц, ворочаясь в кресле с грацией медведя. — Мм… ми-лла-ая!
— Ага, попался! — трещала Мина, душа его поцелуями. — За что я тебя люблю, Гриша? За что? За то, что ты умный, хороший, добрый… Мил-лый мой!
Долго еще ворковала влюбленная парочка, пока не настала пора расставаться.
— Завтра отец зайдет к тебе и все устроит, — предупредила Мина, прощаясь с Грицем.
— Отец?!
— Ну да. Он сведет синяк. Да ты не стесняйся отца, — лукаво посмотрела она на Грица. — Он кое-что уже знает, а чего не знает, — догадывается…
Гриц хотел еще расспросить Мину, что именно знает отец из их отношений, во она, поцеловав его, выпрыгнула в окно и скрылась в белой предрассветной мгле.
III
Иоган Браун считался живописцем или «коллер-мейстером», но не принадлежал к числу тех заурядных мастеров, которые пишут вывески и вообще — «что придется». Браун не писал вывесок и считал себя аристократом в искусстве. Он был безвестный художник, очень мало заботившийся о славе и известности, хотя о его портретах знала вся Москва. Живопись у Браунов была в роду. Дед и отец Иогана — оба прибыли в Московию еще при Петре Великом и поселились в Немецкой слободе, занимаясь исключительно живописью. Дед Фридрих, погибший во время стрелецкого бунта, имел счастие поднести Петру Великому его портрет, изображавший царя на маневрах потешных полков, верхом на коне, в той обаятельно-величественной позе, какая описана у Пушкина в «Медном Всаднике» и увековечена в памятнике Петру на Сенатской площади в Петрограде. Царь, не столько, может быть, польщенный поднесенным подарком, сколько обрадованный, что в России наконец начинают заводиться свои художники, обласкал, наградил и пожаловал Фридриха званием придворного «коллер-мейстера». Звание это было, правда, скромное, но почетное; во всяком случае, Браун мог занять при дворе выдающееся положение, а при известной ловкости и удаче тогдашних царедворцев, пойти и дальше; но, как истинный художник, он не был карьеристом и остался в Немецкой слободе, к которой успел привязаться, работая, по поручению царя, на реставрации живописи в кремлевских и загородных дворцах. Умирая от ран, нанесенных стрелецкими бердышами, он завещал сыну Карлу, отцу Иогана, служить любимому искусству и передал ему, между прочим, рецепт химического состава, обладавшего свойством придавать коже моложавый цвет не только на портретах, которые рисовали Брауны, но и на живых лицах. Как художник, Иоган Браун применял его, когда пожилые или совсем старики-клиенты заявляли ему претензию, что их лица на портретах «недостаточно молоды», или «выглядят слишком старыми». Замечательно, что покрытые этим составом краски полотен, написанных еще прадедом и вывезенных в Россию из Германии, не подвергаясь разрушительному влиянию времени, сохранили первоначальную свежесть и лишь не выдерживали красного света: от действия световых лучей, пропущенных через красные стекла, они начинали заметно тускнеть, а затем шелушиться и трескаться.
Это открытие Иоган Браун сделал случайно, при работе в палатах, где свет, падавший на фрески на стенах через красные стекла окон, произвел разрушение красок именно в тех местах, где они были покрыты составом. Но самое изумительное в таинственном рецепте Брауна было то, что тот же самый состав, соединенный с другим и употребленный, как лекарство против ушибов, быстро уничтожал травматические опухоли и кровоподтеки, а также благотворно действовал на заживление рассеченных ран. Достаточно было слегка уколоть иглою, чтобы показалась капля крови, и затем несколько раз смазать ушибленное место составом, как через час-два от опухоли или кровоподтека не оставалось никакого следа; рассеченные же раны затягивались в два-три дня.
По семейной традиции, секрет обоих составов переходил от отца к старшему сыну или, — если сыновей не было, — к старшей дочери, а за неимением детей — к ближайшему из родственников по боковой линии. Лицо, которому наследодатель вверял тайну чудесных рецептов, обязывалось хранить ее не только от посторонних, но и от членов своей семьи. Прадед, умирая, завещал Фридриху, что «тот, кто выдаст секрет или воспользуется им легкомысленно, погибнет лютой смертью». И это завещание, всякий раз, как умирал хранитель прадедовского секрета, передавалось наследнику буквально в той же самой формуле, в какой было выражено больше столетия назад.
Что имел в виду прадед Браунов, оставляя своему роду такое, кажущееся странным на первый взгляд, завещание? И пользовался ли кто-нибудь из Браунов чудесными рецептами для практических целей?
Для целей искусства, как художники, все Брауны, начиная с их прадеда, пользовались рецептами; отчасти они пользовались ими и для медицинских целей; но, как средством для омоложения лица, впервые воспользовался чудесным рецептом только один Фридрих Браун, заплативший за это своей жизнью.
Фридрих Браун знал, что состав имеет свойство омолаживать лицо, в чем его убеждали и наблюдения над портретами заказчиков, когда он, в угоду им, «подправлял» их чудесным составом; но, имея дело только с портретами, он не мог наблюдать действия состава на живых лицах. Мало-помалу в душу закралось сомнение: уж правда ли, что состав имеет такое чудесное свойство, какое ему приписывается? И не выдумка ли это изобретателя, выжившего из ума? Сомнение постепенно разрасталось и наконец под старость обратилось в idée fixe[8], в неудержимо-болезненное желание во что бы то ни стало увидеть живое лицо, омоложенное составом Брауна. Фридрих личным опытом захотел убедиться: что же это наконец — выдумка, миф или огромное благо, которому трудно, почти невозможно определить цену. Он давно мог бы проделать опыт, но его удерживал какой-то страх, может быть, воля изобретателя, парализовавшая его инициативу. Однако желание видеть чудесное собственными глазами, осязать его, побороло страх. Сначала он остановился на мысли попробовать состав на старушке-жене, страдавшей хронической болезнью и не встававшей с постели; но, считая опыт над ней недостойным издевательством, почти кощунством, он бросил эту мысль и стаи, подыскивать подходящего человека на стороне. Такой человек нашелся. Эго была стрельчиха Шеина, вдова, пятидесятилетняя, хорошо сохранившаяся женщина. Когда Браун обратился к ней и, осторожно нащупывая почву, дал понять, как хорошо скинуть с плеч десяток-другой годов, старуха Шеина, молившаяся «щепотью», откровенно высказала ему, что смотрит на это дело, как на колдовство, как на «неотмолимый грех», за который попадешь на муки вечные, в ад кромешный… Но Браун, не теряя надежды, осторожно вел свою линию. Рассчитывая на страсть старухи к нарядам, он подарил ей кусок алой камки с серебряными цветочками и заморскую булавку к душегрее, и старуха растаяла. К дорогим, красивым женским нарядам так нужна красивая молодость. Шеина подумала-подумала и отдалась во власть немца. «Помолодев», она резко изменила свое поведение и из примерной вдовы превратилась в гулящую бабенку, на которую замужние стрельчихи недвусмысленно указывали пальцем, да еще связалась с женатым стрельцом Кониным. Как-то раз, в пьяной пирушке, она проболталась, что «немец Браунов помазал» ее, и этого было достаточно, чтобы все отшатнулись от нее, как от «поганой», и первый — Конин. С горя Шеина покаялась в своем «грехе», и священник наложил на нее, как на «околдованную», тяжкую епитимью. Слух, что сгрельчиха Шеина «околдована немцем», который «ковал ее в кузне и сделал молодой», пошел гулять по Москве, украшенный самыми невозможными небылицами, и наконец дошел до властей. Шеину взяли в сыскной приказ и на допросах подвергли жестокой пытке, которой она не выдержала и умерла, оговорив целый ряд иностранцев в «чернокнижии», а Брауна, что он «помазал» и «наложил антихристову печать» насильно, против ее воли. Оговоренные, за исключением Брауна, были арестованы и подвергнуты пыткам в кремлевских застенках. Без сомнения, и Брауну не миновать бы пытки, но он, захватив с собой составы, успел вовремя скрыться, приютившись в Сокольнических лесах (под Москвой), в доме приятеля, форшт-мейстера (лесничего) Ледера, тоже немца. Вернулся он в Немецкую слободу и попал в руки пьяной, разъяренной черни, мстившей иностранцам за новшества, введенные Петром. Брауна, изрубленного бердышами стрельцов, толпа бросила на улице и разбежалась, думая, что «колдун подох»; но Фридрих очнулся, отдышался и, истекая кровью, приполз к своему дому, где и скончался на руках сына.
Иоган, помня ужасную смерть отца, как бы предсказанную прозорливым прадедом, избегал не только производить какие-либо опыты омоложения, но даже и говорить о чудесном составе, находившемся в его распоряжении, довольствуясь опытами над портретами молодящихся старичков-вельмож и изредка занимаясь лечением ушибов и опухолей, да и то лишь в среде близких людей. Но, с годами, бес искушения начал одолевать и его. И не вопросы пытливой мысли, не дающей покоя любознательному уму, мучили Брауна, а просто личный эгоизм. Дело в том, что Иоган, вдовея шестой год и имея на руках единственную дочь Мину, будущую наследницу родового секрета Браунов, незаметно до шел до того возраста, когда мужчина, не изжив еще период так называемой «второй любви», начинает заметно «подаваться», стариться, что неизбежно ведет к падению кредита у женщин. Его «вторая любовь», — неприступная крепость, — была Эмма Таубе, молоденькая дочь купца, торговавшего в Китай-городе фряжскими винами; она ни за что не хотела выходить замуж за «старого вдовца», — хотя Иогану было всего сорок шесть лет, да еще сделаться мачехой такой «вертушки-занозы», как Мина, которая, по годам, считалась ей ровесницей. И бедный, по уши влюбленный Иоган, безрезультатно ища средств для разрешения создавшегося положения, только вздыхал, по целым часам просиживая в своей маленькой студии и посматривая на свет на чудесную жидкость, переливавшуюся в граненом хрустальном флаконе. Он несколько раз собирался сделать опыт над собой, без предварительного опыта над другим лицом; но всякий раз, как доходил до этой мысли, кто-то невидимый словно отводил его от этого намерения, и мысль снова обращалась к исканию выхода.
Он, как и старик Фридрих, наконец решил искать подходящего случая.
IV
Утром, около половины десятого, — хотя, по-тогдашнему, в Москве это время обозначало уже день, час, очень близкий к обеду, когда люди успевают досыта наработаться, — Иоган Браун, франтовато одетый в шелковый, оливкового цвета камзол с высоким кружевным жабо и в серой фламандской шляпе с широкими, мягкими полями, в башмаках с серебряными пряжками и шелковых чулках, взяв трость, собрался идти в город, чтобы закончить портрет какого-то знатного вельможи.
Мина остановила его на пороге.
— Ты уходишь? У меня маленькая просьба.
— Говори.
— Видишь ли… один человек нуждается в твоем искусстве. У него сильный ушиб.
Иоган улыбнулся.
— Гриц? — спросил он, пытливо посмотрев на дочь.
— Да-а… но как ты знаешь?
— Вся слобода говорит.
— Ну вот, отец… я прошу тебя, очень прошу, Гриц так страдает… и, кроме того, ему нельзя показаться в университет.
— Та-ак… Ах, коза, коза! А тебе какая забота о нем… а?
— Ну, ладно, отец, нечего смеяться. Бог велит о всех заботиться.
— А тебе о Грице проще всех других, да?
— Так зайдешь?
— Хорошо, я зайду, но поговорим об этом предмете.
Он присел на порожек окна, выходящего в сени и, как бы собирая все мысли, касавшиеся Мины, долго молчал.
— Видишь ли, дитя мое, — ласково молвил он, чертя на полу тростью букву «Э», — я много думал по поводу твоих отношений к Грицу и нахожу, что вы — не пара. Ведь ты думаешь выйти за него замуж?
— А почему бы мне и не выйти? Гриц женится на мне, когда кончит университет.
— И ты веришь этому?
— Ах, отец, я не имею права не верить ему!
— Ты его мало знаешь. Это такой человек… он, вероятно, и верит тому, что обещает. Если верить ему, то сегодня он будет архиереем, завтра, пожалуй, министром, а послезавтра — величайшим поэтом. Одним словом, человек не установившийся… И уж всего менее подходит он для тихой семейной жизни. Гриц, бесспорно, умница и его, может быть, ожидает светлая будущность, но что из того? Он непостоянен ни в одном из своих намерений.
Мина слушала отца, и каждое его слово отзывалось в ее душе нестерпимой болью; и если она многого не понимала в характере Грица, то женским чутьем угадывала, что слова отца содержат значительную долю правды о любимом человеке. Но, — таково свойство любви, — она не хотела, не могла признать этой правды.
— Не беспокойся, отец, — ответила она. — Ты ничего не потеряешь от того, что я люблю Грица. Не тебе, а мне жить с ним. И наконец, мне кажется, я знаю его лучше тебя…
— Делай, как знаешь, Мина, — согласился отец. — Но, смотри, потом не пеняй на меня, что я не остановил тебя от этого шага.
Ах, сколько раз впоследствии вспоминала Мина эти слова отца!
Иоган вернулся в студию, захватил с собой небольшой ящик черного дерева с перламутровой инкрустацией и, поцеловав дочь, вышел из дому.
Мина не вытерпела и выбежала за ворота, чтобы посмотреть, куда пойдет отец.
Он шел прямо к дому Правдинцева.
V
Гриц только что проснулся и лежал в постели, мысленно переживая неприятные события истекшего дня, как в комнату вошел Браун.
— А, Иван Карлыч! — обрадовался Гриц, дружески пожимая руку гостя.
— Лечить тебя пришел, Гриц, — улыбнулся Браун. — Ушибся?
— Да, Иван Карлыч, есть такое дело, — смущенно пробормотал Гриц, краснея под пристальным взглядом Брауна.
— Лежу вот… нельзя никуда показаться.
— Мина говорила… Что ж? Можно поправить… Ну-ка, сними повязку, посмотрим.
Гриц развязал полотенце.
— Ого! — поморщился Браун, внимательно рассматривая и ощупывая кровоподтек, принявший за ночь темный цвет переспелой сливы и совершенно закрывший весь глаз.
— Удар чем-то твердым, пожалуй, кабы не железом… Раны нет… и это хорошо, очень хорошо. Ложись на спину, вот так. Голову немножко повыше…
Уложив Грица, Браун достал из шкатулки стаканчик с делениями, стеклянную палочку, тонкую стальную иглу, кисточку и два флакона с прозрачной жидкостью; на флаконах были приклеены потемневшие от времени сигнатурки с надписями. Гриц видел, как Браун влил в стаканчик из одного флакона несколько капель жидкости, а потом прибавил в него с чайную ложку из другого флакона и тщательно размещал смесь палочкой.
По комнате потянула струя крепкого пряного запаха.
— Ну, мой храбрый рыцарь, уврачуем следы битвы с врагом, — шутливо произнес Браун, подходя к Грицу. — Лежи спокойно и закрой глаза. Немножко будет больно, но ведь ты не девчонка…
Он слегка уколол иглой в центре кровоподтека и уколотое место тотчас же смазал кисточкой, смоченной в смеси; затем смазал ушибленное место еще несколько раз.
Гриц ощутил от укола острую боль, как от укуса разозленной осы, вылетевшей из разоренного гнезда; но боль продолжалась не дольше секунды и сменилась чувством приятного расслабления во всем теле. Он лежал, как бы в дремоте, и пред ним, одно за другим, проходили чудные видения. Как бы увлекаемый воздушной волной, он шел, едва касаясь земли, по какому-то незнакомому саду, прекрасному, как сад в раю. Кругом цвели, испуская аромат, невиданные тропические цветы и деревья, реяли многоголосые птицы и порхали разноцветные мотыльки. Рядом, прижимаясь к нему, шла Мина и говорила: «Вот, милый, весь сад будет наш, только не иди в монастырь, люби меня. Не пойдешь? будешь любить?» И он отвечал, что любит, вечно будет любить ее и ее сад, и не пойдет в монастырь. А волна несла его все дальше, дальше. И было так сладко, так сладко…
Первое, что он увидел, когда очнулся, был Браун; он сидел в кресле и читал книгу, снятую с полки.
— Доброго утра! — рассмеялся Браун. — Поспали маленько, мой рыцарь?
— Как поспал? — изумился Гриц, смотря на Брауна недоумевающими глазами.
— Да, побольше часа…
Гриц все еще ничего не мог понять и только смутно припоминал, что Браун пришел лечить его. Голова слегка кружилась. Он сел на постели и вопросительно посмотрел на Брауна.
— Ну-ка, прекрасный рыцарь, взгляните на ваше лицо, — лукаво подмигнул Браун, подавая ему карманное зеркальце в серебряной оправе.
Гриц робко заглянул в зеркало и вскрикнул от изумления: кровоподтека как не бывало! Ни малейшего следа, кроме розовой точки от укола. Гладкая, мягкая, холеная кожа и ровный цвет. Он не поверил глазам и недоверчиво пощупал место, где красовался безобразный темный «фонарь».
— Батюшка! Иван Карлыч! — вскричал он, приходя в себя. — А ведь и вправду свел. Вот так штука, черт возьми! Да ты — маг и чародей!
В одном белье, стремительно вскочив с постели, он бросился обнимать Брауна.
— В вечном одолжении буду у тебя! — благодарил он. — Друг ты мой!
— Пустяки, — скромно отклонил его благодарность Браун и стал прощаться, сказав, что спешит в город по делу.
— Заходи к нам, Мина кофеем угостит, — пригласил он Грица. — Кстати, потолкуем о разных материях… Да, пожалуйста, не проболтайся как-нибудь, что я тебя вылечил. Слышишь?
— А как же… ежели спросят? — смутился Гриц.
— Ну, как хочешь, так и объясняй, а мое имя в стороне. Помни, я беру с тебя слово.
— Хорошо, Иван Карлыч, — согласился Гриц. — Но… зачем ты скрываешь себя и такое чудесное средство?
— Скрываю? Гм… нужно… приходится скрывать… Я обладаю и не таким средством, но вынужден молчать…
— Каким еще? — полюбопытствовал Гриц.
— А вот… когда ты состаришься, — усмехнулся он, — сделаю тебя молодым, то есть твое лицо, прекрасный рыцарь. Что? Не веришь? Ну, Гриц, до этого еще долго, а теперь — прощай.
Он ушел, оставив ошеломленного Грина с раскрытым от изумления ртом.
VI
На другой день Потемкин явился в университет. Появление его смутило друзей: исчезновение «фонаря» представлялось для них прямо чудом. Козловский, когда Гриц, весь сияющий, как новый червонец, подошел в нему и протянул руку, даже отскочил от него и с недоумением смотрел на друга, делая большие глаза.
— Да, Гриц, ты ли это? Да как же это так? Вчера был фонарь, а сегодня нет! — спрашивал он, следуя за ним по пятам, как тень. — Объясни!
— Не могу. Одним словом, видишь, вылечили, а кто и как, не могу сказать.
Так и не узнали, кто «свел фонарь отчаянному Грицу».
Секвин тоже явился. Потемкину рассказали о нем удивительные вещи. Он явился прямо к инспектору, долго у него пробыл и затем вместе с ним пришел в столовую как раз к обеду.
— Господа! — обратился инспектор к студентам. — До моего сведения дошло, что некоторые из вас собираются нанести оскорбление товарищу за его поведение с другим вашим товарищем. Предупреждаю, что в случае, если такое прискорбное событие будет иметь место в стенах университета или где бы то ни было, то все участники такового получат должное возмездие, вплоть до исключения из университета.
Инспектор круто повернулся и ушел, сопровождаемый глухим ропотом студентов.
Так как никто из них, кроме друзей Грица, ничего не знать о столкновении последнего с Секвиным, то, понятно, все были поражены, даже возмущены непонятным и незаслуженным предупреждением инспектора. Но появление его в столовой вместе с Секвиным как бы связывало это предупреждение с личностью самого Секвина. Уж не Секвина ли собираются побить? Но за что? Догадкам и предположениям взволнованных студентов не было конца, пока Козловский, на свой страх и риск, не рассказал, в чем тут дело. Рассказ Козловского о поведении Секвина в саду при доме Правдинцева возмутил студентов до глубины души. Для всех стало ясно, что Секвин забежал вперед и пожаловался инспектору. Собралась сходка. Студенты пошумели и решили не подавать руки Секвину и не иметь с ним ничего общего, даже не разговаривать.
Но этим дело не кончилось.
Инспектор попросил Потемкина к себе. Гриц сразу сообразил и сказал товарищам, что тут «пахнет Секвиным», однако его сердце екнуло.
— Господин Потемкин, с каких пор вы взяли на себя труд исполнять роли комических актеров и даже хуже — площадных скоморохов? — иронически спросил инспектор, нахмурив брови. — Для студента это совершенно неподходящее и неприличное занятие.
Гриц, ничего не понимая, хлопал глазами.
— Что ж вы молчите? Начальство умели передразнивать, а когда пришлось отвечать, так у вас и языка нет.
— Какое начальство? Когда?
— Как какое начальство! А его сиятельство, куратор университета, граф Иван Иванович? Вы уж, видно, забыли и начальство-то свое, милостивый государь мой. А? Забыли? Благодетеля вашего забыли, который вас от всех отличил и милостями своими превыше всех взыскал?
Потемкин молчал.
— Отвечайте же, сударь: изображали вы в лицах его сиятельство графа Ивана Ивановича?
— В лицах я не изображал… — ответил наконец Потемкин, вспомнив, что он и в самом деле представлял голос и манеры графа Шувалова. — Да, позвольте, господин инспектор, какое вам, собственно, дело до моей частной жизни?
— Как какое дело?! — загремел инспектор. — Нам, вашим воспитателям, вы все вверены Высочайшей властью, и мы должны ответ держать и пред Государыней и пред Богом за ваше поведение. По-настоящему-то, мы должны отпускать студентов из пансиона с дядькой; но мы не считали нужным применять к вам надзор и верили студенческому слову, что вы будете держать себя благопристойно.
— Господин инспектор, изображение других лиц вовсе не есть шутовство, а лицедейство.
— Это все равно. Я доложу графу, и вы уже сами объясняйтесь с ним, что шутовство, что — лицедейство. Может быть, он поймет вас лучше меня, — с ядовитой усмешкой заметил инспектор, отпуская Грица.
Через день стало известно, что Потемкину, Козловскому и большинству его друзей, по распоряжению графа Шувалова, запрещены отпуска из пансиона к родным и знакомым вплоть до каникул.
— Медалист-то наш, самим графом отличенный… хе-хе! — посмеивался Секвин, беседуя с Жерноковским, единственным товарищем, водившим с ним знакомство и считавшимся у студентов на таком же дурном счету, как и Секвин. — Ловко! Граф-то ему, за отличные успехи, золотую медаль пожаловал, императрице представил, а он его… хе-хе! Ай да Гриц прекрасный! Сиди да посиживай в четырех-то стенах. Минка с тоски помрет… Вчера из окна видел, как она около университета шмыгала.
Но инцидент этим суровым наказанием не был исчерпан вполне. Потемкин попал под опалу и графа Шувалова, и инспектора, и тех профессоров, которые отлично умели «держать нос по ветру». К нему усердно придирались на каждом шагу и по всякому пустячному поводу. Инспектор чуть не каждое свое обращение к нему неизменно начинал словами: «А ну, господин лицедей…» Это раздражало Потемкина, довело его наконец до того, что он махнул на все рукой и забросил учебные занятия. Его враги, по-видимому, только этого и ждали, и вскоре Потемкин был исключен из университета за «за леность и нерадение к наукам».
Так кончилась университетская карьера Грица. Но за ней началась другая, заставившая говорить о ней Россию, всю Европу, блестящая и сказочно-чудесная, как таинственное средство Погана Брауна.
Историки поражаются изумительной судьбой этого баловня счастья. Но то, что мы очень часто привыкли называть судьбой, в сущности, представляет сложное сцепление фактов.
Если б между Секвиным и Потемкиным не произошло столкновения, не было бы таких фактов, как удар, нанесенный Потемкину по лицу его товарищем, не было бы доноса на Потемкина, исключения из университета и наконец поступления в военную службу, к которой он не имел склонности, может быть, окончив университет, Потемкин занял бы не положение временщика, — обаятельное только в глазах толпы, — а почетное место в истории русской культуры, как ученый или общественный деятель, а может быть, стал бы обыкновенным, хорошим семьянином, — вообще трудно предугадать, чем мог бы стать этот замечательный человек.
VII
С тех пор, как свершились описанные события, начавшиеся в домике гоф-фурьера Правдинцева, в Немецкой слободе, прошло тридцать два года.
Гриц, превратившийся, по прихоти капризной фортуны, в светлейшего князя Тавриды Григория Александровича Потемкина, покорителя Крыма, Очакова и Измаила, встречал в Петербурге пятьдесят вторую весну своей жизни. Но петербургская весна князя Потемкина не походила на московскую весну юного Грица. Стояли холод и ненастье, серые и тягучие, как осень, и не прекращавшиеся даже в средине мая. Почти каждый день дул резкий норд-ост и падал мокрый снег или сыпалась крупа, превращавшиеся в грязную слякоть, по которой, как отравленные мухи, ползли скучные, сердитые пешеходы. Нева, не успевшая очиститься от ила и торфа, принесенных течением с верховьев реки, катила мутные, холодные волны, отражая мокрые фасады домов и дворцов набережной. В Летнем саду на деревьях не было ни одного листика, и темные стволы и голые кроны лип, тоскуя о весеннем уборе, выглядели печально и мрачно, напоминая кладбище.
Князь, приехавший с юга, после блестящего взятия Суворовым Измаила, положительно не выносил этой слякотной, гнилой весны. Он третий месяц жил в Петербурге, переехав из Царского Села в подаренный императрицей Таврический дворец, обставленный с восточной роскошью. Это время было для него временем тяжких испытаний, хождением по краю зияющей пропасти, в которую он мог ежеминутно упасть и погибнуть. Он и не отдыхал на лаврах победы над турками, а, погруженный в дворцовые интриги, главным образом, в интриги своего соперника, князя Платона Александровича Зубова, и его единомышленников. Изнывал от тоски, томимый мрачным предчувствием роковой утраты всего, что было так тесно связано с его существованием, с его возвеличением, что было для него дороже славы и почестей, — утраты дружбы императрицы, которая, пройдя многолетние испытания, должна бы укрепиться еще более. Но в отношениях к нему императрицы князь заметил резкую перемену: Екатерина была недовольна им и оказывала явное предпочтение новой восходящей звезде; он чувствовал, что отходит на второй план, и не мог примириться со своим падением.
Князь сидел в своем кабинете, — в котором проводил, в одиночестве, большую часть дня, — изредка заглядывая в окно и наблюдая, как улица покрывалась, словно саваном, белым, ровным слоем снега, начавшим падать с ночи. Он мучительно думал о своих отношениях к императрице, тщетно ища средство поправить их. Правда, императрица еще была милостива к нему, но милостива официально, по старым заслугам, продолжая ценить в нем ум, способности искусного администратора, полководца, дипломата и — только; прежних добросердечных отношений уже не было. Правда, Екатерина продолжает отличать его и подарила ему дворец; но, — он знал, — этот, тоже официальный дар не был согрет тем сердечным участием, каким отличались ее дары в былые годы, да его, пожалуй, можно рассматривать, как выдел, как удаление князя на приличную дистанцию от резиденции императрицы. Теперь, пока — Таврический дворец, а потом пожалует какую-нибудь дальнюю захолустную вотчину, где живут одни медведи, и — поезжайте. Она могла также подарить ему, — как дарит сейчас Зубову, — и деревни, всю крепостную Россию, но что могли значить все ее дары в сравнении с одним ласковым словом!.. Вот и бал прошел, данный в честь матушки-государыни, осчастливившей его своим посещением. Сколько надежд возлагалось на этот бал, затмивший своим великолепием все, что было подобное! И что же? Тот же лед, тот же холод. А теперь государыня настаивает на его отъезде в действующую армию. Неужели некому заменить его? Неужели он не имеет права на отдых, как другие? Стал не нужен… лишняя мебель… В отставку! А все Зубов интригует, да его ставленники… целая компания! Зубов, положим, серьезный противник, но что такое Зубов? Орлов был куда против Зубова! А сумел же он управиться с Орловым и столкнуть его с своей дороги. Что такое Зубов? Чем он взял?
Он отпер ящик из слоновой кости, стоявший на столе, и вынул портрет Зубова, который его агенты похитили в Париже, из будуара его возлюбленной, подкупив ее горничную.
Светлейший долго и внимательно рассматривал соперника. Невольная зависть к счастливцу змеей вползала в его сердце. Молодой, смелый, а главное, нахальный. Такой своего не упустит и далеко пойдет…
Вздохнув, князь положил портрет на прежнее место, тяжело, как смертельно уставший человек, поднялся с кресла, сделал несколько шагов и остановился перед зеркалом.
В зеркале отразилось желтое, обрюзглое, почти совсем больное лицо. Глубокие морщины на висках, над бровями, и мешки под глазами красноречиво говорили о надвигавшейся старости, в которой — увы! — у светлейшего, как у последнего нищего, не было ничего, никакой прочной опоры. Имя, почести, могущество, богатство, это, правда, было; но разве это — все? А душа?.. Душа, которая сумела бы понять и простить его недостатки, которая любила, страдала бы его страданиями и радовалась его радостями? Ничего этого не было. К его услугам были всегда готовы сотни лиц, но между ними не было ни одного человека, который любил бы его так же… так же… «Но кто же любил меня? — спрашивал светлейший, напрягая память. — Не графиня же Браницкая, конечно, и не Варенька Голицына, и не Параша Потемкина…» Их было так много, много, что он даже позабыл некоторых из второстепенных красавиц. Ага! — Мина Браун. Она любила его. Бескорыстно. Была бы ему прекрасной женой-другом. Но тогда ничего бы этого и не было, а может быть, и было… Но где же она? Где добрейший Иван Карлович? И живы ли они? А ведь Иван Карлович, помнится, что-то обещал. Он улыбнулся, вспомнив студенческую «историю» с «фонарем».
— Ха-ха! вот так был фонарь! Хорошее было время… Да, да, как же… обещал прийти ко мне на помощь со своим чудесным эликсиром, когда я состарюсь. А вот она, старость-то, и подкатилась… И как это я мог позабыть о нем!
На миг сомнение было закралось в душу: да правда ля это? возможно ли сорвать ветхие одежды старости и воскресить молодость? Но вспомнил о своем лечении, и надежда окрылила его. Тоже свести в какой-нибудь час такой ушиб, уничтожить всякие его следы, — разве это не чудо!
Светлейший выпрямился, почувствовав, что стал выше ростом, и его взгляд принял твердое, уверенное выражение.
Он присел в столу, быстро, размашистым почерком написал письмо и, запечатав его, надписал на конверте: «Его Высокоблагородию Господину Ивану Карловичу Брауну, коллер-мейстеру. Немецкая слобода, Москва».
Князь дернул сонетку.
Вошел лакей.
— Сейчас же отправить с фельдъегерем в Москву, — приказал князь, отдавая конверт лакею. — Отправить Соловьева. Фельдъегерю за скорость — сто червонцев награды, за опоздание — палки!
Последнюю фразу светлейший выкрикнул так театрально-громко, что ошалевший лакей, вздрогнув, опрометью выскочил из кабинета.
Через пять минут фельдъегерь Соловьев с письмом светлейшего мчался в Москву.
VIII
Надежда — тоже чудесное средство. Она окрыляет. Она — подъем всех сил, моральных и физических. Надежда уступает только могуществу смерти.
Светлейший, отправив в Москву фельдъегеря, как бы переродился. Он никогда не был человеком энергичным, из тех, кто отдается какому-нибудь делу целиком, заполняя им всю свою жизнь; он был от природы с ленцой, а непрерывные триумфы и преклонение пред его властью приучали князя к сибаритству в такой степени, что он обленился совсем. В Яссах он однажды сказал своему секретарю, что, если б была такая машина, которая могла бы думать за него при деловых сношениях с своими подчиненными, то он охотно воспользовался бы ею. Но теперь светлейший был неузнаваем. Он с утра до глубокого вечера, с небольшими перерывами для завтрака, обеда и прогулки в дворцовом саду, упорно работал в своем кабинете: писал мемуары, разбирал и вновь перечитывал старую корреспонденцию, вел переписку с главноуправляющим его обширных имений и готовил проект новой колонизации Новороссии.
Все это занимало князя, отвлекая его от мрачных мыслей; но, когда наступил четверг, — день, когда фельдъегерь должен был возвратиться из Москвы, — он не выдержал и бросил работу.
Светлейший предусмотрительно рассчитал, сколько суток потребуется на проезд туда и обратно и на получение ответа в Москве от Брауна; опоздание он допускал на два-три льготных часа, не более. Но прошли и льготные часы, а фельдъегерь не возвращался. Князь сердился, выхолил из себя, прогнал своего камердинера, когда тот пришел раздеть его, и принял твердое решение, не ложась в постель, ждать возвращения фельдъегеря, заранее назначив ему жестокое наказание.
Фельдъегерь прискакал в Петербург на рассвете. Шатаясь от усталости, бледный, как полотно, весь в грязи и пыли, он, с трудом разминая закоченевшие ноги, вылез из тарантаса и был введен прямо в опочивальню князя.
Князь еще не ложился.
— Опоздал, каналья! — закричал он и затопал на оторопевшего фельдъегеря. — Запорю! Забью палками.
— Я не виноват, ваша светлость, — дрожащими губами проговорил фельдъегерь, — меня задержали его высокопревосходительство генерал Тутолмин. Вот их письмо к вашей светлости.
Он расстегнул кожаную сумку, бережно, словно это была не бумага, а хрупкая вещь, вынул письмо и с низким поклоном подал его разгневанному князю.
— Хорошо. Можешь идти, — приказал князь. — Да скажи там, чтобы тебе поднесли стаканчик доброго винца и хорошенько накормили, — прибавил он уже смягченным тоном, поспешно распечатывая конверт.
«Милостивый Государь мой, Князь Григорий Александрович! — писал московский главнокомандующий Тимофей Иванович Тутолмин. — Посланный от Вашей Светлости в Москву к коллер-мейстеру господину Ивану Карловичу Брауну с письмом фельдъегерь, за смертию господина Брауна и за ненахождением в Москве никого из его семейных, доставил означенное письмо в мою канцелярию на тот предмет, чтобы удостоверено было, что письмо сие им доставлено по назначению быть не может, что я, с возвращением сего письма, сим и имею честь удостоверить, приемля на себя смелость почтительнейше доложить Вашей Светлости, что после означенного коллер-мейстера господина Брауна осталась родная дочь Мина, которая, по справкам, наведенным мною у здешнего господина обер-полицеймейстера, проживает в городе Саратове в замужестве за 1-й гильдии купцом Яковом Фогтом. Докладывая о сем Вам, Милостивый Государь мой, с особливым почтением и преданностью имею честь быть Вашей Светлости покорнейший слуга Тимофей Тутолмин».
Браун умер! Сердце светлейшего захолонуло. Успел ли он передать Мине рецепт чудесного эликсира? Если рецепт у нее, надо попросить его, но как? Он знал, что у Мины, как последствие их связи, был сын, о котором он никогда не думал и не только не позаботился обеспечить его существование, но даже не поинтересовался узнать, жив ли его сын и где находится. Вышло все как-то очень, очень нелепо… Попробовать съездить в Саратов самому и выпросить у нее прощение? Но он — пленник, на которого устремлены сотни стерегущих его глаз. На поездку в Саратов, а затем и на визит его к Мине Фогт, несомненно, обратят внимание и не преминут довести до сведения императрицы, которая, правда, с нетерпением ждет, чтобы он поскорее убрался из Петербурга, но не в Саратов, а на юг, в армию. Разве написать ей?
Он не знал, что делать, и после долгих колебаний наконец написал Мине, чтобы она приехала в Петербург и, согласно обещанию ее отца, данного ему, князю, в студенческие годы, «привезла с собой чудесные составы, коими твой батюшка лечил от ушиба, а под старость обещал вылечить и от другой болезни, свойственной всем стареющим людям». Письмо оканчивалось просьбой о прощении, о примирении, о предании забвению всего, чем мог огорчить ее «повеса Гриц», и приложением банковых билетов на сто тысяч «для нашего сына».
С письмом к Мине Фогт поскакал тот же фельдъегерь Соловьев, который ездил в Москву, получив от светлейшего обещанную награду в сто червонцев.
Но капризная фортуна решительно повернулась спиной к князю, не желая его знать, и то, что так легко давалось ему в молодости, теперь ускользало от него, как золотая рыбка, гуляющая в морской пучине.
Через десять суток фельдъегерь вернулся из Саратова и привез светлейшему письмо от Мины, в котором она, благодаря князя за щедрый подарок, писала, что их сын жив, здоров, живет в Германии, где женился и занимается живописью; что от отца она не получила никаких сведений о чудесных составах, так как батюшка скончался скоропостижно, от разрыва сердца, и не оставил завещания. Между прочим, она писала, что желала бы повидаться с князем и рассчитывает приехать в Петербург. Письмо носило сухой, деловой характер.
Светлейший, прочитав его, прослезился и тихо прошептал:
— Все против меня, как раньше было все за меня!
Коллер-мейстер Браун унес свою тайну в могилу.
В равнее июльское утро, в Царском Селе, около дворца императрицы, медленной походкой прохаживалась полная, красивая дама уже не первой молодости, одетая, по-провинциальному, в дорогой, но немодный летний костюм. Она с нетерпением посматривала на выходные двери главного подъезда; по-видимому, ей кого-то нужно было увидеть, спросить, но никто не показывался, и она продолжала ходить взад и вперед, как часовой маятник.
К крыльцу подкатила карета, запряженная шестеркой.
Дама остановилась и стала наблюдать.
Двери главного подъезда распахнулись, и в них показались слуги, выносившие баулы, подушки и другие принадлежности дальнего вояжа. За слугами вышел высокий господин, одетый по-дорожному; его лица она не успела рассмотреть, так как его окружала толпа придворных, блиставших золотом шитых мундиров. В окне дворца показалось улыбающееся лицо дамы: она наблюдала, как высокий господин усаживался в карету.
— Батюшки! — чуть не вскрикнула провинциалка. — Да это сама государыня!
Но вот щелкнул бич, послышались последние напутственные восклицания раззолоченных мундиров, в окне взмахнул платок императрицы, и карета, мягко шурша колесами по усыпанной гравием дороге, покатила в дальний путь.
Когда карета поравнялась с провинциалкой, она с любопытством заглянула внутрь ее.
Высокий господин сидел, прижавшись в угол кареты, со скорбным выражением, застывшим на осунувшемся, желтом лице; из угасших глаз, глубоко запавших в орбитах, медленно струились слезы. Было что-то такое в этом лице давнишне-знакомое, родное, милое, близкое, что незнакомка невольно сделала движение в его сторону.
— Гриц! — крикнула она. — Григорий Александрович!
Но карета была уже далеко и скоро скрылась из виду, оставив позади себя крутящийся столб придорожной пыли.
Она вернулась к главному подъезду, где стояла прислуга, и спросила лакея:
— Скажите: кто это поехал?
— Светлейший князь Потемкин, — ответил лакей, бросив на нее пренебрежительный взгляд. — А вам что угодно, сударыня?
— Да так… князя нужно было видеть…
— Они поехали в армию… Видно, тяжба какая?
— Да, тяжба, — глухо ответила она, отходя от подъезда. Это была Мина Ивановна Фогт, приехавшая в Петербург увидать «своего Грица», поговорить с ним…
А. Дунин ЛЕШИЙ
Святки в Москве хотя и подходили к порогу нового 1579 года, Васильеву дню, когда начинается самое настоящее веселье, но протекали скучно, вяло. Правда, следуя веками установившемуся обычаю, Москва веселилась, но потихоньку и с оглядкой, сбившись в тесных, жарко натопленных покоях теремов и хором, с воротами на запоре, с дозорами челяди, выставленными где-нибудь в саду или на дворе, чтобы вовремя встретить незваных гостей, если, не ровен час, пожалуют и постучат; в этом не было ничего удивительного: опричники рыскали повсюду, врывались в мирные жилища, и к их налетам москвичи даже успели привыкнуть. У себя дома москвичи еще веселились, но улицы, и вечером и днем, как вымерли, были пусты. В прежние времена, до опричнины, в Москве дышалось сравнительно легко, и в Святки по улицам бродили и разъезжали толпы ряженых, медведи, татары, турки, цыгане, козы, ведьмы, кикиморы, русалки: гудел барабан, бренчала жилейка, и сладко пела зурна; ряженые так уморительно скакали и прыгали или отхватывали такого трепака, что прохожие покатывались со смеху; но, с введением опричнины, эти времена прошли, святочное веселье повыдохлось, пропало, и Святки стали как будто и не Святки, а похороны, поминки. Даже красавицы-боярышни, неугомонные гадальщицы, напуганные озорством опричников, и те присмирели и уже не выбегали за ворота шумной, шаловливой гурьбой, чтобы разыскать только что снятый с ножки и брошенный в снежные сугробы башмачок, а выходили поодиночке и тоже с оглядкой, не виднеется ли где вертлявый шлык царского «грызуна».
До Святок ли, до веселья ли, когда гневен царь Иван Васильевич, и в Москве, что ни день, то одну, то другую жертву выхватывают палачи из старинных боярских родов, и пытают и рубят головы опальных.
Да и сам Грозный проводил время не по-святочному, сумрачно, часто совещаясь со своим медиком Елисеем Бомелиусом.
Бомелиус, вестфальский пруссак, получивший образование в Кембридже, был вывезен в Москву из Англии, где он занимался астрологией и медицинской практикой. За астрологические предсказания, противные духу учения англиканской церкви, по распоряжению лондонского архиепископа, его заключили в Тауэр. Русский посол Савин, прибывший в Лондон с секретным поручением Грозного устроить его брак с королевой английской Елизаветой Тюдор, дочерью Генриха VIII и Анны Болейн, узнав, что Бомелиус весьма искусен во врачевании и составлении гороскопов, стал просить отпустить его в Московию. В Лондоне были рады отделаться от опасного авантюриста и охотно изъявили готовность услужить послу, в благожелательном расположении которого при дворе Елизаветы заискивали, так как королева, вовсе не думая выходить замуж за Грозного, при посредничестве Савина рассчитывала убедить царя увеличить те льготы, какими английские купцы пользовались при торговле в Московии. Бомелиус, увезенный Савиным в Москву вместе с женой-англичанкой Анной, урожденной Ричардс, и здесь, как и в Лондоне, занялся астрологической и медицинской практикой, имевшей при дворе Грозного и у знатных бояр, судя по нажитому им в короткое время крупному состоянию, блестящий успех. Впрочем, он занимался не только медициной и астрологией, но и приготовлением, совместно с аптекарем Френшем, всевозможных «вененусов», — страшных ядов, которыми Грозный угощал на своих пирах обреченных бояр. В этой области он считался выдающимся специалистом, и приготовлял по заказам Грозного в своей лаборатории в Немецкой слободе всякие «вененусы»: и тонкие, с наркотиками, приятные на вкус, убивавшие жертву не сразу, а спустя некоторое время, и острые, от которых жертвы Грозного погибали в ужасных и длительных мучениях, и, наконец, яды с быстрым, почти молниеносным действием. Фабрикуя отраву, чтобы добиться надлежащих эффектов, Бомелиус производил опыты. В Лондоне для этой цели он пользовался обезьянками и кроликами; даже по приезде в Москву, вывезя с собой двух горилл и клетку с мартышками, первое время он продолжал пользоваться исключительно этими животными, и только позже, по приказанию Грозного, перенес опыты на колодников, о чем свидетельствуют сохранившиеся до нашего времени акты дьяков разбойного приказа с именами осужденных и «приявших смерть от отравы немчина Елеськи Бомелиуса».
Было около семи часов вечера или, правильнее, ночи, так как в это время Москва официально считалась на ночном положении, и никто не осмеливался ни пройти, ни проехать по улицам без установленного пропуска. Крутила сильная метель. Ветер, вихрями вздымая снежные покровы, гнал их, застилая саваном пустынные улочки и площади Кремля, врывался в тесные пространства между храмами, теремами и палатами, вылетал оттуда и с ревом, воем и свистом несся дальше, к Боровицким воротам, к лесу, подходившему вплоть к кремлевским стенам. Всюду было темно, пусто и холодно, как в могиле. Лишь у нового царского дворца стояла колымага медика, запряженная четверкой лошадей гусем, да в окнах царской опочивальни светился огонек. Застоявшиеся кони фыркали, ржали и беспокойно бились. Около колымаги, вполголоса обмениваясь замечаниями и робко поглядывая на освещенные окна, прохаживались, стараясь согреться, возница и караульный стрелец с алебардой, оба запушенные морозным инеем, с ледяными сосульками в бороде и усах.
— Так, говоришь, лешего привез? — спросил стрелец, обращаясь к угрюмому вознице. — Это который в шубе-то, с шорстнатой мордой?
— Он самый. Шибко зябок… индо кашляет.
— Гм!.. Еще бы не кашлять, — усмехнулся стрелец, отдирая с бороды ледяные иглы. — Чай, в аду-то жарынь, а тут дух стынет… Ох, Господи, помилуй нас, грешных. — Стрелец зевнул, перекрестил рот и спросил: — А чево он жрет… леший-то? Иде он спит?
— А жрет он, что и сам немчин, — объяснил возница. — А и спит рядом с его опочивальней.
— И не боится?
— А чего ему бояться? — он душу продал.
— Душу? — изумился стрелец.
— Ну да. Продал на тысячу лет и расписался кровью.
— Это как же?
— А сдался ему, значит, в кабалу, подписался с женой и детками. Когда сдохнет, — должон он, значит, отслужить самому набольшому чорту в аду ровно тысячу лет.
— Тэ-эк. А потом?
— Что потом? — знамо, отпустят… Пойдет по свету по белому и будет соблазнять православных…
— Шш! — остановил его стрелец, указывая на окно, в котором показалась тень.
— Он! — испуганно произнес возница. — Кабы не услыхал…
И стрелец и возница, оба замолчали, крестясь и творя молитву.
Сам Бомелиус и его «леший» находились в это время у царя в опочивальне.
Бомелиус, человек высокого роста, лет тридцати пяти, с черными волосами, как у женщины, ниспадавшими до плеч, бритый, с энергичными, но жесткими чертами продолговатого, худощавого лица, тонкими, бескровными, плотно сжатыми губами, горбатым носом с резко очерченными ноздрями и карими ястребиными глазками, обладавшими свойством, когда было нужно, пытливо впиваться в собеседника и быстро ускользать от него, юрко бегая по сторонам с проворством мышек, производил впечатление хитрого проныры. Он был одет в атласный супервест[9] с серебряными звездочками по голубому полю, подбитый чернобурой лисой, с крупным, красным, как кровь, лалом[10] у ворота, сверкавшим на белоснежном фоне кружевного жабо, и обут в сапоги зеленого сафьяна на меху, отороченные мелким жемчугом; голову прикрывал темно-синий бархатный берет.
Он сидел напротив Грозного за столом, на котором в беспорядке стояли чаша и братина с вином, чарки и флакончики богемского хрусталя с жидкостями разных цветов, игравшими в свете двух серебряных канделябров с восковыми свечами. В флакончиках заключались новые яды, приготовленные Бомелиусом и обозначенные на ярлычках надписями на латинском языке. По-видимому, они сильно интересовали царя. Он расспрашивал медика, как пользоваться ими, каждым в отдельности и в смесях, и из каких растений они добыты.
Бомелиус охотно давал царю подробные объяснения.
Кроме них, в опочивальне находилось другое человекоподобное существо — огромная горилла-самец Блакк. Он стоял у окна и, не отрывая умных глаз, ставших печальными от болезни и неволи, наблюдал Бомелиуса — его жесты, чудовищную тень, скользившую но стенам и расписному потолку, или прислушивался к его голосу с изменчивой, то резкой, то вкрадчивой интонацией. Блакк сильно кашлял, хватаясь за грудь длинной, исхудалой рукой и апатично пожевывая сильными челюстями. От времени до времени, осторожно ступая, он подходил к медику, заглядывал через его плечо на стол и снова возвращался к окну. О, он хорошо, знал, чем кончались разговоры его хозяина с этим мрачным высоким человеком в монашеской скуфейке на голове, и для чего служили эти флакончики. Большие и сильные люди на его глазах погибали от них в страшных мучениях. Так погибла его подруга Хансом. Бомелиус плеснул ей в молоко несколько капель, и она свалилась после первого глотка. Как она мучилась! Если б не цепь, на которую Блакк был тогда прикован, он растерзал бы медика…
— Это, государь, стрихнин, добытый из челибухи[11], — сказал Бомелиус, взяв со стола флакончик с бесцветной жидкостью. — Действие сего яда весьма продолжительно, если он дан в надлежащей дозе, и сопровождается такими конвульсиями, каких можно пожелать только самым злейшим врагам вашего цесарского величия.
Грозный улыбнулся.
— А ну-ка, попробуй! — насмешливо предложил он, весело посматривая на медика.
Бомелиус вздрогнул и побледнел, как мел.
— Ну, ну, не бойся, Елеся! — поспешил успокоить его царь, зорко всматриваясь в его лицо. — Я пошутил. Да ведь и ты не ворог наш, — чего ж ты испугался?
Уже в это время, почти за год до разыгравшихся событий, Грозный, по-видимому, что-то подозревал о заговоре бояр, в котором медик принимал участие.
— Государь, я всегда служил тебе, как преданный слуга твой, — сказал Бомелиус, оправившись от испуга. — Я не однажды свидетельствовал мою преданность…
— О своей преданности ты, Елеська, нам лучше не говори, — прервал его Грозный, нахмурив брови. — Твою преданность всегда можно купить. А цена ей — кто больше даст. Ну, ин ладно… А пробу стрихнину надо учинить… Из челибухи, сказываешь, добыл?
— Да, государь.
— Чудно! От корня челибухи, говорят, можно грыжу излечить, а от листу и стеблю — умереть мукой мученической… Одна травка, а, видно, по-разному нам служит. Гм!.. И травка у Господа Бога, видно, бывает тоже двуликая, как и люди…
Грозный отпил вина из стоявшей перед ним чаши, исподлобья глянул на медика и поболтал флакончик, рассматривая жидкость на свет.
— А много же ты наготовил товару, — задумчиво молвил он. — А облезьяна-то травить привез, что ль?
— Да, государь.
— Напрасно. У нас много колодников.
— Хворает он… и все одно — подохнет.
— Ладно, — согласился царь. — Дай-ка ему, — передал он медику флакон со стрихнином. — И выведи его на снег.
Бомелиус взял чарку, наполнил ее вином и прибавил несколько капель яда.
— Блакк! — позвал он. — Поди сюда.
Человекоподобное существо, щелкая челюстями, со свирепым рычанием попятилось назад, отступая к дверям.
— Смотри, Елисей, — предупредил Грозный медика, встав с места и тревожно хватаясь за костыль, — зверь взбесился.
Медик смело приблизился к горилле.
— Пей, чорт! — выругался он, протянув к Бланку руку с чаркой.
Блакк остановился: как бы что-то соображая, он окинул медика с ног до головы медленным взглядом, полным жгучей ненависти; хохолок на его лбу поднялся дыбом, глаза сверкали, как раскаленные уголья.
— Ну? — нетерпеливо произнес медик, наступая на гориллу с угрожающим видом; но вдруг замер. Волосатая лапа Блакка, описав в воздухе дугу, со страшной силой ударила медика по руке, вышибив чарку, и другим ударом свалила его с ног.
Бросив распростертого на полу медика, Блакк стремительно подбежал к столу, схватил флакончики и с быстротой молнии выскочил в дверь. Пробежав по переходам и опрокинув рынду, преградившего ему путь, он вылетел на крыльцо.
Караульный стрелец, на которого налетел Блакк, в ужасе бросил алебарду и, как сноп, повалился лицом в снег.
— Чур меня! Чур меня! — бормотал он. — Да воскреснет Бог и расточатся врази его!
Возница бросился бежать.
Блакк проворно вскочил на облучок колымаги, подобрал вожжи и, подражая вознице, издал резкий гортанный звук. Перепуганные кони, как бешеные, сразу рванули и понеслись вихрем.
Около Спасских ворот колымага налетела на дозорного стрелецкого сотника, возвращавшегося верхом в Кремль. В один миг сотник был вышиблен из седла и смят, а конь, перепуганный насмерть, с развевающейся по ветру гривой, без памяти помчался по пустынным улицам.
Колымага от Спасских ворот завернула к Замоскворечью, — в сторону, противоположную Немецкой слободе, — и помчалась по направлению к Балчугу. Пролетев по деревянному мосту через реку Москву мимо стрелецкой заставы, она понеслась дальше, миновала на Балчуге знаменитое кабацкое кружало, ряды пригородных домиков, сады, огороды, пустыри и наконец выскочила в открытое поле, за которым начинался лес. Метель с яростным ревом и свистом встретила колымагу, коней и диковинного кучера. Дорога, занесенная снегом, пропала, и кони, все еще испытывая непреодолимый страх от присутствия на козлах мохнатого возницы, потащили экипаж дальше, напрягая последние силы и по грудь проваливаясь в сугробах и оврагах.
В домике лесника Никиты, стоявшем на опушке леса, в верстах десяти от Москвы, шло святочное гаданье. Две дочери лесника, Аленушка и Даша, и их гостьи-подружки гадали на «суженого-ряженого», выливая воск в деревянную чашку с водой, на дне которой отлагались разные замысловатые фигурки. В теплой маленькой горенке без умолку звенел смех, звучали песни, раздавались шутки; сам Никита залихватски подыгрывал на жилейке.
В самый разгар веселья под окнами зазвякали бубенчики. Кто-то подъехал, остановился у ворот и резко постучал в калитку.
— Господи помилуй! — тревожно проговорил лесник, вопросительно посматривая на притихнувшую молодежь. — Кто бы мог быть?
Он опрометью выбежал на двор.
— Кого Бог дает? — окликнул он.
За калиткой послышалось рычание, и стук повторился сильнее.
— Что за чудеса! — изумился лесник. — Иль ряженые балуют, иль без языка человек…
Он отодвинул засов.
— Ой, ба-а-тюш-кии! — в ужасе завопил он не своим голосом, отступая в глубь двора. — Свят, свят!
Блакк, окоченевший от холода, выбивая зубами частую дробь, прошмыгнул в сени и вошел в горницу.
При его появлении девушки, ополоумев от ужаса, с воплями о помощи выбежали на двор, выскочили в поле и скрылись в мятущихся снежных спиралях метели.
А продрогший Бланк забрался на горячую печь и там залег, корчась от мучительного кашля.
Лесник Никита, явившийся ночью к приставу Бородину вместе с дочерьми и гостьями, заявил, что в его дом приехал в боярской колымаге… «сам леший», и что «они-де, бежав от него в великую стужу, совсем раздетые, едва ушли живы».
Бородин немедленно доложил о происшествии Грозному.
Стрелецкий отряд, прибывший в домик лесника вместе с медиком, нашел Бланка на печи.
Он был мертв.
Место, где стоял этот домик (вероятно, Большая Якиманка), в позднейших актах часто упоминалось под названием «Лешево Урочище»; под этим названием оно было известно и в народе; но впоследствии, с расширением площади столицы и уничтожением подмосковных лесов, название это исчезло и мало-помалу совершенно забылось.
След «вененусов», унесенных гориллой, отыскался: весной, когда на Балчуге стаял снег, прохожие нашли флакончики, оброненные Бланком, и попробовали их содержимое. Многие отравились. Это обстоятельство, послужившее к созданию слуха, что немцы отравляют народ, окончилось погромом всех иностранцев, живших в Немецкой слободе.
Сам Бомелиус, уличенный в заговоре против Грозного, погиб в ужасных пытках.
А. В. Шиунов ДВЕ ИМПЕРАТРИЦЫ Видение в Летнем дворце
Илл. В. Сварога
Смутная тревога была написана на всех лицах.
В прихожих дворца толпились слуги. Палаты были ярко освещены, но, несмотря на это, все там было окутано мертвой тишиной, которая жутко тяготила всех и действовала неприятно, даже на самого всесильного Бирона. Медленно и задумчиво ходил он в своем рабочем кабинете, поминутно останавливаясь и прислушиваясь к зловещей мертвой тишине.
С той самой минуты, когда императрица Анна Иоанновна почувствовала приближение смерти, он совершенно потерял присутствие духа: ведь приключись что с Анной Иоанновной, положение и власть ее фаворита могли резко измениться.
Герцог, за одни сутки, в сотый раз перебирал в своей памяти все подробности происшедшей с императрицей галлюцинации, так внезапно подорвавшей ее драгоценное здоровье.
* * *
А произошло это так. Сидя за карточным столом с ним, Остерманом и Головиным и играя в ломбер, императрица вдруг побледнела и, выпустив из рук карты, быстро, несмотря на свою полноту, так отягощавшую ее в последнее время, поднялась со своего кресла. Она провела рукой по глазам, словно хотела убедиться в реальности происшедшего с нею. Ее партнеры растерянно вскочили и, недоумевая, смотрели друг на друга. Когда же Бирон с удивлением спросил императрицу, чего она испугалась, Анна Иоанновна дрожащим голосом ответила:
— Мне вдруг показалось, что карты мои залиты кровью и я испугалась. Ведь это — очень скверный признак… Мне кажется, что скоро, очень скоро я должна умереть…
— Не стоит верить, государыня, в разные предчувствия, яко сие вне пределов Божьего откровения. Сия же галлюцинация не иначе объяснена быть может, как крови приливом к голове вашего величества, а так как оное не опасно, не стоит вашего испуга, — попытался было Головин успокоить императрицу, но она недоверчиво покачала головой и сказала:
— Нечего мудрить, Головин. Чай, не Бог весть, как трудно догадаться. Это верный признак близящейся смерти, — и, попрощавшись с ними, поспешно удалилась в свою опочивальню.
Бирон был очень озабочен этим случаем.
Он старательно обдумывал свое настоящее положение, вырабатывая давно уж лелеемый им грандиозный план, который сможет удержать его надолго на высоте его тогдашнего положения.
Было уже далеко за полночь… Императрица Анна Иоанновна давно уже удалилась в свои царственные покои и Бирон, измученный и ослабевший от долгого бодрствования, отдался отдохновению…
* * *
Среди мертвой тишины, нарушаемой лишь осторожным покашливанием караульного офицера, раздался зов часового, стоявшего у дверей тронной залы. Офицер немало был удивлен этим зовом, возвещавшим о присутствии императрицы в тронной зале, тем более, что в такой поздний час императрица не имела обыкновения выходить из своих покоев. Он моментально вскочил на ноги, выстроил караул и достал шпагу, чтобы отсалютовать Императрице. В это время перед караулом, в парадном платье, медленным шагом прошла императрица Анна Иоанновна. Офицер отсалютовал, но императрица как бы и не заметила его. Она тем же медленным шагом ходила взад и вперед по тронной зале. Но что-то необычайное было в лице императрицы. Она была задумчива, взор был опущен к полу, словно какая-то тяжелая дума тяготила ее… И офицер, и весь взвод были поражены и смущены этой ночной прогулкой по парадной зале и еще пуще задумчивостью государыни.
Так прошло минут двадцать и все это время императрица медленным шагом отмеривала вдоль и поперек всю тронную залу, склонив на грудь голову и закинув назад руки, по-видимому, ни на кого не обращая внимания. Офицер, видя, что Анна Иоанновна и не собирается идти дальше и желая узнать намерения императрицы, решился, наконец, пройти другим ходом в дежурную женскую. Тут он вспомнил, что незадолго до этого своего появления в зале, императрица удалилась в опочивальню в сопровождении Бирона и потому поспешно направился в покои герцога…
— Не может быть! — вскричал удивленный герцог. — Я только что от императрицы — ее величество ушла в спальную комнату. Не может быть!
— Никак нет, ваша светлость! — настаивал офицер на своем. — Ее Величество уже с двадцать минут в тронной зале, в чем можете сами убедиться. Я отсалютовал ее величеству.
* * *
Смущенный этим сообщением Бирон отправляется в залу и, действительно, видит Императрицу, которая, не обращая никакого внимания и на него, медленным шагом проходит мимо, погруженная в какую-то думу. Но что-то странное поразило Бирона в облике Анны Иоанновны. Это была, действительно, государыня, но не государыня, которую он, Бирон, знал, которую привык видеть почти каждый час и, с которой он, незадолго до этого простился перед сном.
Сходство с императрицей было поразительное, но что-то воздушное проглядывало во всем ее теле, в ней самой. Казалось, и ее походка была воздушная, — не было слышно ее шагов и не было заметно обычного напряжения в походке тучной Анны Иоанновны. И это больше озадачило Бирона и, еще раз пристально посмотрев на таинственную незнакомку, он закричал, обращаясь к офицеру:
— Это какая-нибудь интрига, обман, какой-нибудь заговор, чтобы подействовать на солдат! Это не императрица, а наглая самозванка, которой место не здесь, а в темном каземате.
Но, чтобы вполне убедиться в своем подозрении, Бирон бросился в спальню государыни.
Анна Иоанновна, действительно, уже разделась и, собираясь лечь в постель, сидела в пудермантеле[12]. Не меньше удивилась императрица, увидев Бирона в такой поздний час в своей спальне, с гневно сверкавшими глазами и сжатыми кулаками.
— Заговор, заговор, государыня! — волнуясь, кричал Бирон, когда государыня недоумевающе посмотрела на него.
— Расскажи, мой друг, сперва мне, что случилось, а после кричи, сколько душе твоей будет угодно, не пугай меня! — обратилась она к нему, стараясь казаться спокойной. Бирон в кратких словах сообщил императрице о появлении какой-то женщины, воспользовавшейся поразительным сходством с ней и надевшей императорскую корону. Эта женщина, желая одурачить солдат, ходит по тронной зале. Он выразил императрице свои подозрения: ее подослали заговорщики, чтобы она воспользовалась, с дурными намерениями, замешательством караула, — такой заговор существует уже давно против царской особы!
И Бирон даже намекнул на участие в этом заговоре некоторых близких ее величеству лиц.
— Выйдите, выйдите в залу, государыня, изобличите эту ложную императрицу в глазах всего караула! Торопитесь, ваше величество, пока не поздно. Пока она не сделала того, для чего она пришла сюда, — торопил Бирон Анну Иоанновну. Императрица, перепуганная, решилась выйти в залу, как была, в пудермантеле.
Бирон почти бежал, поддерживая императрицу.
* * *
Вот и тронный зал. Караул стоит, как вкопанный, руки на приклад. Началась торопливая церемония встречи государыни. Офицер отсалютовал уже настоящей императрице. Анна Иоанновна вошла в залу в сопровождении Бирона и стражи, но, едва переступив порог, обомлела от ужаса: в нескольких шагах от нее стояла ее тень, ее отражение, женщина, которая была поразительно похожа на нее.
— Вот она, дерзкая! Вот! — вскричал торжествующий Бирон, указывая Анне Иоанновне на самозваную императрицу, довольный оправданием своих догадок и подозрений. Он был бесконечно рад внезапно явившемуся случаю иметь в каземате «Тайной канцелярии» преступную женщину, дерзнувшую выдавать себя за императрицу и восхищался своею прозорливостью, давшей ему возможность так ловко изобличить самозванку. Анна Иоанновна была до крайности поражена, видя перед собой свой собственный живой портрет. Но она смело приблизилась к незнакомке. Теперь друг против друга гордо стояли две Анны Иоанновны, похожие, как две капли воды, одна на другую. «Самозванка» стояла лицом к лицу с императрицей, пристально всматриваясь в нее и, по-видимому, нисколько не смущаясь.
Постояв так с минуту, императрица вдруг грозно выступила вперед, готовая приказать солдатам тут же, на месте преступления казнить обманщицу:
— Кто ты, женщина, и зачем пришла сюда? Скажи, зачем?
Но ложная императрица, не спуская пристального взгляда с лица Анны Иоанновны, лишь отступила назад, по направлению к трону. Затем взошла на него и остановилась.
— Это — дерзкая обманщица, — обращаясь к взводу, сказал Бирон, взбешенный наглой выходкой самозванки. — Вот ваша императрица — Ее Величество Анна Иоанновна. Она приказывает вам — стреляйте в эту женщину, дерзкую самозванку!
Изумленный и растерявшийся офицер скомандовал, солдаты прицелились в ложную императрицу, которая, гордо выпрямившись, продолжала стоять на троне, пристально смотря на Анну Иоанновну. Но тут случилось нечто необыкновенное и трудно объяснимое. Самозванка сделала еще один шаг и, к изумлению всех присутствующих, исчезла, как бы растаяв в воздухе… В первое мгновение все были поражены внезапным исчезновением таинственной женщины, но, немного оправившись, бросились к трону.
Анна Иоанновна вздрогнула, побледнела и, повернувшись к Бирону, тихо произнесла:
— Я знаю, знаю ее. Это — моя смерть! Да, это была моя смерть, она пришла за мной. Я скоро умру, — и грустная улыбка слегка тронула ее бледные губы.
— Ты помнишь кровь на картах? — вновь заговорила она. — Это она известила меня о своем близком, посещении, — и, сказав это, императрица поклонилась всем и вместе с Бироном ушла к себе.
Через три дня после этого страшного видения она, внезапно заболев, слегла в постель.
Страх ли близящейся смерти подействовал на нее, или какой-нибудь недуг заставил ее слечь, но с каждым часом императрице становилось все хуже и хуже и она уже чувствовала над собой леденящее веяние черных крыльев смерти.
А 17 октября 1740 года флаг, спущенный на шпиле Летнего дворца, известил мрачный Петербург о смерти Ее Императорского Величества, Государыни Императрицы Анны Иоанновны.
Вера Лович РУКА КОРОЛЕВЫ
Старый, тяжелый, точно седой, сундук — «с морозом», как говорила няня (такие серебристо-узорные, точно покрытые изморозью, сундуки делали прежде где-то здесь, на Урале), — старый сундук, который не открывался уже несколько лет.
Громадный, кованый ключ, словно от завоеванного города, со скрипом поворачивается, и ему из сундука отвечает некое мелодическое пение, как перезвоны старинных курантов… А когда откинешь массивную тяжелую крышку, в лицо пахнет выцветшим, немного сладким, томным и тонким ароматом. Им пропитаны и тяжелые атласные платья, и нежные, как пожелтевшая паутина, кружева, и коробочки из «рыбьего зуба», когда-то выточенные слепой якуткой в долгие зимние ночи, в углу дымной юрты, и тонкие белые шелка старого Китая, которые с ласковым шелестом скользят, уплывают между пальцами…
Мы давно забыли, давно не чувствуем душу вещей. И наши вещи перестали быть одухотворенными. Оттого они так равнодушно появляются и исчезают так скоро. Прежде было иначе: умная, домовитая старина умела ценить вещи и беречь даже обломки их. И вещи отвечали людям тем же. Они медленно, годами собирались, не спеша устанавливались, долго-долго стояли на своих местах, видели много, слышали много… Они пропитывались жизнью дома, вбирали в себя ее аромат и бережно уносили его в тяжелые кованые сундуки, когда старая жизнь отходила, и на место ее приходили молодые…
Чуть ли не все страны принесли в старый сундук свои подарки. Многими десятилетиями собиралась эти вещи, и почти столько же лежат они здесь, дремлют за толстыми стенками, в томном благоухании каких-то давно забытых благовоний… Лежат и не слышат, не хотят знать нашей мелкой, торопливой жизни, которая идет тут же, мимо старого сундука, кажется, сросшегося со своим полутемным углом, за дверью…
Между детскими японскими чулочками с отдельным большим пальцем, точно рукавички, и полуистлевшим кружевным веером из Севильи, я нашла маленькую книжку, всего полкнижки, с оторванным концом, с разорванным титулом, от которого уцелела только нижняя половинка.
На ней остатки какого-то щита с завитушками и веточками. Под ним красными расплывчатыми буквами напечатано: AMSTERDAM, а ниже черными, полустершимися: Chez la Veuve Jean Francois Jolly, и опять красным: MDCCLXII.
Совсем внизу острым тонким почерком приписано чернилами «Ch. Le Roy»[13], и нарисован от руки странный значок: маленький треугольник с точкой посередине, из каждой стороны которого выходит по тоненькой черточке.
Я долго перелистывала старую книжку без начала и без конца. В ней осталось совсем мало страниц, и только одна сказка уцелела настолько, что ее можно прочесть.
В ней тоже не хватает одного листка, но в начале ее столько странного, жуткого очарования, что я не могу от него отделаться… Целый день плывет за мной, по всем комнатам, ее серая зыбкая тень.
Мне будет легче, если я закреплю ее на бумаге.
I
Тяжелое безвременье нависло над страной. Перемешались года. Спутались и остановились времена года. Люди не старились и не умирали.
Люди ходили бледные и усталые, подобные призракам. Старики не могли умереть, а юноши были похожи на стариков, если б не черные волосы, сбегавшие вокруг их бледных, изможденных лиц. Только в глубине ввалившихся глаз загоралось временами и меркло глухое пламя. Но оно не говорило о весне.
Это была ненависть, глубоко затаенная ненависть к жизни, которая не хотела покинуть их изможденные тела… Она не говорила о весне.
Над землей остановилась и повисла тусклая, дождливая осень.
Никто не знал, когда она кончится. И только самые старые помнили, когда она началась, и погасла последняя весна…
Это было давно. Очень давно. Так что ум человеческий становился бессильным и ученые не могли высчитать, когда это началось.
Да и никому не нужно было это знать.
Последние юноши и девушки, которые родились позже других, никогда не знали весны. Они не видели, как расцветают цветы, не слышали, как поют птицы. Она выросли осенью, которая тянулась бесконечно, — под серым небом, что плакало тяжелыми, холодными слезами.
Время остановилось. Старики перестали умирать, зрелые люди не старились, а они… они так и остались юношами и девушками.
Как это случилось — никто не заметил. Никто не хотел думать, что время остановилось. А потом стали забывать… усталые, истомленные люди с печальными лицами.
Стали забывать…
А они, которым нечего было забывать, потому что они ничего не помнили, кроме осени, они так и не узнали весны, не видели весеннего солнца, никогда не мечтали при серебряном свете месяца в голубые прозрачные ночи.
Еще иногда всходил месяц: темно-красный, испуганный. Но мокрый бешеный ветер нагонял черные, тяжело нависшие тучи и месяц прятался. Потом разрывались тучи и брезжил тусклый рассвет, а быть может, и сумерки… И долго не появлялся уже месяц. Никто не знал, куда уходил он.
Солнца не было никогда.
И если наступали дни, были они серые, беспросветные…
Чаще стояли над землей дождливые сумерки. Долго. Быть может, целые недели, месяцы… Кто мог знать это, когда время остановилось?
Солнца не было никогда.
Это началось давно. Очень давно. Только самые старые помнили что-то и шептали сморщенные, высохшие губы:
— Это, когда ушла королева…
II
Молодые ничего не знали о королеве.
Пустой и мрачный стоял на горе королевский замок и безглазыми черными окнами глядел на равнину, куда спускался по скату королевский парк.
У ворот старые и неподвижные, как изваяния, застыли два воина, опираясь на алебарды. Казалось, они обрастают мохом, который полз, облепляя ворота замка и самый замок, проникая во все трещины, раскалывая старые камни.
Серый бесформенный страх вился кругом замка, заползал в незнающие души, словно был замок местом проклятия, незабытого греха.
Старики ничего не говорили об этом, а молодые не знали.
Никто никогда не приближался к замку. Даже шаловливые дети не подбегали тайком к ограде парка, потому что не стало детей в стране, когда выросли последние юноши и девушки и время остановилось.
Только ветер завывал между черными деревьями парка и насмешливо свистел сквозь чугунную решетку ограды с ржавыми, поломанными прутьями.
Это, когда ушла королева…
Да в глухую полночь, когда черные нетопыри летали кругом замка, завивался ветер в обвалившейся башне, и старый позеленевший колокол звонил:
«Ушла… ушла королева…»
III
Когда вернулся Старый Рыцарь, молодые его не узнали: ушел он, когда они были детьми. Старики же едва вспомнили его.
Давно, очень давно, ушел он из страны. Ушел вслед за королевой — искать ее.
И когда он возвратился, странные слова разнеслись по стране и все повторяли:
— Вернется королева. Она вернется!
Старый рыцарь рассказывал.
Был он далеко. Обошел все страны, был на самом краю света.
Был он в Вечном Городе, где живет Папа, наместник Христа на земле. Ничего не сказали ему там о королеве. Тщетно молился Старый Рыцарь в древнем соборе. Дух Божий давно не сходил к Своему наместнику. Опустел храм и разрушился алтарь.
А святейший отец заплакал, когда припал к его стопам Старый Рыцарь, и ничего не сказал ему.
Оттуда пошел Старый Рыцарь в Иерусалим, где неверные много тысяч лет владеют Гробом Господним. И молился он в святых пещерах.
Но и там ничего не сказали ему о королеве.
Надел Старый Рыцарь власяницу и пошел через пустыню, туда, где между Тигром и Евфратом был рай.
Видел он то, чего никогда не видели люди и был у врат рая.
Но ничего не сказал ему Архангел, и только пылающим мечом заградил вход в рай.
И вернулся Старый Рыцарь на север, и много лет молился в глухом лесу, который вырос на месте громадных городов прошлого.
Там напал он на след королевы.
У святой отшельницы, жившей в лесу с незапамятного времени, нашел Старый Рыцарь покрывало королевы, которое оставила она, когда была тут и молилась.
Отдала отшельница покрывало Старому Рыцарю и благословила его.
Куда ушла королева, — не знала святая, и только понял Старый Рыцарь, что не забыла королева свой народ, и что она вернется.
Взял Старый Рыцарь покрывало королевы, повязал его на посох и понес, как святую хоругвь, в свою страну.
И когда он пришел, повсюду распространилась странная весть:
«Королева вернется».
Взяли покрывало королевы и подняли его на башню, и опять над страной веяли серебряные лилии королевы.
Старики надели заржавленные латы, подняли старые знамена и собрались на встречу королевы в высоком зале замка. Зажглись светильники, и громадные летучие мыши зловеще метались и бились, пока не вылетели все в широкие окна зала.
Но не было королевы, и безмолвно сидели старые рыцари в высоком зале. Только шептали бескровные губы:
«Вернется королева…»
И опять тянулись сумерки, хмурые, мокрые дни и зловещие ночи. Никто не знал, сколько прошло так времени, потому что время остановилось.
Но реяли над страной серебряные лилии королевы, и старые губы шептали:
«Королева вернется».
IV
Она вернулась в глухую полночь, когда все спали, и уснули даже старые рыцари, собравшиеся в высоком зале замка.
Она вернулась, и вернулся с ней карлик, маленький горбатый карлик с грустными глазами, который был пажом королевы и ушел за своей госпожой в далекую неизвестность.
Наутро отворил он двери из внутренних покоев в зал, и узнали все:
«Королева вернулась».
Не вышла королева к своим вассалам, не показалась им, и не посмели они нарушить ее тайну.
В узком западном покое замка собрались они поклоняться своей королеве.
Темно-синим бархатом были обиты стены этого покоя, и в конце его, за тяжелой занавесью из такого же бархата, была дверь в молельню королевы.
Занавесь была опущена. И только рука королевы, белая и узкая, покоилась на подушке синего бархата. И тяжелые складки занавеси скрывали королеву от дерзких взоров.
Молча подходили старые вассалы и преклоняли колени, целуя царственную руку, покоившуюся на темно-синем бархате. Она была холодна и безжизненна, как рука мраморной Мадонны. А старый горбатый карлик стоял рядом, и слезы катились по его сморщенному лицу.
Первым подошел Старый Рыцарь, преклонил колени и, целуя руку королевы, заплакал от радости. Казалось, спадает с него мучительный гнет годов, которым не знал он счета, — и он опустился бездыханный у ног королевы. Душа его отлетела.
И в это мгновенье разорвались тучи, и стало видно вечернее солнце, печальное солнце заката.
Перекрестились старики, подняли тело почившего и отнесли его в часовню, а старые губы радостно шептали:
— Вымолила королева смерть у Господа.
V
Приходили старики, молились в капелле. Потом шли в западный покой замка и, целуя руку королевы, находили желанную смерть.
Тихая радость была между престарелыми, потому что обрели они высшее благо.
Но молодые не знали, что такое смерть, и не шли поклониться королеве.
Нашелся только один из них, и захотел он увидеть королеву.
В час заката, — потому что с тех пор, как вернулась королева, над страной остановился предвечерний печальный час и прояснилось грустное, багряно-золотое небо, — в час заката вошел молодой рыцарь в западный покой замка. Там не было никого, даже старого карлика.
И только белая рука королевы, чуть розовеющая в грусти закатных лучей, покоилась на темном бархате…
…отдернул тяжелую занавесь, которой никто не смел касаться и упал ослепленный…
Очнулся рыцарь, когда заходило вечернее солнце. Двинулось оно и отошло от окна темно-синего чертога.
Занавесь была опущена, и не было руки королевы на темном бархате.
Поднялся рыцарь, вышел из западного покоя и навсегда покинул страну.
Никогда не видели его больше, и унес он с собой тайну любви, которая как смерть.
Исчезла навсегда королева, и с ней исчезла тайна смерти, которая как любовь.
Солнце закатилось в тот вечер и взошло наутро. И тянулось время, и были дни, и сменялись ночи…
Опять приходила весна, и люди опять любили и проклинали любовь. Догорало лето, и за осенью наступала зима.
Умирали люди, проклиная смерть, и боялись ее.
А старый замок разрушался. И только в глухую полночь, когда черные нетопыри летали вокруг, завивался ветер в развалившейся башне и старый колокол грустно звонил:
«Ушла… Ушла королева…»
М. Сазонов СЕРДЦЕ КОРОЛЕВЫ
Илл. С. Лодыгина
Боже, чего только не рассказывали про королеву Динору; и что будто бы еще в детстве ее опоили чудодейственным снадобьем, от которого сердце сохранило только единственную способность — сокрушаться… И еще рассказывали, будто ее окурили нашептанными ягодами можжевельника, отчего ее глазам стали одинаково безразличны мужчины и женщины, все прекрасное и уродливое… и доброе и злое.
Говорили… Ах, да мало ли распускали сплетен про королеву, но самым достоверным во всех этих россказнях была красота Диноры.
Много рыцарей юных и прекрасных тщетно добивались внимания королевы. Она же, бесстрастная и спокойная, неизменно улыбалась:
— Глупые. Как будто я — Бог, что у меня можно выклянчить милость… Это Он богат, всемогущ, щедр, и Ему ничего не стоит быть расточительным… Я же — человек… даже меньше того, я — женщина… Я только нищенка, стоящая с протянутой рукой при входе в Его храм… и потому я скупа… Это так понятно…
Злые шутки и холодное сердце Диноры охлаждали самую пламенную влюбленность, но вот однажды при дворе появился некий рыцарь, по имени Альрих, душа которого не ведала страха ни в битвах, ни среди бушующих волн Ламанша.
Когда же при свидании с королевой он показывал свой меч и вел неторопливый рассказ о подвигах, от глаз Диноры не укрылось, как дрожали его пальцы, путались слова и пресекался голос.
Уж семь дней гостит рыцарь Альрих у королевы Диноры, уж семь дней слышит она рассказы о нравах и обычаях далеких стран, чудесах и рыцарских турнирах в честь прекрасных дам. Вдруг, а то было на восьмой день, рыцарь неожиданно умолк, а королева, привыкшая к комплиментам, подняла глаза и лукаво усмехнулась:
— Я вас слушаю, сударь…
Наступило молчание, рыцарь встал и, не решаясь поднять глаз, молвил:
— Я рассказал все, королева…
— Очень жаль, сударь, если вы уедете… среди моих рыцарей нет столь искусного собеседника.
— От вас зависит, чтоб я остался, ваше величество, — с неожиданной смелостью произнес рыцарь.
Королева нахмурила брови.
— Что значат ваши слова, сударь?
— То, что я люблю вас, королева, — ответил ей рыцарь и поспешно добавил: — Я б никогда не осмелился признаться в своем чувстве, если б не был готов жизнью заплатить за один только ваш поцелуй.
— Вот как, — протянула королева и задумалась, а потом вдруг неожиданно решила:
— Хорошо… я вам подарю поцелуй, но только знайте, вы купите его дорогою ценой…
— Хотя бы ценою жизни… — воскликнул рыцарь.
— В таком случае, вечером, когда в озере погаснет заря, я вас буду ждать, — молвила королева и, не оборачиваясь, направилась к себе.
* * *
— Мой поцелуй вы получите лишь после того, как выпьете вот этот кубок… Но вино отравлено и жить вы будете лишь несколько минут, — такими словами встретила бессердечная королева рыцаря Альриха.
— Несколько минут, — восторженно повторил Альрих и его лицо озарилось счастьем, — да ведь это целая вечность, — и, не задумываясь, он выпил яд, далеко отбросил кубок, крепко прижал к своей груди побледневшую Динору, потом запрокинул одной рукой ее голову и приник к алым, не ведавшим еще поцелуя устам. Чувствовал, как холодеет кровь, подкашиваются ноги, туманится голова и только бездонные зрачки обезумевших глаз жадно топят в себе образ Диноры.
Уже сердце рыцаря не билось и похолодели губы, а побледневшая и с лицом, какого не видывали придворные ни на одной аудиенции, королева все еще пребывала в плену цепких и окостеневших рук мертвеца.
— Люди, люди, — принуждена была позвать она на помощь и, когда вбежал сонный слуга, Динора с притворной брезгливостью молвила:
— Помогите мне освободиться из рук этого безумца… Пользуясь темнотой, он пробрался сюда, и лишь хитрость спасла меня…
С помощью слуг она освободилась из объятий, казалось, даже в смерти пьяного страстью рыцаря и к общему изумлению приказала:
— Принесите носилки… те самые, в которых обычно носили старого короля… и похоронить безумца следует с почестями, подобающими рыцарскому званию…
Слуги бросились исполнять приказание, а Динора, оставшись одна, опустилась на колени пред Альрихом, долго-долго глядела, точно навсегда старалась запомнить черты лица, и уж когда невдалеке раздались шаги, она в последний раз поцеловала мертвый лоб и поспешно встала.
* * *
Однажды во дворец явился некий принц, красота которого была столь необычна, что люди останавливались, как вкопанные, молча следовали за ним по улицам и уж с раннего утра дожидались его появления.
При свидании с королевой, — и это все заметили, — Динора была холодней и неприветливей, чем то полагалось по этикету двора.
Придворные сплетничали:
— А вы обратили внимание, как королева даже ни разу не взглянула па принца?
— И не улыбнулась…
— Ее глаза были опущены…
— Но зато ее первый взгляд был острый и внимательный.
— Ах, господа, королева просто устала… Шутка ли сказать — за каждый свой поцелуй — смерть… Торговля невеселая…
Так судачили придворные про королеву, но зато принц не спускал с Диноры влюбленных глаз.
Для его свиты не было тайной бессердечие королевы и принцу шептали:
— Ваше высочество… не глядите на нее так… уехать отсюда следует поскорей… Ведь говорят, будто эта женщина за каждый свой поцелуй требует жизнь.
Принц качал годовой.
— Не знаю… ничего не знаю… Мало ли что говорят… Просто сказки выдумывают про королеву… Быть не может, чтоб столь неслыханная жестокость могла сочетаться с такой красотой.
— Но ведь на то она и женщина, ваше высочество, — стояли на своем приближенные принца.
А королева, между тем, — и об этом знала только одна служанка, — одевшись простой поселянкой, несколько раз покидала дворец, чтоб взглянуть на принца.
Когда принц был приглашен к королеве второй раз, между ними произошел следующий разговор.
Принц. Королева, есть одно маленькое и старое слово, его повторяют и ради него живут все люди на земле от мала до велика.
Королева. Какое же это слово?
Принц. Счастье… так оно зовется. И людям приятно, когда оно улыбается, больно, когда кто-либо его отнимет, и они предпочитают смерть, если жизнь прожита без счастья.
Королева. А вы? Вы бы тоже предпочли смерть?
Принц. Я готов жизнь отдать за одну вашу улыбку.
Королева. В таком случае, когда солнце утонет в море, приходите ко мне…
Расстались.
Сидя у окна в ожидании принца, королева думала:
«А ведь его слова о счастье похожи на правду! Мне кажется, будто я только что родилась… и мне самой захотелось счастья… Боже, как медлит солнце… А как он говорил о смерти! Прекрасный и храбрый из людей… Ну, солнце, скорей!»
А когда стемнело — принц постучал в дверь.
Наполнив чашу отравленным вином, королева сказала принцу:
— До вас, конечно, дошли слухи о моем бессердечии? Вы знаете, что цена моего поцелуя — смерть. Отчего вы перестали улыбаться, принц? Ведь вы же сами говорили, что ради счастья не жаль отдать жизнь… Даже за мою улыбку вы обещали умереть… А теперь вместо улыбки вы получите поцелуй… Итак, пейте… в этом вине яд… вы будете жить несколько минут… разве этого недостаточно, чтобы сказать: я был счастлив… Ну? Отчего вы побледнели, принц? Что вы сказали? Громче, я вас не слышу…
— Вы шутите, ваше величество, — смущенно пробормотал принц, пятясь к двери. — Я не верил слухам о вашем бессердечии… и вымыслом считал рассказы о безумцах… Теперь же я вижу, что вы в самом деле такая…
— Нет, я не шучу, — голосом странно и жутко зазвеневшим перебила его королева. — Я привыкла любовь ценить выше жизни…
— Я тоже о любви думаю подобно вам, королева, но… я не должен забывать, что моя жизнь нужна подданным, а смерть огорчила бы отца и матушку…
— О, в таком случае, — насмешливо перебила его королева, — вам следует немедленно же ехать домой… — торопитесь, ибо вы слишком многого лишаете своих подданных и родителей…
Совершенно растерянный, от стыда и малодушия не чувствуя под собой ног, принц вышел…
Королева долго, стояла погруженная в задумчивость, наконец подняла голову, подбежала к раскрытому окну и крикнула:
— Принц… принц… Я пошутила… Вернитесь…
Соловей, испуганный криком, умолк и стало так тихо, что было слышно трепетанье крыльев ночных бабочек… Боясь перевести дыхание, замерла Динора у окна и только горящие глаза подсказывали какую-то непреклонную решимость…
Часто-часто застучали каменные плиты под каблуками принца, а через мгновенье он уже, счастливый и взволнованный, стоял пред королевой.
— Я пошутила, принц… Здесь вовсе не яд, а прекрасное вино… Пейте… я тоже буду пить… За здоровье ваших родителей и подданных, — предложила она, насмешливо глядя на принца и не касаясь губами своего бокала…
— Так это шутка? Значит, я буду жить и буду счастлив? — весело воскликнул принц и взял бокал.
Королева видела, как он залпом до дна опустошил бокал, как побледнел и в смертельном испуге схватился за сердце…
— Не хочу… не хочу… — раздался его хриплый крик и, сделав на каблуках полный оборот, он покачнулся и упал на пол.
Королева позвала слуг и приказала:
— Уберите… — а потом, будто про себя, тихо добавила:
— Кто не умеет чувствовать, тот жить не должен…
Сергей Городецкий В ЗАМКЕ КОРОЛЕВЫ КАРИН
Илл. Р. О’Коннель
I
По-фински? Нет, по-фински, конечно, он ни слова не понимает. По-шведски? В шведской книге он поймет несколько слов с общеевропейскими корнями, но в разговоре — ни одного!
Все-таки, надо было объясниться.
Они стояли друг перед другом под воротами старинного замка: низкий, коренастый, старый, как дуб, и красный, как ржавое железо, финн, смотритель замка, и Алексей Алексеевич Алов или Атруа, как он подписывался иногда, русский художник, влюбленный в старину, живущий в прошлом, а в настоящем ничего, кроме красок, не замечающий…
Финн медленно, со смаком, произносил таинственные, певучие слова. Атруа-Алов в отчаянии смотрел на него.
В сущности, узнать ему надо было не так много: в какие часы открыт замок, можно ли в его музеях рисовать и есть ли каталоги.
Может быть, на эти именно вопросы финн и отвечал, и только вследствие природной медлительности и радости, что явился посетитель, его речь была такой длинной. Со связкой тяжелых ключей в руках, с седыми, развевающимися из-под шапки волосами, похож он был на управителя замка, встречающего своего короля. Так казалось Алову, а в самом себе он с удовольствием видел короля, возвращающегося домой. Он был взволнован видом замка, он уже любил его, еще не вступив под его своды.
При впадении реки в море стоял замок, на краю древнего города Турку. Причудливые островки были разбросаны перед ним. Прямо к морю, откуда когда-то приходили враги на расписных кораблях под огненными парусами, обращены были его отвесные, белые стены с неприступными башнями по углам. Мощной скалой казался он, а не людской постройкой. Как горные щели, чернели в его стенах бойницы. Не одно поколение королей сооружало его, увеличивая и укрепляя. Не раз погибали вражьи рати под его стенами, не раз и вторгались они внутрь. Все претерпели и все запомнили былые, седые стены, и вековой мудростью веяло от них.
Алов много слышал про замок Турку, и действительность превзошла его ожидания.
Из-под ворот, где они стояли, открывался вид на первый двор замка. Здания поздней, сравнительно, пристройки, с красивыми квадратными окнами окружали его. Прямо против ворот высилась стена с древними железными дверями. Синева солнечного дня и сказочная тишина шхер окружали замок. Алов нетерпеливо ждал, когда старик впустит его дальше.
Наконец, смотритель звякнул ключами и торжественным жестом пригласил Алова идти за собою.
Они вошли во двор. Старик открыл маленькую дверь.
Многовековой сыростью пахнуло из-под сводов. Звонко зазвенели шаги по каменной лестнице. Старик открыл ветхую конторку, достал оттуда билеты и каталоги, продал Алову, все спрятал назад, поклонился, показал рукой, куда идти, и ушел. Алов остался один. Радость охватила его. Внизу звякнули опять шаги старика, хлопнула тяжелая дверь и все смолкло. Алов был совершенно один, окруженный стариной. Он поглядел в тусклое зеркало и не узнал своего лица. Сделал несколько робких шагов. Сердце его сильно билось. Перед ним открывался ряд комнат. В висках у него стучало. «Много выпил пунша!» — подумал он. — «А может быть, это души прежних жителей замка здесь уцелели?» — промелькнула у него мысль. «Какие глупости!» — решил он и пошел, преувеличенно стуча сапогами.
В первых комнатах, с маленькими окнами в решетках, стояли кареты, коляски, лежали колеса, упряжь. Алов прошел их быстро. В следующих он почувствовал, что едва владеет собою: они наполнены были высокими стеклянными шкафами, и в этих шкафах стояли прекрасные, старой работы, восковые куклы в старинных платьях. На розовых их лицах застыла любезная придворная улыбка. Они стояли попарно, кавалер с дамой. Их костюмы были очаровательны. Разноцветный шелк и бархат, яркие ленты, как паутина, тонкие кружева, причудливые туфли, невероятные пуговицы — все это могло бы доставить Алову истинное наслаждение, если б не страх, который сковал его, как только он переступил порог первой из этих комнат.
Шкафы были сквозные, стекла только по углам скреплены узкими рамами, и каждая комната казалась наполненной нарядной толпой. Из-за того, что всем куклам приданы были живые движения, казалось, что толпа движется, танцует. Неяркий свет усиливал это впечатление.
Алов боялся заглянуть в глаза куклам, остановиться взглядом на улыбающихся их губах.
Осторожно, по стенке, шел он из комнаты в комнату, все время думал о дороге назад. Малейший шорох или отзвук стекол заставлял его вздрагивать в ужасе. Почти пыткой было для него это путешествие по комнатам, и все же он не мог оторваться от него. Иногда, привлеченный какой-нибудь деталью костюма, он забывал про свой страх, и снова подчинялся ему, как только окидывал глазами всю комнату.
Вдруг ему послышались шаги в соседней комнате.
Он прилип к каменному полу.
Там что-то звякнуло.
Он припал лицом к стеклу, вглядываясь в ряды кукол. Сердце его замерло: он увидел движение между кукол, как будто какая-то из них подняла руку. И опять! Он закричал бы, но голоса не было. Шаги приблизились. Он бросился к стене, где была дверь. Теперь уж ясно он видел сквозь стекла, что сюда идет одна из кукол…
Дикими прыжками, стукаясь и задевая, помчался он назад, к выходу, по лестнице, мелькнул в зеркале, и только, когда услышал, как хлопнула за ним дверь, остановился, едва переводя дыханье.
В той комнате, из которой он убежал, весело смеялась молоденькая, розовая, как кукла, девушка со светло-голубыми глазами, в старинной кофте, надетой поверх обыкновенного платья.
II
Через несколько минут Алов лежал в кресле-качалке у себя в комнате, которую он снял тут же, на краю города, рядом с замком. Белые стены башни были видны ему в окно. Алов искоса поглядывал па них, сердясь на свою трусость и на финское нелюбопытство, из-за которого он в большом городе оказался единственным посетителем национального музея.
«А все-таки кукла шла, ведь я видел!» — вспоминал он, и книга выпадала у него из рук.
Это был каталог на шведском и финском языках, довольно толстый. Имена собственные были все понятны, но и только. Чаще других попадались имена Карин и Эрика XIV[14].
Алов решил, что это их замок, что они главные герои его стен — эта Карин и Эрик XIV, король и королева.
Ах, если б что-нибудь узнать про них!
— Карин, Карин, Карин! — твердил Алов. — Королева Карин, ну как же мне узнать что-нибудь про тебя? Я видел платья твоих придворных дам, а про тебя ничего не знаю! Может быть, ожившая кукла — это и была ты сама, а я решительно ничего про тебя не знаю!
Он поднимал каталог и начинал вчитываться в непонятные слова. Да, Карин была королевой, а Эрик XIV, ее муж — королем. Что ж еще было?
Алов бросил каталог на стол, оделся и вышел на улицу. Это была длинная, версты в три улица, с одноэтажными деревянными домами по обе стороны, потом с огромными фабриками. Маленькие вагоны трамвая весело бежали по ней. Алов сел в один из них и полетел в город.
В городе, над рекой, той самой, при устье которой стоял замок, высился древний с закоптелыми стенами собор. Как два великана, собор и замок вздымались над веселым новым городом и перекликались с верхушек своих башен на никому из людей не слышном языке веков. Черный собор и белый замок были большими друзьями. В белом замке жила королева Карин. В черном соборе нашла она себе последний приют. Когда звонили в большой колокол черного собора, стены белого замка плакали. Черный собор и белый замок вдвоем жили в небе над городом.
Алов пришел в собор.
В одной из часовен ему показали могилу королевы Карин. На ней были написаны стихи. Ничего не понять. Грустно постоял Алов в соборе, в каменной его тишине.
Потом долго бродил по городу, по шумным улицам центра, по тихим переулкам окраин, заходил в кафе, обедал и к вечеру вернулся домой. В его комнате была уже раздвинута складная кровать и стояло молоко.
Он быстро заснул.
И снились ему сны, давняя правда.
Где-то в лесу старая деревня.
Бедная, чистая изба. Из нее выбегает девушка-ребенок. Золотая у нее коса. Светло-голубые глаза, темно-золотистые высокие брови. Умный лобик. Алые губы. Стройненькая она, ловкая. Висит у нее корзиночка на руке.
Под окном сидит старуха в белом чепчике. Кричит старуха, отрываясь от длинных спиц:
— Куда ты, Карин?
— За орехами в лес.
Бежит Карин, поет Карин:
Я орехов нарву, Поделю пополам. Рыжей белке в лесу Половину отдам. Половину свою Пополам поделю. Четверть мне, четверть ей, — Няне нищих детей. Четвертушку свою Я опять поделю, Я осьмушку отдам, Я осьмушку возьму И опять поделю, Чтоб хватило на всех. Свой последний орех Я сама раскушу, Счастье выну свое — Вот где счастье мое!Раннее утро. Карин бежит на базар с орехами[15], становится на самом краю, ждет, кто купит. Никому не нужны орехи, всякий сам себе нарвать может. Никто не купит у Карин орехов. Что ж Карин будет есть?
Вдруг трубят рога, летят псы сворами. Люто лают королевские псы, хватают народ. Дрожит народ. На белом коне едет король Эрик. Борода у него рыжая, как свежая ржавчина, вьется борода по ветру. Тринадцать было у народа Эриков, ни одного не было такого бородатого, такого страшного. Жутко жить под Эриком. Кого захочет, того возьмет.
Кого возьмет, того убьет. В страхе ждет короля народ. На самом краю стоит Карин с корзинкой орехов. Золотая у нее коса, светло-синие глаза.
Подъезжает король, увидал девочку, осадил коня.
— Купи, король, орехов! — говорит Карин, поднимая на него глаза.
— Иди за мной! — говорит король, — в замке куплю!
Задохнулся Эрик, увидав ребенка.
Белые стены встречают Карин. Дрожит она, проходя под воротами.
И летит весть по народу:
— Карин королева! Королева Карин!
Ангел пришел в замок. Меньше крови видят стены. Молится народ за ребенка-королеву. Цветами кидают в нее, когда она выходит из замка. Целуют землю, где она прошла. Добрая королева Карин!
Но у Эрика есть брат.
Он идет на брата.
Осажден замок. Кипяток и свинец льются на осаждающих. Но Бог не хочет помочь Эрику. Брат побеждает его. И Эрик в оковах, на цепи, сидит в своем же замке. Грубые воины издеваются над ним. Но с ним его ангел, его Карин. Зовет смерть к себе Эрик. И приходит смерть. Карин идет к победителю-брату, просит отпустить ее в ее деревню. И вот в деревне она. Старый лес встречает ее. Плачет Карин и поет:
Вот где счастье мое! Счастья нет на земле, Счастье в тихой земле, Там в могиле моей. Ты меня упокой, Счастье, тихой землей! Тишиною овей, Вековечный покой!И шумит над ней ореховый лес.
Новый король пирует в белом замке.
В черном соборе готовят могилу. Плачут в народе: умерла королева Карин, умерла наша Карин. Девушкой была, орехи собирала; королевой стала, счастья не нашла. Резчики вырезывают песню на гробнице. Девушки несут венки. Не забудут королевы Карин.
Тело Карин в гробнице, а душа ее осталась в людях.
III
Каждый день в три часа старый смотритель замка берет звонок и идет по залам, тихо дребезжа. Тридцать комнат второго этажа и тридцать комнат третьего, тихим шагом обходит он в час. Он знает каждую вещь, каждый стул, каждый портрет. Иногда с ним идет его старая жена. В это время нижний этаж, где куклы, обегает его дочка, Карин. Она тоже знает всех кукол, любит забираться к ним в стеклянные клетки, любит снимать с них старые наряды и примерять на себя. Ей пятнадцать лет. Она прошла начальную школу. Дальше учиться родители не позволяют.
Карин лентяйка, и ей не очень хочется учиться. Но ей очень хочется рисовать. Она часами простаивает перед старыми портретами, разглядывая, как что нарисовано. Она сама тайком рисует на книгах, на столах, на стенах и на бумаге, когда ее достанет. Отец недоволен, что она рисует. Он хочет подождать еще год или два и выдать ее замуж за хорошего человека, которому можно передать вместе с ней и место смотрителя замка. Редкое место, не всякому передать можно.
Сумерки.
Старики только что вернулись с осмотра. Прибежала и Карин. Глаза у нее посинели, щеки горят. На шее ожерелье — забыла снять.
— Что это? — говорит старик и снимает с нее корявыми, непослушными пальцами ожерелье, завертывает его в платок, прячет.
Теперь на весь вечер затянется разговор.
Пыхтя трубкой над чашкой кофе, говорит старик:
— Опять наряжалась? Королевские вещи тревожишь! Сам видел, как на себя платье примеряла! Да ведь ткань разорваться может. Что я буду тогда делать? Нищим буду? Смотритель приедет и прогонит меня отсюда.
— Мне скучно, — говорит Карин, — отдай меня в школу учиться рисовать.
— Ты забыла, где школа.
— Где? В городе, в Турку.
— А до города сколько километров?
— Трамвай есть.
— Трамвай даром не возит. Десять пенни туда, десять пенни обратно, двадцать пенни в день тратить надо; за каких-нибудь пять дней целую марку тратить! Вот чего ты хочешь! Рисование для богатых людей, которые могут марками швыряться!
— Ну, я буду пешком ходить. Ты только позволь. Меня в школу примут даром.
— Пешком? А сапоги тебе будут выдавать из школы? В школу и обратно — ведь это не меньше семи километров! Ты будешь снашивать сапоги быстро, как почтальон!
Карин грустно опускает золотую головку. Такие разговоры часто бывают у нее с отцом. И видит Карин, что не бывать ей в рисовальной школе. Несчастная она!
Она смотрит в окно, видит стены замка, считает окна. Мрачен замок в сумерки. Но Карин не боится. Она любит замок и его королеву. Ей кажется, что, если бы она жила при королеве Карин, она была бы счастливой, она могла бы научиться рисовать. У королевы Карин были отличные художники, это по ее портретам видно.
— В пять дней — марка, — думает Карин, — в году триста шестьдесят пять дней, значит, если каждый день ездить в школу, нужно семьдесят три марки, да сапоги еще. Всего сто марок нужно! Большие деньги!
Отец задремал у печки.
Карин достает свои рисунки, перебирает их. Вот замок летом, вот зимой. А вот и королева Карин. Всего только тремя карандашами срисовано с большого портрета, а хорошо вышло! Какие у нее добрые глаза! И рот чуть-чуть не улыбается. На шее крестик. Чепчик весь в кружевах, но очень смешной. А воротник еще смешнее. Надо пойти завтра наверх к королеве в гости, посмотреть на нее, на ее вещи, на ее кровать, на ее шкафчик.
Карин счастлива, что у нее имя одинаковое с королевой.
Но как достать сто марок?
В прошлом году какой-то иностранец давал отцу сто марок за одну вещь, совсем маленькую, незаметную, которой и в каталоге нет.
Однажды спускалась королева Карин по лестнице, и было, должно быть, темно, потому что упала королева и вышибла себе зубок. Маленький, беленький, острый, как у белки, зубок. Он сохранился и лежит в витрине на кусочке черного бархата. Вот его-то и хотел купить иностранец.
Отец тогда очень рассердился. Нельзя, конечно, продавать зуб своей королевы.
Но откуда же достать сто марок?
Если ходить через день в школу, то нужно только пятьдесят марок, а если ходить на каждый третий день, что не так уж плохо, то хватит и двадцати пяти. Но ведь и двадцати пяти не достать, не достать, не достать!
Карин вышла погулять.
Человек, которого она напугала в комнате кукол, стоял и писал картину. Замок, наверно. Вот счастливый! Только он не с того места писал, откуда надо. Если бы он спросил Карин, она ему сказала бы, откуда самый красивый вид на замок.
IV
Алов не выходил из замка.
Он изучил все эти комнаты, заставленные веселой старинной мебелью, увешанные портретами королев и королей, которые в них жили. Он сделал очень много этюдов, и страх совершенно покинул его. Ему и теперь иногда слышались шаги в соседних комнатах, но он уже не бежал, как в первый раз, а оборачивался, улыбаясь.
Он уже понимал чуть-чуть по-шведски и по-фински и понемногу расшифровывал каталог.
Чаще всего работал он в комнате, где висел большой портрет королевы Карин. Ему нравилось ее открытое лицо с высоким лбом, большими голубыми глазами и капризным, красивым ртом. Правый глаз ее едва заметно косил, и это придавало портрету странную живость. Алов подумал, не нарочно ли это сделал тогдашний художник. Ясными умными глазами смотрела на него королева Карин. Он знал уже ее судьбу в кратких словах, которые были написаны на ее могиле: в книжном магазине он нашел перевод стихов. Он немного был влюблен в нее, как могут влюбляться только художники в портреты и статуи. Ему очень хотелось бы увезти память о портрете, но копировать он никогда себе не позволял, а фотографий портрета не было. Каждое утро, приходя в музей, он подходил к портрету и здоровался с королевой и, уходя, прощался. В одной из витрин, среди ее вещей, — вееров, перчаток, крестиков и колец, — он заметил остренький, маленький зуб — крепкий, молодой, изящный, как у хорошего зверька. Ему мучительно захотелось взять его в руки, положить на ладонь, уколоть себя им. В тот день он сделал один из лучших этюдов.
Другая Карин, дочь смотрителя, ходила по пятам за художником. Прячась в складках портьер, между шкафов, за дверями, она с затаенным дыханием наблюдала его работу. Много раз ей хотелось выйти к нему, но она боялась, что он испугается и испортит свою картину. Ей нравилось, что он любит королеву Карин, ее королеву. Он и сам ей нравился, высокий, с черной бородкой и длинными волосами.
Нельзя не чувствовать живого человека сзади себя, даже если его и не видишь. Алов чувствовал, что он не один в этих пустых старых комнатах. То вздох, то стук, то шелест часто слышал он за собою. «Это хозяйка ходит, королева Карин!» — подумал он, и от этой мысли еще лучше становились его рисунки. Они дышали стариной, тосковали по ней, возвращали к ней.
Уж были зарисованы все лучшие комнаты, и видела другая Карин, дочь смотрителя, что художник скоро кончит свою работу и уедет. И она никогда больше его не увидит. А он был первый человек, который любил замок так же, как она сама. Ее тянуло к нему. Она сама не знала, зачем, но знала, что будет по нем скучать, когда он уедет, и плакать, как по разбитой кукле в недавнем детстве.
«Королева Карин, помоги!» — думала она, — а чему, сама не знала.
Живыми, добрыми глазами смотрела королева на нее.
И вот, как по наитию, схватила она свои рисунки, принесла их и положила под портретом королевы, на резном столике.
Сама притаилась за высокой спинкой кровати, в углу.
Алов пришел и удивленно стал рассматривать рисунки. Он видел в них талант. Иные зарисовки замка были сделаны так, как и ему не приходило в голову. Копия же портрета королевы поразила его. Он схватил его в руки и сравнивал с оригиналом. Выражение косящих глаз было схвачено удивительно.
В это время Карин, не вытерпев, поднялась из засады. Спинка кровати хрустнула, Алов обернулся и вскрикнул. Сама королева Карин выходила к нему: те же золотые волосы, те же голубые, умные глаза, тот же нежно-розовый цвет лица.
— Карин! — воскликнул он.
— Карин! — утвердительно кивнула головой девушка, удивляясь, что он знает ее имя.
Алов оглядывал девушку. Красная кофта ее, грубые сапоги отрезвили его. Сходство ее с королевой казалось ему уже не таким поразительным. Но одно чудо сменялось другим: рисунки были сделаны этой девушкой.
Алов не выпускал портрета из рук. Первое, что ему захотелось сделать, когда он опомнился, это купить портрет, чтобы можно было увезти его с собой и никогда с ним не расставаться. Он вынул сто марок и знаками предложил обменяться. Карин вспыхнула. Как? Ее рисунок стоит сто марок? Она сделала отрицательный жест. Тогда Алов, боясь, что она не отдаст рисунка, прижал его к сердцу, поцеловал его кончик и вынул еще деньги. Красная Карин, как во сне, взяла сто марок. Алов был в восторге. Теперь он увезет королеву Карин с собой, она всегда будет с ним! Но что это за девушка? Перебирая рисунки, он стал с ней кое-как объясняться. Потом она повела его к витрине, где лежал зуб королевы Карин, достала его и дала в руки Алову — ключ был у нее. Художник испытал странное чувство. Потом Карин повела его в ту часть замка, где он никогда не был. Она показала ему разрушенные залы, где справлялись пиры; комнату, которая служила темницей Эрику. Замок ожил в глазах Алова; он зазвучал, наполнился гулом. И все это сделала девушка-ребенок с золотыми косами.
Они подружились, художник и Карин. Взявшись за руки, как дети, обошли они весь замок.
К вечеру Алов поехал в город. Турку славится рамочными мастерскими. В одной из них Алов выбрал ореховую рамку для портрета королевы Карин.
И даже на сутки, которые были нужны для того, чтобы оправить портрет в рамку, жалко было ему с ним расстаться.
V
— Ты куда собираешься?
— В школу.
— В какую школу?
— Рисовальную.
— Я не дам тебе не пенни.
— У меня есть сто марок.
Старик даже трубку выронил изо рта от изумления.
— Откуда ты взяла?
— Я продала один свой рисунок.
— За сто марок? Кому?
— Художнику, который сюда ходит.
Старик в волнении прошелся по комнате. Возражать ему больше было нечего. Да и не худое дело рисование, если так, ни за что, ни про что, можно получить сразу сто марок!
Карин быстро собралась и убежала. В кармане у нее звенело целое богатство: три серебряных марки и мелочи — сколько, она не знала. Это дал отец в обмен на сто марок, которые, конечно, надо было спрятать.
Тщетно Алов ходил по замку, ища златокудрую вчерашнюю свою спутницу. Тщетно ждал ее на следующий день. Карин с утра до вечера рисовала в школе.
Огорченный, Алов даже не замечал, что смотритель здоровается и прощается с ним необычайно почтительно.
Кончив работу, он уехал, увозя с собой портрет королевы Карин и не зная, у девушки или у видения купил он его.
Королева Карин осталась опять одна в своем замке.
У другой Карин не было даже времени забежать к королеве: она рисовала успешно и упорно.
Как два великана, черный собор и белый замок по-прежнему высились над городом и перекликались между собой никому неслышным голосом веков. Вечным сном в своей гробнице спала королева Карин.
Андрей Свентицкий СОН АРТУРА Легенда
Илл. М. Бобышова
От автора
«Сон Артура» написан на тему одного из старых английских преданий. Существует целый ряд легенд о короле Артуре и его Рыцарях Круглого Стола; по сказаниям; он был последним королем Англии перед нашествием саксов.
Он был тяжело ранен в битве с восставшим против него племянником. Единственный из оставшихся в живых рыцарей, — Бедивэр, — бросил в озеро волшебный меч Артура и перенес умирающего короля на берег моря.
Там приняли его в свою лодку три феи, одна из которых, Моргана, была сестрою Артура, — и лодка тихо поплыла на юг…
Прошло много лет.
Далеко на юге Британии, на острове Авалоне, — «Острове яблонь», — спит Артур, погруженный в волшебный сон, и спят вместе с ним его верные рыцари.
Но настанет срок, — говорит сказание, — и в годину великой беды, — проснется старый король, созовет свое войско и во главе своих рыцарей отразит беду, грозящую Альбиону…
Далеко-далеко на юге Британии лежит тихая долина Авалона.
С трех сторон окружили ее высокие черные скалы, и у их подножия холодные волны моря с шумом взбегают на острые камни. Густой лес ползет вверх по склонам гор, а внизу, в цветущей долине, луга пестреют цветами, и ясное небо отражается в водах быстрой реки и темных, глубоких озер.
Высоко поднялась скала, окруженная лесом; клочья тумана и низко бегущие тучи порою скрывают вершину, а при свете заката на гребне скалы чудятся башни и зубчатые стены…
Высоко над тихой долиной, в черной скале, окруженной темною зеленью стен, скрыта круглая, сводчатая зала, и девять колонн из базальта поднялись вокруг могучею черной громадой.
У темного входа стоит королевская стража и дремлет, склоняясь на длинные копья.
Желтый свет факелов, горящих по стенам, яркими пятнами дрожит на шлемах склоненных и чешуйчатой броне.
Тихо в высоком покое, не колеблется желтое пламя, и на черной, тяжелой завесе не дрожат золотые драконы.
На высоком каменном ложе, на белом меху горностая, в золотой королевской короне, спит старый король Артур; его лицо спокойно и ясно, и длинная, седая борода, — белее, чем мех горностая, — лежит на груди, покрытой стальною кольчугой.
В руках его меч, волшебный Эскалибур, некогда найденный в озере Слез, утраченный в день последней битвы и вновь обретенный в тихой долине Авалона.
А у ног короля, прислоненный к высокому ложу, — его щит, окованный медью, с красным королевским драконом; глубокие борозды провели на нем удары вражьих мечей в день битвы последней, в стране Лайонесса.
Круглый стол из блестящего черного камня стоит среди высокого зала. Много лет протекло с тех пор, как сто юных рыцарей, на своих плечах, принесли его ко двору короля из далекой страны Камелиар.
В высоких, резных креслах, склонясь на блестящий камень, спят вокруг стола верные рыцари… золотом и сталью отливают их латы и шлемы, сверкают драгоценные камни на рукоятях мечей, и яркие плащи тяжелыми складками спадают к земле.
А на щитах, висящих на черных колоннах, сверкают мечи, скрещенные копья, львы и золотые единороги.
Неслышно проходят годы над волшебной долиной…
Крепким сном спит старый Артур, спят его верные рыцари, спит вместе с ними стража у входа, спят золотые трубы в руках герольдов в шитых золотом бархатных куртках; а далеко, в густом Броселианском лесу, незримый для смертных, спит в очарованной башне волшебник Мерлин, друг и советник Артура…
Давно уже нет Керлеона, лежат в развалинах гордые замки баронов, умерли злые драконы; нет больше рыцарей, нет веселых пиров и блестящих турниров, замолкли песни о славных подвигах, свершенных в честь прекрасных дам…
Тихо в высоком покое… не колеблется желтое пламя, и на черной тяжелой завесе не дрожат золотые драконы.
Но не вечен волшебный сон… порою пламя дрожит и колеблет черные тени, и струи холодного ветра, проникнув в высокую залу, шевелят складки тяжелой завесы; дрожит широкое знамя с королевским драконом над ложем Артура.
Словно далекое эхо, словно отзвуки горячего боя, — доносятся звуки рогов, звон оружия, крики победы и стоны сраженных…
И тогда — поднимаются склоненные головы, размыкаются веки, отягченные сном, и руки в тяжелых железных перчатках сжимают рукояти мечей.
Поднимает седую голову сэр Кэй, сенешаль, вздрагивают яркие перья на шлеме Гавейна; просыпаются сэр Боре и сэр Галаад, хватаются за рукояти мечей Бедивэр и Гарэт… и сэр Ланселот поднимает свою прекрасную голову и смотрит на спящего короля… герольды подносят к губам золотые трубы, и смотрят, и ждут…
Но спокойно спит старый король и не дает желанного знака.
Стихают далекие трубы, смолкают отзвуки битвы, опускаются трубы герольдов, и вновь, — охвачена сном, — затихает высокая зала…
Но настанет день, — и громче прежнего зазвучит боевая труба, и грохот близкой битвы отзовется в сердце Артура.
Холодный ветер ворвется в зал и со свистом промчится меж высоких колонн; зазвенят боевые щиты, и поднимутся со своих мест спящие рыцари.
Встанет с высокого ложа старый король, и зазвучат золотые трубы герольдов. Из конца в конец пронесется могучий призыв по всему Альбиону, и поднимется старое войско Артура, и придет в Авалон.
Затрепещет в лучах горячего солнца королевское знамя с красным драконом, и снова, как прежде, встанут Артур и его рыцари во главе могучего войска, и отразят беду, что пришла из-за моря…
Годы проходят… крепок волшебный сон… спит старый Артур, спят его верные рыцари, спит вместе с ними стража у входа, спят золотые трубы в руках герольдов…
Тихо в высоком покое… не колеблется желтое пламя, и на черной тяжелой завесе не дрожат золотые драконы.
Андрей Свентицкий О ЗЛОМ ВОРТИГЕРНЕ, О МУДРОМ МЕРЛИНЕ И СЕМИ ЗВЕЗДОЧЕТАХ
Илл. Л. Фейнберга
О злом Вортигерне, о мудром Мерлине и семи звездочетах, о двух драконах и о камнях на могиле короля Пендрагона, называемых «Танец гигантов».
В давно минувшее время в Англии, что звалась тогда Великой Бретанью, правил король Амброзий.
Неопытным, юным остался он после смерти отца своего, короля Констана, и потому всю власть над страной доверил сенешалю Вортигерну, который был опытный воин, но хитрый и злой человек.
Ни мудростью, ни отвагой, ни военным искусством не мог с ним сравниться юный Амброзий.
Случилось так, что приплыли из-за моря язычники-саксы со своим королем Генгистом и двинулись внутрь острова, разрушая города и замки.
Узнав о приходе их, задумал Вортигерн злое дело. Сказавшись больным, удалился он в свой замок и отказался стать во главе британских войск.
— Немало есть у тебя достойных вассалов, которые могут меня заменить, — сказал он Амброзию в ответ на призыв короля.
Тогда Амброзий сам встал во главе своих войск, но не смог отразить врага; британцы были разбиты, и сам король едва не погиб в бою.
А силы Генгиста росли, и все глубже продвигалось его войско внутрь страны, оставляя за собою опустошенные поля и дымящиеся развалины.
Тогда явились к Вортигерну двенадцать баронов Амброзия и сказали ему: «Господин, страна наша гибнет; нет у нас короля, ибо тот, кто правит нами, недостоин носить это имя. Именем Бога просим вас, возьмите власть в свои руки, станьте нашим королем и во главе войск отразите врага! Мы обращаемся с нашей просьбою к Вам, ибо во всей стране нет человека, более достойного».
— Не могу я стать Вашим королем при жизни Амброзия, моего законного государя, — ответил Вортигерн.
Поняли бароны намек Вортигерна, и через несколько дней черный траурный флаг поднялся на башне королевского замка. Король Амброзий найден был мертвым на своей постели.
Тотчас собрали бароны совет и решили предложить корону Вортигерну.
Только двое рыцарей остались верными законным королям Бретани; позднею ночью примчались они в замок, где, вдали от двора, жили юные братья Амброзия, и вместе с ними отплыли за море, в Малую Бретань, где и нашли приют у короля Бана, старого друга отца их, Констана.
Вортигерн стал королем. После коронации пришли к нему двенадцать баронов и потребовали награды.
Но хитрый Вортигерн притворился, что видит их в первый раз и нс понимает, что им от него нужно.
Рассердились бароны и стали упрекать Вортигерна в неблагодарности, говоря, что только при их помощи мог он стать королем.
— Не знал я, — воскликнул Вортигерн, — что горячо любимый мною король погиб от вашей руки; если бы знал, то давно уже вы понесли бы заслуженное вами наказание. Однако, никогда не поздно исправить ошибку.
И тотчас приказал их казнить.
Но напрасно старался Вортигерн скрыть свое участие в убийстве Амброзия; знали об этом родные казненных, знали и другие рыцари, знал народ…
Начались восстания, заговоры, росло недовольство; войнами, казнями, изгнанием боролся Вортигерн со своими врагами, но чем более жестоким становилось его сердце, тем больший страх закрадывался в душу. Всех стал он подозревать в измене, все — казалось ему — только и думают, только и мечтают о его смерти.
Чтобы укрепить свою власть, задумал он вступить в союз со своим прежним врагом, королем саксов Генгистом.
Удивился Генгист, выслушав послов Вортигерна, однако принять союз согласился. «Вижу я, — сказал он Вортигерну, — народ твой тебя ненавидит; лишь крепким союзом со мной можешь ты удержать свою власть».
Чтобы еще более укрепить этот союз, взял Вортигерн себе в жены дочь Генгиста. Народ назвал ее «королевой-язычницей», а Вортигерна с тех пор возненавидел еще больше.
Помнил Вортигерн, что за морем живут братья Амброзия, помнил и боялся их, ибо знал, что рано или поздно вернутся они в свою родную землю и за смерть брата отмстят.
Задумал он выстроить крепкую башню, стены которой не боялись бы долгой осады; начали строить, но едва вывели стены высотою в четыре сажени, — вдруг они рассыпались в прах.
Снова построили стены, и снова они развалились.
Три раза начинали постройку, и трижды, со страшным грохотом, падали стены.
В гневе воскликнул тогда Вортигерн, что не найдет он покоя, и не будет во дворце ни пиров, ни веселья, пока не узнает он, отчего падают стены.
Велел он призвать мудрецов и аббатов и просил у них совета и помощи.
Долго совещались мудрецы и аббаты и, наконец, дали ответ: «Не можем мы узнать причину несчастья; спроси звездочетов, что по звездам читают, по небу судьбу узнают».
Послал Вортигерн во все концы своего королевства послов искать звездочетов, и после долгих поисков привезли послы семь старцев в синих плащах с серебряными звездами, в высоких остроконечных шапках и с длинными седыми бородами. А за каждым из них несли большую трубу и толстую книгу с золотыми застежками, написанную на никому не ведомом языке.
Спросил их Вортигерн, отчего падают стены, и ответил ему самый старый из звездочетов: «Не дано того знать ни одному человеку».
Рассердился король и стал грозить им смертью.
Тогда попросили они семь дней на размышленье.
Согласился король, но сказал, что, если к сроку не дадут они ответа — простятся их души с телами.
Заперли старцев в высокую башню; стали они на звезды смотреть и читать волшебные книги.
Но о башне — ничего не сказали им звезды.
Зато узнали они из волшебных книг, что грозит им смерть от мальчика, сына дьявола.
На седьмой день собрались они на совет и стали решать, как им быть, какой дать ответ королю.
Тогда самый старый и самый мудрый звездочет дал совет: чтобы спастись от смерти, которой грозят им волшебные книги, сказать королю, что будет построена башня, если найдут и тотчас убьют мальчика, сына дьявола.
Так и сказали они Вортигерну.
Тотчас пошли двенадцать послов в двенадцать концов земли, и дан был им приказ — найти и тотчас убить мальчика, сына дьявола.
Долго ходили они, много посетили стран, городов и царств и думали уже, что нет на земле того, кого они ищут что обманули короля звездочеты.
Но вот однажды четыре посла, что случайно встретились вместе и решили уже возвращаться домой, услышали ссору детей, игравших у моря. Мальчик, по имени Мерлин, ударил другого, тот упал, заплакал и стал бранить Мерлина «сыном дьявола».
Тотчас кинулись послы к Мерлину, а тот улыбнулся и сам пошел им навстречу.
— Знаю я, кто вы и зачем вас послали, — сказал он послам, — я тот, кого должны вы убить по совету злых звездочетов короля Вортигерна. Знаю я, отчего падает башня и, если вы отведете меня к королю, я открою ему эту тайну, — а потом, если он вам прикажет, вы всегда успеете лишить меня жизни.
Удивились послы словам ребенка, подумали и согласились.
Тогда пошел Мерлин к своей матери и простился с ней.
В том же городе жил один мудрый старик, по имени Блэз. Был он старым другом матери Мерлина и очень любил его. С самого рождения Мерлина заботился о нем Блэз, учил, давал советы, но скоро ученик далеко превзошел учителя, ибо умел он не только угадывать прошлое, но знал и то, что должно совершиться. Тогда завел Блэз большую книгу и в нее стал записывать все, что делал и что говорил Мерлин.
Из этой книги и знаем мы всю историю жизни Мерлина.
Прежде, чем отправиться ко двору Вортигерна, зашел Мерлин к Блэзу и сказал ему: «Должен я идти далеко отсюда, в Великую Бретань, к королю Вортигерну. Прекрасна эта страна, покрыта она густыми лесами, и бурные потоки весело шумят в них, падая с гор. Много великих и прекрасных подвигов там должно совершиться. Туда, следом за мной, ты должен идти; там судьбою назначено тебе жить и продолжать свое дело. Часто буду я тебя навещать, и будешь ты вносить в свою книгу все, что я тебе расскажу, до тех пор, пока не наступит царство славного короля Артура, и пока не запишешь ты всех подвигов и деяний как его самого, так и его доблестных рыцарей Круглого Стола.
И знай, что на долгие годы, пока жива среди людей любовь к доблести и красоте — будет книга твоя для всех любимою книгой на свете».
Отправились в путь послы и Мерлин и скоро прибыли в Кордуэл, столицу Великой Бретани.
Выслушав послов, Вортигерн велел привести Мерлина.
— Я открою тебе, король, отчего не стоит твоя башня, — сказал Вортигерну Мерлин. — Но прежде — вели привести твоих звездочетов.
Когда пришли звездочеты, открыл Мерлин королю их хитрость и заставил сознаться, что ничего они не знают про башню, а смерти Мерлина искали лишь для того, чтобы избегнуть предсказанной гибели.
— Скажите мне, мудрецы, — воскликнул Мерлин, — что лежит под башней в земле?
Но молчали звездочеты, ничего не сказали им звезды и волшебные книги.
— Ройте землю под башней, — сказал Мерлин, — глубоко под землей найдете вы подземное озеро, в нем два камня, а под ними — двух спящих драконов.
Когда они шевелятся во сне — дрожит земля, и падают стены.
Тотчас стали рыть землю, и скоро глубокое озеро появилось на месте разрушенной башни.
По совету Мерлина вырыли канавы и спустили воду в луга. Тогда показались из воды два квадратных камня.
— Под этими камнями спят драконы, белый и красный, — сказал Мерлин. — Когда вы снимете камни, проснутся они, увидят друг друга и вступят в бой; до тех пор не прекратят они битвы, пока один из них не осилит другого.
Между тем, великое множество народа стеклось отовсюду, чтобы видеть, что будет.
Велел Вортигерн поднять камни; когда с большим трудом их, наконец, отвалили, увидали под ними двух драконов, таких огромных, сильных и страшных, что вся толпа в ужасе закричала и отступила назад.
Проснулись драконы от крика толпы и тотчас, увидя друг друга, расправили крылья и вступили в жестокий бой.
Три дня и три ночи длился бой, и то один, то другой, казалось, одолевал противника.
Наконец, на третий день красный дракон, который был меньше и слабее на вид, победил белого, однако и сам прожил после того всего один день.
— Теперь, король, можешь ты строить башню, какую пожелаешь, — сказал Мерлин Вортигерну.
И башня, наконец, была построена.
Тогда вспомнил Вортигерн о семи звездочетах и в гневе хотел их казнить. Однако Мерлин не питал к ним злобы и упросил короля оставить им жизнь.
И семь звездочетов, забрав свои книги и трубы, разошлись в разные стороны.
Тогда стал просить Вортигерн Мерлина объяснить ему, что означали драконы, борьба их и гибель белого, который был вдвое сильнее и больше.
Долго Мерлин не хотел говорить, — наконец, согласился.
— Знай, Вортигерн, — сказал он, — белый дракон — это ты, а красный — братья Амброзия. После смерти отца остались все трое беспомощными детьми, и тебе надлежало заменить им отца, стать им другом и мудрым советником.
Но ты хитростью добился смерти Амброзия и вероломно казнил его убийц. Беззаконно захватил ты земли убитого и принудил братьев его бежать от тебя за море, в далекие страны. Окруженный врагами, ненавистный народу, мучимый вечным страхом, ты мыслил спасенья искать в крепких башенных стенах; смотри, вот перед тобой эти стены, но напрасно ждешь ты найти в них покой.
Никакая сила на свете не спасет тебя от судьбы.
С сильным войском, со множеством кораблей плывут по морю братья Амброзия, направляя свой путь к берегам родимой земли; немного дней пройдет, и они будут здесь.
Гибель тебе суждена в предстоящей борьбе, и ничем не могу я тебе помочь; одно лишь тебе остается — с честью погибнуть в открытом бою.
И, сказав так, простился Мерлин с Вортигерном и покинул город.
Через несколько дней появились в море корабли Пендрагона и Утера; сильное войско высадилось на берег, и в бою под стенами Кордуэла дрогнули силы Вортигерна.
Изменили ему бароны и рыцари, перейдя на сторону братьев Амброзия, и король погиб в своей башне, охваченной пламенем.
После гибели Вортигерна старший из братьев, Пендрагон, стал королем. Первым делом его стало очищение Бретани от язычников-саксов; три года длилась война и, наконец, с помощью Мерлина, разбиты были войска Генгиста, и сам он погиб от руки Утера.
Но радость принесла с собою печаль, убит был в бою король Пендрагон.
Стал королем Утер; первой заботой его было достойно похоронить брата и воинов, с ним вместе погибших в решительной битве.
На широкой равнине Салисбюри были зарыты они, а посредине возвышался холм, и покоилось там тело короля Пендрагона.
Однажды пришел к Утеру Мерлин и сказал: «Король, что сделаешь ты для брата своего Пендрагона?»
— Увы, — ответил Утер, — что могу я сделать для него? Душа его — в небе, а тело зарыто под могильным холмом, на равнине Салисбюри!
Тогда рассказал ему Мерлин, что в Ирландии, в долине Килларус, стоят гигантские камни, в незапамятное время принесенные туда из далекой Африки великанами.
«Танец гигантов» — зовут те камни в народе.
Лишь эти камни могут стать достойным памятником Пендрагону и его воинам.
Согласился Утер и послал в Ирландию большой флот и войско под начальством Мерлина.
Когда приплыли они в Ирландию и увидели долину Килларус, покрытую длинными рядами гигантских камней, засмеялись спутники Мерлина и сказали, что напрасно совершили они столь далекий путь: не в силах человеческих сдвинуть с места эти острые скалы.
— Не смейтесь, друзья, — ответил Мерлин, — что не в силах вы сделать, то сделаю я; так сослужу я свою последнюю службу королю Пендрагону.
Вслед затем пошел он к королю Гилломану и попросил у него позволения увезти с собою «Танец гигантов».
Засмеялся Гилломан, ибо не верил он, что смогут британцы увезти с собою тяжелые скалы.
— Разве мало в Бретани камней, что пришлось вам приехать за ними в мою страну? — сказал он.
— Впрочем, если вам они нужны, берите, если смогут поднять их ваши слабые руки. Но даю вам сроку — всего один день.
Не верил Гилломан, что сможет Мерлин поднять гигантские камни: иначе не дал бы согласия.
Но едва настала ночь и поднялась над лесом луна, — силою чар поднял Мерлин, один за другим, все камни и нагрузил их на корабли.
С первыми лучами солнца вышли они в море.
Когда донесли Гилломану, что камни исчезли и британцы увозят их на своих кораблях, — страшно разгневался он и послал в погоню свой флот с приказом вернуть корабли и поставить обратно «Танец гигантов».
Но силою чар скрыл Мерлин свои корабли за густой завесой тумана, и флот Гилломана вернулся ни с чем.
А корабли Мерлина тем временем быстро неслись к берегам Великой Бретани, с парусами, надутыми ветром.
Скоро достигли они берегов и здесь, близ равнины Салисбюри, бросили якорь.
Настала тихая ночь; все уснули, утомленные долгой дорогой. Все, кроме Мерлина.
Едва встало солнце — ни одного камня не осталось уже на кораблях; длинными рядами стояли они на берегу, поднимая к небу свои острые гранитные края, в одну ночь перенесенные на берег волшебною силой Мерлина.
Так стоят они там долгие годы и будут стоять еще много лет, пока не разрушат их могучие силы природы.
Василий Немирович-Данченко ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ
I
Давным-давно это было, так давно, что люди забыли даже имя Черного рыцаря, хоть в свое время немало сделал он им горя и зла! Правда, потом он опамятовался и иным человеком стал, но зло как-то помнится дальше, чем добро… И родился Черный рыцарь необычайно. Сказывают, накануне целые стаи воронья налетели на замок, где жили его отец и мать, знатные феодалы, кругом которых трепетало все, что было послабее. Налетело воронье и расселось по зубцам и карнизам стен и башен, стало в бойницы их накидываться, трепеща большими черными крыльями, унизало шпили черного замка, и даже крест над домашнею церковью его почернел — все от тех же ворон. И было так до утра, когда родился Черный рыцарь. Немного спустя, налетели другие стаи каких-то чудесных белых птиц и стали клевать ворон… Не сдались вороны, начался между ними бой на жизнь и на смерть; целый день боролись они над замком. То белое облако отгоняло черную тучу прочь, то черная туча набрасывалась на белое облако, и оно высоко подымалось в голубое, безоблачное небо. И продолжалось так вплоть до «Ave Maria»… И когда ударил колокол, и глухие звуки всколыхнули воздух, — казалось, белым птицам новую силу дали они, собралось опять белое облако и так стремительно ударило в черную тучу, что вся она, дрогнув, рассеялась на все четыре стороны, и долго еще в сумерках тихо подступавшего вечера слышались далекие уже крики воронья… Белые птицы всю ночь сидели на тех шпилях, башнях, башенках, стенах и бойницах, где еще недавно были черные их противники, — и только тогда, когда под золотыми лучами солнца заблистал крест замковой церкви, светлое облако неведомых птиц снялось и полетело в высоту. Вассалы долго следили за ним. Оно не рассеивалось, напротив — поднималось все выше и выше, пока не утонуло в ослепительном свете ярко разгоревшегося дня… Все сочли это за знамение и решили, что первую половину своей жизни молодой граф будет жесток и грозен. Станут им владеть силы ада, темные, страшные силы, и под наитием их совершит он много преступлений; но потом случится что-нибудь особенное — и разом изменится он к лучшему.
Феодал, отец его, был владетельным графом. На всю округу он наложил свою железную перчатку. Правом жизни и смерти он пользовался в полной мере и самое рождение своего наследника отпраздновал неслыханным злодейством. Он призвал к себе астрологов, чтобы те составили ему предсказание о судьбе его сына. До самого часа появления его на свет они были заперты в высокую башню, с кровли которой следили за небесными светилами. Чем более углублялись они в эту таинственную, хотя и вечно раскрытую нам книгу, где каждая звезда является буквою неведомого нам языка, — тем мрачнее и озабоченнее становились их лица. А когда все уже было разобрано ими, и они сошли вниз и подали старому графу составленный ими гороскоп, тот приказал им пойти опять и проверить сказанное. Мрачно и зловеще повелел он им это, а сам остался в одиноком своем кресле у громадного камина и продолжал глядеть на целое море пламени, разлившееся там; по раскаленным золотым углям бежали серебристые змеи, вспыхивали и гасли чьи-то бриллиантовые очи; порою огоньки казались крыльями, трепетавшими над черною корою. В зале было темно, и свет камина один дрожал на старых щитах, шлемах, панцирях и латах, развешанных по стенам, на мечах и гербах, кичливо красовавшихся над дверями. Но вот в дверях показались предводимые немою стражею астрологи… Лица их были бледны… Молча подали они проверенное предсказание: оно оставалось все тем же. Старый граф кивнул мажордому. Тот неслышно подошел к нему. Что-то шепнул ему властелин. Астрологов увели, а к утру тела их болтались в петлях на серых зубцах серых башен, и ветер, внезапно налетавший с севера, колыхал их справа налево, как безмолвные колокола… В подземельях замка в это время сидело много вассалов. За что? — знали про это только сам граф да небесные ангелы. Ждали они помилования, потому что небо долго не давало ему сына. «Счастье, — думали они, — смягчит его сердце». На радостях узники запели веселую песню. Через подземные переходы, от одного свода к другому, передавалась она все более и более слабевшими отзвучиями, пока не долетела едва различимым эхом в зал замка…
— Что это такое? — удивился граф, вопросительно обращаясь к священнику, вошедшему в эту минуту.
— Заключенные радуются! — ответил тот, благословляя его.
— Чему? — удивился феодал. — Чему могут радоваться эти негодяи, бунтовщики и злодеи?
— Тому, что Бог даровал вам наследника. Несчастные думают, что если не граф и государь, то отец простит их!
— Прощать может одно небо… Это — привилегия Бога! — улыбнулся граф и опять позвал себе мажордома.
Замок стоял на скале. С одной стороны она диким выступом висела над долиной. Темные переходы, похожие на жилы, которые червяк точит в мягком дереве, вели сюда. На другой день люди, проезжавшие под этой скалой, увидели массу изуродованных тел. Они сообщили об этом в ближайшую деревню, где жили вассалы графа. Те прибежали и, рассмотрев лица лежавших здесь трупов, узнали в них узников серого замка.
— Теперь их песни не помешают спать моему сыну! — решил граф.
Когда эти слухи дошли до матери новорожденного, бледной и измученной женщины, лежавшей на лебяжьем пуху под гербами и коронами пышного балдахина, — она подняла на распятие страдальческий взор свой и прошептала:
— Не вмени этого моему сыну, Господи!
Целую ночь она горячо молилась. Когда все ушли и оставили ее одну, — она сползла со своей пышной постели, обмерла и снова очнулась; то останавливаясь от изнеможения, то снова собираясь с силами, она направилась на коленях в свою молельню и распростерлась на каменных холодных плитах ее в одной рубашке… Луна светила в высокое стрельчатое окно, рисуя на противоположной стене каменное кружево ее розеток и арабесок. Тусклая лампада бросала дрожащий свет на статую Девы Марии. Всю ночь плакала и молилась бледная и чахлая мать. Крик просыпавшегося ребенка, который доносился сюда, казалось, давал ей новые силы, и еще жарче шептала она:
— О, спаси его, Богородица!.. О, не дай ему погибнуть, Непорочная!..
К несчастной женщине не приходил никто. В ее чахлой груди вовсе не было молока, и сына ее кормила чужая… Луна давно ушла в высоту: кружево стрельчатого окна уже исчезло со стены. Догоревшая лампада погасла; всю молельню наполнил сумеречный полусвет торжественно молчавшей ночи, и эта торжественно молчавшая ночь, казалось, нарочно притаилась, чтобы слушать рыдания и молитвы матери, бившейся на холодных плитах… Утром графиню нашли здесь и умирающею перенесли на постель. К ней пришел ее муж. Лицо его было грозно.
— Не упрекай меня!.. — радостным и тихим голосом она встретила его. — Ты не в силах уже покарать меня. Я теперь принадлежу не тебе, а Богу… Разве ты не видишь ангела Его, стоящего за мною, не видишь, как он распростер над моим телом свои крылья?.. Лицо его светло, в глазах его милость, в руках пальмовая ветвь. Он ждет мою душу — и она рвется к нему… Скоро я прощусь с тобою… Я всю ночь молила Богородицу за нашего сына, всю ночь я плакала, чтобы Она отвратила судьбу, уготованную ему… И только под утро Мать Всескорбящая наклонилась надо мною… и сказала…
Умирающая приостановилась и закрыла глаза.
— Что сказала Она тебе? — положил свою тяжелую руку на плечо ее граф.
— Предопределенное должно совершиться… Не может молитва моя отвратить то, что будет звеном цепи, начавшейся давно… Потомок немилостивых и жестоких — будет и сам жесток; из горького — не бежит сладкое, и ядовитое дерево не дает здорового плода… Но за мои слезы Дева Пречистая обещала мне, что когда исполнится мера злодейств его, когда имя моего сына станут с ужасом повторять повсюду, Она пошлет к грешнику…
Но что Богородица должна была послать грешнику — мать не договорила. Голос ее оборвался… По лицу разлилось выражение счастья… Она приподнялась, протянув руки к кому-то, кого она одна видела, и упала навзничь. Когда граф наклонился к ней, то мог только уловить ее последний вздох… Долго он смотрел в ее кроткое лицо, на котором замерла улыбка счастья… Он повернулся к окну… Далеко внизу видна была идиллическая долина. Тополи ее и платаны, казалось, следовали за течением светлой реки, зеленые поля вызвали бы улыбку на менее жестокое лицо…
— Мажордом!.. Это что? — указал он на прижавшуюся к реке и точно прячущуюся в тень своих каштанов деревню. — Так исполняются мои приказания?
Но не успел он еще договорить этого, как из зелени садов вырвались синеватые клубы дыма… Еще и еще… В разных местах уж тянутся они вверх… Вот слились и точно седым туманом покрыли счастливые домики. Граф смотрит… В тумане мелькнули языки красного пламени.
— Так да погибнут все противящиеся!..
И он протянул вперед сильную руку.
Деревня, действительно, была виновата. Она укрыла вчера ночью несчастного монаха, осмелившегося сказать проповедь против жестоких властителей.
— Он призывал на меня огонь небесный… А я их предал земному…
И, довольный своей шуткой, граф долго смотрел из окна на пылающие дома и сады.
А позади лежала его прекрасная жена, и та же кротость сияла на ее неподвижном лице.
— Убрать это! — показал на ее тело граф и спокойно вышел вон…
II
На ужас всему окрестному населению вырастал молодой граф.
Люди, трепетавшие его отца когда-то, вспоминали о его времени как о счастливом. Теперь стало гораздо хуже. То и дело вокруг замка горели деревни, но убегать из них никому не удавалось: стража молодого графа становилась кругом и била на выбор спасавшихся. Остальных приводили к юноше, и он учился стрелять из лука в живые мишени. Дороги вокруг стали непроездными с тех самых пор, как графу, еще мальчику, отец в первый раз подарил лук. Полуребенок становился с ним в амбразуре наружной стены и ждал. Вон вдали, из-за тех раскидистых платанов показывается конь, на коне едет закутавшийся в плащ странник. Молодой граф уже припал к луку и сторожит движущуюся цель острым наконечником стрелы. Несчастный поравнялся с замком — и, с пронзительным звуком рассекая воздух, летит навстречу ему «крылатая вестница», как называли стрелу поэты того времени. Потом граф дошел до еще большего изуверства. Он заметил, что многие раненые успевали ускакать от него. Мальчик добыл убийственного яда и отравлял наконечники своих стрел. Сын бедного, но благородного соседа, хилое дитя, с прекрасными и кроткими глазами, приезжал иногда к нему. Раз в замке гостила дивная красавица, близкая родственница молодого графа. Она не любила его, зато страстно целовала чудные глаза его товарища. Молодой граф ночью прошел в комнату к своему гостю, схватил его и ослепил. Как ни был слаб, сравнительно со знатным феодалом, сосед, но в отчаянии он бросился на его замок с небольшою дружиною своих слуг. Бой продолжался целый день. С львиною отвагой кидался отец ослепленного мальчика на серые башни и стены. К вечеру ему удалось прорваться к старому графу. Они схватились, и на глазах своего сына, освирепевшего как бешеный волк, старик был задушен оскорбленным соседом и сброшен в ров. Бой окончился, как и следовало ожидать, погибелью смелого дворянина. Его окружили, и молодой граф лично, забыв свои гербы и короны, как палач повесил его на главной башне родного замка, вместе с его изуродованным мальчиком-сыном. С этих пор запустел дотоле благодатный край. По его дорогам никто не смел ездить, потому что новый властелин, наскучив охотою на зверя в диких лесах, принадлежавших ему, охотился теперь с собаками на людей. Их травили как волков и убивали на потеху титулованному злодею.
Раз молодой граф заблудился. Он отстал от своих, а дремучая чаща, казалось, все теснее и теснее сдвигалась кругом. Все одни и те же деревья, как колонны громадного храма, уходили в высь, где их вершины переплетались таинственными сводами. Пробираясь через колючие кусты, разросшиеся между лесными великанами, юноша изорвался весь. Он кричал, звал на помощь, но кругом стояла такая торжественная, такая молитвенная тишина, что путник поневоле и сам замолчал. Совсем непривычные ощущения закрались в его душу. Он смотрел, как тихо и важно колыхались ветви, следил за полетом яркокрылой бабочки, а когда легкий ветер пробегал по вершинам деревьев, — их гул казался ему величавее звуков органа в гигантском соборе доброго города Страсбурга, куда раз он попал вместе с покойным отцом. Наконец, он почувствовал себя усталым. Около бежал ручей, переливаясь по камешкам и словно каждому из них кидая свое веселое «здравствуйте». Молодой граф припал к нему высохшими от жажды устами. Потом омыл разгоревшееся лицо и сел около. Мало-помалу непривычный мир проник в его душу. Он начал следить с любопытством за полетом какой-то пестренькой птички. Она то садилась на кончик ветки, то срывалась с места, суетливо чертила воздух во всех направлениях и камешком падала в траву, чтобы сейчас же вспорхнуть оттуда и снова уцепиться за гибкий сучок. Должно быть, хорошо всякой твари жилось здесь… Умный дятел задолбил где-то в дерево, куковать стала кукушка, а молодой граф все сидел и смотрел, точно в первый раз он видел этот мир. Он сам не знал, долго ли он пробыл так в молчаливом созерцании, когда вдали послышался дрожащий, старческий напев… Граф приподнялся и прислушался. «Те Deum laudamus»[16] тихо звучало под сводом леса, и разом все точно смолкло и притаилось, внимая великой по своей простоте молитве. Сильнее закурились цветы, точно кадила, открывая свои полные дыханием фимиама венчики. Даже вся сквозная, горящая синим блеском, точно сапфир, стрекоза повисла в воздухе, будто и она смирила свою вечную суету при имени Бога живого… Молодой граф, наконец, опомнился и пошел навстречу певшему. Вот впереди мелькнуло что-то серое; наконец, показался босоногий отшельник, подпоясанный веревкой… Голова его была открыта, седые волосы падали вниз, длинная седая борода была ниже пояса.
— Кто ты? — по своему грубо и дерзко крикнул ему граф.
Пустынник остановился, спокойно посмотрел на него.
— Прах! — ответил он.
— Что такое? — изумился юноша.
— Ты спрашиваешь, кто я, — говорю: прах. Прахом был — прахом буду!..
— Где жилье твое?
— Близко… Если тебе нужен отдых и хлеб, зайди!
Граф пошел за стариком. Тот, войдя в небольшой грот, бывший, действительно, недалеко, прежде всего снял с юноши изодранную обувь и обмыл его ноги. Потом подал ему воды, хлеба и несколько овощей, бывших в этой пустынной, самим Богом уготованной келье. И пока юноша ел, старик приволок целую охапку ветвей и листьев и, бросив на это свой плащ, устроил ему грубое ложе. Забыв поблагодарить отшельника, граф улегся.
— А ты что будешь делать? — спросил он у старика.
— Молиться за тебя!
— За меня нельзя молиться, я слишком великий грешник. Меня Бог уступил в вечное владение черту, а с этим мы даже друзья. Я уже немало отправил в ад народа, и мы живем в полном согласии!
Но пустынник уж не слышал. Он весь ушел в свою молитву, стал на колени и с таким восторгом устремил увлаженные глаза на грубо сделанную статую Мадонны, что, несмотря на усталость, молодой граф приподнялся и посмотрел — нет ли там чего-нибудь особенного, за этой Мадонной.
— Послушай, святой отец! — прервал его молитву юноша.
— Что тебе?
— Разве может слышать тебя камень?
— Не богохульствуй, несчастный!.. Замолчи! Разве ты не слышал о Филиппе Жестоком?.. Он также произносил хулы на Непорочную — и молния пала на него и спалила великого грешника, так что он не успел даже прошептать покаянного слова!
— Зачем же это покаянное слово?
— Если оно от сердца, если оно искренно, Господь прощает за него многое!
— И все простить может?..
— Нет предела Его милосердию!
— Спасибо, монах. Я, знаешь, прежде сомневался, а теперь вижу, что все можно делать, только потом сходить к капеллану и порассказать ему об этом, — и св. Петр сейчас же явится со своими ключами.
И молодой граф, повернувшись спиной к отшельнику, заснул.
Всю ночь ему спилась какая-то полуобнаженная, бледная и больная женщина, распростершаяся на плитах перед статуей оскорбленной им Мадонны. Женщина молилась о своем сыне и, рыдая, билась головою о камни. И Мадонна с кротким и печальным лицом внимала ей — а поутру, когда в стрельчатое окно заглянуло тихое утро, отверзлись уста статуи, и она шепнула что-то молившейся. Странно, граф узнал в виденной во сне комнате капеллу своего замка. Женщина с просветлевшим лицом поднялась и подошла к нему. Она положила руку ему на чело — и неведомое доселе спокойствие разлилось по всему его телу. «Кто ты?» — спросил он. Она все так же молча смотрела на него… «Кто ты?» — попробовал было он сбросить ее руку… Женщина наклонилась и поцеловала его… «Кто ты?» — наконец, крикнул он и проснулся.
В отверстие пещеры лился свет… Солнце сияло сюда сквозь зелень густого леса. Пустынника не было. Одна каменная Мадонна стояла в глубине этого грота. Весело пели птицы, и слышался громкий говор ручья, пробегавшего по каменьям. Юноша вскочил со своей лесной постели… Скоро сюда вернулся и пустынник. Он подал графу холодной как лед воды, хлеба и плодов. Тот только поморщился, глядя на все это.
— А вина у тебя нет?
— Нет!
Юноша быстро съел предложенное ему. При дневном свете он заметил на стене висевшие латы и шлем.
— Чьи это? — спросил он у отшельника.
— Мои были! — потупился тот, садясь на деревянную колоду, стоявшую в пещере.
Юноша рассмотрел щит с гербом… Он брошен был в дальний угол.
— Разве ты был рыцарем? — удивился гость, подходя к щиту и рассматривая лилии, изображенные на нем.
— Был великим грешником и ушел в пустыню спасти свою душу!
— Что значит быть грешником?.. Против кого грешил ты?
— Разве капеллан твоего замка никогда не говорил тебе об этом?
— Нет. Я не слушаю вздора!..
— Усмири свою сатанинскую гордость!.. Бог накажет тебя за нее до седьмого колена… Знаешь ли ты род феодала, владеющего замком на Черной горе?..
Еще бы ему было не знать! Пустынник не угадал в нем самого владельца.
— Сколько поколений грешников — одни за другими следуют в нем… И никогда не появиться праведнику среди нечестивых!
— Так думаешь ты — в роду этих графов никогда не будет святого? — насмешливо улыбнулся юноша.
— «От плодов их познаете их»[17]. Когда вырастают гроздья на терниях или смоквы на репейнике? Смертные грехи на этом роде! Никогда не простятся они ему!..
И старик вдохновенно поднял руку, точно он кому-то грозил ею.
Граф нахмурился; недобрые молнии засверкали в его и без того мрачных глазах.
— А как же ты, старик, вчера говорил, что покаяние очищает грех?
— Какой грех? Разве есть покаяние для графа? Говорю тебе — вечность он будет гореть в огне неугасимом со всем своим злодейским племенем!
— Молчи!.. Или я вырву твой лживый язык и брошу его псам нечистым. Молчи, безумец, я — сам граф!..
И он назвал себя.
— Язык мой дан мне не для одной молитвы, но и для обличения; а ты давно превысил меру злодейства. Помни!..
Но ему не пришлось окончить. Юноша кинулся на него и положил одним ударом меча к ногам своим праведника.
Смутный страх закрался ему в сердце, но он сейчас же пришел в себя.
— Не все ли равно?! Ведь он же сказал, что мне нет прощения. Одним больше, одним меньше — не все ли равно теперь?!
И он, уж не думая ни о чем, беззаботно вышел, как будто бы не случилось сейчас черного дела. Лес был так же свеж, прохладен и светел; так же колыхались свежие ветви деревьев; так же пели птицы, задорно перекликаясь между собой; так же шаловливо бежали ручьи. Граф скоро добрался до тропинки, о которой еще вчера ему рассказал пустынник. Поселяне, в обычное время принесшие хлеб отшельнику, нашли его мертвым и похоронили убитого посреди пещеры. Само воспоминание о нем скоро изгладилось из памяти графа. Много еще совершил он зла потом, обратив в пустыню доселе цветущий край, так что даже император решил покончить с самовластным феодалом, как вдруг из всех окрестностей потянулись люди в новый крестовый поход. Убивать и грабить более было почти некого, а гроза, надвигавшаяся со стороны не любившего шутить императора, была не из тех, над которой можно было смеяться. Молодой граф, чтобы положить конец всему этому, собрал своих воинов, поручил старому мажордому управление замком, а сам отправился в числе крестоносцев во главе небольшого отряда, который, проходя по христианской стране, всюду оставлял за собою руины и пожарища…
Графа, разумеется, не одушевляла великая идея, вдохновлявшая других рыцарей.
Напротив, он схватился за это, как за единственный способ спастись от императорского гнева, да кстати, пользуясь полным простором, дать волю всем своим разбойничьим инстинктам. У ласковых вод Босфора, под темно-синими небесами Греции, в сожженной солнцем Палестине — он был верен самому себе. Горе было стране, подпадавшей под его власть! Гибель ждала доверчивый город, которого жители, полагаясь на христианское слово Черного рыцаря, выносили ему ключи и пускали его воинов в свои стены. Они не знали жалости; казалось, они хотели утопить в целом море пролитой ими крови память прошлого. Черный рыцарь дошел до сладострастия в преступлении. Оно ему доставило наслаждение, и не было той муки, которой он не подвергал несчастных пленников. Когда один из сарацинов, обезумев от боли, бросил ему в лицо: «Зверь и тот лучше тебя, подлый враг: зверь убивает разом», — граф насмешливо ответил ему: «Врешь! — Кошка всегда сначала измучит свою жертву и только потом покончит с нею». Жестокость его была такова, что ни богатый выкуп, ни седина старика, ни кротость девушки не останавливали его. Дошло дело до того, что рыцари отказались от него, а один из них — благородный Эдуард, герцог Тровизо, поклялся при первой встрече убить его, как бешеную собаку. Это передали Черному рыцарю — и через три дня враг его умер отравленным… Не одним людям объявил войну Черный рыцарь — ненависть его, казалось, не знала предела. Он уничтожал повсюду дивные создания зодчих, часто даже христианские. Сколько чудных дворцов было обращено им в развалины, сожжено и разрушено, от скольких храмов и мечетей остались одни кучи камней и мрамора. Дух истребления, казалось, вселился в него. Будь у Черного рыцаря возможность — он бы весь мир обратил в дикую пустыню!
И вдруг — совершилось нечто неожиданное-негаданное.
III
С горестью вспоминают восточные поэты разрушенный крестоносцами дворец султанши Зейнаб. С восторгом они описывают его изумительную прелесть. Сады вокруг были одним из всемирных чудес. Природа, казалось, для этого уголка истощила все свои сокровища и окружила его пустыней, потому что у нее не хватило более творческих сил. Всевозможные пальмы в самых неожиданных сочетаниях высоко подымали свои венцы над цветами, аромат которых густо наполнял воздух, а краски заставляли небесные зори краснеть от зависти. Платаны, магнолии, тамаринды и сикоморы переплетались в темные своды и аллеи над медленно бегущими ручьями, звон которых наполнял весь этот дворец вместе с задорными криками птиц и тихими звуками эоловых арф, касаясь которых, ветер издавал такие задумчивые мелодии, что поэтическая грусть невольно охватывала счастливца, проникавшего сюда. Говор фонтанов смешивался со звуками флейт, потому что в самых темных уголках сада размещены были невидимые музыканты, наполнявшие его вечерний сумрак наивными и нежными песнями. Они, казалось, вместе с горячим дыханием Аравии залетели сюда на крыльях самума. Цветы — всюду и везде; благоуханные травы выстилали скаты холмов, на которых красовались беседки — приюты страсти и неги. И весь этот сад, все эти певцы его замирали и таились, когда на высоте, с вершин великолепных мандрагор, начинал свою торжествующую песню персидский буль-буль. Соловьи эти налетали сюда преимущественно. Они любили эти сады, любили этот уголок, окруженный песками пустыни, словно драгоценный изумруд, вправленный в золото. И посреди этого сада, весь сквозной, весь в разных арабесках и каменных кружевах, подымался такой дворец, который поэты Сирии, Омана и Неджды называли перлом вселенной, мраморной песней любви, осуществленным сном Сулеймана ибн Магома, славившегося по всему мусульманскому Востоку своей чудной фантазией. Воздушные своды покоились на тонких и грациозных колоннах: казалось, самые нежные цветы далекой Индии обратились в серпентин и порфир, гирлянды их окаменели, чтобы украсить его белые стены своими причудливыми сочетаниями. «Я не хочу твоего рая, о, Пророк! — восклицал Мурад Великолепный, лучший поэт того времени. — Я не хочу его дворцов и гурий, его садов и вечных наслаждений… Дай мне жизнь в „Убежище радости“ (так назывался этот уголок) — и я откажусь от бесконечных дней среди небесного Эдема, от красавиц, обетованных тобою»… Случалось, что крестоносцы проходили мимо, но они знали, что тут нет ни воинов, ни врагов. Они отдыхали в тени его садов несколько времени и, упоенные, ничего не тронув и ничего не разрушив, оставляли его сиять и радовать взгляды человека… Но увы! Так продолжалось недолго.
Черный рыцарь проходил мимо со своим отрядом.
Его солдаты утомились, кони чуть переступали с ноги на ногу, жажда томила и тех, и других, когда горячий ветер сирийских степей принес к ним благоухания этого сада.
Казалось, смиловавшаяся пустыня звала их в свое таинственное убежище… Казалось, это был первый посланец рая, первый привет его… Живо повернули туда своих коней мрачные воины, и солнце еще не закатилось, когда они уже остановились в изумлении перед облаками пышной зелени, облекавшими дворец.
У ворот встретили их красивые ливийские рабыни с питьями и яствами. Сама дивная Зейнаб ждала их на мраморной лестнице дворца…
Но рыцарь не принял ни яств, ни напитков… Медленно и осторожно въехал он в пышную аллею и, убедясь, что дворец не защищен, подал сигнал… Боевой клич впервые всколыхнул напоенный благоуханиями воздух; в сумраке, полном неги и лени, зазвенели мечи… Отчаянные вопли наполнили окрестность — и отовсюду на призыв их, из самых мрачных далей сожженной небесами степи, стали сюда сбегаться волки, шакалы и пантеры. Дружина Черного рыцаря оказалась достойной этих союзников. Под ее мечами падали безоружные невольники, женщины и дети. Султанша Зейнаб в ужасе бросилась в отдаленнейшие закоулки своего дворца, но Черный рыцарь уже заметил ее и последовал за нею и ее девушками. Скоро весь этот дворец был во власти крестоносцев. Они поставили караулы к воротам дворца и сада. Рыцари приказали зажечь все лампы с благовонным маслом, опустошили все кладовые и подвалы, вытащили все, что только было здесь вкусного или ценного, — и после злодейства начался пир, перед которым побледнели оргии Тиберия и Нерона. Тихая ночь, словно притаясь от ужаса, слушала до рассвета крики и стенания несчастных пленниц. Ни один соловей не запел в ветвях мандрагоры, ни одна птичка не подала своего голоса с высоты чинар и магнолий; только далеко-далеко слышалось зловещее карканье вороньих стай, и когда утро проснулось, открывая миру голубые очи своих небес, — вокруг дворца оказались целые стаи этих жадных птиц.
Свет Божьего солнца не смягчил злодеев.
Они заставили прислуживать себе измученных. Горя от стыда, султанша Зейнаб должна была, так же как и вчера, на коленях подавать Черному рыцарю блюда за блюдами. Когда все кончилось, рыцари, прежде чем уехать, перебили всех. Черный рыцарь сообразил, что они могут рассказать другим крестоносцам об этом позоре, и первый подал пример, положив ударом меча к ногам своим красавицу Зейнаб… Напрасно она простирала к нему трепетавшие от ужаса руки, напрасно полные слез, печальные взгляды ее чудных газельих очей останавливались на нем. Убийца даже улыбался ей в эту минуту…
Они подожгли дворец, срубили пальмы, красовавшиеся в саду его, уничтожили все, что успели. Огонь быстро охватил изнутри стены, покрытые драгоценным деревом, истребляя все на пути своем, сжег валявшиеся повсюду тела и, распространяясь все больше и больше, дошел до кладовых с кувшинами драгоценного масла. Оно дало ему еще более силы. Из окон перекинулось пламя в сад, и к вечеру того же дня он весь пылал… Посреди золотой степи это море грозного огня рвалось прямо к небесам, точно призывая их в свидетели совершавшихся здесь злодеяний… И небеса хмурились и хмурились; отовсюду наползли грозные серые тучи и разрыдались ливнем холодных слез над гибелью этого перла вселенной, этих сокровищ, сотни лет красовавшихся здесь на диво и на восторг человечеству.
На этот раз преступление не осталось безнаказанным.
К дивному дворцу шел со своим отрядом Ричард Львиное Сердце… Утомленный король заранее мечтал об отдыхе среди благоуханного сада. Пустыня жгла его — он раз уже был здесь и торопился теперь скорее добраться до цели. К тому же и Зейнаб влекла его к себе неодолимой красотой… Но вот сады должны быть уже близко. Солнце, склоняясь к западу, обливает пустыню розовым сиянием. Ехавший впереди разъезд рыцарей вернулся и подскакал к королю.
— Там ничего нет…
— Как нет?
— Руины и обгорелые остатки сада, король…
Ричард дал шпоры своему коню… Его отряд понесся за ним с головокружительной быстротой. Вот они уже близко. Из черных, обугленных масс курится еще серый дымок кверху. Солнце в последнюю минуту своего прощания с землей золотит его и кидает свои алые отсветы на уцелевшие, но совсем закопченные стены дворца…
Рыцари бросились к развалинам.
В одном месте они услышали плач… Спрятавшаяся во время разгрома и случайно уцелевшая девушка вышла… Увидела Ричарда и опустилась перед ним на колени.
— Что случилось?.. Где Зейнаб?
— Убита.
— Кем?
— Крестоносцами!..
— Не может быть! — и кровь бросилась в лицо королю. — Между нами нет таких злодеев…
Но в это время его рыцари принесли с собой щит, забытый здесь.
И на нем был герб Черного рыцаря.
Очи короля вспыхнули от гнева.
— Вперед! За мной, благородные англичане! — крикнул он своей дружине, и она как вихрь понеслась вперед.
Солнце уже погасло; голубые тени давно слились в одну таинственную ночь. Над мертвыми песками пустыни зажглись великолепные созвездия южного неба. Скоро и месяц прорезался на востоке. Король Ричард бешено шпорил коня, и только горячий воздух сирийской степи свистал мимо ушей всадников. Через два или три часа показался впереди смутным, едва намеченным в сумраке ночи силуэтом убогий плоскокровельный городок с несколькими пальмами, склонившимися над ним, словно благословляя его глиняные стены. Невдалеке от города Ричард встретил караул…
— Кто здесь? — на скаку обратился король к воинам.
— Граф Фландрии и Бургундии.
— А еще?
— В восточном краю города — Черный рыцарь со своей шайкой.
— Сам Бог предаст его в мои руки!
Мстители живо проскакали по узким улицам города, прямо на площадь, на которой стояла высокая мечеть. Тонкий минарет ее уходил в темную синеву ночного неба. Казалось, он висел в ней. Король приказал трубачу подать сигнал, и спустя несколько минут площадь стала наполняться воинами. Прерывавшимся от негодования голосом Ричард рассказал им о том, что он только что видел, перечислил все известные ему преступления Черного рыцаря. Крики ужаса и мести раздавались в толпах крестоносцев.
— На суд, на суд убийцу! — решили они.
Судьба злодея была решена — они только ждали, чтобы он появился между ними.
Король послал одного из своих к Черному рыцарю, требуя его к себе. Но Черный рыцарь ответил с гордостью:
— Пусть придут и возьмут меня!
Солнце, поднявшись на безоблачных небесах, осветило картину отчаянной усобицы. Черный рыцарь дрался львом; но когда кругом почти вся его дружина была перебита, и он решился найти смерть в последней вылазке, перед ним вдруг появилась женщина… Точно разом выросла. Не было на этом месте никого за мгновение. Черный рыцарь хорошо это помнил. Он было занес на нее свой меч, но она взглянула на него так строго, что рыцарь впервые почувствовал робость и ужас.
— Кто ты?
— Беги!.. — и она властно подняла над ним свою руку.
— Скажи мне, кто ты?
Но тут и сам он вспомнил… Ее, именно ее видел он ночью во сне, в пещере убитого им пустынника… Ее, именно ее, — молившеюся перед той, так осмеянной статуей Мадонны.
— Беги… и кайся!..
И ее опять не стало… Ужас охватил Черного рыцаря. Он первый раз столкнулся с загробным миром. Перед ним поднялся уголок завесы, за которой ослепительно блеснула ему вечность. Черный рыцарь помнил только последнее ее слово: «Беги!..» Он вскочил на коня и одному ему известным выходом выбрался на улицу, где не было никого, по ней доехал до пустыни и только тогда почувствовал себя спокойнее, когда бедный сирийский городок слился вдалеке с однообразными охватившими его песками пустыни. В эту пустыню и кинулся Черный рыцарь. Он не знал даже, куда он несется… Ему хотелось только поскорее оставить между собой и своими преследователями как можно большее пространство. Он поминутно оглядывался назад… Теперь вот только и видны минарет мечети да несколько пальм… а погони нет. Или его сочли убитым, или битва еще продолжается. Судьба как нарочно вела его к месту недавних его преступлений. Он заметил вдали пожарище… Огонь уже давно потух, и сизый дымок, почти замирая, в двух или трех местах вился к небу тонкими струйками. Черный рыцарь узнал остатки им уничтоженного дворца. Теперь ему, впрочем, было не до того. Лишь бы напиться. Он знал, что в пустыне только здесь найдет он воду…
Тишина царила кругом.
Черные деревья как скелеты простирали в знойный воздух свои обгорелые ветви; искривившиеся и помертвевшие кусты были лишены цветов, еще недавно так пышно благоухавших. Высохшие листья висели на них. Ни пения птиц, ни голоса человека. В пепле одни змеи, шурша, скользили, точно радуясь, что и этот, еще два дня назад заповедный для них утолок теперь достался им!.. Черный рыцарь сошел с лошади и стал пробираться вперед, прислушиваясь. Вот каменный остов дворца. Почерневшие стены и колонны торчат из целых груд обвалившихся карнизов, балконов, балок… Наконец, рыцарю послышался говор фонтана, и он живо направился туда…
Один этот фонтан не умер, один он жил еще посреди мертвой пустыни.
Всюду валялись тела убитых женщин… Если бы Черный рыцарь был здесь не один — едва ли что-нибудь шевельнулось бы в его сердце… Теперь же его объял бессознательный страх. В одном месте он даже зажмурился. Лежавшая тут мертвая женщина указывала прямо на него закостеневшей рукой. А вон целая груда таких же… А фонтан все громче и громче. Чудится рыцарю, что струя его негодующе жалуется на что-то. Тем не менее он поспешил подойти и напиться, как вдруг нечто вовсе неожиданное остановило его.
У самого фонтана лежала раненая газель и жалобно, не имея силы сдвинуться с места, смотрела на рыцаря.
Когда последний подошел к ней, в прелестных глазах животного показались слезы.
Но отчего Черный рыцарь так вздрогнул, и бледность его лица стала еще более резкой?
— Это ее глаза… ее глаза… — шептал он, в ужасе отступая от нее. — Само небо преследует меня… Это она… она!
Но тут газель жалобно заблеяла, бессильно протягивая к воде свою изящную головку…
У нее оказались перебитыми ноги… Кое-как она доползла сюда, чтобы напиться, а к самому фонтану дойти уже не было силы. Рыцарь понял это — и непонятное ему самому чувство жалости охватило его. Он приподнял газель на руки и поднес к фонтану. Она начала с жадностью пить…
— Ее глаза… ее!.. Глаза султанши Зейнаб, убитой им!.. Это она…
И странное чувство какой-то тихой печали проникло в его душу, когда она, эта газель, обернула к нему взгляд, полный благодарности и кроткой ласки. Он обмыл ей ноги… Перевязал их… Когда он вернулся к коню — к ужасу его оказалось, что коня не было. Оставленный на свободе и не принадлежавший никогда Черному рыцарю, конь бросился назад, вероятно, в тот сирийский город отыскивать свое-го хозяина. Напрасно Черный рыцарь звал его и кричал ему — увы! — уже далеко-далеко золотистое облачко показывало то место, где копыта бегуна взрывали песок пустыни… Если бы кто-нибудь через несколько часов встретил Черного рыцаря, он увидел бы его медленно бредущим по пустыне с раненой газелью на руках, которая, положив ему доверчиво голову на плечо, дремала… «Ее глаза, глаза султанши Зейнаб!» — повторял убийца.
И почему-то ему казалось, что он видит эту несчастную красавицу, прикрытую только своими чудными волосами… Она обнимает его колени… Умоляет о пощаде… И вдруг — глубокая, в грудь нанесенная рана… Она хватается за нее руками… Сквозь ее пальцы хлещет кровь… Синяя тень ложится на ее лицо… Из горла раздается какое-то хрипение… А раненая газель, все так же доверчиво положив голову на его плечо, дремлет на руках Черного рыцаря… Но что это? Впереди в песке пустыни что-то шевелится. Черный рыцарь подходит… Какой-то измученный пустынник едва поднимает свою голову.
— Что с тобой? — спрашивает его рыцарь.
— Умираю от голода и жажды…
У Черного рыцаря немного воды с собой. Он знает, что на целые сутки впереди нет ни одного источника… Но, сам не зная, что делает, он отдает свою воду умирающему… Потом он приподымает его, предлагает опереться на его руку, и ведет таким образом вперед, держа все так же на другой руке газель…
IV
Прошло несколько лет… О Черном рыцаре не было ни слуху, ни духу. Все так и решили, что он пропал в Палестине — и, говоря правду, его гибель никому не была больна! Вассалы его радовались отсутствию жестокого суверена, и опустевший край мало-помалу начал отстраиваться и заселяться. Опять возникли на старых пожарищах новые селения; там, где еще недавно бродили одни волки да ночные грабители, весело подымался дымок к голубым небесам, и свежие молодые побеги зеленели вокруг недавно обработанных, но успевших принести несколько хороших жатв полей. Тем не менее, казалось, проклятие тяготело над этим уголком — за грехи ли Черного рыцаря или за преступления его предков, но небо не хотело примириться с отверженной им страной. Монахи так и объясняли это, наивно полагая, что Всемогущий за господ поражает их слуг. Не успели еще усесться на старых местах вассалы грозного графа, не успела заглохнуть память о его жестокостях, как — новое горе. В стране показалась страшная гостья Востока, быть может, занесенная кем-либо из вернувшихся домой крестоносцев, — «черная смерть». Чума, еще до сих пор неизвестная в этой части Европы, разом развернулась с такой страшной жестокостью, что люди потерялись окончательно. Ни наука, ни религия не могли прийти на помощь. Умирали и в гордых замках, на высях гор, и в убогих хижинах в глубине долин; умирали старики, дети и женщины; цветущие юноши в один день заболевали и в страшных мучениях оканчивали свою только что начавшуюся жизнь. В каждом доме мертвецы — и за одним всегда следовали другие. Оказывались сплошь вымершие деревни; некоторые города вовсе опустели, на скалах торчмя стояли безлюдные замки. Были места, где некому было хоронить. Болезнь эта не знала пощады. Все, кого она касалась, гибли неизбежно. Дороги были наполнены трупами, потому что те, которые хотели уйти из проклятой страны, падали, как только удалялись от ее пределов… Но великие бедствия всегда вызывают и великие характеры. В эпоху общего ужаса и тоски один не поддался ей, один являлся всюду, где нужна была помощь человека и утешение христианина. Откуда явился он — никто не знал. Года два тому назад в старой пещере убитого Черным рыцарем пустынника поселился новый отшельник. На первых порах он казался измученным и жалким. Терпя голод и холод, он жил в безлюдном лесу, ходил босым, но всегда с закрытым лицом. Под грубой тканью его холодного плаща заметно было железо вериг, а на самом плаще проступали каждый день свежие пятна крови, потому что вериги до ран терзали изможденное тело одинокого отшельника. Он питался кореньями, побегами трав и, когда люди приносили ему плодов и хлеба, он по ночам обратно возвращал эти даяния в те же деревни, но только оставлял их у наиболее беднейших хижин. Иногда он становился по горло в быстро текущие и холодные осенью реки, спал на острых каменьях; приходя к людям, добровольно и молчаливо исполнял самые низкие и позорные, по понятиям того времени, работы… Люди были жестоки. Случалось, отшельника били — он низко кланялся, словно благодаря за побои, и так же молча продолжал свое дело. Когда все входили в церковь слушать божественное слово, пустынник против дверей храма простирался ниц на земле, в грязи или под солнцем, все равно, и оставался так до конца службы. Он никогда не молился и на вопросы, задаваемые ему, отвечал, что его молитва, молитва подобного ему грешника, оскорбит небо… Раз он узнал, что в соседнем городе обвинили за воровство отца голодавшей семьи, для которой несчастный похитил тайно хлеб из лавки. В назначенный для наказания день к судьям явился отшельник и, став на колени, заявил, что вина — его, что отец нищих детей не совершал преступления, в котором его обвиняют. Вор молчал. Судьи повелели прибить отшельника за ухо к позорному столбу и урезать ему нос. Когда подняли покрывавший его лицо капюшон, оно, страшно изможденное и худое, оказалось покрытым шрамами и боевыми рубцами. Решили, что монах был старый солдат. Когда нож палача уродовал его, отшельник, побеждая боль, безмолвно смотрел в синие небеса, и взгляд его, казалось, искал там утешения. Он должен был целые сутки оставаться у столба. Проходившие мимо люди издевались над ним, плевали в лицо ему, злые дети швыряли в несчастного каменьями, но он не сводил очей с безоблачной тверди, и хотя уста его не шептали молитвы — казалось, она неудержимо лилась из его очей… На другой день его отпустили; он низко поклонился судьям и пошел прочь… Скоро весть об этом разнеслась: настоящий вор рассказал своим, как все было в действительности, — и поселяне стали боготворить отшельника. Тогда, заметив общее к нему уважение, он заперся окончательно в своей пещере и до появления чумы не показывался никому…
Чума заставила его выйти из добровольного заключения.
Когда все бежали от умиравшего, отшельник приходил к нему и служил до последней минуты; метавшихся в смертельной тоске он обнимал и касался устами их болящих и точивших смрадный гной язв. Когда его просили молиться, он отказывался, говоря, что его молитва неугодна Богу, — лишь раскрывал Евангелие и читал благую весть до тех пор, пока зачумленный не терял сознания. Все ходившие за больными умирали. Его, казалось, щадило небо. И отшельник удалялся к себе, опустив голову, или от одного умершего переходил к другому, еще умирающему.
Замок Черного рыцаря недолго был пуст… У него оказался далекий родственник. Когда было уже окончательно решено, что настоящий граф погиб в Палестине и не вернется домой, родственник этот явился сюда со стражей и положил свою властную руку на все его окружавшее. Поселяне затрепетали. Оказалось, что в жилах нового господина текла кровь проклятого рода. Этот оказался так же жесток, как и правивший до него страной. Опять на виселицах болтались ни в чем не повинные люди, в подземельях вновь оказались неведомо за что запертые узники. Из-под топора палача обильно лилась кровь. Суверен отнимал не только жизнь, но и честь своих вассалов. Скоро не было здесь не обесчещенной им девушки, не отторгнутой от супружеского ложа красавицы. Не один он — каждый из его воинов считал себя вправе бесчестить, убивать и грабить. Скоро стон пошел по всей окрестности. Отшельник на себе испытал железную руку владельца. Как-то лошадь последнего испугалась его мрачной и закрытой плащом с головы до ног фигуры и понесла. По приказанию владельца пустынника схватили и, избив палками, полуумирающего оставили на дороге… Тут он лежал всю долгую ночь. Мимо бежали волки и не тронули его… Когда рассвело, он увидел вдали несколько воинов с толпой захваченных ими людей… Они остановились на роздых около того места, где лежал отшельник. Прислушиваясь к их стенаниям и жалобам, узнал он, что их вели на казнь за то, что они осмелились вступиться — одни за своих дочерей, другие за жен, третьи были слишком зажиточны, и опричники графа хотели их гибели, чтобы завладеть их имуществом.
— Когда назначена казнь? — шепотом спросил отшельник у ближайшего.
— Через неделю — в следующее воскресенье!
— Успокойтесь и молитесь Богу… Если Он поможет, рука палача не коснется вас!
Затем отшельник обратился к одному из воинов и предложил ему продать лошадь. Тот изумился. Отшельник бросил ему горсть золота. Солдат взял его и оказался на сей раз честен, отдал коня. Когда этот вскочил на седло, все изумились. Его приемы обнаружили опытного ездока… «Еще раз: надейтесь на Бога и молитесь Ему»…
Случилось нечто необычайное…
Императору доложили, что какой-то отшельник, не открывая своего лица, с утра добивается у ворот его дворца быть допущенным к нему. Его гнали прочь, били, но он с удивительной настойчивостью хватал за платье каждого рыцаря, проходившего мимо, и умолял сказать о нем императору. Император приказал его впустить.
— Кто ты?.. — спросил он.
— Черный рыцарь… Граф и суверен гор и равнин Торрены и Ривы!..
И он подал императору связку пыльных пергаментов. Все оцепенели. Государь осмотрел документы.
— Я поверю тебе только тогда, когда ты мне покажешь знак, который, я знаю, красуется на всех членах твоей фамилии.
Отшельник сбросил плащ. Придворные ахнули. Худое, изуродованное лицо, с отрезанным носом и оборванными ушами, все в шрамах, плечи в синяках и кровавых подтеках от ран и ударов, спина, исковерканная палками нового владельца его земель — так и бросились в глаза окружающим. Но на груди, под слоем грязи, когда ее обмыли, оказался действительно знак этой фамилии — птица со змеей в когтях…
Досказывать недолго.
Владения были возвращены Черному рыцарю. Осужденные его родственником поселяне были освобождены.
Он дал свободу своим вассалам, а замок и ближайшие к нему земли подарил ордену св. Доминика. Скоро в серых стенах и башнях устроился монастырь.
Ему предложили пострижение.
Черный рыцарь признал себя недостойным. Он до самой смерти оставался при обители как слуга, исполнявший самые черные и трудные работы. Никогда не являлся он к исповеди и причастию… Так прошло еще двадцать лет… Черный рыцарь, уже седой старик, куда-то пропал… Первое время не хватились, потом стали искать отшельника, но его нигде не было. О нем было забыли совсем, как вдруг — из одной расщелины в скале стали замечать по ночам точно раскидывавшееся оттуда в высоту и по сторонам сияние.
Народ начал собираться туда.
Монахи тоже… Вспомнили, что тут находилась одна из самых ужасных темниц Черного рыцаря.
Еще живший где-то далеко престарелый мажордом был вызван в замок. Он указал ход. Проникая во тьму подземных жил, монахи, спускаясь все ниже и ниже, дошли, наконец, до страшного угла, сплошь заваленного костями и останками забытых здесь жертв…
Посреди них стоял на коленях отшельник, обнимая руками громадный каменный крест.
К нему кинулись все. Подняли капюшон, закрывавший его лицо, — увы, Черный рыцарь был мертв!
Долго еще после того сияние разливалось по ночам над этим местом, где вскоре был сооружен подземный храм.
Поселяне забыли имя Черного рыцаря, но хорошо помнят легенду о нем.
Мне передал ее монах, когда мы сидели вдвоем под навесом зеленых ветвей за стаканами доброго Сан-Поло.
Солнце сияло так весело, так громко и задорно пели птицы, так ласкающе шептала молодая листва, и так мирно журчал ручей, переливаясь с камня на камень у наших ног!..
И казалось таким счастьем жить теперь, когда ни таких феодалов, ни таких нравов нет уже более!..
Василий Немирович-Данченко ФАВН В ГИПЕРБОРЕЙСКОМ ЛЕСУ Сказка
Илл. С. Лодыгина
Простой и глупый русский черт выл в болоте. Пускал пузыри. Пузыри лопались над омутом и из них выскакивали зеленые блуждающие огоньки.
Точно обросший корой, ржавой и потрескавшейся, неуклюжий леший медленно тащил свои ветвистые несуразные лапы к черному дуплу и навстречу ему сучками, прутьями тянулись и царапались сухие кикиморы.
Оборотни хрюкали свиньями, лаяли хриплыми псами, а старая, брюхатая, с отвислыми грудями ведьма носилась в крикливой вороньей стае над сырым лесом, гогоча во все горло.
Испачкавшаяся в речной грязи, белесая и приземистая русалка сбрасывала с зеленых, пахнувших рыбой волос мелких раков и дразнила (вот-вот лопнет!) пучившуюся на нее лупоглазую жабу. Вдруг русалка остановилась и вперила судачий глаз на опушку. Что-то мелькало там — гибкое, быстрое, стройное…
Бедный изгнанник солнечной Эллады бежал, сам не зная куда.
Бог знает сколько времени он стремился вперед в Гиперборейские леса от мести жестокой Дианы. Он сам не знал: за что? Поддался обаянию запаха желтых мимоз, волшебству зноя и света, нежным улыбкам аттических фиалок, призывному пению кристальных источников и сослепу налетел на любимую дриаду богини. Ему чудился позади свист убийственных стрел, казалось, что вслед несутся, горячо дыша горячими пастями, острозубые псы. Он уронил по пути флейту великого Пана, обломал маленькие изящные рожки о твердое, наткнувшееся на него по пути тело векового дуба и едва-едва приходил в себя теперь, забравшись на дикий, безвестный, окоченелый север.
Фавн был безграмотен и не читал Геродота, иначе он знал бы, какой ужас обитает в этом зябком, повитом нечистыми испарениями краю.
Вдруг он остановился и протянул вперед руки, точно защищаясь.
Прямо навстречу ему ползла, переваливаясь и хрипя от насморка и бронхита, русалка. Она на его глазах выползла из вонючей зацветшей воды.
— Кто ты?.. Неужели здешняя наяда?
Он вспомнил своих волооких, певучих и стройных подруг в прозрачных пучинах Кефиссии, их ночные пляски на лунных полянах…
— Какая ты… некрасивая… грязная… Отчего у тебя такие короткие и кривые ноги?
— Дурак! Я в нашем омуте краше всех. По мне все хромые черта с ума сходят.
Фавн проголодался…
— Где бы тут поесть?
— Вот, сколько хочешь дождевых червей… мухоморов… Жри… мы живем богато!
Посмотрел… поморщился.
— Нет ли винограда?.. Или хоть лесных орехов?
— Чего?.. Мы про такое не слыхивали! Сосновых шишек уродилось до пропасти… А там дальше, на опушке, лежит лопнувшая кобыла. Пухла, пухла и треснула. Наше воронье вот как радовалось. Хвалило: «Вкусно!» На всю эту трущобу каркало… Я бы тебя рыбой угостила. Вон она вся брюхом вверх плывет. Болеет и колеет, родимая. Хочешь, — мне не жаль. А то лучше ступай к кобыле, пока волки не набежали.
Фавн вдруг почувствовал усталость и сел.
Вокруг заплясали вшивые бесенята, до крови расчесывая лохматые копыта. Выглянул из дупла и загоготал над ним старый леший, хрюкали и тыкались в него мокрыми слюнявыми рылами оборотни, ползли сучками и задоринками насмешливые кикиморы. Вверху остановилась над ним в своем колете кувыркавшаяся ведьма и от удивления сделала то, что даже и у гипербореев считалось неприличием. Слаба была на это старуха!
А Фавн.
Он зажмурился… застыл…
Хоть минуту покоя.
Куда забежал!
Как выбраться отсюда? Где его лазурное море и золотые отмели Фалер? Где лавровые рощи с ароматными кистями розовых цветов? Где элевзинские розы и лилии счастливого Коринфа, пение пастухов на Ликабете и веселая пляска беспечных сатиров? Где румяные, золотоволосые вакханки, на жарких плечах которых так прекрасны тигровые шкуры? Еще недавно он, шаля и играя, срывал с них виноградные венки. Нагоняя в таинственном сумраке священных рощ, любовался их гибкими и стройными торсами. И это небо безоблачное, чистое с белыми голубями — любимицами Киприды? Дивные мраморы белоколонных храмов, сверкавшие ему издали сквозь кипарисы и кедры?…
Бедный Фавн заплакал…
И вся эта гиперборейская дебрь захохотала над ним. Визгливо смеялись русалки в омуте, швыряя в него раками. Падали на тощие животишки и дрыгали от восторга кривыми сбитыми копытцами бесенята. Гудел, как громадный шмель, леший и даже простой и глупый черт, ковыряя в носу, издевался над ним в ржавом болоте.
Одна ведьма не смеялась.
Медленно спланировала на своем помеле… Подошла — критически оглядела Фавна.
— Ничего… Молодой… Сойдет.
И предложила ему свою любовь.
С ужасом отшатнулся от нее Фавн, кинулся в самую трущобу и, наткнувшись там на драное лыко… повесился.
Алексей Толстой САТИР
I
В сентябре, среди ясного бабьего лета, нагнало вдруг туману на Петербург.
Двинулся туман от Гавани, перевалил через крыши и пополз по улицам, где фонари, зажженные с полудня, светились, как фосфорические яйца; было темно и не темно, но домов не стало видно; по сухим тротуарам постукивали шаги, звякали иногда по булыжнику лошадиные подковы, и перед самым носом отскочившего прохожего высовывалась лошадиная морда в дуге, потом все остальное, и тут же пропадало, проехав.
На Васильевском, в тумане, когда линия домов представляется лесом, а дерево за решеткой — городовым, который поставил на голову себе целый воз веников, на острове в этот час, где-нибудь у семнадцатой линии, совсем пусто.
В тумане на пустой улице нетрудно налететь на пьяного или обидчика, поэтому Любочка Молина, быстро постукивая каблучками, вдруг остановилась, заслышав за собой шаги, сдвинула брови и попятилась к забору (их много еще в тех местах). Тут-то и произошла ее первая встреча с человеком, о котором назавтра вдруг заговорил весь Петербург, охваченный любопытством, а приехавшие к сезону дамы терзались предчувствием, что вдруг им не удастся заполучить этого необыкновенного человека в свой салон.
Едва только Любочка отодвинулась к забору, как из тумана перед пей выскочил среднего роста человек, весь еще живой от быстрой ходьбы, круто повернулся и, вытянув крепкую шею, стал есть Любочку глазами.
Голова у человека была удивительная — тоже крепкая, с выпуклым, как у барана, лбом (котелок торчал только на макушке), нос же был вздернут, кожа на лице розовая, борода молотком — русая, в кудрях, усами полуприкрыты очень красивые губы, а длинные глаза таковы, казалось, — раскрой их прохожий пошире, так и затонешь в голубой их влаге.
Любочка все это тотчас высмотрела, сердито опустила веки и, дернув узким плечиком, повернулась, чтобы пройти. Прохожий отскочил, втянул голову в плечи и фыркнул, как кот.
Да и было отчего ему фыркать: Любочка Молина слыла на весь остров красоткой. Была она маленькая и черненькая, волосы носила по-модному — закручивая улитками на ушах, нижняя губка у нее заходила на верхнюю, словно брезговала, а черные глаза были светлые, с огоньком.
И так она умела вертеть кавалерами, что немало конторщиков пило горькую и наутро чепуху всякую записывало в конторских книгах; приказчики с Андреевского рынка говорили друг дружке неприятности, и была даже одна дуэль, только не знают хорошо — на чем: кулаком ли бились, или из пистолета.
Но не о конторщиках мечтала Любочка Молина, — недаром были у ней брезгливые губки, — представлялись ей в бессонные ночи и автомобиль, и статейки в «Биржевке», и портрет ее на Невском у Мрозовской. Но пока не брезговала она даже голоштанными студентами и сейчас спешила в условленное место к новому поклоннику, да вот только прохожий пристал.
Дернув плечиком, Любочка перебежала мелкими шажками через улицу и зашла в магазин открыток. Но когда вышла оттуда, держа в руке открытку (на открытке изображен был «цеппелин», из лодочки которого свешивались розы), прохожий ждал у дверей и опять погнался, на шаг сзади…
Хотя Любочка и любила этот легкий страх от погони, когда позади бежит ошалелый от вожделения мужчина и электричество словно покалывает в спину, а сердце то заколотится, то станет, ожидая (каждую минуту ведь могут облапить), но сегодня Любочка не была расположена ко всему этому: она опоздала почти на час, и когда, переходя Большой, прохожий забежал вперед, загородив дорогу, Любочка толкнула его, села на извозчика и крикнула:
— Поезжай, поезжай, дурак, дурак…
Извозчик впопыхах поехал было шибко, но скоро опустил вожжи, сев боком на козлах, и поплелся, ворча что-то про туман…
Любочка мяла в руках открытку… Вдруг на щеке она почувствовала горячее дыхание, со страхом обернулась: позади, повиснув на кузове, висел прохожий; рот его раздвинулся углами кверху, щеки стали, как яблоки, рукой он захватил Любочку, зарылся во рту ее губами и, не дыша, поцеловал…
Любочка подняла руки, хотела закричать, но не могла, а прохожий оторвался от нее, спрыгнул с кузова и пропал в тумане…
Любочка крикнула все-таки, потом вынула платок, закрыла рот и вдруг засмеялась лукаво.
II
Любочка Молина вернулась домой в шестом часу и, взбираясь на самый верх многоэтажного дома, присаживалась между этажами, до того была устала и томна.
Карманы котикового ее жакета были полны конфет, в муфте лежали теплые апельсины, а на губах она все еще чувствовала запах табака, вина и усов.
Сидя в углу площадки перед седьмым этажом, Любочка глядела в цветное окно, смутное от сумерек, и в душе у нее было пусто и словно так же помято, как и платье ее, и тело, и белье. Ей хотелось только лечь и слушать звон в ушах — этот звон слышен в сумерках, когда внизу глубокого двора играет шарманка, и так все тоскливо, что даже хорошо.
Вдруг по лестнице послышались быстрые шаги и мимо, прыгая через три ступеньки, промчался давешний прохожий. Любочка поспешно прикрылась муфтой.
Прохожий наверху позвонил, только незнай куда — там на площадке было четыре двери.
«Он прямо сумасшедший», — подумала Любочка и услышала, как прохожий ясным и торопливым голосом спросил в отворенную дверь:
— Извините, забыл номер телефона; я, видите ли, очень тороплюсь… внизу дама дожидается… благодарю, запомню и так…
И через минуту он уже сбегал в расстегнутом клетчатом пальто еще прытче мимо Любочки вниз, встал вдруг, схватись за перила, повернулся, вгляделся и исчез…
III
Любочка, наконец, вошла в свою комнатку, низкую, с одним окном во двор, оклеенную в розовое с разводами; вынула из кармана конфеты, сняла жакет, потом кое-как застегнутое шерстяное платье, потянулась в корсете и, засветив лампу, накинула фланелевый капотик и легла на кушетку, поглядев на кончики туфель.
«У кого же это он про телефон спрашивал?» — подумала она, взяла с круглого столика подряд несколько конфет, приятно щурясь, раскрыла книгу декадентских стихов и оперла на руку маленькую свою, словно звериную, головку, подумав: «Что может быть приятнее?»
В это время вошла ее мать — как полагается — толстая, неряшливая вдова-чиновница, не понимающая никаких искусств.
— Опять, дрянь, к хахалю таскалась! — с отвращением сказала мамаша, присев на стул у двери.
— Покуда вы не оставите ваши мещанские выражения, я отвечать не намерена, — спокойно возразила Любочка, перевернув страницу.
— А у вас-то это откуда благородная кровь, шкура! — продолжала мамаша, с удовольствием предвидя оживленный разговор.
Но Любочка продолжала читать.
— Вот Шамшевы и то мне говорят: вы бы за дочкой присмотрели, люди-то смеются, а жених теперь — ох, какой вострый. Ну, кто эдакую язвину возьмет? Читаешь все, чтица! — не выдержав, завопила мамаша.
— Вы мне вашими разговорами карьеру испортите, — сказала Любочка.
— Ты о чем это, — удивилась мамаша и, уставясь на дочку, помолчала. — Жильца-то видела нового? — спросила она.
— По видимости, с деньгами, только больно уж скипидар — так и бегает: утром нынче в коридоре на меня наскочил, как облапит… фу ты…
— Какой там скипидар? Что вы мелете, мамаша, никакого вашего жильца не видала; вон, телефон звонит…
В прихожей, действительно, зазвонил телефон (так и в объявлении о сдаче комнаты говорилось, что с телефоном). Любочка проворно побежала и, затворив мамашу в своей комнате, взяла трубку.
— Алло, — сказала Любочка, — кто говорит? Я вас не знаю. Как — все равно? Слушайте, я брошу трубку. Что?.. Ну, хорошо, подожду, только смотрите. Не тот голос? А вы к кому звонили? Нет, мой номер другой. Вы перепутали. Ах, вам это все равно. Какой же вы ветреный! Моя наружность? Вот вопрос… Ну, хорошо… Да, очень красивая: очень тонкая… Глаза? Большие. А зачем вам нос? Нос тоже красивый, с раздувающимися ноздрями. Послушайте, вы обещали, я рассержусь. Какой вы смешной! Что делаю? Лежу в моей большой, восточной комнате на шелковых подушках. Кругом меня все туберозы. Они опьяняют: я люблю, когда кружится голова. Да, окна занавешены бархатными портьерами, малиновыми. Ковер на полу, такой мягкий, что глушит шаги. Как я одета? Пожалуй, скажу: ведь в комнате полумрак… Я не могу… Да я совсем не одета, на мне ничего нет, кроме роскошных рыжих волос. Что?.. Вы хотите войти? Вы слишком дерзки… Ах, только представить… Хорошо, вот вы пришли. Садитесь, нет, не рядом… Не смейте так глядеть на меня: я не люблю грубых… Вы нежный?.. Да, я вся розовая, а ножки маленькие, я их скрестила. Ай, трогать нельзя… Что, что? Не слышу… Нет, нельзя… Ну, пожалуй, поцелуйте…
Но в это время распахнулась дверь, встала на пороге гневная мамаша. Любочка обернула к ней взволнованное свое, с пылающими щеками и ртом, лицо.
— Перестать! — крикнула мамаша, и Любочка тотчас прикрыла ладонью трубку. — Ты девка или моя дочь? Прислуга на кухне со смеху валяется, да на телефоне, чай, все барышни уши развесили. Да ведь эдак тебя в газете пропечатают. Стыда-то…
— Да я бы все отдала, чтоб про меня в газете напечатали, мещанка вы старая! — ответила Любочка, со звоном повесив трубку.
IV
В одиннадцатом часу позвонили в парадном и, когда прислуга возвращалась, Любочка спросила ее — кто пришел.
— Да жилец новый, — ответила прислуга, — дурак какой-то: я с него пальто снимаю, а он меня как облапит; хоть ты, говорить, меня пожалей, весь день толку ни от кого не добился… А уж какой ему толк надо — не знаю.
— Вот как! — молвила Любочка и, подойдя у себя к боковой замкнутой двери, прислушалась… Комната жильца была соседней. Любочка различила за дверью шаги, покрякиванье, потом скрип кровати…
Жилец долго вздыхал, должно быть, лежа, потом затих. И Любочке стало вдруг ужасно любопытно, каков такой жилец… Уж не провинциальный ли помещик-богач: ведь намекнула же на это мамаша. А может быть, и американец. Вдруг Любочкино ухо различило странные звуки, потом слова. Жилец, оказывается, пел:
Темен, темен лес густой, В нем бегут потоки. Хочешь — спи, а хочешь — пой Песенки далеки. Ляг в траву, гляди в родник, Ты в певучий дуй тростник — Пой: «Приди, тоскую». Нимфа белою рукой Расплескает над собой Воду ключевую. Нимфа, нимфа, дочь ручья, Выйдет, нежно застыдится; Солнце за лесом садится… Ты ж смотри — она ничья.— Боже мой, это поэт, — прошептала Любочка. — Вот так случай. Он должен посвятить мне эти стихи. Обо мне заговорят… А пойти к нему разве? Смелости нет. А? Мамаша дрыхнет… Постучусь только и спрошу, нет ли книжки со стихами, на ночь почитать. В этом нет ничего предосудительного. Разговоримся, а потом…
Любочка поспешно попрыскалась духами, прихлопала ладонями волосы и, на цыпочках подойдя к двери жильца, чуть постучала.
— Кто? Женщина? — поспешным шепотом спросил жилец тотчас же и отворил дверь.
Перед Любочкой стоял, страшно косматый, давешний незнакомец, без пиджака; рубашка его была расстегнута и под нею широкая грудь покрыта густыми, как у барана, волосами…
Любочка ахнула, хотела бежать, но побоялась шума, да было и поздно: жилец за руку втянул ее в комнату, закрыл дверь, быстро сел на пол у Любочкиных ног, крепко обхватил ее колени и, закинув голову, умоляя, стал глядеть в глаза.
— Вы с ума сошли… Что вы делаете, послушайте! — зашептала Любочка, упираясь в его плечи.
— Я мечтал о вас, я для вас пришел, — сказал жилец голосом до того нежным и ясным, что у Любочки сразу пропал страх, осталось одно неистовое любопытство. — Не бойтесь меня: это я вас поцеловал утром. Милая! Я еще и за другими бегал; весь день; но все они отказались от меня. Не понимаю, что им, что вам надо? Вы женщины ведь, да? Ну, побоялись немного, побарахтались и уступили… Одна только почти согласилась полюбить, и то по телефону… Но зато она была принцесса, и такие штуки говорила, что мне стало совестно немного. Если бы я ее встретил…
— Так это я с вами говорила. Вам понравилось?
— Вы, принцесса… — начал было жилец.
— А вы не поэт? — поспешно перебила Любочка. — Скажите мне стихи; вы очень странный, но я вас не боюсь; я посижу у вас: ведь вы не тронете?.. Да и нельзя, все услышат, а я так завизжу… Ну-ну, и огорчился…
— Не понимаю я: к чему говорите, что вам надо? — с отчаянием сказал жилец.
Любочка засмеялась, высвободила ноги из ослабевших его рук, прошлась и села в кресло, подперев щеку…
— Наивный, — молвила она лукаво. — Что девушке надо? Девушки любят ходить около опасности, их нужно любить и ласкать, но не увлекаться слишком… нет, нет, милый поэт мой!
— Я не поэт, — еще более отчаянно сказал жилец, поднялся с пола и сел на кровать, нагнув, как баран, голову. — Поэты — мудрецы, они понимают всю вашу путаницу. А я только зверь. Обыкновенный сатир.
— Как — сатир? — спросила Любочка, подпрыгнув.
— Ну да, самый обыкновенный, и рога у меня есть, и копыта, все, что полагается. Леса повырубили, нимфы разбежались… где же нам жить? В города и уходим… А тут еще хуже…
Слушая, Любочка поднялась с кресла и стала около кровати.
— Милый мой, я для вас все сделаю, покажите копыто, — взмолилась она.
— Как все? — приободрился жилец.
— Ну, конечно, глупый. Ой, даже голова закружилась. — Любочка живо подсела на кровать и, погладив незнакомца по голове, нащупала рожки.
— Ай! — крикнула она. — Послушай, у нас будет слава и богатство…
И, страшно взволнованная, Любочка ощупала и косматые ноги, и копыта у незнакомца и, захлебываясь, блестя глазами, стала объяснять, что им немедленно нужно повенчаться, потом телефонировать в газету, чтобы прислали фотографа, сняться голыми в фантастической обстановке. На следующий день во всех газетах их портреты, а затем турне по Европе, ангажемент за сто тысяч долларов в Америку; Любочка танцует в костюме Иды Рубинштейн, а он — голый, показывая ноги.
Пока Любочка уговаривала так и мечтала, сатир все более огорчался, робел и угасал… Потом, удумав что-то, оделся и, не поднимая глаз, пошел к двери…
— Куда? — спросила Любочка и беспокойно поглядела на чемоданы жильца, на серебряный около умывальника несессер.
— А я вот сейчас вернусь, сейчас, — ответил сатир тонким голосом и вышел бочком в дверь.
— Смотри, возвращайся не поздно! Слышишь, я буду ждать, — крикнула Любочка строго.
Сатир, медленно спустясь по лестнице, вышел на тротуар, остановился у окутанного туманом фонаря, поглядел в обе стороны, где матовыми яйцами висели в тумане такие же фонарики, поднял голову к небу (его не было видно), поморгал, махнул рукой и пропал в темноте.
Алексей Толстой СТАРАЯ БАШНЯ
I
Красный свет тепло играл на граненом хрустале, ласкал подбородки и руки гостей, наклонившихся к столу, и розовел в длинной седой бороде именинника, инженера Бубнова, сидевшего в кресле.
— Завод наш, милые мои гости, — рассказывал Бубнов, — самый старый на Урале: еще при Петре Первом построен главный корпус механического отделения, домна, которую зовут Матреной, и старая башня посредине озера. Раньше завод был богаче и больше, владельцы жили не по Парижам, а в крыле главного корпуса, богато и широко, и каждый год во время заводского праздника устраивали пир и зажигали разноцветные огни наверху башни. Но настала страшная година, пришла черная смерть в Россию, много народу погибло, перемерли один за другим и владельцы. Странная вещь, часы на башне звонили не переставая, тяжело и гулко, перед приходом черной смерти в темную, ветреную ночь, когда озеро ревело и хлестало через плотину. Их бросили заводить, боялись даже днем взойти на башню. Но перед каждым несчастней они выбивают медленно три раза. Вы, конечно, заметили, как белеет циферблат над озером: стрелки показывают ровно три…
Молодая учительница вздрогнула и взглянула большими глазами в темное окно.
Недавно приехавший из Петербурга инженер Труба наклонился к ее лицу и тихо засмеялся:
— Вы боитесь?
— Я не знаю, — сказала она и покраснела.
Заводский техник и золотопромышленник из Екатеринбурга стали пугать ее, подражая звону, а Труба встал на стул и гробовым голосом произнес:
— «Дон, дон, дон», — звонит привидение. Я отправляюсь на башню и говорю ему: «Милостивый государь, какое вы имеете право пугать добрых людей?…» Затем беру его за шиворот, привожу сюда и угощаю стаканчиком доброй облепихи.
— Побоитесь, — мрачно сказал техник.
Труба улыбнулся, подошел к пианино и заиграл кэк-уок.
— Спойте что-нибудь грустное, — попросила учительница.
Он спел несколько романсов Чайковского, а когда она села рядом и ее розовый локоть отразился в черном дереве, продекламировал: «Я боюсь рассказать, как тебя я люблю»[18].
Цеховой мастер и золотопромышленник в поддевке думали, как приятно быть образованным.
А техник решил, что жизнь его кончена.
Учительница больше не будет играть с ним в крокет в школьном садике, на закате солнца, и не вздохнет, когда он запоет баритоном под гитару: «Накинув плащ, с гитарой под полою»[19], и никогда-никогда не попросит подарить ей ручного ежика.
Потом инженер Труба рассказывал, что в Петербурге дожди и туманы, и целый день горит электричество, и все представляли Петербург вроде грязного от воды и угля заводского двора, где посредине горит одинокий керосиновый фонарь и стоит сторож в тулупе и с колотушкой.
Наконец именинник задремал, и все разошлись.
Труба пошел провожать учительницу, а в темноте за ними крался техник.
— Вы верите в башню? — спросил Труба, крепко прижимая маленький, горячий локоть.
— Я не знаю, право, но, когда хожу ночью одна, мне страшно, а сегодня не страшно.
— Я рад, что попал в этот забытый уголок; я всегда верил, что в глуши расцветают прекрасные девушки, как душистые полевые цветы.
Маленький локоть задрожал и, так как они шли по косогору, учительница склонилась к нему, а он поцеловал ее не ожидавшие, теплые губы.
Учительница вырвала руки, и они молча, шагая через лужи, дошли до школы…
Отворяя калитку, она сказала: «Вы… вы…» — и, должно быть, заплакала.
Когда заблестел свет сквозь ставни, Труба пошел к себе, ему хотелось петь и прыгать через канавы.
Техник все видел и слышал.
II
С утра налезали тучи, родившиеся в сырых ущельях Уральских гор, кольцом охватили истомное небо, и только над заводом еще жмурилось белое солнце и в душной тишине стучала кровь в одурманенные головы.
Труба бродил по мастерским. Угарно пахло железом и маслом, и скрежет резцов рвал воздух на узкие, пестрые полосы.
Слесаря и токаря, черные и потные, угрюмо стояли у станков.
В кузнице бил молот мерно и резко, летели прямые и сильные искры.
Трубе казалось, так бьется его сердце.
Рыжий мастер повернулся к нему.
— Не ждать добра, господин инженер.
— Что?
— Не ждать добра, говорю: сегодня ночью часы на башне били.
Это было так неожиданно и зловеще, что Труба остановился и уронил папироску.
— Что вы, Матвей Никитич, охота вам верить в глупости, послышалось кому-нибудь.
Мастер насупился:
— Вспомните мое слово, либо пожар будет, либо еще что нехорошее; народ с утра не хотел за станки становиться, да цеховой мастер уговорили.
Труба пожал плечами: как глупо! Вспомнился вчерашний вечер, поцелуй и тихий свет сквозь ставни.
«Прелесть моя, — подумал он, — нежная, робкая, как полевая птичка».
После свистка он пошел в школу. Учительница, в розовой блузке, встретила его, опустив глаза, посреди узкой, полутемной комнаты; сквозь щели ставней лился белый свет плоскими полосами, пахло сухими травами и свежестью недавно проснувшейся девушки.
Все было так невинно и чисто, что Труба не вспомнил о вчерашнем, весело пожал ей руку и сказал:
— Знаете что, сегодня ночью часы звонили!
Девушка побледнела.
— Что вы говорите! Вы слышали?
— Нет, Матвей Никитич рассказал. Мне слышно, как все здесь боятся обыкновенных часов; какой-нибудь озорник…
— Нет, не говорите так, я очень боюсь несчастья, мой дедушка умер в ночь, когда звонили часы… Пойдемте к Бубнову, расскажем ему… И потом… — она покраснела: — неловко, что мы одни в школе, будут говорить…
Она так красиво опустила голову, перевитую светлой косой, ее тонкие уши так порозовели, что Труба прошептал: «Милая!» — и нежно взял ее руку.
Но в это время вошел техник, мрачный и похудевший.
— Меня за вами директор прислал, — обратился он к Трубе, — рабочие хотят домну потушить, говорят, ночью часы звонили, так все равно быть беде.
— Чудеса! — выходя, сказал Труба.
Тучи надвинулись к самому заводу. Бабы запирали ставни, ребятишки хворостинами загоняли поросят в ворота, где-то завыла собака. Контора освещалась свечой, воткнутой в чернильницу.
У клеенчатого стола сидел важный и строгий Бубнов; управляющий ходил взад и вперед, заложив руки за китель; жирные щеки прыгали от гнева.
— Черт знает, — кричал он, — потушили домну, требуют прибавки, и все из-за дурацких часов, тут пахнет или чертовщиной, или пропагандой.
Но, очевидно, управляющий трусил.
— Господа, — сказал Труба, — неужели вы верите?
— Поверите, — буркнул управляющий, — вас в Питере не учили страху.
— Да ведь никто же не слыхал звона.
— Я слышал, — важно произнес Бубнов, — медленно ударили три раза.
— Очевидно, кто-нибудь озорничал.
— К башне можно подъехать только на лодке. На заводе их всего три и все стоят под замком в заводской купальне.
— Знаете что, я пойду уговорить народ, — сказал Труба и, выходя, слышал голос управляющего.
— Молокосос, а смелости ковшом отбавляй… Оботрется…
III
Вечером Труба и учительница сидели в столовой у Бубнова. Дождь не пошел в этот день, было томительно и душно. Бубнов рассказывал, качая, как ведун, длинной, седой бородой.
— Много непонятного на свете, господа; мы перекидываем мосты через пропасти и говорим друг с другом за тысячу верст, а не знаем, что в душах наших растут дикие леса и бродят неведомые звери. Бывают минуты, когда человеку открываются глаза на чудесное, и тогда он, потерянный для жизни, бродит, как отшельник и призывает Бога. Тогда он глядит сквозь стены и слышит невидимые голоса. Я старик и не смею не верить во многое, губы мои перестали улыбаться. Вчера, проснувшись, я стал слушать: с озера донеслись три глухие удара… Будет что-то нехорошее.
Труба подошел к окну.
— Видите, как темно, тучи наползли отовсюду, воздух насыщен грозой; в такие минуты нетрудно поверить в чудесное… Мне хотелось бы посмотреть башню и этого звонаря. Я боюсь только пауков за их магические глаза и быстрые лапы..
Он отворил окно; потянул чуть заметный теплый ветер.
Вдруг в темноте повис удар колокола; как будто сорвалась тяжелая, угрюмая тень.
За ним второй, долго спустя третий, — и сразу надвинулась тишина. Труба почувствовал, как что-то подкатилось к горлу, закружилась голова и слегка затошнило.
Когда он оглянулся, Бубнов и учительница сидели бледные, он — опустив голову, она — раскрыв круглые невидящие глаза.
— Что это? — и губы ее по-детски дрогнули.
— Я знаю эти штуки, — закричал Труба, и в нем засмеялась бесшабашная смелость, — сейчас вам приведу привидение, и посмотрим, как оно зазвонит у меня в руках…
«Не нужно, не ходите», — умоляли темные глаза. Но он выпрыгнул в раскрытое окно и скрылся во тьме.
IV
У лодки пришлось оторвать замок и грести доской, так как весел нигде не было.
Труба сдвинул фуражку и расстегнул китель; веселая мелкая дрожь щекотала тело; носа лодки не было видно, только шелестели струи, да булькала черная вода.
Он решил взять с собой колокол часов и заранее улыбался славе, увенчающей его назавтра. Башня стояла где-то посредине озера на каменном островке; но прошел час, а ее не было видно.
— А, черт, должно быть, я свернул в сторону, — тихо сказал Труба и обернулся…
Сзади него, от самой кормы, вырезалась синяя башня, в три тонкие этажа с черными окнами; белые часы под конусной крышей показывали три.
Лодка стукнулась о камни, башня исчезла, и с одного края до другого прокатились чугунные шары, лопаясь, сшибаясь и потрясая небо. Труба лежал на дне лодки, оглушенный и слепой…
Когда все стихло, он поднялся, вытер мокрый лоб и выпрыгнул на камни.
Чудеса творятся, поневоле испугаешься, когда вам преподносят такой концерт!
Сшибая до крови колени, он взобрался на площадку и дрожащими руками зажег свечу.
Осветилась черная трава и облупленная серая стена с низким входом.
Труба вышел.
Четырехугольная пыльная комната, на полу кучи давно вынутой глины, щепки и сбоку гнилая деревянная лестница на первую площадку, а выше — винтовая, теряющаяся в круглой каменной дыре.
Доски скрипели и гнулись.
Труба осторожно ступал, высоко подняв свечу.
Кое-где половиц не хватало, и приходилось карабкаться по отверстиям в стенах.
Первые две площадки были пусты.
«На третьей часы», — подумал Труба и остановился.
В первый раз в него вполз страх и лохматой и сухой рукой стукнул в сердце.
Ярко вспомнилась столовая, под красной лампой учительница, склоненная на нежные руки, и бородатый Бубнов.
«Убежать разве… Но еще одна площадка — и я увижу дурацкие часы».
В это время раздались отчетливые, мерные удары маятника. Труба быстро взбежал и остановился, тяжело дыша и прикрывая рукой свечу.
Из окна в окно протянулся деревянный вал, под ним массивный стол и между пыльные колеса, цепи, качающийся маятник и сверху, как шапка, тяжелый колокол.
Труба потрогал колеса, радостно засмеялся и начал отвинчивать колокол.
Внезапный ветер задул свечу.
«Опять гром ударит», — подумал он и ощупью стал искать стену; его руки нащупали пролет и перекладину загородки.
«Там пропасть… скверно, что нет больше спичек…»
В это время кто-то охватил его спину и грудь, сильно прижал к решетке и стал клонить.
Труба закричал, ощупал холодные руки и впился в них пальцами.
Одна из рук высвободилась и резко ударила по его темени, еще и еще раз…
Труба рванулся, старая загородка хрястнула, и тьма приняла его тело, жирно и глухо упавшее на камин.
Учительница плакала, а Бубнов гладил ее по волосам.
— Он сейчас приедет, не бойтесь…
— Его, наверно, убило громом.
— Мы бы видели, как падала молния, а гром не страшен. Вон шаги, слышите…
Часто, один за другим неслись удары колокола, насмешливые, торжествующие, как лохматые, дикие птицы.
— Такова воля Провидения, — сказал Бубнов, важно и медленно крестясь.
Алексей Толстой ПОРТРЕТ
I
Разбирая наполовину истлевшую библиотеку в сельце Остафьево, я нашел тетрадь из синей бумаги во всю величину листа; на первой странице сверху была выведена совершенно непонятная надпись: «Дерзание души, счастливого бо не осудят, несчастному туда и дорога». Но дальнейшее содержание, писанное все более простым языком, показалось мне занимательным, и я ниже привожу целиком отрывок, касающийся одной встречи, роковой для автора и весьма любопытной.
Рукопись начинается странно — молитвой «Отче наш», писанной с ошибками, и сейчас же автор рассказывает, что в жизни его произошел резкий перелом: граф Остафьев, владелец полутора тысяч душ, дает ему, крепостному своему Ивану Вишнякову, мужеского пола, двадцати лет, роста среднего, глаза голубые, волосы русые, нос обыкновенный, грамоте умеет, особых примет нет, — отпускную на пять годов, с тем, чтобы Иван Вишняков, имея от природы великую способность к малеванию, отъехал в Петербург, там превзошел свое искусство до конца и, по прошествии срока, представил бы портрет — изображение графа; и если портрет будет найден достойным, — Иван Вишняков получает право на выкуп себя на свободу; если же способности свои не приумножит, — будет бит нещадно и сдан в черную работу… Денег на все ученье граф выдал восемьдесят восемь рублей и, кроме того, нумерованную своими руками тетрадь, куда приказал вписывать все, что Иван увидит, услышит и подумает сам.
По приезде в Петербург Вишняков и начинает свои записки, приступая серьезно и с молитвой к трудной жизни.
Он поселяется у Нарвской заставы, но, гонимый насекомыми, переезжает на Грязную (ныне Николаевскую). Здесь у ворот знакомится с молодым франтом Зенковским и, увидя на нем фрак с медными пуговицами, вверяется ему вполне. Зенковский показывает Вишнякову издали академию, главные здания столицы и на его счет ест и пьет по три раза в день в кофейных… Потом в одной кофейне представляет Вишнякова седому старику, с волосами до плеч, в берете и бархатной куртке, измазанной красками, уверяя, что это и есть ректор академии. Вишняков отдает мнимому ректору половину своих денег и старик, наговорив Бог знает какой ерунды, скрывается, а с ним и Зенковский. Тогда Вишняков с мужицким упрямством дежурит ежедневно у академии, ожидая увидеть настоящего ректора, и рассказывает про свои неудачи швейцару. Швейцар сулится указать настоящего ректора.
Однажды ректор, стремительно выйдя из подъезда, садится в сани, обронив перчатку. Вишняков, подняв перчатку, бежит без шапки за санями до тех пор, пока ректор, отогнув бобровый воротник, не принимается глядеть на бегущего…
На снегу, посреди Невы, происходит короткий разговор, и Вишнякову разрешен вход в натурный класс академии. Вишняков переезжает на Васильевский, к немцу Карлу Карловичу — подрядчику, который, желая обеспечить себе постоянного жильца, учит Вишнякова писать вывески, и эта работа дает постоянный и небольшой заработок…
В писании вывесок и посещении академии однообразно проходят четыре года, и чем внимательнее изучает Вишняков натуру, тем труднее кажется ему само искусство. Эта часть дневника наполнена рассуждениями часто забавными. «Во сне мы видим формы и линии, а краски только чувствуем, на картине же — наоборот: видим краски, а формы и линии чувствуем, но сновидение и картина волнуют одинаково», — пишет он.
Остается меньше года до конца учения, и Карл Карлыч, посвященный во все, советует начать, наконец, портрет графа.
Вишняков с неохотой берется за портрет и, вспоминая лицо своего барина, его характер, привычки и слова, к неописуемому смущению чувствует себя вновь крепостным, не имеющим воли. Будто, помимо воли, сама рука выводит на полотне крючковатый нос, отвислые щеки, седые волосы знакомого лица. Будто весь опыт, хладнокровие и любовь к движению киста сменяются ужасом перед выступающими все яснее на портрете стальными глазами старика. Будто руки его, сухие и словно охватившие низ рамки, не дают вздохнуть. Вишняков с отчаянием думает, как поступит граф, увидя ужасную карикатуру на себя — и с этого места характер дневника меняется: точность наблюдений остается, но увеличивается описание душевных переживаний, которые в конце переходят почти в бред… «Одно спасение — правдивый вопль души; быть может, он тронет сердце графа… Я не могу написать портрета, нет воли, я бездарен…»
Отсюда привожу подлинные записки.
II
Карл Карлович зашел ко мне, сообщил, что на Морской требуется вывеска у гастрономической лавки. Сказав, Карл Карлович посвистел фарфоровой трубкой, и в углах его глаз появились добродушные морщины; он подмигнул и ушел, поскрипывая подошвами… Добрейший, милейший Карл Карлович! Если бы я только не был угнетен, чего бы только не сделал в благодарность за все его заботы. Вот и сегодня он доставил мне работу, во время которой произошла приятная встреча. Бог знает, что принесет она; предчувствую, что важное.
Я разложил на лавке горшки с красками, олифу и кисти и, поставив все это на голову, поплелся в город. Проходя по Николаевскому мосту, я замечтался, созерцая величие реки, с опрокинутыми в ней дворцами, скользящими баркасами и кораблями у гавани и, не заметив, свернул на набережную, где постовой загородил дорогу, сказав: «Сворачивай на Конногвардейский, маляр». А я, раскрыв рот, глядел в перспективу набережной, где, удаляясь, шли в серых цилиндрах двое; один из них, я узнал, был Пушкин… А может, только почудилось… Я много раз ошибался, принимая за него какого-нибудь курчавого чиновника…
На Морской я сразу нашел лавку и окликнул хозяина, который повел меня к стойке, предложив довольно грубовато выбрать фрукты для натюрморта, причем подсовывал, конечно, попорченные, но я выбрал шесть французских яблоков, шесть груш, ананас, три кисти винограда и лимоны — все без пятнышка, уверив, что могу рисовать только со свежих, и, захватив все это, ушел на двор, где была уже приготовлена вывеска.
Двор в этом доме проходной; под воротами кричат татары; два раза принимался играть шарманщик с обезьяной, наводя тоску. С теневой стороны в раскрытых окнах лежат, переговариваясь, квартиранты, но я увлекся работой, думая лишь об одном: найти в стоящей передо мной горке фруктов Божественную красоту, которая и в сладком соке яблока, и в запахе ананаса, и в мечте художника — одна. Вдруг я почувствовал, что за спиной стоят; отирая пот со лба, я, наконец, оглянулся и узнал того, в сером цилиндре, господина, который шел с Пушкиным. Он был белокурый, сутулый, одет в коричневый сюртук с капюшоном, в складках которого забилась пыль. Правую руку с вытянутым пальцем он поднял, словно призывая ко вниманию, черные же, как маслины, продолговатые глаза его так и горели от удовольствия.
— Отлично, — сказал он глуховатым голосом, — одна природа истинна, и, Боже мой, как она хороша…
Я покраснел, и мне очень хотелось спросить, был ли тот господин — Пушкин. Но незнакомец поднялся на цыпочки, отступил, нагнув голову, и внимательно осмотрел меня, сказав:
— Вы ученик академии? — спросил он.
— Точно так, — ответил я, — а это лишь заработок; за вывеску я получу всю горку фруктов, которые и продам.
Незнакомец щелкнул языком:
— Вот, вот, это и нужно, мне хочется зайти к вам, посмотреть работы, можно?..
Я живо поклонился и поблагодарил, прося не побрезговать скромным угощением… Незнакомец весело засмеялся, и я спросил:
— Вы сейчас гуляли по набережной с господином, это был Пушкин?
— Да, Пушкин, — ответил он, нахмурясь, и отошел, крича: — Так я приду.
К вечеру я окончил вывеску, отнес фрукты знакомой булочнице, взял у нее денег, купил свечей, ситнику и в сумерках прибежал домой. Из комнаты пришлось вымести пропасть мусору и вытереть повсюду пыль; из-под дивана я вынул этюды, положив их на край стола, и к свече поближе пододвинул мольберт с портретом его сиятельства. По рисунку он был верен — большой лоб, седые волосы с сиянием, редкая борода и усы, опущенный углами вниз тонкий, сжатый рот, а глаза!..
Ах, пусть он знает, что я не скрыл от него ни единой мысли. Какими же, как не ужасными, должны быть его глаза. Я помню, когда в гневе они останавливались на провинившемся, — нижнее веко, дрогнув, забегало на зрачок, верхнее прикрывалось бровью и поджимались углы у висков. Однажды провинилась моя мать; он так долго глядел на нее, что она, крича, упала на землю. Знаю — что бы я ни сделал, куда бы ни скрылся, они всюду отыщут и покарают… Я не могу изобразить их спокойными. Они, как живые, сами раскрылись на портрете.
Я заснул головой в тетради. Свеча нагорела грибом… В полночь я проснулся, снял со свечи, задул ее и лег, зная, что до утра будут мучить сны… Ведь сколько угодно я могу видеть себя свободным, славным, другом самого Иванова… Тем хуже будет просыпаться.
Карл Карлыч разбудил меня ровно в семь, позвав пить кофе. Я рассказал о вечернем незнакомце — друге Пушкина — и добрый немец посоветовал не ходить пока в академию, а писать портрет, чтобы показать гостю товар лицом. Я так и сделал. Незнакомец тогда восхищался моим натюрмортом, и я вложил яблоко в руку графа, для чего приподнял ее, согнув в локте… Но веселое мое настроение скоро пропало, когда я понял, что рука его не хочет подняться и взять яблоко… Проработав до вечера, я все вновь написанное снял ножом и уже при свече поставил руки на место… И мне показалось, что граф словно вцепился в раму, желая выскочить… Нет… не написать портрета — вместо величавого спокойствия выходит кошмар, какой-то мстительный старик.
Гость мой пришел, наконец, днем, около полудня. Приветливо поздоровавшись, сел на диван, с любопытством оглядывая комнату; когда же заметил портрет, лицо его выразило такое удивление, даже испуг, что я спросил в ту же минуту: «Что, плохо очень?»
— Удивил, батенька, право, удивил, — проговорил гость, думая о другом, — а ведь он живой; конечно, эти глаза видят и следят. Кто он?.. Почему вы его пишете? Вы боитесь его?..
Гость задал, по крайней мере, пятьдесят вопросов, и я поспешил рассказать всю жизнь и прочел отрывки из дневника. Когда окончилось чтение, глаза гостя были обращены к окну, словно не видя ни окна, ни комнаты, ни меня, а на лукавых губах его играла усмешка… Мы долго сидели молча; наконец, он поднялся, рассеянно пожал руку и вышел, сказав: «Я еще приду».
Портрет следил за мной, глаза его всегда находят мои зрачки, куда бы я ни отошел, а при свече они так пристальны, что я повернул портрет к стене, но тотчас поставил обратно, думая, что он обидится. Прошла неделя. Я не могу работать, он мучает меня даже ночью. Вчера, закрывшись одеялом, я долго лежал, не дыша, зная: он высунулся из рамы.
Я решил изрезать его: все равно так жить нельзя… Я взял нож у Карла Карловича, на цыпочках вошел к себе и, стоя около портрета, попробовал на палец лезвие… Ножик упал, разрезав мне сапог: я не могу, он узнает, что я покушался ночью, как вор…
Вчера около одиннадцати я сразу проснулся, боясь пошевелиться. Сон слетел с меня, сердце стучало, словно маятник, и поджилки тряслись, как мышь… Он вылез из рамы и, огибая стол, подходил ко мне. Когда он сел на диван, я живо подобрал ноги…
— Где спички? — спросил он. — Я набил себе шишку на лбу.
Я живо соскочил и вздул свет, — на диване сидел мой гость, держа в руке сверток.
— Он все еще здесь? — спросил гость, глядя в темный угол.
Я поспешил выразить живейшую радость его приходу, но гость перебил, сказав:
— Вам необходимо прослушать первую часть повести, она еще переделается много раз…
Насупившись, он поглядел на меня, пододвинул подсвечник, развернул рукопись, кашлянул и прочел глухим голосом: «Портрет… Портрет», — повторил он, чудно усмехаясь.
«Нигде столько не останавливалось народа, как перед картинною лавкою на Щукином дворе. Для меня до сих пор загадка — кто поставляет сюда свои произведения, какие люди, какою ценою».
Я слышал повесть, стоя у стола, и глядел на гостя, на длинный, почти в половину лица его нос, тень от которого падала до конца острого подбородка, а по сторонам усмехались приподнятые углы губ; по мере чтения прядь напомаженных волос сползла на глаза, и голос его стал ясный и выразительный… А потом я начал понимать и содержание повести…
Гость кончил, когда свеча догорела, свернул медленно рукопись, говоря «вот» и, помолчав, спросил сердито: «Нравится?» Я прижал руки к груди, глаза мои были полны слез…
— Ну то-то, — продолжал он, — видели, какие чудеса бывают…
И, уже уходя, остановился перед портретом, надев цилиндр, а рукопись торчала у него из кармана сюртука… И вдруг, глядя на его длинноносый профиль, цилиндр и оттопыренный сзади карман, я вспомнил карикатуру и, страшно испугавшись, понял — кто мой гость.
Сейчас посыльный принес письмо от графа. Граф прибыл на днях и требует меня вместе с портретом и дневником.
Здесь рукопись кончается словом «Аминь», а дальше следует приписка:
«Граф потребовал запомнить последнюю страницу. Я никогда не забуду, никогда не пойму, как все случилось… Я пришел к его сиятельству на Сергиевскую к восьми поутру и до двенадцати ждал на кухне. Лакеи, заходя, заговаривали со мной и на мои ответы покатывались со смеха… Наконец, один из них вбежал, запыхавшись, и потребовал к графу дневник и портрет, а мне приказал ждать… Я сидел у окна и ожидал, что вот услышу голос графа, покрывающий говор прислуги и шепот шагов… К вечеру я очень ослабел и попросил напиться… Потом из лакейских разговоров узнал, что граф уехал в театр. Прислуга легла спать, оставив лампадку, а я продолжал сидеть, уже не боясь — потому что стало все равно… На колени мне прыгнул кот, я погладил его, а он ткнулся носом в шею и обнял лапами.
Тогда я стал плакать про себя, чтобы никто не слыхал… Наконец, в доме вновь захлопали двери, затопали шаги — граф вернулся и лег спать… Мне велели лезть на печку, и кот свернулся рядом, рассказывая на ухо свои сказки…
Наутро тот же лакей, что относил портрет, опять запыхавшись, вбежал и крикнул: „Вишняков, к графу“. Граф в нижнем белье стоял у печки, грея зад… Рассматривая с большим любопытством, он пропустил меня на пять шагов и сказал басом: „Хорошо“. Я молчал, опустив голову. „Изуродовал меня навек, злодеем выставил для потомства, а? — продолжал граф. — Вчера в театре Николай Васильевич на меня пальцем указал. А ты понимаешь, что даже государю все известно? А?.. По-твоему, мне теперь нужно глаза себе выколоть? А?“ — Тут граф замолчал, и я увидел, как медленно он вытащил из-за спины мою тетрадь: „Ступай и допиши, — сказал он. — Потом зайдешь в контору, получишь вольную, а тетрадь оставишь мне…“ Ноги мои подкосились, я подошел к графу и поцеловал ему руку в последний раз».
Валентин Франчич ПОРТРЕТ (Происшествие)
Глава I Коллекционер
Маленький петроградский чиновник Иван Кликушин, человек пожилой и почтенный, почти не выделялся бы из ряда обыкновенных людей, если бы у него не было одной странности: коллекционировать старинные картины, мебель, сервизы и книги.
Посетив его квартиру, уходили, недоумевая: как на маленькое казенное жалованье Кликушин ухитрялся обзаводиться разными дорогими вещами?
Дабы и читатель не задал автору рассказа подобного вопроса, поспешу заявить, что у Кликушина, как у всех смертных, была тетка, жившая где-то в глухой провинции и сумевшая за пятьдесят лет беспорочной постной жизни скопить около пятнадцати тысяч, которые по смерти ее естественно отошли к Кликушину.
Но скромный во всех отношениях Кликушин ничуть не совратился с пути истины, не стал проматывать деньги на кутежи и певичек, как это сделали бы, по крайней мере, 99 % его сослуживцев, а позволил себе только удовлетворять страсть к старине.
Вот на этой-то почве с Кликушиным и приключилось неладное.
Глава II Кликушин заходит к антиквару Лейбовичу
В один из осенних вечеров Кликушин шел к себе в Саперный переулок. Шел дождь. Ветер забирался под шубу, щекотал неприятным холодком тело. На улицах было пустынно, и все прохожие, встречавшиеся Кликушину, бежали, втянув головы в плечи и воротники пальто, с таким видом, словно за ними гнался целый легион «гороховых пальто». Скверно было в природе; скверно было и на душе у Кликушина.
Как старый холостяк, он больше всех благ на свете любил уют своей квартирки, ярко пылающий, камин вкусный ужин и мягкий, ласковый бухарский халат.
Поравнявшись с магазином старинных вещей Лейбовича, Кликушин хотел было пройти мимо, но вдруг переменил решение и, открыв дверь, вошел в помещение, заставленное пузатыми бюро, письменными столами, золочеными креслами «ампир» и т. д.
— А, г-н, Кликушин, долго же вы не ходили ко мне! Я таки подумал: г-н Кликушин изменил старому Лейбовичу и пошел к его конкуренту, этому, чтоб ему икалось на том свете, Шмайзелю…
— Ничуть, г-н Лейбович, — ответил Кликушин, — я просто был болен.
— О! — Лейбович поднял палец кверху и, тряхнув в припадке сентиментальности седой бородою, промолвил:
— У меня таки сердце неспокойно было! Не дай Бог, — может быть, у вас летучая подагра?
— Нет, легкая простуда. Однако, что у вас новенького?
— Замечательные вещи! Такие замечательные, что только знатоку, как вы, и продашь. Вот, например, один из эскизов покойного Брюллова… Каков? А?
— Ничего… Только почему такая массивная, толстая рама?
— Пхе! В старину все делали массивным, потому что тогда люди были тяжелы на руку и раму могли поломать от восторга… Знаете, ведь это смешно, но верно.
Кликушин купил эскиз и пошел домой.
Глава III Тайна картины
Кликушин заметил, что с того момента, как он приобрел картину, он совершенно лишился покоя. Она изображала приготовление к самоубийству. Самоубийца — молодой человек с длинными волосами и бледным, измученным лицом, сидел лицом к зрителю за письменным столом и, охватив голову руками, мутным взглядом смотрел на лежавший перед ним револьвер. Возле белел листок с несколькими криво набросанными строчками, — очевидно, — письмо.
Кликушин долго не мог понять, почему картина его так удручает, пока однажды, осматривая раму эскиза, не открыл в ней полого места. Там оказалась записка. Вот что было в ней написано:
«Петербург, 21 Января 1823 г.
Милый брат!
Ты никогда не прочтешь этой записки, но всегда дух, вложенный мною в нее, будет тревожить тебя и мешать твоему счастью с Лизанькой. Ведь я любил ее, а ты, воспользовавшись своим богатством, отнял ее у меня. Мне ничего не остается другого, как только самоубийство. Помни, брат, что ты не узнаешь ничего, но эта картина заставит тебя взяться за револьвер.
Твой Сергей».
Владислав Ходасевич ИОГАНН ВЕЙС И ЕГО ПОДРУГА Сантиментальная сказка
В одном из кабачков Мюнхена, столицы Баварии, над пролетом широкой арки, у самого потолка висела афиша. На ней изображена была белокурая женщина в черном коротком платье. Чулки у нее были тоже черные, а туфли — с большими черными бантами. Впрочем, она откинулась назад и держалась всего на одной ноге, другую же, слегка согнув, подкинула вверх, словно танцуя или прыгая через веревочку. Бледное, как бумага, лицо ее до половины закрыто было черным веером, из-за которого выглядывали большие испуганные глаза… На что смотрит танцовщица с таким испугом — этого нельзя было определить, потому что вся правая половина афиши была оборвана, и широкая лиловая полоса окаймляла рисунок всего с трех сторон: сверху, снизу и слева.
Кабачок назывался «Kopfschmerzen»[20] и был не из важных. Посещали его одни студенты, да и то разве только самые забулдыги. На афишу давно уже перестали обращать внимание, и если кто-нибудь смотрел на нее, то все-таки можно было с уверенностью сказать, что он в это время не думает ни о сохранившейся ее половине, ни об оторванной.
Так бы и не произошло с ней ничего замечательного, если бы однажды вечером не зашел в кабачок некий поэт по имени Иоганн Вейс[21].
Было это довольно поздно. Иоганн допивал четвертую кружку пива и уныло мечтал о разных хороших вещах: о том, как было бы славно получить откуда-нибудь наследство, жениться на хорошенькой честной девушке и навсегда распроститься с Мюнхеном, а главное — перестать быть поэтом.
Так он думал, и с каждой минутой мечты его становились приятнее, а подробности будущего счастья выступали все явственнее. По привычке он уже начал шевелить губами, сочиняя восхитительную идиллию. Но вдруг кто-то со звоном столкнул со стола его кружку, и, очнувшись, новый наш Герман, вместо пленительной Доротеи[22], возле самого своего носа увидел прыщеватый нос и большие очки подвыпившего философа.
Блаженная улыбка медленно сползла с лица Иоганна. Опомнившись и не обращая внимания на извинения философа, потребовал он новую кружку. Но счастливые видения рассеялись невозвратно. Ему уже было скучно. Пристально глядя на танцовщицу, выпил он свое пиво и снова задумался. На этот раз он думал о том, что вся жизнь его — только выдумка, что навсегда обречен он жить вымыслами, тогда как другим достается на долю правда.
И стало ему так обидно, что он расплатился, надел шляпу и пошел к выходу.
— И никогда-то со мной ничего не случается! — думал он, открывая стеклянную дверь и выходя на улицу. — Разве что какой-нибудь дурень опрокинет на меня кружку…
Но только что он это подумал, как вдруг случилось. Он уже занес было ногу с тротуара на мостовую, но в эту минуту от стены отделилась маленькая узкая фигура женщины. Руки ее спрятаны были под черным плащом, падавшим до самой земли. Бледное, как сахар, лицо смотрело большими испуганными глазами. Иоганн остановился. Тогда женщина молча взяла его за руку и повела. Он не сопротивлялся.
Так прошли они несколько кварталов. Наконец женщина остановилась и спросила:
— Вы не узнаете меня?
— Нет.
— Но ведь я — танцовщица с той афиши, на которую смотрели вы целый вечер.
Так как Иоганн Вейс был настоящий поэт и привык жить в мире, населенном созданиями его воображения, то он ничуть не удивился. Только спросил:
— Но зачем же вы покинули свое место над аркой?
— Так надо, — сказала она и улыбнулась грустно; а потом прибавила, помолчав:
— Меня зовут Нелли.
И, конечно, когда Иоганн увидел ее улыбку и губы с полосками рыжеватых румян и услышал голос, — он влюбился в танцовщицу. А она увлекала его все дальше. Иоганну казалось, что они уже идут где-то среди сапфирного неба, дорогой звезд и что в сердце его расцветает куст благовонных роз, черных, как ночь и как платье его спутницы. Сердце его было переполнено счастьем.
Наконец, где-то на перекрестке, он упал на колени и сказал:
— Нелли! Я люблю вас! Вы сами пожелали сойти с афиши — и, значит, я вам не совсем безразличен. Будьте моей женой! Вы — танцовщица, я — поэт, из нас могла бы выйти отличная пара. Вон ту большую звезду я дарю вам в качестве свадебного подарка.
Но тут она вдруг заплакала и в отчаянии стала ломать свои маленькие руки, восклицая:
— О, какое несчастье, какое несчастье!
Слезы подступили к горлу бедного Иоганна.
Так бы и плакали они, озаренные ущербной красной луной, оба в черном, похожие на масок, убежавших с бала, — если бы только возможно было продолжать эту сцену на улице.
Тогда они пошли обратно в «Kopfschmerzen» и сели за столик в углу. Никто не узнал танцовщицы. Все были пьяны. Взглянув на афишу, Иоганн увидел белый лист с лиловой каймой, бежавшей сверху, снизу и слева. А правая половина была оборвана.
Нелли шептала, наклонив лицо к самому столику:
— Я хотела говорить с вами, потому что узнала в вас поэта. Здесь никто не может понять моих чувств, кроме вас. Между тем, я несчастлива. Я любила одного человека. Он был апашем, и мы танцевали вместе. На нем был клетчатый рыжий костюм, плоская шапочка и красный галстук. Мы исполняли танец апашей. Он бил меня без пощады, а я целовала у него руки. Но в один ужасный день какие-то люди пришли сюда, все перевернули вверх дном — и случилось несчастье: мой милый Арман исчез в этой сутолоке, пропав неизвестно куда, а я осталась одна-одинешенька. Вы видите, наша афиша оборвана, наше тихое счастье разрушено, и нет моего Армана, нет!..
О, как горько плакала бедная Нелли!
— Помогите мне найти его, — рыдала она. — Умоляю вас. И поймите, что я не могу любить вас, ибо любовь моя принадлежит другому, который, быть может, не стоит ее, но…
— Жизнь ваша, по-видимому, разбита, Нелли, — отвечал Иоганн, — но чем могу, я постараюсь скрасить это горе. Вот вам мой адрес. Когда вам будет очень грустно, приходите ко мне, и в моем бедном жилище вы найдете приют и нежное сердце, которое не устанет любить вас вечно.
Так сказал он, заплакал и вышел из кабачка. Боже, как все было грустно!
Гасли огни на улицах. Сизый стелился сумрак. Огромная хвостатая звезда, комета, всходила над городом…
С этого дня Нелли часто ходила в мансарду к Иоганну. Она приходила по вечерам, и, став на колени, поэт целовал ее руки.
Окно выходило прямо в небо, звездным светом сияло над их головами. Так сидели они подолгу, и уже Нелли начинала отвечать на поцелуи Иоганна поцелуями долгими и грустными.
Иногда она делала большие, легкие розы из черной бумаги и украшала ими убогое жилище. Или, держа в одной руке свечу, другой рукой перед маленьким зеркальцем на красные свои губы клала она узкие полосы рыжеватых румян…
Так прошло несколько месяцев. В синие зимние вечера вместе дрожали они от холода, прижавшись друг к другу. Иоганн старым пальто своим укутывал ноги Нелли, и они пили вино из одного стакана. Это было похоже на семейное счастье.
Казалось, ничто уже не грозит их мирному благополучию. Апаш исчез, и по какому-то безмолвному соглашению больше о нем не вспоминали.
Все было легко и странно, как черный плащ Нелли, ее черные розы и большие глаза.
Но однажды Иоганн где-то засиделся с приятелями, и, когда, слегка пьяный, вернулся домой, он нашел на столе записку. На узком клочке бумаги нескладным почерком было написано:
«Ах, Иоганн, зачем же тебя нет дома?»
Иоганн понял, что случилось какое-то несчастье, и бросился в кабачок. Войдя, вскинул он глаза на афишу. Нелли стояла в обычной своей позе, не то танцуя, не то прыгая через веревочку; а перед ней, с нахальной и глупой улыбкой на небритом лице, торчал апаш. На нем был клетчатый рыжий костюм и такой же картузик. Концы красной тряпки мотались около шеи.
Иоганн побежал за стойку. Там толстый белобрысый хозяин рассказал ему, что сегодня вечером его маленькая внучка рылась под лестницей в куче мусора и там нашла апаша, скомканного и грязного.
— Летом у нас производится ремонт, — пояснил хозяин.
— Тогда-то его и оторвали. Однако мы вытерли, выгладили его и налепили на место. Пускай висит!
Но Иоганн уже не слушал. Он понял, что приход Нелли был последней попыткой спрятаться от апаша. Пока чьи-то безмозглые головы обдумывали способ, как привести апаша в порядок, пока его чистили, терли и клеили, — она убежала к Иоганну. Но Иоганна не было дома, и некому было победить в сердце ее былую любовь. Нелли вернулась на место, и ночью, под шум и звон пивных кружек, под звуки пошлого вальса на разбитом пианино, под хохот пьяных гостей, — реставрированный апаш снова занял высокое свое положение в Мюнхене: над аркой в кабачке «Kopfschmerzen».
Иоганн сидел за столиком. Испуганные глаза Нелли, не мигая, смотрели на апаша. Тот, казалось, был еще больше доволен собой. Улыбка его говорила: «Вот, прогулялся по белу свету, людей поглядел, себя показал, — пора и домой».
— И он нагло выплясывал дурацкие свои па.
А в ушах бедного Вейса все звучали слова:
— Ах, Иоганн, зачем же тебя нет дома!
И горестно думал он о судьбе поэтов, о слабости женского сердца и о том, как неуловимо счастье. Боже ты мой, как все это было грустно!
Владислав Ходасевич ЗАГОВОРЩИКИ
Илл. И. Мозалевского
Теперь, на склоне лет, наученный долгой и некогда бурной жизнью, я не сомневаюсь, что Джулио ясно предвидел, чем должна кончиться наша безумная и возвышенная затея. Среди нас, безрассудных юношей, он один знал, что даже успешное выполнение заговора и смерть короля не принесут желанного освобождения. Правда, общество и парламент стали бы на нашу сторону. Но армия, тесно связанная с придворной камарильей и кругами аграриев, у нас (как и в других государствах Южной Америки) чрезвычайно влиятельных, сумела бы подавить бессильную революцию. Король был бездетен. Корона перешла бы к его дяде, принцу Тоанскому. Регентство этого человека нанесло бы осуществлению наших замыслов последний, непоправимый удар: от нас отшатнулись бы даже те, на кого мы только и могли опереться, ибо невежественная и переменчивая масса, проклинавшая жестокого и безвольного короля, ни за что не пошла бы против принца, еще более жестокого, но восхищавшего ее своею солдатской грубостью и военной славой. После трехдневного торжества мы были бы схвачены и расстреляны. Увы, в те дни только Джулио предугадывал это.
Конечно, не идея революции была ему дорога; конечно, не о головах наших он думал, предавая тот заговор, душою которого был. Другие соображения, иные страсти руководили им.
Внук аргентинского лавочника, выходца из Италии, он сумел соединить в себе дерзкий ум авантюриста с увертливой душой торгаша. Самые возвышенные идеи он без малейшего отвращения обращал к своей выгоде. На самые опасные мысли смотрел он, как укротитель на диких зверей: они должны были служить ему.
К несчастию, мы поняли это слишком поздно. Общество глубоко чтило Джулио как депутата парламента, блестящего оратора и безупречного гражданина. Для нас он был учителем и вождем. «Джулио — наше знамя!»[23] — восклицал о нем пламенный Марко, которого некоторые из нас с благородною завистью прочили в исполнители заговора.
И вот не только самое существование нашего общества, но и каждое наше слово, каждая мысль, в которой мы исповедовались перед Джулио, как перед духовником, — через него же были известны правительству. Не деньги, но честолюбие влекло его. Держа короля в постоянном страхе, он все больше подчинял его своему влиянию. Кто знает? Быть может, он рассчитывал, что в день открытого разоблачения заговора он будет объявлен спасителем отечества, а затем, при удобном случае, станет во главе правительства и завладеет канцелярскою печатью. Во всяком случае, каковы бы ни были его цели, в стремлении к ним он сделался изменником.
Чтобы пояснить, каким образом это раскрылось и к каким прискорбным последствиям повело, должно сказать, что в среде заговорщиков были брат и сестра, Леонид и Мария Руффи. Общее всем нам преклонение перед Джулио перешло у Марии в любовь. Она не была красива, но миловидна. Не будучи слишком полезна заговору, она подкупала своей беспредельной преданностью общему делу. Это приблизило ее к Джулио, и он вскоре сделал ее своею любовницей. Зачем? Кто его знает. Конечно, он сам не любил ее. Но это был человек, никогда не отказывавшийся ни от чего, на все стремившийся наложить свою руку. Может быть, он хотел таким образом закрепить ее преданность лично себе, чтобы вернее следить за нами. Может быть, его просто влекла ее девическая неопытность, столь соблазнительная для всех сладострастников. Может быть, и то, и другое, и еще что-нибудь.
Леонид, любивший сестру благородной и чуждою предрассудков любовью, не имел ничего против этой связи. Ведь каждый из нас был готов положить к ногам Джулио лучшее, что у него было. Ведь самые жизни наши принадлежали Джулио.
Из понятной осторожности мы собирались по очереди то у одного, то у другого из заговорщиков. 5 сентября 18** года, часов в семь вечера, я получил записку, в условленных выражениях приглашавшую меня тотчас явиться к Антонио, одному из наших. Помню, когда я пришел туда, почти все уже были в сборе. Леонид сидел за роялем, но не играл, а лишь смотрел пристально в раскрытые перед ним ноты.
— Где же Мария? — спросил я, здороваясь.
— Я, как всегда, весь день был на заводе, — отвечал Леонид. — Впрочем, она не придет, — прибавил он.
Он показался мне озабоченным и усталым. И то и другое я приписал его работе: он служил на одном из химических заводов.
Вскоре сошлись остальные. Джулио всегда приходил последним. Наконец явился он. Заседание началось. Мы сели вокруг стола. Уже было почти темно, и хозяин зажег две свечи по бокам чернильницы, стоявшей перед Джулио.
— Сегодня мы собрались по требованию Леонида, — сказал Джулио. — Согласно установленному обычаю, первое слово предоставляю ему.
Председательствовать, давать слово, закрывать заседания — все это было страстью Джулио. Иногда мы слегка подшучивали над этой слабостью человека, которого считали великим. Он же любил придавать нашим встречам оттенок торжественности.
Теперь он скрестил руки и ждал.
Но Леонид не говорил ничего. Он даже не поднимался с места. Я взглянул на него, потом на Джулио. Тот сидел, откинув голову и опустив веки.
Молчание становилось странным. Наконец Джулио открыл глаза и таким голосом, какой бывает у очень занятых и усталых людей, когда предстоит им слушать о вещах, не особенно важных, — проговорил:
— Мы ждем, Леонид.
Впоследствии мне иногда казалось, что в этих словах прозвучал также вызов. Леонид вытер губы платком и, не вставая, хотя это было принято, отвечал:
— Нам больше ждать нечего. Нашего общества больше нет. Сегодня Мария получила вот эти письма. Джулио знает, что он их автор. Он знает также, что они изобличают его предательство. Мы выданы им. Читайте.
И он положил на стол пачку писем. Почти пятьдесят лет прошло с того дня, но не думайте, что мне изменила память: если бы через час спросили меня, что последовало за словами Леонида, — я и тогда, как сейчас, не мог бы того припомнить. Кажется, все молчали, смотря на Джулио. Но, может быть, это было не так. Помню, одно время мне казалось, что Леонид пошутил. Но я тотчас понял, что шутить так он не мог. К тому же на столе лежали письма, к которым никто не решался притронуться, точно это были еще окровавленные орудия убийства. Значит, Леонид лгал? Нет, и этого не могло быть. От волнения я не видел лиц. Впрочем, стоявшие перед Джулио свечи едва освещали их.
Наконец я услышал слабый, сдавленный голос Марко:
— Джулио, что же это?
Рука Марко, в отсвете свечей желтая, почти у самого горла легла на грудь.
Против ожидания Джулио даже не взглянул на Леонида. Зато он спокойно и долго смотрел на Марко. Потом серьезное лицо его оскалилось той стремительной и острой улыбкой, которая столько раз пугала и восхищала всех нас. И он заговорил:
— Это прежде всего правда, мой милый Марко. Да, заговор наш известен королю и правительству. Но что он известен через меня — это и так и не так. Первый донос был сделан не мной. Может быть, первый предатель сидит сейчас между нами и ждет от меня ответа. Кто он — я не знаю. Но в тот день, когда я предстану перед вашим судом с подготовленными доказательствами (конечно, мне будет дан срок для этого), — вы сами увидите, что для спасения нашего дела не было иного пути, чем тот, по которому пошел я. Тогда же я докажу вам, от кого и зачем эти письма попали к Марии. Сейчас я скажу одно: лучше было убедить короля, что он в безопасности, пока я стою во главе заговора, нежели погибнуть самому и дать повесить всех вас. Однако неужели вы думаете, что, осведомляя правительство о наших собраниях, я не сумел бы утаить и того последнего решения, которого все мы ждем: дня и часа, когда должно было совершиться! Да, по своей воле я бы не стал играть ту роль, которая мне была навязана обстоятельствами, но скажу прямо: кажется, благодаря моей работе, которую каждый из вас вот сейчас, боясь посмотреть мне в глаза, про себя называет подлой, замысел наш и теперь еще ближе к осуществлению, нежели был бы, если бы даже мне не пришлось предавать вас. Теперь мы застрахованы от случайностей. Пока король знает все ваши слова, все поступки — вы в безопасности. Но тот день, когда он перестанет знать все эти подробности, зная, однако, что вы вот здесь, рядом, подготовляете ему смерть, — это будет день вашего ареста. Тот, кто нас предал, дал нам возможность в спокойствии и безопасности ждать исполнения нашего замысла. Когда я назову вам его имя, то, если он среди нас, суд надо мной превратится в суд над ним. Но я первый предложу не карать его строго: пока я «предаю» вас (Джулио усмехнулся) — он нам не опасен. Больше того: против воли он нам помог.
Джулио скрестил руки и продолжал:
— Подумайте хорошенько об этом, но пусть никто — ты, милый Марко, в особенности — не пугает вас тем, что моя двусмысленная работа отбросит тень на светлые идеалы нашего общества. Не пугайтесь того, что отныне вы все до известной степени примете в ней участие. Ах, не будьте детьми, которых я так не люблю! Не бойтесь запутанности и лжи в этой жизни, которая так утомительна своим путаным и жестоким сцеплением причин и следствий. Помните: очень скоро вам предстоит узнать еще очень многое… Идите же к своей цели не солнечной дорогой, о которой так нежно мечтала Мария и про которую так вдохновенно слагает стихи наш прекрасный Марко. Идите путем кратчайшим, хотя он всегда тяжелее для совести: идите, не смущаясь тем, что самые близкие вашему сердцу люди порой заподозрят вас в низости, как сегодня заподозрили вы меня. Пусть мерилом ваших поступков будет одно: расстояние от цели… Свет! Тьма! Какие детские сказки. Земля несется в эфире, пронизанном солнцем. Мария на этой земле к нему простирает руки. Бедная глупая девочка! Вот солнце погасло — земля все так же несется вперед в ледяном мраке. Вот уже и Мария погрузилась во тьму: значит ли это, что кончился лёт земли, что пресекся назначенный ей пробег? Вот при жалком сиянии этих свечей мы волнуемся за судьбу наших замыслов. Но разве рушится замысел, если кто-то потушит свечи?
И быстрым движением он поднял обе свечи к лицу и дунул на них. Когда мы пришли в себя и опять зажгли свет, Джулио между нами не было.
После его ухода, вернее — исчезновения, Леонид рассказал нам, что Мария часа в два дня прислала ему на завод письма, изобличающие Джулио. Она получила их от неизвестного человека, принесшего пакет поутру и тотчас скрывшегося.
Как ни ошеломило нас все происшедшее, надо было решить, что делать. Голоса разделились. Одни, в том числе Антонио, предлагали дать Джулио просимый им срок для представления доказательств, а пока что — ему довериться. Другие, склоняясь к тому же, выставляли, однако, требование контроля над Джулио. Третьи, особенно Марко, шли еще дальше: по их мнению, Джулио оказался самым простым изменником. «Конечно, — говорили они, — теперь, ускользнув от нас, он примет все меры. Не пройдет и часа, как нас арестуют. Надо спасаться!»
Но предложение это провалилось.
— Бежать некуда, — говорил Антонио. — Если Джулио заявил королю о необходимости схватить нас, бегство не приведет ни к чему: нас переловят.
С этим согласились, и решено было выжидать, разойдясь по домам и приняв меры предосторожности. Принесенные Леонидом письма Антонио обещал спрятать в надежном месте.
Мы расстались. Я поспешил домой, чтобы сжечь кое-какие бумаги. Покончив с этим делом, я попытался читать книгу одного современного английского экономиста, идеи которого меня весьма увлекали. Но сколько ни силился я отогнать мысли о Джулио, говоря, что раз нет достаточных данных судить о нем безошибочно, то лучше пока не судить вовсе, — из чтения у меня все-таки ничего не выходило.
Я знал, что уснуть мне тоже не удастся, и уже собирался уйти из дому, чтобы провести ночь на улицах. Вдруг Марко явился ко мне в необычайном волнении.
— Идем к Карло! — воскликнул он.
Мы вышли. Марко рассказал мне дорогой, что, придя от Антонио, Карло, у которого должно было происходить следующее по очереди собрание, застал у себя письмо от Джулио. В письме говорилось, что часа за два до собрания у Антонио он, Джулио, зная о получении Марией изобличающих его писем, отправился к ней. На вопрос, успела ли уже она сообщить о них кому-либо, Мария, из прискорбной слабости, отвечала, что не сообщила еще никому и что письма находятся у нее. Отдать их она отказалась. Тогда, чтобы отнять у нее возможность изобличить Джулио перед товарищами и тем создать ненужное препятствие священному для всех нас делу заговора, Джулио решился убить ее. В заключение Джулио выражал скорбь по поводу убийства, бесполезного, ибо, как оказалось, Мария еще до его прихода успела переслать письма брату, — и просил Карло сейчас же собрать новое совещание, решению которого предоставлял участь общего дела и себя самого как убийцы Марии.
У Карло, когда мы пришли туда, все были в сборе. Лицо Леонида не выражало ни отчаяния, ни злобы. Оно исказилось настолько, что уже нельзя было различить в нем тех черт, какими обычно рисуются эти чувства на лице человека. Он не смотрел на Джулио. Зато Джулио не спускал с него глаз.
Все молчали. Мы так же молча вошли в комнату и тихо положили шляпы на стоявшее в углу кресло.
Наконец Джулио сказал:
— Вы знаете всё, господа. Поясню лишь, что мне, к несчастью, удалось незамеченным войти к Марии: она сама отперла мне дверь. Хозяев квартиры не было дома. Я ушел также незамеченным — и вот…
Он достал из кармана ключ и положил его на стол.
Итак, помимо своего, так сказать, аллегорического значения, странное исчезновение Джулио от Антонио имело для него и практический смысл. Он понял, что совершил убийство напрасно и что, когда оно обнаружится, никто из нас не поколеблется назвать убийцей его. Надо было спокойно обдумать новое положение, то есть прежде всего уйти, но перед уходом во что бы то ни стало избегнуть вопросов, могущих застигнуть его врасплох. И вот он нашел способ оставить нас, не дав нам произнести ни слова. В том, что хозяева Марии не обнаружат убийства по крайней мере до завтрашнего утра, порукой был ключ от ее комнаты. Если бы даже кто-нибудь пришел к Марии, ему сказали бы, что она, по-видимому, ушла еще днем.
Выслушав Джулио, все мы молчали, чувствуя, что теперь слово за Леонидом. Право суда принадлежало ему более, чем нам: сверх того, что он был членом заговора, как каждый из нас, он был еще братом Марии. Самая встреча его с Джулио была ужасна.
Но Леонид говорить не мог. Тогда вскочил Марко. Указывая пальцем на Джулио, он стал обличать его. Он утверждал, что все слова Джулио о первом, неведомом предателе, конечно, — ложь. Он укорял его в трусости, в желании скрыть от нас свою подлость, чего бы это ни стоило. Он обличал коварство Джулио, низость его души, темноту замыслов. Он говорил, что отомстить за смерть Марии — не только долг перед ее памятью, но и перед Леонидом. Распаляясь все больше, он, казалось, в Джулио обличал самого дьявола. Голос его взбегал до самых высоких нот, шипел, и присвистывал, и падал почти до рычания.
— Оградимся от тех, — выкрикивал он, — кто под личиной собственного страдания за всех сеет гибель и смерть! Бойтесь не явных врагов, но с тайных срывайте личину дружбы! Бойтесь соблазна, ходящего здесь между нами, и не думайте от него оградиться стенами дома! Нет, влеките бесов на площади, разоблачайте их всенародно!
И он требовал выдать Джулио уголовному суду. С ласковой улыбкой, с улыбкой матери, взирающей на играющее дитя, Джулио отвечал ему:
— Милый Марко, ты льстишь моему самолюбию: я должен, по совести, отклонить от себя ту честь, которую ты косвенно воздаешь мне, видя в лице моем чуть ли не лик самого Князя Тьмы. И хотя ты прекрасен в минуту гнева, как и в минуту восторга, и хотя мне, в известном смысле, одинаково лестны твоя любовь и твоя ненависть, — все же я должен заметить, что в словах твоих больше поэзии, нежели практической ценности. А не кажется ли тебе, что сейчас нам не до поэзии? Как? Неужели ты думаешь, что, когда через мое убийство вскроется, весь наш заговор, все вы сможете избежать суда, не уголовного, а Высшего Королевского, знающего только два решения: петлю и расстрел? Даже в том случае, если я соглашусь разыграть мальчишку и повести дело так, будто убил Марию из ревности, — то ведь и тогда, раз я сойду со сцены, вы очутитесь лицом к лицу с правительством, которое знает все ваши замыслы и имена. Оставить вас на свободе без моего отеческого надзора вряд ли захочется королю — и опять все возможности заключаются для вас между повешением и расстрелом. Нет, дорогой мой Марко, погибнуть я бы сумел и без твоих указаний. Но беда в том, что день моей гибели будет днем гибели и еще семи человек, в том числе тебя самого и Леонида, о котором ты так печешься. Значит, надобно найти иной выход. А между Леонидом и мной не судья никто: мы разочтемся сами, и с той минуты, когда общее дело будет улажено, я, — слышишь ли, Леонид, — всегда буду к твоим услугам.
Марко смутился.
— Если так, пусть решают товарищи, — сказал он. — Но имей в виду, Джулио, что теперь я знаю тебя!
Джулио ничего не ответил, но слегка улыбнулся.
С ним нельзя было не согласиться. В конце концов было решено, что все мы, в том числе Джулио, должны бежать прежде, чем обнаружится смерть Марии. Однако это должно было произойти на следующее утро. Значит, необходимо было прежде всего отсрочить раскрытие убийства.
Разные обстоятельства нам мешали тотчас перейти границу. Приходилось до времени искать иного убежища, то есть спрятаться в ***ских лесах, в домике лесника, нам преданного. Антонио и Карло должны были сопровождать Джулио, порученного их надзору. Прочие заговорщики, захватив лишь самое необходимое, отправились туда же другой дорогой. На нас с Леонидом была возложена обязанность скрыть преступление и привезти труп Марии.
До утра было близко, и остаток ночи мы с Леонидом провели в молчании на набережной. Едва начали открываться лавки, я купил крестьянское платье и поспешил домой, чтобы в него переодеться. Тем временем Леонид раздобыл двуколку для перевозки кладей, запряженную мулом. На площади возле рынка мы встретились и направились к дому Марии. Леонид, постучавшись, сказал хозяевам квартиры, что пришел с извозчиком взять некоторые вещи Марии, внезапно заболевшей. Старики пожалели Марию и позволили нам войти в ее комнату. Мы вошли, заперев за собой дверь.
Мария лежала на кровати с синеватым лицом. Джулио задушил ее. Крови не было.
Мы привели в порядок комнату, заперев шкапы и ящики, раскрытые Джулио в спешных поисках писем.
Оставалось самое трудное и тяжелое: унести покойницу. Заранее решено было воспользоваться ее дорожным сундуком. Опростав его, мы подняли труп и поставили в сундук на колени; потом нам не без труда удалось заставить уже несколько окоченевшее тело сесть, упершись теменем в верхний край боковой стенки. Пустые пространства мы заполнили платьями и бельем, после чего опустили крышку. Ее выпуклость нас избавила от тяжелой необходимости глубже вдавить в сундук голову, которой затылок слишком выдавался.
Когда все было кончено, мы вынесли сундук, заперли комнату и тронулись в путь. С трудом брели мы рядом с двуколкой по жарким улицам. За городом дышать было легче. К тому же дорога шла под гору. Мул веселее шевелил ушами, довольный не слишком тяжелой ношей. Однако Леонид остановил его и снял с шеи бубенчики, которых раньше в городском шуме не было слышно: здесь же своим веселым и мирным побрякиванием они, видимо, были неприятны ему.
За рекой, в небольшой деревушке, мы слегка отдохнули и стали подыматься на другой берег. После двухчасового подъема мы вступили в ***ские леса и под вечер, свернув на боковую тропинку, достигли хижины, где нас ожидали товарищи.
Предстояло зарыть сундук. Антонио с лесником и двумя товарищами быстро вырыли яму. Подвели мула, и сундук был спущен в нее на тех же веревках, которыми был привязан к двуколке. Ни Леонид, ни Джулио не присутствовали при этом.
Когда я вернулся в хижину, Джулио сидел на скамье и смотрел в окно. Все чувствовали необходимость в отдыхе, и решено было до завтрашнего утра не предпринимать ничего.
Говорили вообще мало, но к Джулио не обращались совсем. Говорить с ним о посторонних вещах казалось неуместным, говорить же о деле никто не считал себя вправе до общего решения.
В эти часы я впервые заметил в глазах Джулио страх и растерянность. Они проявлялись тем сильнее, чем спокойнее он хотел казаться. При каждом звуке, при каждом нашем движении он опасливо озирался и весь подтягивался, точно готовился защищаться.
С Леонидом, напротив, мы старались заговаривать, в то же время уводя его подальше от Джулио. Мы бродили с ним по лесу. Он послушно ходил за нами и, чтобы нас не обидеть, говорил безразличным тоном о вещах незначительных.
Это тяжелое положение длилось довольно долго, и мы все были рады наступлению ночи. После не слишком обильного ужина, приготовленного лесником, легли спать. Джулио не ужинал, так как заснул еще раньше на той же скамейке под окном, где сидел. Погасили огонь. Утомленный тяжелыми впечатлениями этих двух дней, бессонной ночью и долгим путем, я заснул тотчас же. Утром меня растолкал Антонио, кричавший:
— Вставай! Чего ты спишь как убитый? Все давно на ногах! Джулио убежал!
Я вскочил. Все были в смятении. Лесника, Леонида, Карло и Джузеппе не было. Они отправились в погоню за Джулио. Оставшиеся, особенно Марко, укоряли самих себя и друг друга в том, что никому не пришло в голову получше следить за Джулио. Через час ходившие на поиски вернулись ни с чем. Очевидно, Джулио был уже далеко.
Тогда решено было, что я постараюсь пробраться в город и в случае получения каких-нибудь сведений извещу оставшихся.
Я сел на мула и, изо всей силы колотя его пятками по бокам, заставил пуститься вскачь. Я ехал по той же дороге, которой вчера привезли мы тело Марии.
В середине дня я остановился в той же деревушке, где останавливались мы накануне. Сидя у окна деревенской гостиницы, я увидел, как из города промчалось десятка три всадников в красных мундирах. Это были жандармы. Я встревожился и поспешил продолжать путь.
Когда я приехал в город, там уже продавали газеты с описаниями «исчезновения и смерти девицы Марии Руффи, зверски убитой ее родным братом». Поняв, что Джулио уже в городе и какой оборот успел он придать всему делу, я решился спастись бегством, так как помочь товарищам не мог.
С трудом удалось мне добраться до границы и перейти ее. Наконец пароход, отходивший из Рио-де-Жанейро, доставил меня в Сан-Франциско, где, благодаря некоторым знакомствам, мне удалось добыть денег, чтобы переправиться в Европу.
Вскоре из корреспонденций, помещенных в английских газетах, я узнал, что убийство Марии Руффи повлекло за собой раскрытие опасного политического заговора. Шесть человек заговорщиков, в том числе брат убитой, были, конечно, преданы не суду присяжных, а Высшему Королевскому Судилищу, приговором которого присуждены к смертной казни через повешение. Все заседания суда были совершенно закрытыми. 9 сентября 18** года приговор приведен в исполнение. Вот имена казненных: 1) Леонид Руффи, 2) Марко Фульджидо, 3) Джузеппе Фольта, 4) Карло Пини, 5) Горацио Глабро, 6) Антонио Рокка. Лесник (я забыл теперь его имя) приговорен к пожизненному одиночному заключению.
Джулио достиг высокого и почетного положения. Ему не удалось занять первое место в государстве, но все же парламентское большинство впоследствии дважды доставило ему портфель министра. Лет двадцать тому назад он умер.
В свое время я мог бы если не погубить его, то, во всяком случае, значительно ухудшить его положение. Но роль зарубежного обличителя не была мне по душе, так как вряд ли мои разоблачения привели бы к чему-нибудь. К тому же я понял, что человек этот не столь значителен, чтобы не иметь совести вовсе. Вероятно, она его мучила.
Борис Лазаревский ДВОЙНАЯ СТАРУХА
Илл. М. Рошковского
Случилось это в итальянском городе Мессине еще до землетрясения[24]. Популярный помощник капитана Иванов отбился от компании моряков. С засунутыми в карманы руками, с фуражкой на затылок, в полном одиночестве он шлялся по улицам и никак не мог найти дорогу в порт, а спросить не хотел.
Светила яркая луна, и огромным лиловым треугольником вычертилась на небе тихая и задумчивая Этна, — чуть курилось облачко над вершиной. Не верилось, что в эту лунную ночь в далекой России лежит снег и люди празднуют святой вечер сочельника.
Наконец, Иванову показалось, что он узнал улицу, по которой нужно идти в порт. Но здесь его встретила похожая на шимпанзе старуха и на том языке, который одинаково хорошо понимают и французы, и англичане, и турки, предложила провести время очень интересно.
Иванов нащупал у себя в кармане пару золотых, решил, что в порт он всегда успеет попасть и, не вынимая рук из карманов, побрел за старухой. Повернули в узенькую, точно коридор, улицу, затем направо, в темные двери, и долго поднимались по вонючей, скользкой и тоже темной лестнице. Старуха остановилась и постучала не то в стенку, не то в дверь.
Иванов ожидал, что им откроет смуглая, покрытая нежным пушком, женская ручка, ожидал увидеть обнаженное плечо, но увидел грязного старика, седого и давно не бритого, который отвесил ему низкий поклон и знаками пригласил войти, а потом костлявым пальцем указал на деревянный стул. На кривом комоде горела скверная керосиновая лампочка. Окно было завешено красной тряпкой. Кроме стула, в комнате была еще огромная кровать. На очаге, вздрагивая, мерцал синим светом газовый рожок и стояла посуда.
Иванов искал глазами вторую дверь, но со всех сторон были каменные стены.
«Пока не ограбили, лучше уйти», — подумал он, поднял голову и встретился с упорным и внимательным взглядом хозяина. Затем случилось неожиданное, — старик заговорил довольно правильно по-русски:
— Господин капитан, пожалуйста, не думайте, что моя жена вас надула, мы хотя и бедные, но честные люди и не промышляем развратом…
Иванов вдруг отрезвел и спросил:
— Вы русский?
— Прежде был русским и тоже был моряком, хотя простым матросом, а теперь я итальянец, вернее, просто человек, старый и не имеющий денег, но в лице моей жены Марии имеющий нечто гораздо большее, чем деньги и молодость…
— Это интересно… Мне бы хотелось знать таланты вашей супруги…
— Если вы заплатите ей хорошо, то Мария сегодня же вам кое-что покажет, и вы убедитесь, что ни я, ни она не лгуны.
«Что за чепуха»… — подумал Иванов и громко произнес:
— Мне было обещано очень интересно провести время, а я ровно ничего интересного не вижу, — значит, ваша жена солгала.
— Имейте терпение, — она плохо говорит по-русски, хотя даже ночью узнала в вас русского, но я вам сейчас объясню, в чем дело: Мария не обладает способностью угадывать будущее, хотя это умеют многие женщины, но она может сделать будущее настоящим…
Старик поглядел на жену и быстро спросил ее что-то по-итальянски, потом обернулся к Иванову и тем же уверенным, спокойным голосом опять заговорил:
— На вашем жизненном пути будут только две близких женщины, обе очень красивые и очень молоденькие, так вот, она и хотела вам их показать.
— Живых? — спросил Иванов.
Старуха опять сказала несколько слов мужу, тот кивнул головой и добавил:
— Она видела, как вы ходили по улицам, наблюдала за вами и угадала вашу тоску… Ей захотелось утешить одинокого земляка своего мужа… Только после этого Мария бывает долго больна и потому мы не можем взять дешево. Для других она этого не делает, — только для русских, потому что я русский, она их узнает по манерам и по походке…
Иванов заинтересовался и, чтобы не тратить напрасно времени, спросил:
— Сколько же это будет стоить?
— Cinquanta lira[25].
«Угадала проклятая старуха, что у меня именно два золотых, — подумал Иванов, — ну, черт с ними, пускай пропадают, зато увижу что-нибудь особенное…» Вынул два десятирублевых и бросил их на очаг, деньги зазвенели, подпрыгнули, но не упали.
— Это вы хорошо сделали, в Италии любят, когда платят вперед, — сказал старик, снял с гвоздя свою шляпу, сделал полупоклон и добавил: — Теперь я должен вас оставить, — в присутствии третьего лица эти вещи не удаются, и господин капитан может обидеться…
— Мне все равно, — ответил Иванов, — только делайте это скорее, — уже второй час.
— Si, signore, — отозвалась старуха, и когда ее муж ушел, сделалась вдруг быстрой и юркой, точно помолодела.
Она отворила скрытый в стене шкапчик и вынула глиняный кувшин с вином, большой бокал и несколько свертков в грязных бумажках. Налила вино в стакан и сказала:
— Vinum lacrimae Christi[26], — и знаком показала, что нужно выпить.
«А вдруг там отрава?» — мелькнуло в голове Иванова, но он выпил бокал одним духом и не пожалел, вино оказалось чудесным и не очень крепким. Старуха сейчас же налила второй бокал.
— Grazie, — ответил капитан и снова одним духом выпил и вдруг почувствовал себя веселым, счастливым, не способным ничему удивляться и ничего испугаться.
Уже совсем равнодушно он глядел, как из того же шкапика в стене Мария вынула и затем высыпала из бумажки на небольшую сковородочку что-то похожее на ладан и поставила на огонь, подошла к Иванову и как-то по-матерински расстегнула своими обезьяньими руками пуговку воротника на его сорочке, обернулась и дунула на лампу, которая сейчас же потухла. Горящий газ слабо освещал комнату, но было видно, как поднимается дым от курения. Воздух сделался сладковатым и вместо четырех стен образовался синий круг, в центре которого очутился капитан.
Еще через минуту лицо старухи расплылось, и вместо него очертился тонкий профиль, полудетский, полуженский, затем бюст, потом две руки, а еще через полминуты Иванов увидел молоденькую девушку с прищуренными глазами и с прической в одну косу. Платье на ней было как будто форменное, — черный фартучек…
Фон стал весь голубым.
Рядом постепенно вырисовывалась фигура другой, такой же тоненькой девушки, но в белом платье, и можно было разобрать, что обе они стоят, обнявшись.
Видение сразу пропало и фон стал серым, и опять ясно были видны одни лиловые язычки газовых рожков.
Иванов заметил старуху и вспомнил, где он; хотел ее спросить, все ли это, что она могла показать, но вошел старик и, будто угадав его мысли, произнес:
— Вы видели то, что должны были видеть и что увидите и на самом деле, может быть, скоро, а может быть, и очень не скоро.
— Но я бы хотел знать, кто эти девушки?
— Этого ни я, ни моя жена сказать не можем, мы их не видели.
Старуха тяжело дышала, будто сейчас поднялась по высокой лестнице. Суетливо ее муж зажег лампу и начал давать жене какие-то лекарства, а затем положил ей на голову мокрое полотенце.
Иванов понял, что делать здесь больше ему нечего. Было некоторое разочарование, но ни страха, ни удивления он не испытал и чувствовал себя, как после приятного, фантастического сна.
— Ну, спасибо и за это, — сказал он и взялся за фуражку.
Старик молча кивнул головой, старуха лежала у него на правой руке и все еще охала и вздыхала.
На улице был розовый день, Этна казалась окрашенной нежными голубыми тонами. Зеленые, темно-красные и золотые блики прыгали по гребням небольших волн.
Легко и просто пришел он в порт, подозвал лодочника и доехал к трапу парохода.
Здесь все, кроме вахтенного, спали.
Иванов прошел в свою каюту, быстро разделся и заснул. Его едва добудились в завтраку. Настроение стало чудесным: казалось, что помолодел лет на десять. За столом он рассказал все то, что видел вчера, но товарищи-помощники и сам капитан подняли его на смех и хохотали так искренне, что стало даже обидно.
Старший помощник Юрченко, кашляя, произнес:
— И кому ты очки втираешь, ведь мы же вместе были в таверне и вместе усидели четыре кувшина «кьянти», из которых на твою долю пришлось три, и вместе вернулись…
— Как это вместе? — вот он был на вахте и видел, что меня лодочник привез.
— Ни черта я не видел…
Иванов задумался и вспомнил, что, действительно, когда он поднимался по трапу, стоявший на вахте помощник обернулся к нему спиной и смотрел в бинокль в противоположную сторону.
Уходили годы, как вода.
Но случилось несчастие, которое вдруг все переменило.
Однажды Иванов полез в трюм посмотреть, правильно ли размещен балласт. В это время на лебедке спускали большую гранитную глыбу. Рабочий не успел вовремя крикнуть «стоп», и тяжеловесная махина одним уголком придавила Иванову три пальца на правой руке. Три месяца он болел. Еще полгода судился с обществом и высудил пенсию — 2 400 руб. в год.
Иванов мог бы найти еще другую службу, но ему казалось, что пора отдохнуть.
Летом он переехал поближе к морю и нанял две комнатки в доме лавочника.
Хозяева считали Иванова чудаком, но дорожили им, как верным плательщиком. Было у них две дочери- гимназистки, шестнадцатилетняя Надя и тринадцатилетняя Соня. Надя блондинка, Соня брюнетка. Девочки скоро привыкли к Иванову, даже не замечали его, иногда неодетые умывались в его присутствии и, вообще, для них он был никто.
Иванов часто косился на профиль Нади и старался припомнить, где он видел такую девушку и такое же, как у нее, колечко с красным камешком на правом мизинце, но за двадцать лет в разных странах примелькалось так много женских лиц, что решить этот вопрос было трудно. И еще очень хотелось ему знать, не стесняется ли его Надя оттого, что наивна или кокетничает.
Однажды в его присутствии она вымыла ноги, а затем начала надевать ажурные чулки и делала это слишком долго и слишком откровенно, так что Иванов почувствовал легкое головокружение.
И с этого дня началось.
По воскресеньям лавочник и лавочница всегда уходили в церковь, а дочери просыпались только в одиннадцатом часу и потом долго причесывались и ходили полуодетые.
Младшая, Соня, училась хуже, и к ней пригласили студента-репетитора, который иногда помогал решать задачи и Наде.
Иванов без всякой причины возненавидел этого молодого человека.
Девочки занимались в следующей комнате, и было слышно каждое слово репетитора. Как-то после занятий студент спросил Надю:
— А что делает у вас этот безрукий старик?
— Так, ничего не делает, он какой-то неживой, все читает разную чепуху…
Иванов чуть не задохнулся от злости.
И еще заметил он, что с появлением репетитора Надя стала застенчивее. Два раза вместе со студентом барышни были в театре и, пока они не вернулись, Иванов не мог заснуть. Глухо и тяжело билось его сердце. Лежа в темной комнате, он разговаривал сам с собой и точно раздваивался. Один Иванов спрашивал:
— Что бы с тобой произошло, если бы такая девушка, как Надя, тебя полюбила?
А другой Иванов отвечал:
— Я сделался бы самым счастливым человеком на свете.
Затем первый Иванов спрашивал:
— А что бы ты сделал, если бы Надя умерла?
И второй отвечал:
— Я бы повесился.
Студент начал заниматься с каждой сестрой порознь. Еще через неделю стало ясно, что между Надей и студентом началась любовь. Двое суток Иванов не ел и не спал, а потом, ни с того, ни с сего, сказал хозяевам, что жить у них больше не будет. Дрожащими руками собрал он свои вещи и переехал в город, в гостиницу. Думал, что здесь сердце успокоится, однако ничего хорошего из этого не вышло.
Пошел в порт посоветоваться со стариком-капитаном, Иосифом Иосифовичем, с которым долго плавал. У этого капитана были совсем молодые глаза и странная фамилия — Диего.
Иванов рассказал все, как на исповеди, а закончил так:
— Конечно, это и глупо, и смешно, но, понимаете ли, без нее совсем нет жизни, хоть назад возвращайся!..
Капитан Диего погладил свою желтоватую бороду, затянулся сигарой и ответил:
— Это, батенька, оттого, что вы не любили в свое время, когда были помоложе, и помочь вам трудно. В ваши годы любовь и смерть всегда ходят рядом. Дам я вам адрес одной женщины, если она вас не облегчит, так больше никто и ничего не сделает… Но при этом возьму с вас честное слово, что вы пойдете по этому адресу только в том случае, если будет окончательно невмоготу…
Иванов дал такое слово и вернулся домой чуть успокоенным. Вечером захотелось почитать любимую книгу «Мудрецы Индии». Ее нигде не оказалось. С радостью он вдруг вспомнил, что «Мудрецы Индии» взяла Надя и не возвратила, и теперь есть предлог съездить на прежнюю квартиру.
Сейчас же пошел, побрился и сел в трамвай. Когда подходил к знакомому домику — боялся умереть от разрыва сердца. Отец и мать Нади очень ему обрадовались. Приветливо встретила Иванова и сама Надя, а Соня закричала:
— Я так и знала, что вы опять к нам вернетесь, — сон такой видела.
— А можно, спросить какой? — произнес Иванов.
— Отчего же — можно: я видела, будто вы с Надей венчаетесь…
— Вот ерунда, вот ерунда! — ответила Надя и расхохоталась до слез.
Иванов остался у них обедать. А после обеда сидел в гостиной и рассматривал открытки, среди них увидел совсем новую, на которой были сняты, обнявшись, Надя в форменном платье и Соня в белой блузке. Иванов умильно поглядел на фотографию и сказал:
— Мне бы хотелось иметь такую карточку на память.
К его удивлению, Надя пошла в свою комнату и принесла открытку, затем явился репетитор, и настроение сразу испортилось. Он едва поздоровался со студентом и побежал в переднюю отыскивать свои галоши.
Ночью ему грезилась Надя, а утром было досадно на самого себя. Целую неделю не находил он покоя ни во сне, ни наяву.
За два дня до сочельника он вспомнил, что в бумажнике у него лежит адрес какой-то женщины, которая, по словам старика-капитана, может облегчить его страдания, и вспомнил Иванов, что пойти по этому адресу капитан Диего советовал лишь тогда, когда будет совсем невмоготу. Теперь это было именно так, давил ужас от сознания, что вся жизнь прожита механически, не для себя, и что впереди старость и смерть.
Иванов побрился, оделся как можно чище и пошел разыскивать неизвестную женщину по той записке, которую дал ему старый капитан. Он заранее представлял себе черную лестницу, где-нибудь на третьем дворе, обитую клеенкой дверь, благообразную старушечью физиономию, кота на кресле и засаленные карты.
Но все оказалось иначе. Квартира была в шикарном бельэтаже и на табличке Иванов прочел, что здесь живет княгиня.
Пожилая горничная ничего не спросила, тогда сам Иванов сказал:
— Я от капитана Диего…
— Пожалуйте, — бесстрастно ответила горничная, — помогла снять ему пальто и отворила дверь направо в крохотный кабинетик с мебелью, обитой черным плюшем. Лиловая штора на окне была опущена, и горела электрическая лампа. Дверь бесшумно открылась и вошла горбатая старушка в черном шелковом платье. На руках у нее было множество колец. Иванов вскочил, поздоровался и приложился губами к холодным, сухим пальцам.
— Вас прислал Иосиф Иосифович Диего?
— Да.
— Так, так… Значит, вы очень страдаете?
Иванов молча кивнул головой и, вглядевшись в лицо княгини, заметил, что она похожа на шимпанзе.
Старушка пожевала губами и произнесла:
— Расскажите мне все, как самому себе[27].
Старушка опять пожевала губами и ответила:
— Я все поняла и, может быть, сумею вам помочь; в молодости я пережила нечто подобное. Вы, кажется, меня боитесь? Меня зовут Антонина Иосифовна и в молодости я училась на курсах и была стройна… Скажите, сердце у вас хорошее?
— Сердце? Хорошее…
— Вы бы желали ее увидеть и поговорить с ней?
— Да.
— Это я могу сделать только вечером; вы пожалуйте так, в начале двенадцатого ночи… Видите ли, девушка будет с вами очень откровенна и вы узнаете, на что можете надеяться, но, милый, есть вещи на свете, которых лучше не знать, поэтому прежде, чем прийти снова ко мне, вы хорошенько подумайте. Вот и все…
Княгиня встала с кресла и сделала легкий поклон.
Иванов расшаркался и заторопился. Когда он одевался в передней, верхняя пуговица на пальто оторвалась и упала. Это показалось дурным предзнаменованием. До десяти часов вечера он путался по улицам. К вечеру стало скользко, и два раза Иванов чуть не попал под автомобиль. Сам не заметил, как очутился у подъезда княгини, и, как только снова прикоснулся к кнопке звонка, сердце заработало часто и болезненно. Старушка встретила его с более серьезным лицом и коротко сказала:
— Значит, решили?
— Решил.
— Теперь я должна вас еще предупредить, что этот опыт не всегда безопасен для жизни и поэтому я попрошу вас написать на листочке обычную фразу: «Прошу в моей смерти никого не винить», подпишитесь и поставьте завтрашнее число, хотя я с местной полицией в очень хороших отношениях…
Иванов безропотно все исполнил.
— Жаль, что почерк у вас такой неровный, — задумчиво произнесла княгиня, — встала и плотно заперла дверь; затем она достала из маленького шкапчика блестящую спиртовку и высыпала из бумажки на крохотную сковородочку что-то, похожее на ладан, подошла к Иванову и как-то по-матерински расстегнула своими обезьяньими руками верхнюю пуговку на его сорочке. Старушка потушила электричество и отошла в другой конец комнаты.
Вместо четырех стен образовался синий круг, в центре которого очутился Иванов. Еще через минуту Иванов увидел Надино платье, а потом и ее личико с удивленными глазами, рядом слабо очертился профиль Сони, а затем стало видно, что сестры стоят, обнявшись.
Вдруг дернулось сердце и сделалось темно и тихо…
Целую ночь возле дома княгини была суета. Входили и вы ходили дворники и полицейские. И только к утру тело Иванова увезли в карете скорой помощи в анатомический покой.
Борис Лазаревский КЛАДБИЩЕ
Илл. Н. Герардова
Действительность не так утомляла Виноградова, как сны… Началось это после государственных экзаменов, которых он не выдержал. Закончив почти по всем предметам «весьма», Виноградов не мог ответить по уголовному праву на целый ряд самых простых вопросов. Мешала какая-то необъяснимая апатия. А на экзамен по гражданскому процессу, — взял да и не пошел. Проспал целый день…
К ресторанам и к выпивке Виноградов всегда чувствовал отвращение. Опротивели и люди. Свою единственную любовь, курсистку-медичку Шуру, он уже давно презирал, но чем сильнее росло это презрение, тем больше тосковало сердце.
На рождественские каникулы Шура уехала к матери в Одессу. Единственный товарищ, с которым Виноградов поддерживал кое-какие отношения, Жулавский, еще пятнадцатого декабря уехал к себе — в Псковскую губернию. Жулавский ненавидел Петербург, увлекался спортом и не понимал прелести романических приключений.
Одиночество Виноградова стало еще болезненнее. Отдыхал он от самого себя только во сне. Когда глаза не хотели закрываться, он принимал небольшую дозу хлоралгидрата, снова ложился на скомканную постель и клал на голову вторую подушку в грязной наволочке.
Скоро после Нового года ему приснился незнакомый город. Виноградов подъехал к огромному освещенному зданию, разделся в вестибюле и, когда снял пальто, то увидел себя в парадном мундире, которого у него никогда не было.
Вертелись пары танцующих. Была среди них и Шура в белом, сильно открытом платье. Она держала за руку господина с остренькой седой бородкой, улыбалась ему и грациозно выделывала pas[28] хиаваты[29]. Потом села, а господин исчез. Виноградов не выдержал и подошел к Шуре. Ее большие серые глаза стали еще больше.
— Зачем вы здесь, зачем вы здесь? — сказала она с досадой.
— Почему она говорит на вы? — подумал Виноградов и ничего ей не ответил.
— Пойдемте отсюда, — снова произнесла тем же злым голосом Шура и встала.
Затем они очутились в освещенной красным светом гостиной, сели на мягкий, тоже красный, диванчик. Здесь ни кого не было. Шура быстро зашептала:
— Вы — или сумасшедший, или дурак… До сих пор не поняли, что между нами все кончено. Я вас не люблю. Я никого не люблю. Я хочу денег и личной жизни. Этот старик предлагает мне ехать в Париж. Я поеду. Я и курсов своих никогда не любила и поступила на них только затем, чтобы жить в Петербурге. Мне было вас жаль, и потому я не говорила вам прямо, что вы с вашей неврастенией и разными гипнотизмами и предчувствиями надоели мне! Вы не человек, а слякоть. Теперь я говорю это прямо…
Музыка в зале играла так громко, что Виноградов вдруг перестал слышать слова Шуры, хотел подвинуться к ней ближе и — проснулся.
Было два часа ночи. Он встал, выкурил папиросу и опять лег! Болела голова. После приема хлоралгидрата стало как будто легче и снова удалось задремать; но уже ничего не приснилось.
Через несколько дней пришло письмо от Шуры. Она писала, что уезжает за границу, и была в ее письме фраза:
«Я и курсов своих никогда не любила и поступила на них только затем, чтобы жить в Петербурге».
Виноградов почувствовал, как у него зазвонило в правом ухе. Он не удивился. Долго мотался взад и вперед по комнате, как несчастный белый медведь в клетке. Сел к письменному столу и написал красным карандашом на синей промокашке: «Кто-то сильный и беспощадный хочет моего конца, а я не дамся, а я не дамся…».
Ни с того, ни с сего вдруг затошнило. Виноградов зачеркнул написанное, надел пальто и вышел на улицу. Сам не зная зачем, в трамвае он доехал до Варшавского вокзала. Здесь целый час сидел в зале и пил чай. Потом взял перронный билет и снова вышел на воздух. Вагоны и запах паровозного дыма напомнили, как месяц тому назад он провожал Жулавского и сказал ему, что болит голова, а тот ответил:
— Вот вы приезжайте на праздники ко мне в Псковский уезд. Побегаем на лыжах. У нас воздух, как шампанское, и голова не будет болеть. А захотите учиться — отдельная комната к вашим услугам. У меня отец уездный ветеринар, но человек интеллигентный. Есть книги. Мать хозяйка и ее целый день не видно. Тихо у нас. Мы живем совсем за городом. Приезжайте…
Тогда Виноградов только поблагодарил и подумал: «Как же я уеду, если 8-го января вернется Шура».
Теперь он знал, что Шура больше не приедет.
С перрона Виноградов пошел прямо к телеграфному окошечку и написал на бланке адрес Жулавского, а затем: «Выезжаю час ночи, буду утром».
Когда чиновник дал ему квитанцию, стало вдруг веселее. Думалось: «Нужно скорее на квартиру, уложиться и опять сюда. Вероятно, Жулавский вышлет лошадей или выедет за мной сам. Если протелеграфировал, то не ехать уже нельзя, выйдет свинство. Кто-то сильный и беспощадный хочет моего конца, но я ему не дамся, не дамся…».
В вагоне удалось отлично устроиться. Когда поезд тронулся, Виноградов улыбнулся и в голове побежали бодрые мысли: «Нет, не сдамся! И сильный и беспощадный со мной ничего не сделает! И влюбленная в деньги, похожая на японскую собаку Шура ничего со мной не поделает. И жалеть о ней я не буду. А весной выдержу экзамены и навсегда уеду из этого проклятого Петербурга куда-нибудь на Кавказ…».
После Гатчины он крепко заснул и вдруг увидел себя на кладбище, окруженном красной кирпичной оградой. Здесь было тихо и прекрасно. Поскрипывали ели. Блестел на солнце голубоватый снег. Кое-где бледно мерцали лампадки. Слышно было, как на самом большом, корявом дереве стучал дятел. Не чувствовалось ни страха, ни тоски, и только было приятно, необыкновенно приятно…
Виноградов прошел мимо вырытой для кого-то могилы и, с тем же тихим и спокойным настроением, остановился возле открытых ворот.
Его разбудил кондуктор. Уже давно был день. От блеска покрытого снегом поля резало глаза. И фиолетовые тени вагонов качались на сугробах.
Жулавский встретил его, как родного. Сам схватил чемодан и потащил к запряженным сытой лошадкой саням. Быстро покатили по извилистой лесной дороге. Воздух, и в самом деле, был как шампанское.
— Ну, нравится? — спросил Жулавский.
— Ужасно нравится, чувствую, что оживаю…
— Через десять минут будем дома. Сейчас лес останется вправо, а левее откроется поле. Затем будет кладбище, а за кладбищем и городишко.
Виноградов промолчал.
Когда выехали из лесу, он сейчас же увидал ту самую красную, кирпичную ограду и те же самые открытые ворота, возле которых стоял во сне.
Что-то нехорошее шевельнулось в груди, но скоро успокоилось, а в столовой в домишке Жулавских и совсем забылось.
С этого дня началась совсем другая жизнь. Перестала болеть голова. После катанья на лыжах разыгрывался огромный аппетит. По вечерам искренне и хорошо разговаривали с Жулавским. Через неделю Виноградов уже смеялся над бессонницей и всякими предчувствиями.
Но когда он оставался, на несколько минут, совсем один, — вдруг являлось желание пойти на кладбище и посмотреть: есть ли там та вырытая могила, которую он видел во сне, и на том ли она месте?
Виноградов делился с Жулавским всеми своими мыслями, но не сказал о том, что снилось ему в вагоне. И не пускал самого себя на кладбище.
Вставали рано. И день начинался с бега на лыжах. После оттепели стало немного хуже бегать на лыжах, и на крутом уклоне кое-где обнажился темно-серый гранит.
— Это место следует перепрыгивать, — сказал Жулавский, — вот, смотрите: рраз, два.
Чуть приподняв руки, он пролетел над гранитом, снова очутился на снегу и красиво съехал вниз. Виноградов сделал то же, но левая лыжа свернулась и зацепилась за правую. Он упал и, казалось, мягко, но со всего размаха ударился головой о камень. Одно мгновение его тело оставалось на месте, затем медленно перевернулось и поползло вниз.
Жулавский бросился к Виноградову:
— Ничего, ничего, это пройдет. Нужно только сейчас же растереть затылок снегом. Ну-ка, снимите шапку.
Но Виноградов ничего не ответил. Домой его перенесли при помощи двух здоровенных эстонцев. Оказалось сотрясение мозга. В бреду Виноградов все время звал Шуру и умер в тот день, когда она приехала в Париж. Из родных на похороны никто не явился, но старуха Жулавская рыдала над гробом так, что крестьяне думали, что это родная мать.
Похоронили Виноградова в солнечный день на том самом месте, которое он видел во сне. Когда священник и все живые люди ушли с кладбища, кругом снова стало тихо и прекрасно; и было только слышно, как на самом большом, корявом дереве стучит дятел.
Борис Лазаревский БЕССМЕРТИЕ (Памяти А. Д. Вяльцевой)[30]
Илл. Н. Герардова
Один из редакторов большой газеты Николай Семенович Пименов уже целую неделю чувствовал себя нездоровым. Не хотелось никуда идти, не хотелось работать, не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось читать полученных писем…
Он сообщил издателю о том, что болен, и просил заменить его кем-нибудь другим. Чтобы окончательно избежать всяких встреч, Пименов, с небольшим чемоданчиком, временно переехал в pied à terre[31] на Сергиевской.
Но были люди, которые нашли его и здесь, и некоторых из них нельзя было не принять, потому что приходили они с исключительным желанием узнать о его самочувствии.
Вечером зашел брат его покойной жены, студент-медик Сережа Миляев. И потому, что Миляев не имел никакого отношения ни к редакциям, ни к театру, ни к издательствам, — Пименов ему даже обрадовался.
Сережа повесил пальто, потер рука об руку и спросил:
— Ну, что с вами?
— Да неважно. Болен и не могу поставить себе диагноз.
— А что болит?
— Да все и ничего. Тошнит меня, но не так, как это бывает после пьянства, а, понимаешь, Сережа, тошнит мою душу, тошнит от всякого соприкосновения с действительной жизнью. Особенно противны мне все эти разговоры о гонорарах, о клише, о листах и строках… Противно лганье беспросветное… Чувствую я также, что все, до сих пор мною сделанное, нужно было делать иначе, а как иначе, я не знаю. Начинать же сначала глупо и поздно, — впереди смерть. И хочется знать наверное, что такое эта самая смерть: абсолютный конец, или начало чего-нибудь нового и более интересного?
Сережа протер свое пенсне, надел его снова и внимательно поглядел на Пименова.
— Мне кажется, что у вас просто неврастения, и вам бы следовало попробовать гидротерапию, — сказал студент.
Пименов отрицательно покачал головой.
— Нет. Неврастения ведь всегда на почве интоксикации, а у меня все органы в порядке: и почки, и легкие, и температура нормальная. Я просто хочу знать то, чего еще никто не знает, но так же, как и многие другие, чувствую себя дураком и поэтому сержусь на людей, и на свою работу, и на все, что мешает мне понять, зачем я живу.
Пименов прошелся взад и вперед по комнате и остановился перед студентом. Тот молчал.
— Что ж ты ничего не отвечаешь?
— Да что ж я вам могу сказать? Вы многого хотите… Почитайте Мечникова, вот у меня с собой одна из его книг: «Этюды о природе человека». Могу вам ее оставить дня на два. Хотите?
— Хочу. Только ведь и Мечников всего не знает. Вернее, не знает самого главного, тех законов, которые действуют за пределами земного шара. Ведь не станет же и он отрицать, что жизнь есть и на других планетах. Может быть, то, что управляет нашими телами, когда наши сердца остановятся, переходит туда вместе с сознанием: что вот я, Николай Семенович Пименов, тот самый, который жил на земле, есть и буду им всегда. Ты понимаешь, Сережа, всегда, какое это вкусное слово. И как смешно будет нам оттуда наблюдать страх смерти у земных людей. Как бы ни умоляли они нас помочь в их «бедствиях», как бы ни просили нас явиться или, как говорят спириты, материализироваться, нам будет только смешно, потому что с нашей точки зрения все эти их земные «страдании» будут в сравнении с новой жизнью не большей драмой, чем та, которую испытывает человек у зубного врача в течение двух секунд, пока тот выдернет у него крохотный беленький кусочек.
Студент с тревогой посмотрел на Пименова и, ничего не отвечая, припоминал что-то из лекций по психопатологии.
Редактор заметил этот взгляд, улыбнулся и продолжал:
— Не пугайся, дорогой Сережа, я еще не сошел с ума. Я и сам не верю в то, что говорю, но чувствую, что ни ты, ни я, ни Мечников еще не знаем чего-то такого, что будет рано или поздно открыто и опрокинет вверх дном все наши представления о жизни и смерти. Может, это будут новые свойства радия, может, этот самый радий окажется тем, что мы называем душой. Но чувствую наверное, что такое открытие не за горами.
Сережа опустил глаза и пожал плечами, зачем-то расстегнул крючок на тужурке и спросил:
— Да что вас натолкнуло на эти мысли?
— Что? Сравнительно пустое обстоятельство. На прошлой неделе умирала артистка и не только артистка, а храбрый, обаятельный человек и большой художник. Она еще говорила, еще думала, а ко мне в редакцию уже пришел фотограф со снимками с ее портретов. И я торговался с ним. И мы рассчитывали вместе, умрет или не умрет она к вечеру, — к выходу следующего иллюстрированного приложения. А потом мне стало противно и страшно. И не хотела примириться голова с представлением, что как только опустят ее гроб в землю, так и конец, навсегда конец, и большому художнику, и храброму, обаятельному человеку… Я послал издателю записку, что заболел и уехал на квартиру, а оттуда сюда.
— Так ведь все это вполне естественно, — спокойно произнес Сережа.
— Вот в этой естественности и весь ужас и вся мерзость, и все ничтожество наше. И не может быть, чтобы все наше существование было таким же «естественным». Где-то есть другое…
— Нигде нет, — коротко сказал студент. — Вы вот возьмите да почитайте Мечникова…
— Значит, и твоей сестры, а моей бывшей жены тоже больше нигде нет? — спросил Пименов.
— Нет…
— А по-моему, есть.
— Вы больны, переутомились.
— Не знаю.
— Посидите здесь еще с неделю, прочтите несколько научных книг. А затем поезжайте за город на охоту, — чудесный снег выпал.
— Если я поеду на охоту, я там застрелюсь.
— Ну тогда, значит, вам нужно лечиться очень серьезно.
— Тебя испортила медицина…
— Может быть. Ну, а я пошел. Так Мечникова оставить?
— Оставь.
Сережа положил книгу на стол, машинально застегнул тужурку, надел пальто и крепко пожал руку Пименову.
— Я еще зайду завтра.
— Заходи, заходи.
Пименов посмотрел вслед студенту, перенес электрическую лампу к постели, взял книгу и лег. Читал он долго, почти до пяти часов утра. Сначала о том, как живут и умирают крохотные организмы бактерий и насекомых, затем сколько живет щука, слон и попугай… Прочел, как постепенно отравляется организм человека и как он старится, даже без отравления… Читал об анимализме: о вере всех народов в существование души человеческой самостоятельной, зависящей от тела только временно. Книга сказала ему много нового, но ничего утешительного. Чувствовалось, что автор ее огромный ученый и честный человек, но чувствовалось также, что этот автор не все знает и что область, о которой он пишет, тоже еще не все.
От долгого лежания на спине снова разболелась голова и затекла шея.
Пименов встал и заходил по комнате. Остановился у окна. Уже потухли электрические фонари и слышно было, как скребут лопатами дворники панель. Гудел далекий колокол Исаакиевского собора.
Захотелось спать, только спать и ни о чем не думать. Он заставил себя умыться, разделся и лег под одеяло на бок.
«Сон похож на смерть, но он не смерть. Во сне психика еще работает, но работает свободно, не скованная никакими научными доктринами, иногда вопреки логике, и потому сны бывают такими интересными. Но сегодня я устал и, наверное, ничего интересного не увижу…» — плыло в голове Пименова.
И потом, уже в полудремоте, хотелось быть как можно подальше от всех своих мыслей: отдохнуть, отдохнуть…
Пименов очень обрадовался, когда очутился в большом саду, где-то за городом, и как будто очень далеко от Петербурга.
«Сюда уже не придут никакие сотрудники и фотографы», — радостно мелькнуло в сознании.
Он медленно пошел по широкой липовой аллее. Хорошо пахло вокруг и было слышно, как гудят пчелы. Уже не хотелось, да и не было сил понять, почему он здесь, только еще раз пришла мысль: «Значит, очень далеко от Петербурга, потому что там зима, а здесь лето».
Направо была такая же аллея, но с более молодыми деревьями, сквозь просветы между листьями виднелось розовое вечернее, необыкновенно красивое небо. Кричали где-то воробьи. Пименов постоял с минуту на перекрестке и повернул в эту аллею.
Ноги ступали как-то особенно легко. Когда он прошел саженей двести, то заметил далеко впереди две сидевших на скамейке человеческих фигуры. Затем уже можно было видеть, что это два пожилых господина. Один, в широкополой белой шляпе и с большой седой бородой, часто жестикулировал и указывал большим пальнем правой руки куда-то в сторону. Второй старичок был поменьше и борода у него была подстрижена коротко, а шляпа на голове — серая фетровая.
Пименов подошел к ним совсем близко, но старики почему-то не замечали его.
«Где же это я их видел и вот точно в таких позах? Где же?»… — старался припомнить Пименов и вдруг сообразил, что перед ним Лев Толстой и Мечников…
«Ага. Там еще была надпись: „Гордость России“», — вспомнил он уже совсем ясно и подошел еще ближе, но великие люди как будто совсем его не видели и продолжали свой разговор.
— По моему, наша жизнь здесь — это сон, смерть — пробуждение, а самоубийца — рано проснувшийся человек, — сказал Толстой.
Мечников отрицательно покачал головой и ничего не ответил.
— Я знаю, Илья Ильич, — продолжал Толстой, — что вы мне будете говорить о теле и о том, что оно разрушается, — и тогда конец всему. Я сам так думал, но чем ближе приближался к смерти, тем яснее чувствовал, что ошибаюсь и только после 7-го ноября увидел и узнал наверное то, что предугадывал и что узнаете и вы, когда все ваши теории окажутся бессильными… Ваша наука велика, но чутье художника больше и сильнее, и это я всегда знал. Вы точно едете верхом на крепкой, бодро выступающей лошади, но только на слепой лошади и сами недостаточно хорошо и точно знаете дорогу, и потому вам нужно потратить еще много времени, прежде, чем вы очутитесь там, где вам хочется.
Мечников снисходительно улыбнулся и снова ничего не ответил.
«Какое счастье, какое счастье, что я их снова вижу вместе», — подумал Пименов и решил сейчас же, как можно энергичнее, заявить о своем присутствии. Но в это время Мечников сказал:
— Я не совсем понимаю вас и согласен с вами лишь в одном: человек неспособен разрешить задачи о цели своего существования…
Пименов хотел взять Мечникова за руку и… сейчас же проснулся.
Все его существо было еще полно радостным волнением, точно он вернулся от очень близких и дорогих ему людей.
«Это лучше всякой действительности подтверждает все то, о чем я говорил вчера Сереже», — подумал он и попробовал еще заснуть, но понял, что из этого ничего не выйдет. Встал и быстро оделся. Потом долго умывался свежей водой и почувствовал себя совсем здоровым.
К завтраку пришел Сережа.
— Ну что? — спросил студент. — Сегодня вам лучше? У вас совсем другой цвет лица.
— Да, лучше, — ответил Пименов.
— Отдохнули и выспались хорошо?
— Отлично выспался.
— И о бессмертии, вероятно, больше не думали, и сновидений, конечно, никаких не было?
— Никаких, — снова солгал Пименов и хитро улыбнулся.
Борис Лазаревский ПТИЦА
Я поехал в эту усадьбу работать в тишине. И сначала хорошо здесь мне было, вся душа обновилась.
Во время сильной жары я сидел в комнатах при спущенных шторах, предварительно выгонял всех мух, пил жиденький чай и возился с рукописями. После обеда спал почти голый, завернувшись в тонкую свежую простыню. Около семи-восьми часов вечера, когда на зеленом небе загоралась первая звезда, я выходил в парк, без конца шагал взад и вперед по его аллеям, думал и вспоминал близких людей, живых и умерших.
Но с половины июня каждый вечер мое милое одиночество начал нарушать жалобный крик какой-то птицы. Городской житель, я не знал ее названия. Староста Грицко мог бы мне его сказать, но он с восьми часов и до самого утра всегда спал безнадежно крепким сном.
Когда же я спросил об этом у него и постарался изобразить крик надоедливой птицы, то Грицко только пожал плечами и ответил, что это кричит, может быть, кобчик, но, может быть, и молодая сова, а еще вернее, что это чайка (близко было болото), у которой пастухи разорили гнездо.
Затем болтливый, когда не нужно, хохол рассказал, что есть даже такая песня, начинающаяся словами:
Ой горе тій чайці Горе ій небози Шо вивела чаєняток При биті дорози…[32]хотя теперь парубки ее уже не поют и предпочитают солдатские.
Я возразил, что для чаєнят остаться без матери, вероятно, еще большее горе, чем для чайки без детей.
— Може, и так, — равнодушно пробормотал Грицко и затем, вероятно, по ассоциации, еще рассказал, что в этой усадьбе несколько лет назад жила на даче очень красивая и добрая барыня с тремя детьми, — ее муж был на войне. И вот перед самой «спасивкой» приехал какой-то «цивильный пан»[33], прожил трое суток и ночью увез барыню на Кавказ, а дети остались с нянькой, на имя которой их мать оставила на столе пятьдесят рублей денег и письмо с приказом отвезти детей в город к старой барыне. Дети очень плакали. Как раз в тот день, когда нянька собралась уезжать, заболел горлом и через три дня умер младший мальчик, Коля, которого и похоронили в парке. Двух девочек увезли. И до сих пор никто не знает, что сталось с ними, — с этой барыней, ее мужем и тем, кто разорил семью.
Я сейчас передаю эту обыкновенную, грустную историю вкратце, но Грицко, несмотря на свою сонливость, рассказывал ее очень долго и так образно, что в итоге получилось сильное и очень тяжелое впечатление, от которого я не мог отделаться весь день.
Не покинуло оно меня и вечером и ночью.
По крайней мере, когда опустился и спрятался за горизонтом красный месяц и в парке стало так темно, что я несколько раз наткнулся на скамейку, — хотя отлично знал, где она стоит, — мне стало жутко. Одинокий протяжный крик птицы буквально мучил меня.
Ни во что сверхъестественное я никогда не верил и ничего такого не боялся. Но в эту ночь захотелось уйти в комнаты раньше обыкновенного, затворить окна и читать какую-нибудь книгу под мерный, сладкий храп Грицка.
Особенно неприятно было то, что я не мог определить, сидит ли эта птица на дереве или летает по кругу над моей головой.
Я ушел к дому и начал ходить взад и вперед по скрипучим доскам балкона. Со стороны болота иногда слышался характерный предрассветный крик дикой утки, в селе лаяли собаки, далеко в поле шумел и постукивал колесами товарный поезд. Но все эти звуки покрывал все тот же печальный, мне хочется сказать — несчастный, будто человеческий стон никогда не виданной мной птицы.
Пришлось и на самом деле спрятаться от него в кабинет.
Я зажег лампу, закрыл ставни и сел за письменный стол, но работать не мог, скоро положил перо и задумался над бессилием человека узнать главную цель природы: зачем она производит на свет такое огромное количество живых существ совсем помимо их желания, зачем иных мучает, иных балует и в конце концов куда-то девает и тех и других? Трупы конечно, гниют… Ну, а то электричество, которое жило в этих трупах, ведь оно же не гниет? Куда оно девается? И почему некоторые люди думают, что оно непременно сливается со всем остальным электричеством немного шара, а не остается индивидуализированным или не начинает снова сознательную жизнь в каком-нибудь другом, только что родившемся, теле? Почему наши естественники до сих пор даже не знают химического состава того электричества, которое возит их в трамваях и светит им? Почему?
Но и я не был тем знаменитым первым, который когда-то спокойно и абсолютно ясно ответит на все эти вопросы, гораздо более важные, чем вопросы политики, социологии и политической экономии…
Зашевелилась какая-то злоба и обратилась в бессильную тоску. Стало трудно дышать. Лампа грела, табачный дым целыми облаками плавал по комнате. Тяжелой испариной человеческого тела веяло из передней, где спал Грицко. Висевший на стенке термометр показывал +22° R[34].
Я не вытерпел, снова открыл все ставни и окна и сейчас же услышал все тот же крик птицы:
— Ай-ай… Ай-а-а-а…
И без участия рассудка опять заныло сердце.
Нежный аромат недавно зацветших лип и ночной воздух и ласково горевшие звезды Малой Медведицы не успокаивали. Жадно хотелось, чтобы птица наконец замолчала, и скорее бы поблекло небо перед восходом.
Я закурил новую папиросу и откинулся на спинку кресла.
— Ай-ай… Ай-а-а-а… — долетело из окна.
Через пять-шесть минут тот же стон. Следующий повторился скорее, а еще следующий — после большой паузы по крайней мере в пятнадцать секунд.
Когда нет вокруг людей, то очень часто не стыдишься самых нелепых своих мыслей и поступков. Мне вдруг пришло в голову сделать опыт вроде тех, которые устраивают спириты на своих сеансах. Я решил мысленно читать алфавит, медленно, до конца и опять сначала, без перерывов, и те буквы, при произнесении которых закричит птица, — записывать на блокноте.
Я придвинул к себе тетрадку, взял карандаш и начал:
— А, б, в, г…
Когда я дошел до буквы «к», вдруг снова прозвенел стон:
— Ай-ай… Ай-а-а-а…
Я вздрогнул, как от неожиданного выстрела, и написал «к». Следующий крик пришелся на букве «о». Мысль моя работала лихорадочно, и я успел подумать: «Ну что же, „к“ стоить недалеко от „а“, и это показывает, что птица издает звуки периодически правильно; значит, мне только представилось, будто интервалы выходят разные». То обстоятельство, что третьей буквой пришлось записать «л», только подтвердило мое предположение. Дальше пришлось обождать и начертить букву «я» Стараясь не глядеть на бумагу, я продолжал делать свою нелепую работу.
Но когда мои глаза невольно заметили, что на клетчатых страницах блокнота моей же собственной рукой совершенно ясно написано: «Я — Коля, я — Коля…» — всей моей спине вдруг стало жарко, точно на нее хлюпнули кипятком.
Я вдруг вспомнил рассказ Грицка о молодой, красивой барыне и о том, что ее умершего сынка звали Колей. Стало страшно по-настоящему, до обморока страшно.
Изо всех сил владея собой, я пошел в переднюю и весьма бесцеремонно растолкал автора этой истории под предлогом, что у меня вышли все спички, и я не знаю, куда он девал целую пачку, которую купил днем.
Грицко долго хлопал ничего не понимавшими глазами, потом так же долго чесал поясницу и наконец сердито спросил:
— Так и цо таке?
— Спичек мне нужно, спичек, которыми зажигают.
— А-а…
Затем под разными предлогами я заставил его рассказать мне еще несколько уже гораздо менее печальных историй и мучил несчастного человека (впрочем, угощая его своими, очень хорошими, папиросами) до самого рассвета, пока не умолкла птица, и не начали быстро разговаривать на своем веселом языке воробьи на росшем под окном тополе.
Через два дня я уехал из этой усадьбы.
Листочек, вырванный из блокнота, хранится у меня до сих пор, но, конечно, все происшедшее со мной в эту ночь только случайность.
Георгий Чулков ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ
Илл. И. Гранди
I
Весною 1650 года в одном из воскресных номеров Антверпенской газеты было напечатано: «В Швеции умер дурак, который говорил, что он может жить так долго, как он пожелает». Это был Декарт[35]. В сочинениях Христиана Гюйгенса[36] читатель найдет замечательное письмо философа к брату. Из этого письма я и заимствую мои сведения о статье Антверпенской газеты, появившейся два с половиной века тому назад.
Декарт, веривший в безусловное могущество разума, в самом деле охотно допускал мысль, что человек завоюет себе бессмертие здесь, на земле. Иные пылкие ученики его готовы были поверить в бессмертие своего учителя и весьма изумились, когда Декарт скончался.
Мои религиозные убеждения исключают веру в земное бессмертие, однако и я склонен думать, что человек может по произволу продлить жизнь свою собственную или кого-нибудь из иных людей. В конце концов страшный закон смерти восторжествует на земле, но борьба с этим законом и даже временная над ним победа возможна. Вопреки мнению Декарта, я думаю, однако, что сила, противоборствующая смерти, не есть наш верховный разум. Я верю, что эта тайная сила заключается в нашей воле.
Я знаю по опыту, как могут сочетаться души, и как они могут влиять друг на друга, и как это влияние переходит за грани внешнего мира.
Я прошу выслушать меня не только тех, кто склонен допустить существование миров иных, и тех, кто утверждает самоуверенно предельный агностицизм. Дело в том, что я сам скептик, милостивые государыни и милостивые государи. Но я умею скептически относиться решительно ко всему — даже к самому крайнему скептицизму. Вот почему я не восхищаюсь Пироном[37], который прошел равнодушно мимо попавшего случайно в яму Анаксарха, полагая, что всякая видимость ничего не значит и что поэтому решительно все равно, протянет или не протянет он руку своему злополучному ученику. Как ни низко я ценю здравый смысл, однако при известных условиях необходимо пользоваться его указаниями. И это, надеюсь, примирит меня кое с кем.
Итак, я начинаю мое повествование о событиях моей жизни, о моей любви и о моих страданиях. Я любил мою жену, любил нежно и пламенно. И самое имя ее — Вера — звучало для меня, как обетование райского света.
Мне так же трудно выразить мои благоговейные чувства, мое восхищение и мой восторг, как трудно определить словами прелестное очарование моей Веры. Никогда не встречал я женщины более искренней и правдивой, но никогда также не приходилось мне открывать в душе человека столько противоречий, острых и неожиданных.
Вера всегда оставалась собою — страстная и целомудренная, мудрая и наивная, строгая и добрая, жестокая и готовая пожертвовать своею жизнью и пойти на казнь без трепета и сомнений. Она была женственна, как земля, как вечная Ева, но в ее сердце звучали песни, занесенные в наш мир ангелами из голубой страны, где первоисточник предвечной гармонии. Однако она, по-видимому, вовсе не сознавала, что неземной свет сияет в ее глазах, и была привязана к земле безраздельно, как растение.
II
Два года мы счастливые жили в России — я и моя жена.
На третий год мы решили уехать в Италию.
Мы приехали в Венецию поздно вечером. Когда черная гондола беззвучно отчалила от вокзала и гондольер, неспешно гребя веслом, направил ее вдоль безмолвного канала; когда мы почувствовали странную тишину венецианской ночи и услышали шуршащие шаги запоздавших прохожих, торопливо переходивших по горбатым мостам; когда мы вошли в отель, у порога которого при свете фонаря плескалась зеленая вода, и увидели нашу комнату с огромным распятием и с мебелью, уцелевшей, по-видимому, от времен Гольдони, Тьеполо и Казановы[38], мы вдруг почувствовали, что вот сейчас безвозвратно канул в прошлое наш далекий пустынный мир, где мы любили друг друга так страстно и так верно.
Дни и ночи, проведенные нами в Венеции, Падуе и Флоренции, угасли, как сны. Мы спешили в Рим.
— В Рим! В Рим! — говорила Вера в непонятном восторге, почти в экстазе.
И я разделял ее чувства и хотел поскорее увидеть Рим, где мы намерены были поселиться на несколько месяцев. Но уже по дороге из Флоренции в Рим у меня явилось новое чувство, похожее на страх. И я боялся сам себе признаться, что я уже знаю, как будет опасно для меня пребывание в Риме.
— Стыдно быть суеверным, — повторял я, смущаясь, однако, все более и более по мере того, как мы приближались к Вечному Городу.
Сначала предчувствия мои не оправдались. Ничто не нарушало нашего счастья. Рим очаровал и пленил нас.
Мы поселились на вершине Капитолийского холма, на via del Campidoglio, которая спускается вниз к Римскому Форуму. Из наших окон видны были античные развалины — три колонны, оставшиеся от храма Веспасиана, камни храма Согласия, базилика Юлия и прочие обломки великолепного Рима. Но не этот мертвый город, когда-то суровый, мощный и страшный, увлек нас. Мы восхищались Римом Возрождения, безумной пышностью Ватикана, но еще более мы полюбили христианский Рим первых веков, таинственную прелесть строгих фресок, их дивную монументальность в духе Византии. И в то же время мы радостно улыбались, любуясь вольною роскошью Бернини[39] и мрамором иных вилл, созданных по прихоти людей XVIII века.
Мы наслаждались Римом, жадно вдыхали воздух Кампании, уезжали за город, бродили по окрестностям, отыскивая все новые и новые сокровища, припоминали историю и с непередаваемым чувством касались камней, которые были свидетелями великих событий. Но в глубине моей души я таил смутную тревогу, как будто моему счастью угрожала близкая опасность.
Однажды, гуляя по Риму, мы зашли в базилику св. Климента. Как необычайна эта церковь! Она глубоко ушла в землю. И в то время, когда в ее верхнем ярусе, над землею, служат мессу среди средневековых стен, украшенных богатою мозаикою, представляющей Христа с символами евангелистов, св. Климента, св. Лаврентия и св. город Вифлеем, — там, в глубине, под мрачными сводами скрывается иная, безмолвная церковь, где при свете свечи можно рассмотреть древнейшие фрески первых веков христианства, бледные и полустертые, но еще сохранившие выразительность рисунка, в котором явственно отразилась экстатическая и целомудренная душа художника. А еще ниже, еще глубже ушла в землю третья, ныне недоступная церковь — языческая: здесь был когда-то храм Митры и когда-то здесь совершался таинственный ритуал — дар загадочного Востока утомленному безверием Риму.
Когда мы вошли в церковь, службы не было. Мы осмотрели мозаику и спустились вниз в обществе нескольких случайных туристов. Впереди нас шел с фонарем монах и говорил по-французски с итальянским акцентом, указывая на фрески:
— Вот… На стенах надписи седьмого века…
— Вот… Христос, благословляющий по греческому обычаю…
Его монотонный голос странно и тоскливо звучал под сводами. Мы покорно следовали за монахом и рассматривали фрески, не столько восхищаясь их красотою, сколько благоговея перед их древностью. Но вдруг и я, и Вера остановились, пораженные и взволнованные одним чувством — тем волнующим, острым, беспокойно сладостным чувством, которое рождается в сердце, когда видишь шедевр, отразивший твою мечту, повторивший твой сон, который ранил когда-то твое сердце. Это была фреска в нише — Мадонна с Иисусом на руках. Часть фрески погибла. Едва-едва сохранились очертания фигуры Богоматери и облик Христа; но лицо Вечной Девы, заключенное в византийскую корону и окруженное золотым нимбом, было дивно и загадочно, прекрасно и нежно.
— Глаза! Какие глаза! — прошептала Вера, касаясь рукою моей руки.
Я обернулся и вздрогнул. Рядом с Верою стояла другая женщина. Глаза этой незнакомки были тождественны с глазами Мадонны.
То, что Вера обратила внимание на это поразительное сходство, исключало возможность истолковать мое впечатление как случайную иллюзию. И, однако, какое-то странное и неприятное подозрение мгновенно возникло у меня в душе. В чем я сомневался: в том ли, что это сходство в самом деле так очевидно для всех, или в том, следует ли обращать внимание на сходство, столь непонятное и странное? «Хорошо ли, — думал я, — придавать значение этому случайному совпадению? Мастер VI века, писавший Мадонну, верил в ее чудесную непорочность, а эта женщина, несмотря на поразительное внешнее сходство, по-видимому, вовсе не свободна от земных страстей». Как будто подчиняясь какому-то внушению, я обернулся и стал пристально разглядывать незнакомку. Да, это были те же черты, та же строгая линия бровей, тот же овал подбородка, те же пылающие загадочные глубокие глаза, обведенные темно-синими кругами, и тот же, наконец, рот… Но в то же мгновение я вдруг понял, чем отличается лицо незнакомки от лица Мадонны.
Незнакомка чуть-чуть улыбалась. И лишь эта едва заметная улыбка, лукавая и двусмысленная, нарушала тождество двух женских лиц, в жизни и на фреске, — двух лиц, так неожиданно возникших передо мною в этой подземной церкви, при мерцающем свете восковой свечи.
Все эти мысли мгновенно пронеслись в моей душе. Незнакомка заметила, какое впечатление она произвела на меня и на мою спутницу.
— Посмотрите наверх, господа, — забормотал на своем итальянско-французском языке монах, указывая на фреску над аркой, — вот Христос, окруженный ангелами и святыми…
Незнакомка вздрогнула почему-то и выронила из рук бедекер. А когда я поднял его, она, краснея, сказала по-русски:
— Благодарю вас.
При выходе из базилики мы познакомились. Эта женщина, чье сходство с Мадонною так изумило меня и Веру, оказалась русскою дамою, путешествующей по Италии в обществе своей старой родственницы, которая, по ее словам, осталась на этот раз в отеле, потому что чувствует себя не очень хорошо. Когда мы расстались, сообщив друг другу наши адреса, я поспешил поделиться с Верою моим впечатлением, и она сказала, что не менее, чем я, изумлена этим сходством нашей соотечественницы с образом Вечной Девы, пригрезившейся четырнадцать веков назад какому-то итальянскому мастеру.
— Но как странно улыбается эта русская, — сказала тихо Вера.
И я ничего не ответил ей тогда, но я почувствовал, что наша встреча неслучайна и что улыбка эта будет фатальной для меня.
III
На другой день на Piazza di Spagna мы встретили графиню Елену Оксинскую — так звали нашу новую знакомую. Вера предложила ей поехать с нами за город по Via Appia к катакомбам св. Каликста. Она тотчас же согласилась. Эта поездка сблизила нас. И вот начались наши странные свидания втроем — в галереях, театрах, музеях, базиликах и виллах… Неожиданная нежность Веры к графине, жизнь которой нам совсем была неизвестна, смущала меня, и я даже предостерегал ее от сближения с этой загадочной женщиной. Но и сам я испытывал на себе влияние ее чар, и были минуты, когда у меня являлось желание бежать из Рима, чтобы не видеть графини Елены, ее двусмысленной улыбки, ее таинственных глаз и тонких рук, нежных и бледных, как лилии.
Графиня Елена очаровала нас, однако, тою непринужденностью, которая свойственна настоящим аристократам, чьи предки в течение многих веков привыкли к личной свободе и к счастливому обладанию сокровищами мировой культуры. Но я до сих пор не могу понять, как она при ее высоком уме, тонком вкусе и прекрасном образовании могла примирить свой аристократизм с явной благосклонностью к одному ничтожному и лживому человеку, о котором я должен рассказать сейчас, чтобы выяснить мое отношение к событиям, связанным с именем графини Оксинской.
Сеньор Николо Джемисто был тот человек, дружба которого с графиней Оксинскою казалась мне странной. Нередко видел я графиню в обществе ее тетки, дряхлой старушки, едва ли способной мыслить здраво, и этого неприятного мне Джемисто, австрийского венгерца, присвоившего себе почему-то итальянскую фамилию.
Однажды графиня Елена пригласила меня и жену мою к себе в отель на чашку «русского» чая, и мы, не колеблясь, приняли это приглашение, о чем теперь я готов сожалеть, потому что вечер этот был для меня началом грустных событий, свидетельствующих о моей слабости и, пожалуй, о моем позоре.
В этот памятный для меня вечер графиня Елена была пленительна и нежна, остроумна и загадочна более, чем когда-либо. Ее изумительное сходство с образом Богоматери и в то же время эта непонятная тонкая ядовитая улыбка, такая неожиданная при этом сходстве, экстатический блеск ее глаз и строгая линия лба — все это внушало мне волнующие чувства, быть может, подобные влюбленности.
Когда графиня познакомила меня с сеньором Джемисто, я невольно вздрогнул, почувствовав в лице этого человека что-то лживое и болезненное вместе с тем.
Цвет лица его был странно белый, что делало его похожим на куклу. Как будто неживая маска, с приклеенными черными усами, надета была на лицо этого сеньора, а настоящие черты его были тщательно скрыты. Вот почему казалось лживым это мертвое лицо. Однако глаза Николо Джемисто быстро бегали в отверстиях этой белой личины, скрывавшей какую-то тайну.
И красные губы Джемисто, искривленные в неизменную улыбку, пугали меня, вызывая невольно воспоминание о рассказах про вампиров и упырей.
Благодаря находчивости графини и ее умению руководить обществом, завязался разговор, несмотря на то, что у меня возникла в душе определенная антипатия к сеньору Джемисто, хотя, разумеется, я старался ее скрыть и сохранить спокойствие. Мне было трудно это сделать, потому что тема нашей беседы могла бы вызвать ожесточенный спор, и я тщетно уклонялся от обсуждения по существу вопросов, затронутых графинею и Джемисто. Я вынужден был возражать иногда самоуверенному сеньору, утверждавшему весьма легкомысленно такие вещи, которые, на мой взгляд, свидетельствовали о его неумном суеверии или об его недобросовестности. Мы разговаривали о телепатии, телекинетии, телефонии и телесоматии, причем Джемисто судил обо всех этих формах анимизма с неприятной развязностью профессионального медиума.
И в самом деле, вскоре выяснилось, что сеньор Николо Джемисто считает себя медиумом, и графиня подтвердила, что глубоко верит в его необычайные медиумические свойства.
— Спиритизм, — сказал я, не будучи в силах скрыть моего раздражения, — вовсе не внушает мне доверия. Вот уже несколько десятилетий господа спириты тщетно стараются нас уверить в наличности простых фактов, и даже это им не удается. Почему? Я придаю значение древней и средневековой магии, готов считаться и с современным оккультизмом, но я не могу игнорировать в то же время доводов моего разума. А мой разум требует при исследовании новых явлений точного метода. Вместо этой желанной точности спириты предлагают случайные опыты, скомпрометированные, кроме того, многочисленными обманами шарлатанов.
— Вы еще сомневаетесь в самом существовании медиумических явлений? — спросил меня Джемисто, улыбаясь своею мертвою улыбкой. — Неужели вы не доверяете свидетельству таких ученых, как химик Мэпс, или физик Варлей, или физиолог Майо, или астроном лорд Линдсей?
— Отдельные имена ничего не доказывают. Ученых могли обмануть простые фокусники.
— Я назвал вам четыре случайных имени, — возразил Джемисто, пожимая плечами, — но я могу назвать вам мировых ученых, чья наблюдательность и опытность исследователей не позволяют нам предположить, что они явились жертвою шарлатанства. Я назову вам всемирно известного Крукса, Бутлерова, Уоллеса, Де-Моргана, Фламмариона, Цоллнера, Фехнера, Баррета… И я могу прибавить еще десятки не менее известных и почтенных имен…
— Ах, сеньор, имена ничего не значат в данном случае. Я, в свою очередь, назову вам Менделеева[40] и целый ряд иных ученых, которые уличали спиритов в легковерии и легкомыслии.
— Вопрос о медиумизме можно разрешить лишь собственным опытом, — заметила графиня, желая, по-видимому, прекратить наш запальчивый спор.
— Сеанс! Сеанс! — вдруг совершенно неожиданно забормотала тетушка графини Елены. — Давайте устроим сеанс… Сеньор Джемисто всегда так любезен… И я хочу беседовать с князем Василием…
Я с изумлением посмотрел на старуху. Кстати сказать, я всегда недоумевал, зачем графиня, путешествуя по Европе, возит с собою эту развалину. По-видимому, графиня (ее муж — моряк — был в дальнем плавании) считала неудобным путешествовать одна, без какой-нибудь родственницы — и вот эта старуха, выжившая из ума, сопровождала ее повсюду для соблюдения светского приличия. Вероятно, мои предположения не лишены были некоторого основания.
Тетушка, подняв маленькие сморщенные руки и кивая головою в пышном чепце, настаивала на том, чтобы все теперь же приняли участие в сеансе.
Я посмотрел вопросительно на мою жену. Она улыбалась снисходительно. Тогда я заявил, что готов принять участие в сеансе. На середину комнаты выдвинули круглый столик, вокруг которого все уселись и образовали медиумическую цепь. Сеньор Джемисто сидел между графинею и ее тетушкою. За ширмы заранее поместили стол с бумагою, карандашом и колокольчиком. На камин поставили одну горящую свечу. Электричество погасили.
Сеанс начался, и, конечно, последовательно возникали явления, о которых тысячу раз говорили и писали спириты, ничего не разъясняя, с какою-то упрямою наивностью. Конечно, столик выстукивал фразы, бессодержательные и пустые; конечно, дух князя Василия говорил с тетушкою о придворных сплетнях; конечно, звонил колокольчик за ширмами и на оставленном там листе неведомая сила написала фразу по-итальянски: «La Morte trionfa dell ’uomo»[41].
Мне скучно было присутствовать при однообразных опытах. Тогда столик простучал фразу «Éteignez la bougie!»[42]
По знаку графини я потушил свечку.
Минут десять мы сидели молча в темноте. Потом появился какой-то неясный свет, голубоватый и холодный, в виде небольшого пятна. Как я ни старался обнаружить его источник, мне это не удалось. Светящееся пятно росло и принимало постепенно иной вид. Уже можно было различить очертание человеческой фигуры, закутанной в белый плащ. Привидение склонилось над Джемисто, который был освещен светом, исходившим как будто от этой белой полупрозрачной фигуры. Я не сомневался тогда, что нас мистифицирует этот выходец из Австрии, успевший почему-то снискать доверие графини Елены.
Столик простучал: «Lumière»[43]. Я зажег свечу. Привидение исчезло. Сеньор Джемисто находился в трансе. Я, конечно, склонен был думать, что он притворяется. Графиня, однако, сама подала ему стакан с водою, когда он пошевелился и томно откинул голову на спинку кресла. Тетушка была в восторге:
— Князь Василий — как живой… Я как будто слышала его голос… Сеньор Джемисто! Сеньор Джемисто! И завтра надо устроить сеанс… Вы согласны? А?
И эта дряхлая старуха с неожиданным проворством схватила медиума за плечо своими костлявыми пальцами. Джемисто вздрогнул и поднял голову, озираясь.
— Признает ли теперь наш скептик подлинность медиумических явлений? — спросила меня графиня, улыбаясь, как всегда, ядовито и двусмысленно.
— Чудо внутри нас, — ответил я уклончиво и тоже усмехнулся.
IV
Мои предчувствия оправдались. Странный вихрь налетел на меня и поверг меня на землю. Я низко пал в те дни, покорствуя какой-то темной силе, обольстительной и ужасной. Я как будто забыл тогда, что моя Вера была единственной пристанью, где мог бы я укрыться от грозы и ветра. А я бежал от нее прочь и сам искал бури, не сознавая своего безумия.
Я влюбился в графиню Елену Оксинскую. Я не заметил, как опасные сети опутали меня, и было уже поздно, уже не было возврата, когда я дал себе отчет в моих поступках.
На другой день после сеанса моя жена почувствовала легкое недомогание. Она решила остаться дома и расположилась в углу дивана с книгою в руке. А мне привели верховую лошадь, и я отправился на Monte Pincio. Я ехал в рассеянности, мысли мои как-то распылились, и я почти не замечал того, что окружало меня. И вот внезапно я почувствовал, что мне угрожает опасность. Я прекрасно помню мое слепое желание предотвратить во что бы то ни стало эту неведомую опасность. Но моя смутная тревога тотчас же исчезла почему-то, когда я увидел, что навстречу мне едет коляска и в ней сидит графиня Елена с крошечною японскою собачкою на коленях.
Эту собачку звали Диу-Миу. Совсем лишенная шерсти, лишь с хохолком на макушке и маленькими пучками волос на лапках, она была забавна и внушала в то же время, вероятно, благодаря своей хрупкости, какую-то невольную жалость. Когда я подъехал к коляске и поздоровался, графиня ласково мне улыбнулась и тотчас же заговорила со мною все о том же — о моем напрасном скептицизме и о важности медиумических опытов.
— Одно из двух, — сказал я, — или медиумические явления натуральны, и тогда нет основания уклоняться при изучении их от методов строгой науки; или эти явления связаны так или иначе с демоническими силами, и тогда они перестают быть интересными, потому что поведение медиума и ответы «духов» свидетельствуют с достаточной убедительностью о том, что эти предполагаемые демоны относятся к категории существ ничтожных, мелочных и немудрых. Но есть еще и третья возможность, — прибавил я, усмехаясь. — Это прямой обман и шарлатанство со стороны медиума. Впрочем, я думаю, что возможно сочетание всех трех предположенных данных.
— Я тоже думаю, — проговорила задумчиво графиня, — что в медиумических явлениях надо различать и то, и другое, и третье…
— Значит, вы допускаете и шарлатанство? — спросил я, недоумевая.
— Да. Бессознательное. Демоны дурачат медиума, и он подчиняется иногда их требованиям.
— Но ведь медиумов обличали в заранее обдуманных фокусах.
— Медиума всегда сопровождают духи. Он почти в их власти.
— И медиум постепенно перестает быть человеком. Не правда ли? Он становится как бы автоматом. Не так ли?
— Пожалуй, что так.
— А! — воскликнул я не без некоторого раздражения. — Вот почему сеньор Николо Джемисто так похож на куклу.
Графиня Елена ничуть не обиделась на мое грубоватое замечание о ее близком знакомом.
— Джемисто похож на куклу, — повторила она задумчиво и стала ласкать собачку, которой, по-видимому, доставляли большое наслаждение прикосновения графини.
Мы разговаривали о медиумизме и как будто бы спорили, но в это время, помимо моей воли, между мною и графиней происходило какое-то иное, безмолвное общение, устанавливалась какая-то иная, невидимая, но реальная связь.
Я наслаждался звуками ее голоса, светом ее глаз, движениями ее руки, которая ласкала собачку…
В течение недели моя жена не выезжала никуда из отеля, и как-то само собою случилось, что я каждый день видел графиню и, хотя между нами не было произнесено ни одного слова, обличающего наши чувства, я почему-то скрыл от жены эти наши свидания.
Я не верю в то, что принцип этого мира может быть нарушен; я не верю в то, что сверхъестественное начало может изменять природный порядок; но я нисколько не сомневаюсь, что существа иных, не природных измерений — скажем, демоны — могут влиять на нас непосредственно, вмешиваться непрестанно в нашу психическую жизнь, не посягая, однако, на нормы земной жизни. Чудес быть не может, потому что чудо всегда едино. Если бы существовали чудесные явления — два, три, четыре, — мы всегда могли бы установить новый закон, что исключает, разумеется, самую идею чуда. Чудо неповторяемо. Однако, мы слишком поверхностно исследовали даже этот ограниченный мир трех измерений. Вот почему надо быть осторожным при обсуждении явлений и опытов, на первый взгляд странных и неожиданных, но в конце концов согласованных с верховным принципом мироздания.
Итак, я почувствовал в те дни, что какие-то демоны окружили меня и влияют на мою судьбу. Разлюбил ли я мою жену? Нет, я не сомневался тогда, что не могу без нее жить. Однако я был в плену, жестоком и сладостном, и я не мог освободиться от чар моей загадочной возлюбленной — графини Елены Оксинской.
О, как мучительна была эта двойственность моей внутренней жизни! И как не похожи были эти женщины друг на друга!
Если жена моя воплощала в себе очарование земли, ее душу, ее мудрую тишину, если ее жизнь была как мирный путь нашей планеты в пространстве, полет ее вместе с солнцем к какой-то иной великолепной звезде; если она была царственна и нежна и если все в ней было гармония и песня, то что можно было сказать про графиню Оксинскую? В этой странной женщине не было вовсе ни тишины, ни земной правды, ни совершенной гармонии… Она страдала аритмией сердца и, вероятно, аритмией души: в ее душе звучала музыка пленительная, но исполненная диссонансов, мучительных и волнующих; ее красота сочеталась с болезненной меланхолией; в ее улыбке таилось что-то порочное, а в ее глазах была предсмертная грусть…
И ее любовь была как благоуханное, но ядовитое зелье. Я жадно припал к пьяной чаше и выпил ее до дна.
V
Я не буду рассказывать о том, когда и как я первый раз сказал графине Елене о моей любви; я не буду рассказывать о наших свиданиях. Для меня открылась новая огромная страна, исполненная дивных очарований и волшебных видений. И в то же время я испытывал ужасные муки, сознавая свое падение и тщетно скрывая свою страсть от моей Веры, которая тотчас же угадала то, что случилось. Она не спрашивала меня ни о чем, и я ничего не говорил ей, но эти долгие вечера, которые проводил я вне дома, эта любовная лихорадка, которая овладела мною, — все, конечно, выдало мою ужасную измену. Я возвращался домой, не смея смотреть в глаза моей жене. Ее нерешительная просьба провести с нею вечер — тогда, когда у меня было назначено свидание с графиней; ее тихий вздох или глаза, наполненные слезами, — как это мучило меня! И как я стыдился моей страсти, чувствуя иногда, что в ней больше магии, чем любви.
Ах, эти римские лунные ночи, среди траурных остроконечных кипарисов и благоухающих роз, когда графиня Елена шептала мне таинственные слова о предвосхищении смерти! Ах, эти любовные признания, смешанные с певучими строками Данта! Я не забуду никогда, как смотрела на меня графиня Елена, как она прислушивалась к моему голосу, как повторяла иные мои слова… Я не забуду наших тайных свиданий в незаметных отелях, когда графиня входила в эти сомнительные убежища и одним жестом превращала все, нас окружавшее, в сказочный сон.
Слова и поступки графини Елены были всегда необычайны и всегда значительны, потому что она себя, и меня, и весь мир чувствовала предсмертно, как обреченная, как уверенная в том, что вот еще один миг — и сама Смерть позовет ее в свои чертоги. Она любила меня сомнамбулически.
— Ты приснился мне таким, — шептала мне иногда графиня Елена.
И я чувствовал, что она вкладывает в эти слова тайный смысл.
Но было еще нечто, смущавшее и волновавшее меня чрезвычайно. Я по-прежнему не понимал, в каких отношениях находится графиня к этому странному венгерцу. Иногда я с изумлением встречал его на пороге того отеля, где у нас было назначено свидание с графинею; иногда он неожиданно появлялся на улице во время нашей прогулки и театрально с нами раскланивался, не подходя, однако, как будто не желая помешать нашему уединению. Его лицо, похожее на маску, возникало передо мною время от времени, как страшный символ небытия.
Наконец, горе и отчаяние моей жены достигли того предела, когда стало очевидным, что надо решиться на что-нибудь и прекратить эту недостойную и лживую жизнь. И вот в одно из наших свиданий я сказал графине:
— Вы знаете, что значит для меня ваша близость и как я люблю ваши глаза, ваши руки, ваши губы… Вы знаете, как волнуют меня ваши предчувствия и как созвучна ваша душа моей душе. Но я никогда не скрывал от вас, графиня, что я люблю мою жену и не могу ее покинуть никогда. Моя жена умрет, если мы не расстанемся с вами.
Графиня вздрогнула и с ужасом посмотрела на меня.
— Но ведь ты мой! Ты мой! — прошептала она совсем тихо.
— Я люблю мою жену, — повторил я, опуская голову.
Тогда ее лицо изменилось. Оно вдруг стало холодным и жестоким.
— Так знай же, — сказала она внятно, пристально вглядываясь в мои глаза. — Так знай же, что никогда больше ты не соединишься с женою. Никогда.
И тотчас же лицо ее опять стало женственным и нежным.
— Я не то говорю, не то, — пробормотала она, опускаясь на колени и ловя мои руки. — Ты, конечно, свободен… Но я умоляю тебя об одном… Подари мне еще три дня… И вот как… Пусть твоя жена думает, что я уехала из Рима. Я покину наш отель. Тетушку можно отправить в Россию. Ее проводит сеньор Джемисто. А я поселюсь на три дня где-нибудь под Римом, в окрестностях… Ты будешь навещать меня. Это будут наши последние три дня. Хорошо? Ты согласен?
— Согласен, — сказал я не без некоторого колебания.
Но — увы! — в эти три дня случилось нечто неожиданное и ужасное.
Известие о том, что графиня Оксинская уехала из Рима, не успокоило моей жены. Она была по-прежнему молчалива и печальна.
Графиня Елена поселилась в одном частном итальянском семействе недалеко от виллы д’Эсте. Когда я в назначенный час явился к ней, она встретила меня, улыбаясь грустно и нежно. Я не заметил в ней обычного лукавства. Я был тронут ее покорностью и смущен необходимостью ее покинуть. На другой день, входя в дом графини, я был удивлен и поражен случаем, который я тогда склонен был истолковать как галлюцинацию. Мне показалось, что из-за угла дома вышел торопливо закутанный в плащ сеньор Николо Джемисто. А я ведь думал, что он вместе с тетушкою графини уехал в Россию…
— Если Джемисто не уехал из Рима, — рассуждал я, — значит, графиня меня обманула или он обманул графиню.
Это оставалось для меня загадкою. Когда я приехал на последнее свидание — это был третий день, — меня встретила на пороге дома рыжеволосая итальянка, хозяйка квартиры, и, волнуясь, сообщила мне, что русская графиня скоропостижно скончалась. Это известие поразило меня. Подозрения одно ужаснее другого пронеслись в моей голове. И, разумеется, мысль о самоубийстве графини и о том, что я являюсь виною этого несчастья, возникла у меня в душе прежде всего. Но тотчас же мертвая маска австрийца, как странный кошмар, явилась передо мною и заставила усомниться в моем первом предположении.
Я попросил позволения войти в комнату покойницы. Несмотря на то, что нервы мои были напряжены чрезвычайно, я давал себе ясный отчет в моих поступках и в моих душевных движениях. С хладнокровием, не всегда мне свойственным, я наблюдал за собою. По-видимому, в душе моей совершился тот сложный, еще не разгаданный процесс, который называется раздвоением личности. В то время, как я переживал едва ли не самые значительные минуты моей жизни, двойник мой наблюдал за мною и даже критиковал мои мысли и поступки.
Вот почему я так точно могу рассказать обо всем, что я тогда делал и чему был свидетель.
Когда я переступил порог комнаты, где лежала покойница, я вдруг почувствовал, не успев еще ничего рассмотреть, что моя возлюбленная не умерла, что произошла какая-то странная ошибка, что смерть ее мнимая смерть… И, однако, все противоречило этой неожиданной мысли. В комнате была та ничем не нарушаемая тишина, какая бывает лишь в присутствии мертвых. Недвижная графиня лежала на высокой кровати, прикрытая пышным голубым одеялом. Ее руки были выпростаны — бледные и безжизненные. Легкая тень от трех свечей в канделябре падала на лицо покойницы. Я осмотрелся кругом. Это была та самая комната, в которой я был накануне. На старинном клавесине в углу еще стоял огромный букет темных роз, который я привез графине. Их душный запах, смешанный с пряным запахом духов, наполнял всю комнату, и казалось, что этими тяжелыми благоуханиями пропитаны все предметы — и ковер, и подушка, на которой покоилась голова умершей, и кружево измятого пеньюара, брошенного в кресло у ног графини, и раскрытая книга на столе, и задернутые наглухо шторы…
Я запер за собою дверь, чтобы остаться наедине с моей возлюбленной, в кончину которой я все еще не верил почему-то. Я подошел к постели и взял безжизненную руку графини Елены с надеждою, что мне удастся почувствовать хотя бы слабый пульс. Но эта попытка оказалась тщетной. И дыхание, по-видимому, прекратилось навсегда. Лицо графини Елены было мертвенно-бледно, и губы, вчера такие горячие и живые, были теперь безнадежно сомкнуты. Я прижался к холодной груди моей возлюбленной, но напрасно старался я услышать биение сердца. И все-таки, несмотря на отсутствие каких бы то ни было признаков жизни, я тайно надеялся, что графиня Елена не умерла, а спит. Я опять вспомнил, что вчера передо мною возник, как могильный фантом, Николо Джемисто; и я невольно сопоставил его тайное возвращение в Рим с этою неожиданною смертью. Я был почти уверен, что виновником этой смерти или этого опасного летаргического сна был проклятый австриец, во власти которого, очевидно, находилась несчастная графиня…
Я сел в кресло и стал всматриваться в мертвое лицо графини Елены, все еще надеясь, что дрогнут эти губы и откроются глаза, сиявшие вчера так загадочно и так таинственно. Увы! Ничто не обличало жизни в этом все еще прекрасном теле, но обвеянном могильным холодом. Я не помню, сколько времени сидел я так и стучал ли кто-нибудь в запертую дверь. Странные мысли, не оправданные строгою логикою, беспокоили меня. Я не успел запомнить последовательное развитие этих мыслей, но одна идея врезалась мне в память. Я напряженно думал о значении нашей воли как жизненной силы. Современный человек, рассуждал я, не замечает волевой энергии, подобно тому, как прежде он не замечал энергии электрической и не умел пользоваться ею. Если графиня не умерла, если она спит в летаргическом сне, ее можно было бы вернуть к жизни усилием воли, пока этот опасный сон не овладел ею в такой степени, когда уже нет возврата к земному существованию. Если Джемисто (я верил в это) погрузил графиню Елену в сомнамбулический сон и внушил ей, что она должна умереть, неужели я не смогу внушить ей, что она должна жить?
Я вспомнил некоторые утверждения оккультистов, известные мне из их сочинений, и решил приступить к опыту, ответственному и страшному. Сначала мне было трудно сосредоточить мое внимание. Воспоминания о моей вчерашней беседе с графиней, подробности наших отношений, ее жесты, голос — все это я видел, слышал, чувствовал, и это мешало мне отказаться от недавних впечатлений и погасить в себе мысли и ощущения. Но после некоторого усилия я умертвил в себе все внешние переживания и моя душа как бы наполнилась лишь одним желанием разбудить спящую… И это желание постепенно становилось все более и более острым и сосредоточенным. Наконец, я почувствовал какую-то необыкновенную легкость и окрыленность. Мне казалось, что в моей душе все спит и только одна сила бодрствует — воля.
Я не спускал глаз со спящей мертвым сном. Все вокруг меня погрузилось в какой-то синий туман. Я видел только бледное, неподвижное лицо графини и не переставая твердил:
— Любовь моя! Ты жива. Я хочу, чтобы ты была жива. Ты будешь жива! Ты будешь жива! Ты будешь жива!
То, о чем я расскажу сейчас, быть может, покажется невероятным, — и признаюсь, я сам не понимаю до сих пор, какой тайне я тогда был причастен, но — клянусь — я говорю истинную правду и твердо верю, что это не приснилось мне, а было на самом деле.
Графиня медленно подняла ресницы, и мои глаза встретились с ее глазами, такими печальными и усталыми, что я замер от стыда и отчаяния и ужаснулся того, что посмел нарушить ее предсмертный, ее последний сон.
Вдруг мне почудился едва уловимый ее вздох и полувнятный шепот:
— Ты мой? Ты ведь мой?
Темный страх охватил мое сердце. Постыдная слабость мною овладела. Сознание мое затуманилось. И тотчас же, как только погасла моя воля, голова графини тихо склонилась, закрылись ее глаза, и вдруг стало очевидным, что она уж не проснется никогда.
Я упал на колени, я приник губами к ее мертвой руке, не зная, что делать.
— Проснись! Проснись! — шептал я сумасшедшие слова, но я уже не верил в то, что она проснется.
Шатаясь, я едва добрел до двери и позвал хозяйку. Но, к моему удивлению, передо мною стоял Джемисто.
— Ага! Вы не уехали! — сказал я, не подавая ему руки.
— Сеньор! — пробормотал он, не обращая внимание на мое восклицание. — Не возьмете ли вы себе на память собачку графини? Я, право, не знаю, что с нею делать…
У его ног в самом деле вертелась Диу-Миу — та самая японская собачка, которая повсюду следовала за своей хозяйкою.
— Я беру ее, — сказал я рассеянно, и она, как будто угадав мою мысль, бросилась за мною и прыгнула в мой экипаж, когда я вышел из дома.
Я во всем признался моей жене. Всю ночь я стоял на коленях перед нею и говорил бессвязно о наваждении, о любви и о смерти.
На рассвете я ушел в мою комнату, и за мною вбежала Диу-Миу, которая странными, все понимающими глазами посматривала иногда на меня. Мне не пришлось заснуть и утром. Едва сомкнулись мои глаза, как я услышал слабое повизгивание Диу-Миу. Я посмотрел на нее. Она была в ужасном смятении. Ее расширенные глаза были устремлены на портьеру. Хохолок дрожал на голове. Она явно чувствовала чье-то присутствие за порогом комнаты. Я молча наблюдал за нею. Вдруг поведение ее изменилось. Недоверчивое и пугливое повизгивание сменилось негромким радостным лаем. Она бросилась к кому-то невидимому, кто вошел в комнату. Она ласкалась к нему. Она терлась у чьих-то незримых ног. Ее кто-то ласкал привычною рукою.
Я не смел дышать от ужаса. И эти галлюцинации собачки продолжались не менее часа, пока солнце не залило комнату своим все побеждающим светом.
На другой день Диу-Миу пропала. Я тщетно искал ее и делал публикации в газетах, обещая нашедшему щедрое вознаграждение.
Мы уехали с женою в Россию.
Я люблю мою жену нежнее, чем прежде. Но мы живем теперь как брат и сестра. А когда в минуту страсти я стою на коленях и говорю моей жене «люблю», я слышу чей-то тихий голос: «Ты мой! Ты ведь мой?» И тогда я — неверный — не смею целовать ноги моей верной жены.
Георгий Чулков СТРАШНЫЙ ПЛЕН
Илл. И. Гранди
I
Мне тридцать два года. Многие завидуют моему здоровью и моей силе. Железный прут с диаметром в два сантиметра я завязываю, как галстук. Я прекрасный стрелок и дерусь на рапирах, не зная соперников. Культурные сокровища мира мне доступны. Я владею в совершенстве пятью европейскими языками. Путешествия были моей страстью в течение семи лет. Я побывал в Нью-Йорке и Чикаго, бродил по Южной Америке, охотился в Африке на львов, склонял мою голову перед священными изображениями Будды в таинственной Индии, наслаждался изысканною игрою японских актрис на их родине, слушал заклинания шаманов на северном побережье России… Надо ли говорить о том, что я изучил всю Италию? Я подолгу жил в Венеции, зачарованный пышною прелестью Веронеза, мрачною роскошью Тинторетто, тонким изяществом Карпаччио…[44] Я с увлечением занимался наукою в Берлине и отдал дань моего восторга дивному и сумасшедшему Парижу. Я разгадал также красоту католической Испании, «нищей и золотой», дикой и великолепной вместе с тем.
И я богат, кроме того. Получив большое наследство, я пригласил несколько юристов, техников и специалистов по финансам для приведения в порядок моих дел, и к тому времени, к которому относится мое повествование, уже выяснилось, что продав мои имения на Юге России, нефтяное дело на Кавказе, золотые прииски в Сибири и заводы в Западном крае даже на условиях для меня наименее выгодных, я все таки получу около ста сорока миллионов рублей. Кроме того, в Парижском и Лондонском банках у меня лежало сто семьдесят миллионов. Итак, у меня около двенадцати миллионов годового дохода.
Но счастлив ли я? Увы! На этот вопрос я должен ответить отрицательно… Да, несмотря на молодость, здоровье, богатство и свободу, я мучаюсь и думаю непрестанно о самоубийстве. И лишь мысль об ответственности и перевоплощении, о чем так убедительно и мудро говорит Плотин[45], заставляет меня медлить, и я не решаюсь на крайний и последний опыт.
Я страдаю, потому что та, которую любил я и которая меня любила, отказалась соединить свою судьбу с моею, по крайней мере, здесь, на земле. Так решила она, графиня Ксения Лясковская, под влиянием обстоятельств необычайных и почти невероятных.
До сих пор имя Ксения звучит в моем сердце, как музыка, и едва ли не каждую ночь я вижу во сне эту девушку, ее лицо, ее стройный стан, ее руки с тонкими и нежными пальцами. Я не знаю, красива ли графиня Лясковская. Быть может, ее синие глаза слишком велики, быть может, ее зрачки неестественно расширены. Рисунок ее профиля не совпадает с каноном античной красоты. Ее грустные и утомленные губы всегда внушали мечты о поцелуях, мучительных и дурманных.
И, однако, я не знал существа более пленительного, чем эта синеглазая и рыжеволосая графиня. Я назвал ее существом, потому что порою мне казалось, что в ней заключено какое-то сверхчеловеческое начало. В иные мгновения я даже верил, что в ее душе живет какой-то обольстительный демон.
Ее строгое целомудрие было вне подозрений, ее чистота вовсе не казалась мне наивною, и я был убежден, что графиня с острым любопытством исследует человеческие сердца и прекрасно понимает заключенные в них тайны злого порока и низкой страсти.
Да, я был влюблен в графиню Ксению.
Когда я в первый раз увидел ее в концерте, когда она при торжественных звуках оратории Баха вошла в залу легкою тенью, я был ослеплен влажным блеском ее глаз, и с тех пор ее образ возникает передо мною, и в нем, как в магическом стекле, я вижу весь мир — и зыбкий пепел облаков, и волшебное озеро с дремлющим лебедем среди камышей, и белокурого ребенка на берегу, и нежную зарю, и пугливые ночные призраки, убегающие во мрак…
Меня в тот же вечер представили графине Ксении. Я был восхищен ее умом, ее тонким вкусом, ее несомненной и совершенной музыкальностью. На другой день, когда я был у нее, в доме ее брата Адама, я убедился в том, что они, брат и сестра, принадлежат к одному из тех аристократических родов, которые из поколения в поколение создают переменно то людей с изысканным умом и талантливых необычайно, то людей слабых и злых, вырождающихся и предназначенных к гибели.
Если Ксения Лясковская поразила меня чарами своих дарований и своим характером; ее брат, напротив, изумил меня своим извращенным вкусом, отсутствием нравственного чувства и порочным выражением глаз.
Он был похож на аристократов Ван-Дейка, утомленных, пресыщенных и уже неуверенных в своем праве господствовать и угнетать. Он был, очевидно, ленив и ничего не прибавил к той внешней образованности, которая обязательна для родовитых людей в дни их юности.
Графиня Ксения не была похожа на брата. Ее обширные знания удивили меня. Она повела меня в свою библиотеку, и я увидел там множество прекрасных книг, о которых графиня рассуждала свободно и мудро, с уверенностью, так редко свойственною женщинам. Я обратил внимание на то, что в одном из шкапов стоят в драгоценных пергаментных переплетах рукописи розенкрейцеров, творения неоплатоников, «De arte cabalistica» Рейхлина[46], «Equiis Albus», «Doctrina vitae»[47] и другие сочинения Сведенборга…
Заметив, что я внимательно рассматриваю эти книги, графиня отперла шкап и вынула одну из больших тетрадей в массивном переплете.
— Эта рукопись заключает в себе особые таблицы с изображениями знаков и символов розенкрейцеровского братства, — сказала она, перелистывая желтые листы…
На одной из страниц желтой тетради я увидел символическое изображение Мировой Души в обличьи женщины. На полях были точно обозначены на латинском языке эмблематические наименования всех частей тела Вечной Женщины[48], становящегося абсолютным, как думают многие оккультисты.
— Мой отец изучал теософическую литературу всех времен, — сказала графиня, заметив, что я заинтересовался книгами ее покойного отца.
— Впрочем, — прибавила она, улыбаясь: — он изучал все эти рукописи и книги, как историк, не входя в обсуждение по существу самых интересных вопросов. Я иначе отношусь к этой теме.
Я стал жадно расспрашивать графиню об ее оккультных сведениях, и она призналась мне, что слова и мысли всегда стоят на втором плане в этой сфере познания и что внутренний опыт и послушание учителю самое необходимое и существенное — то, без чего нельзя подвинуться вперед но лестнице, ведущей нас к постижению великих тайн.
— Так будьте же вы моей водительницей на путях тайноведения, — воскликнул я в искреннем порыве.
— Я подумаю об этом, — сказала графиня серьезно и встала, как бы давая мне понять, что беседа наша окончена.
Прощаясь, она крепко сжала мою руку и задержала ее в своей горячей маленькой руке не без умысла, должно быть.
— Я подумаю о вас, — сказала она, пристально вглядываясь в мои глаза.
II
Я стал частым посетителем дома Лясковских. И когда весною граф и его сестра уехали в Италию, а я, в силу неожиданных обстоятельств, вынужден был провести три месяца в Лондоне, мною овладела глубокая тоска по графине Ксении. Единственным утешением для меня была мысль, что осенью я вновь ее увижу в майоратном имении Лясковских, куда меня пригласили они с чрезвычайным радушием. Я был польщен благосклонностью ко мне графини и, признаюсь, несколько удивлен тем, что ее брат любезно присоединился к выраженному сестрою желанию видеть меня осенью в их деревенском доме. Любезность графа Адама удивила меня потому, что я вовсе не скрывал моего к нему отношения, которое питалось недоверием к его нравственным качествам и прямым отрицанием едва ли не всех его суждений о мире и о людях, которые решительно не совпадали со мнениями его мудрой сестры.
Итак в августе месяце я поехал не без волнения в поместье Лясковских. Пустынные поля, спавшие тяжелым сном, дикая заросль и мертвые озера, мимо которых мне пришлось ехать от станции до усадьбы, внушили мне тихую грусть, а сама усадьба, когда она неожиданно возникла перед моими глазами, поразила меня своею суровою и строгою красотою. Я не нашел в ней обычных в деревне построек, где всегда чувствуешь сельский быт, уютный и приятный. Но зато замок Лясковских был по-иному прекрасен. Огромный и мрачный он, казалось, заключал в себе немало тайн, и его великолепие было и значительно, и страшно. Древние камни повлияли странно на мою взволнованную душу, и я вошел в этот дом, предчувствуя, что с ним будет связано в моей жизни нечто важное.
Меня встретил старый дворецкий и провел в комнату, заранее приготовленную. Он объяснил мне, что граф уехал на охоту дня на три, а графиня дома и просит меня к завтраку, который скоро будет готов. Я почувствовал радость при мысли, что я увижу графиню одну и брат не будет раздражать меня своим холодным цинизмом избалованного денди.
Признаюсь, когда я вошел в столовую и графиня поднялась и пошла мне на встречу, протягивая руку и приветливо улыбаясь, мое сердце стучало сильнее и торопливее, чем когда-либо. Она была прекрасна в тот час. День был прохладный, и на ней было белое суконное платье, прямое, с небольшим вырезом на груди, с короткими рукавами, украшенное серебряною вышивкою. На плечах у нее был соболий палантин. Золотые волосы ее были зачесаны в один большой узел, как у гречанок на строгих рисунках, украшавших древние вазы.
Как был необычаен голос графини! С каким наслаждением я слушал ее беседу! Графиня Ксения, поверяя мне свои глубокие и мудрые мысли о божественности мира, о гармонии вселенной, об очаровании страданий, о значении нашей бессознательной жизни и о смысле любви, оставалась в тоже время женственной и нежной, пленительной и скромной. Ее мудрость ничего общего не имела с образованностью современных женщин, отказавшихся от своего женственного начала во имя внешнего равноправия с мужчинами[49].
После завтрака графиня повела меня в парк, который поразил меня так же, как и замок, своим мрачным великолепием. Старые гиганты-дубы, огромные сосны с кроваво-алыми стволами, могучие липы, серебристые ивы, лобзавшие тихую воду озера, неожиданно среди лесного лабиринта открывавшиеся цветники с дурманно пахнущими цветами; гроты и водопады, скалы и вереницы статуй, белых из мрамора и темных из бронзы; причудливые беседки, подобные восточным языческим храмам, и, наконец, таинственные тропинки, ведущие прямо из парка в глубину дикого и глухого леса: все это было похоже на рыцарскую сказку средневековья. Наконец, мы подошли к чудесному стеклянному дворцу, где помещалась оранжерея. Здесь увидел я всю мощную флору тропических стран. От теплой влаги воздуха, от пряных запахов и от вида соблазнительно нежных и порочно томных орхидей у меня закружилась голова. Но графиня Ксения чувствовала себя прекрасно среди этих пальм, оплетенных чудовищными паразитами, среди ядовито пахнущих цветов и трав и всех этих водяных странных растений, раскинувших в бассейнах свои огромные и тяжелые листья, иногда круглые, как щиты. Она мне показывала то загадочную многолетнюю агаву, цветущую лишь однажды и всегда перед смертью, то таинственный цветок Victoriae Regiae[50], то напряженный арбутус[51] с его обнаженным розоватым стволом, с какими-то жилами на нем, как будто наполненными тяжелою венозною кровью. В бассейнах и аквариумах плавали рыбы разнообразных окрасок и самых неожиданных форм — совсем плоские, со сквозными боками; крошечные и, однако, снабженные длинными перистыми плавниками; змеевидные, сверкающие дивною чешуею — почти все с глазами внимательными и грустными, какие и должны быть, разумеется, у живых существ, обреченных на вечное молчание.
Графиня Ксения рассказывала мне о жизни этих существ и об условиях развития растений, удивляя меня основательным знанием зоологии и ботаники, причем естественнонаучные факты она освещала своеобразно и неожиданно, как будто бы она обладала еще каким-то знанием, которое уже не подчинялось методам физического анализа. Она нарисовала, кроме того, грандиозную палеонтологическую картину, и мне казалось, что я заглянул вместе с нею в самое сердце космоса.
— Мир природный, — сказала она, — зачарованная гробница. Внешняя наука описывает подробно и точно ее размеры, положение, взаимное отношение частей, барельефы и читает начерченные на краях иероглифы. Но этого мало. В гробнице спит Бог. Надо разбудить его. Вот меон[52], то есть то, чего нет, ибо спящий Бог — не Бог. Наша душа, оплодотворяясь, рождает божественное. Так восстает божество от сна. Бог рождается от брака души с природою.
Я не без смущения спросил ее, откуда и как черпает она свои знания.
— У меня есть учитель, — сказала она тихо, — и, если хотите, я подготовлю вас к встрече с ним.
— Я прошу вас об этом, — воскликнул я, готовый на все.
В тот день мы уже не говорили с нею на эту тему. Перед обедом она пригласила меня совершить прогулку верхом, и мы два часа катались по полям. В черной амазонке графиня была не менее пленительна, чем в утреннем белом туалете. Я не мог скрыть моего восхищения, и, по-видимому, она не осуждала меня за это.
Мне казалось, что в мире только двое — она и я: так тихо было в полях и так безлюдно.
III
Три дня мы привели в уединении. Никто не мешал нашим беседам. Я чувствовал, как с каждым часом все более и более подчиняюсь влиянию прекрасной Ксении. Ее взгляд на мир, ее представление о божестве и человеке казались мне убедительными. И я сознавал, что моя воля как бы растворяется в ее воле. Я не страшился этого сладостного плена. Напротив, все мое существо исполнено было восхищения и восторга, и если эти чувства по временам омрачались, то лишь от сознания, что Ксения сама не пожелает овладеть мною совершенно и до конца. Я страшился того часа, когда она откажется руководить мною и поручит меня кому-то иному.
Но вот на четвертый день приехал граф Адам Лясковский. Он любезно меня приветствовал, но в его словах и его жестах я заметил нечто новое, чего мне вовсе не приходилось наблюдать в нем до того времени. Я не мог определит, что это такое, но эта едва уловимая перемена возбудила во мне смутное предчувствие чего-то ужасного.
Однажды мы сидели с ним вдвоем на берегу озера. Я пристально вглядывался в его лицо и тщетно искал в нем сходства с сестрою. Лишь одни губы напоминали мне о кровных узах, которыми были связаны эти столь различные существа. Продолговатое, неприятно-бледное лицо графа Адама, его холодные серые глаза и какая-то ленивая надменность в самом выражении этих злых глаз всегда возбуждали во мне чувство, близкое к отвращению. Но теперь к этому тяжелому чувству присоединился еще безотчетный страх. Меня пугали неравномерно-расширенные зрачки графа, а также одна особенность его речи, которой я прежде не замечал. Граф путал иногда слоги. Так, вместо того, чтобы сказать «какая жара», он произнес «кажая кара», и при этом не заметил своей ошибки. И эти два непонятные слова «кажая кара» прозвучали для меня как что-то загадочное и страшное.
Впрочем, подобные «ошибки речи» случались нечасто в его разговорах, и он довольно внятно излагал свои мысли, несколько странные и неожиданные, однако, на мой взгляд.
Так, например, когда я выразил мое восхищение его родовым замком и чудесным парком, он пожал плечами и признался, что не понимает моего восторга.
— И замок, и парк прежде были очень хороши, — сказал он, — но теперь я не нахожу в них ничего хорошего… Напротив, они напоминают мне о минувших днях, когда наши деды в самом деле могли наслаждаться здесь… Мы лишены этого счастия… И меня раздражают и эти деревья, и эти камни…
Он произнес «и эти коревья», «и эти дамни».
— О каких наслаждениях вы говорите? — спросил я.
— О каких? О наслаждениях властью, — ответил он, усмехаясь. — Я только это и признаю. Мне нужны рабы. Ударить бичом — какое счастье.
Я не мог не воскликнуть в ответ на это циничное признание:
— Но ведь это безнравственно, граф, и бессердечно.
Он громко засмеялся, и лицо его как будто потемнело от этого зловещего смеха.
— Безнравственно? Я не знаю, почему я должен быть нравственным. Если когда-нибудь восторжествует принцип равенства, никто не будет наслаждаться. В былые времена, по крайней мере, наслаждались некоторые. Было бы глупо не стремиться к положению одного из этих счастливых. Быть рабом или быть членом общества, где все равны — как это скучно.
— Нравственная чистота, — сказал я, бессознательно повторяя мысли графини Ксении, — нравственная чистота подготовляет нас к познанию мудрости. Мы должны сосредоточиться и настойчиво искать внутри себя божественное начало. Вне этого внутреннего опыта нет достойной жизни. А его достичь мы можем, лишь освобождаясь от порочных и злых желаний.
— Так рассуждает моя сестра, — усмехнулся он презрительно. — Этих женских выдумок я не признаю. Меня даже раздражают подобные мнения.
И вдруг, совершенно неожиданно, он прибавил:
— А вам нравится моя сестра? А? В ней что-то есть, черт возьми…
И он опять засмеялся.
В это время я заметил, что графиня Ксения идет к озеру и обратил на это внимание графа.
— А! Сестра! — сказал он, по-прежнему усмехаясь: — Если бы не эти ее сумасбродные идеи…
Он не договорил фразы.
Когда графиня подошла к нам, он вдруг обернулся к ней и небрежно пробормотал:
— Ты знаешь, я отпустил всех садовников… Рассчитал их. Затеи с цветами теперь не нужны, по-моему. Если бы у нас были крепостные, тогда иное дело… А эти наемники меня раздражают… И вообще, у нас слишком много слуг. Ты не думаешь? А?
Графиня с изумлением и тревогою смотрела на брата. Я был удивлен не менее ее странным распоряжением графа Адама. И в ту же минуту у меня явилось подозрение, которое, к сожалению, подтвердилось в конце концов.
IV
Наши отношения с графиней были подобны отношениям, которые возникают во время гипноза между врачом и пациентом. И я, как больной, доверчиво подчинялся прекрасной Ксении. Но было нечто, разделявшее нас, и это мучило меня чрезвычайно. Графиня Ксения упорно внушала мне мысль, что я должен смотреть на нее, как на сестру. А я не мог оградить себя от иных желаний. В ней видел я не только сестру.
Однажды, когда мы вдвоем с Ксенией бродили по парку и очутились в глухом углу, где был полумрак от густых ветвей, где было влажно и дурманно и где тропинка заросла огромными папоротниками, у меня вдруг явилось непреодолимое желание сказать ей о моей любви. И я сказал.
— Я люблю вас, — сказал я, целуя ее руки. — Я люблю нас, и я не скрою от вас, что вы для меня не только мудрая и нежная сестра. Я слышу шаги ваши — и у меня блаженно кружится голова. Ваш и золотые волосы и ваши непонятные глаза напоминают мне какую-то древнюю сказку. С тех пор, как я полюбил вас, я живу, как во сне. И весь мир — это лишь как лестница к небу, по которой вы идете так царственно и так уверенно. Я знаю, что мудрая любовь уже бесстрастна, но я не достиг желанной вам высоты. Я еще пленен землею. Что делать! Что делать! Я изнемогаю от страсти. При мысли, что я мог бы коснуться губами ваших колен, если бы вы не оттолкнули меня, я схожу с ума. Вы говорили мне, Ксения, что надо преодолеть в себе желание всего среднего и раз навсегда избрать путь зла или добра, что лишь предельные устремления ведут нас к утверждению личности. И вот я чувствую, что не в силах бороться с моими желаниями… Значит, я должен умереть. Не правда ли?
— Нет! Нет! — прошептала она, не отнимая своей руки.
— Не надо смерти… Не надо!.. Вы очень мучаете меня. Ваше признание меня волнует. Но умоляю вас: не торопите меня. Я сама чувствую, что меня покинули некоторые мои покровители. Дайте мне сосредоточиться и найти самое себя.
Она отстранила меня и торопливо пошла прочь.
В течение следующих пяти дней мне не удалось остаться наедине с Ксенией, и ничто не изменилось в наших отношениях, но произошла значительная перемена во внешних обстоятельствах нашей жизни. Несмотря на мою влюбленность в графиню, я не переставал внимательно следить за поведением графа Адама, который внушал мне тайный страх. Я убедился, наконец, в том, что граф ненормален. Правда, еще не было объективных доказательств в пользу моего предположения, если не считать замеченной мною афазии (неясность речи) и неравномерно расширенных зрачков, но первые признаки маниакального возбуждения были уже налицо, как мне казалось. Кроме того, меня поражали еще его некоторые странности. Так, например, он постепенно, без видимой причины, удалял слуг из замка. Рассчитав садовников, он под каким-то предлогом отпустил на родину кучера, потом двух конюхов, так что в огромной конюшне остался лишь один неопытный юноша, который, конечно, не мог справиться с лошадьми, породистыми и сильными. Граф рассчитал также двух лакеев, и кушанья подавала на стол камеристка графини. Я понял, что в сумасшедшей голове графа созрел какой-то адский замысел. Вырождающийся аристократ, очевидно, желал удалить из замка лишних свидетелей и мечтал безнаказанно совершить какое-то преступление. Кроме того, было очевидно, что он ревновал меня к своей сестре.
На шестой день после моего объяснения с графинею, я встретил ее в библиотеке. Она писала в это время сочинение о Филоне Александрийском и об авторе четвертого Евангелия. Мы беседовали с нею около часа на теософские темы и, между прочим, заговорили об учении Филона о сновидениях, изложенном им в его трактате «De somniis»[53].
— Знаете, почему я заговорила о видениях? — сказала графиня. — Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я видела тигра, который вошел будто бы в мою спальню. У зверя были глаза моего брата… Я закричала и проснулась…
Я постарался перевести разговор на другую тему. Но беседа наша не клеилась. Тщетно старался я вникнуть в греческие тексты, на которые ссылалась графиня. Я чувствовал ее близость, ее глаза, ее руки… И когда мы склонялись над книгою, я ощущал ее дыхание и тонкий запах ее духов. Мне казалось, что она тоже волнуется и чего-то ждет. И вот, когда она, перевертывая листы книги, нечаянно коснулась своею рукою моей руки, я вдруг, худо сознавая то, что я делаю, обнял ее и прижался моими опьяненными губами к ее губам. Она не оттолкнула меня. Ее губы были, как огонь. Я забыл обо всем, и для меня весь мир в тот миг был в ней одной.
И вот, когда я, еще пьяный от долгого и блаженного поцелуя, поднял глаза, передо мною возникло лицо графа Адама. Он незаметно вошел в библиотеку и стоял в двух шагах от нас. Он смеялся. Я никогда не забуду этого смеха. Сколько порочного, злого, жестокого и бесстыдного было в этом лице, в этих искаженных губах!
Графиня в ужасе закрыла лицо руками. Если бы граф внезапно не перестал смеяться, я, быть может, убил бы его в ту минуту.
— Я пришел за вами, — сказал он совершенно спокойно, как будто бы он ничего не видел. — Я давно хотел вам показать залы в верхнем этаже замка… Полно вам заниматься книгами. Я покажу вам удивительное оружие и великолепные кубки. Наши предки умели сражаться и умели пить, черт возьми…
— Оружие? Покажите, пожалуй, — проговорил я тихо, предполагая, что он желает переговорить об условиях дуэли.
Но когда мы вышли из библиотеки и поднялись по винтовой лестнице в верхний этаж, граф Адам стал рассказывать мне с видом знатока о драгоценных коллекциях, собранных его дедом и прадедом. Казалось, что он не придает никакого значения тому, что его сестра была в моих объятиях.
Мы вошли в огромную залу. В самом деле дивные мечи, щиты, ятаганы, сабли, шпаги, пики, копья, стрелы и разнообразные доспехи украшали высокие стены этой великолепной залы. Я не знаток старинного оружия, но смертоносная сталь, обделанная слоновою костью и золотом, вероятно, могла бы заинтересовать меня в иные часы. Но тогда я равнодушно смотрел на тонкую резьбу искусных мастеров и на блеск драгоценных камней. Еще на губах моих горели поцелуи графини, и я был в той сладостной лихорадке, которая изменяет все существо наше, влияя чудесным образом на ум и на сердце.
Вдруг лицо графа опять исказилось и он засмеялся. Я вздрогнул и нахмурился.
— Сейчас он предложит поединок, — подумал я. — Тем лучше… Надо выяснить наши отношения, наконец…
Но и на этот раз я ошибся.
— Почему вы смеетесь, граф? — спросил я холодно, но вежливо.
— Почему смеюсь? Я вспомнил, что у меня есть еще кое-что любопытное… Одна старинная забава… Пойдемте сюда. Я покажу вам.
— Может быть, в другой раз? — сказал я, чувствуя, что общество графа утомляет меня.
— Нет, нет… Непременно сейчас… Это здесь, в башне…
Он торопливо отпер большим ключом дверь и жестом пригласил меня идти за ним. Мы поднялись по узкой и очень крутой лестнице на одну из башен и очутились в квадратной комнате, освещенной одним окном. В этой комнате стояло одно только кресло. И вообще она ничем не была бы примечательна, если бы не решетки из крепкого железа, которыми были отделены две просторные ниши, примыкавшие к этой башенной комнате с двух сторон. Ниши помещались одна против другой, и было непонятно, зачем они заперты этими массивными решетками. Каждая решетка была прикреплена к стене толстыми петлями и замыкалась огромным засовом, по-видимому, тяжести немалой.
— Вот, войдите сюда, — сказал граф, отпирая решетку и указывая мне на углубление в стене.
— Зачем? — спросил я, недоумевая.
— Я хочу вам показать старинную забаву, — засмеялся граф.
Смутное подозрение опять возникло у меня в душе, но я не хотел обнаружить мое смущение и мою робость.
— Что же дальше, граф? — сказал я и вошел в нишу.
— Там есть потаенная дверь. Постучите в стену.
Я доверчиво повернулся к стене, чтобы исполнить то, о чем меня попросил этот возненавидевший меня сумасшедший. Эта неосторожность стала для меня фатальной. С тяжелым грохотом негодяй захлопнул решетку и мгновенно задвинул засов. Я был в плену.
— Вы называете это старинной забавой? — спросил я, чувствуя, что сумасшедший вовсе не шутит.
Он засмеялся страшно и отвратительно, как всегда.
— Я вас навещу и очень скоро, — сказал он, смеясь, и вышел из комнаты.
Я услышал, как он застучал каблуками по лестнице.
Мысли — одна ужаснее другой — пронеслись у меня в голове.
— Графиня Ксения во власти этого хитрого безумца! — думал я. — Я ничем не могу ей помочь. Мне самому грозит гибель. Надо быть ко всему готовым. Так вот почему так упорно этот человек старался удалить всех слуг и служанок. В доме остались старик-повар и камеристка графини — больше никого. И почем знать — быть может, и их уже нет в замке.
Вероятно, прошло не более десяти мучительных минут. Я услышал где-то далеко придушенный вопль. Прошло еще минут пять-семь, и на лестнице застучали каблуки графа. Он шел медленно, как будто спотыкаясь. Я затрудняюсь передать мое отчаяние, когда распахнулась дверь и я увидел сумасшедшего графа, который тащил, смеясь и задыхаясь, свою сестру, связанную и, по-видимому, потерявшую сознание. Он бросил ее в кресло. Глаза ее были закрыты. Она не шевелилась. Тогда граф развязал полотенце, которым она была связана. Но графиня все еще не приходила в себя.
Как изменились теперь манеры и жесты этого подлинного когда-то аристократа! Что-то обезьянье было в его ухватках. Он, кривляясь, распахнул вторую решетку и втащил в нишу графиню Ксению. Негодяй не забыл заложить засов. Потом он развалился в кресле, торжествуя и наслаждаясь.
— А! Графиня! Вы пришли в себя? Поздравляю, — крикнул он, когда графиня очнулась и с ужасом увидела меня за решеткою в таком же плену, как она.
— Автор нашей семейной хроники, — продолжал граф, — рассказывает подробно, как за этими решетками сидели неверная жена Станислава Лясковского и ее дерзкий любовник. Теперь пришла моя очередь позабавиться. Вам придется, господа, посидеть здесь довольно долго. В замке я один теперь.
И он дико захохотал.
V
В течение семи дней мы — графиня и я — были пленниками этого зверя. Физические муки голода, которые мы тогда испытали, были ничтожны по сравнению с муками нравственными. Долгие часы граф проводил в кресле, восхищаясь нашим бессилием и стараясь нас всячески унизить. Он смеялся над религиозным чувством своей сестры и над моею любовью. И его слова были столь же бесстыдны, как и его мысли. Мы были невольными свидетелями его кощунственного бреда. И он прерывал свои богохульства лишь для того, чтобы издеваться над нами, предлагая нам совершить чудо и выйти из темницы подобно апостолу.
Он приносил наверх рукописи розенкрейцеров и, указывая на некоторые символические знаки, произносил неповторяемые мерзкие слова, которые были не менее ужасны, чем изречения самых гнусных сатанистов.
На третий лень мы уже впали в странное оцепенение и ждали своей участи, не пытаясь пробудить разум графа. Когда он покидал нас для того, чтобы пировать в одиночестве, я падал на колени и умолял графиню простить меня, чувствуя, что моя неосторожность была причиною нашего страшного плена. Она старалась успокоить меня. Но ее молчаливость и глубокая задумчивость пугали меня чрезвычайно.
У меня все таки была надежда на освобождение, потому что отсутствие слуг не могло не привлечь внимания соседних крестьян. Рано или поздно нас должны были освободить. Но когда — вот вопрос. И не успеет ли граф совершить новое злодейство? — так думал я, страшась не за себя, а за графиню.
Нас освободили, однако, ровно через семь дней. Слухи о том, что граф сошел с ума, распространились повсюду, как я и предполагал. Пришли люди в замок, и жизнь наша была спасена.
Но — увы, — мне не нужна теперь моя жизнь. Этот плен и это вмешательство зверя в нашу любовь странным образом повлияли на душу графини Ксении. Она решительно отвергла мою мольбу о браке и, поручив мою судьбу одному из братьев[54], удалилась. Куда? О, если бы я знал это! Я даже не знаю, жива ли она теперь, а когда я спрашиваю о ней моего руководителя, он отвечает мне загадочно, что она не умерла, но предвосхитила смерть.
Приложение Алексей Толстой ФАВН
Неожиданно, среди бабьего лета, из гавани двинулся туман молочною стеною на Петербург. Морские птицы появились на улицах. Над Исакием пролетело стадо лебедей, протяжно крича. Туман, сухой и желтый, перевалил через крыши, пополз вдоль улиц и закрыл город.
В полдень зажгли электрические фонари, и они засветились, как фосфорические яйца. С перекрестков не было видно домов, прохожие блуждали, как в пустыне, окруженные облаками. Из пустоты звякали подковы, осторожно проползали невидимые трамваи, все время звеня.
Странное время для мечтателей: как будто город опустился на дно и между людей замешались иные существа.
По восемнадцатой линии быстро шла девушка. Ее звали Маруся Молина. На ней была бархатная ловкая одежда, шляпа с красным бантом, надвинутая на один глаз, мохнатой муфтой она помахивала вдоль бедра и думала о приятных вещах. Приятно было то, что завтра на Невском в фотографической витрине появится ее портрет, и то, что вчера два гвардейца громко сказали ей вслед комплимент, обозвав чертенком, и многое другое еще не испытанное, наверное, вплоть до газетной заметки о ее красоте. О клубах тумана, разрываемого ее плечами, о желтоватом, призрачном свете не думала она совсем. Добежав до угла, она остановилась, — ничего не было видно, одни облака, ползущие по камням. Подняв юбку, она уже опустила маленькую ногу с панели, но тотчас приняла, — перед ней в тумане смутно обозначился человек, нагнувший голову.
Так они встретились. Маруся нахмурилась на случай, прикрыла муфтой подбородок и быстро прошла. Немного спустя она услышала фырканье за спиной, догоняющие шаги и подумала: «Готово, пристал!» На широком месте тротуара преследующий проскочил вперед, круто повернулся и, весь еще живой от ходьбы, стал, подняв брови, раскрыв синие веселые глаза, раздвинув большой рот. Голова у него была удивительная — крепкая, с выпуклым лбом (цилиндр торчал на макушке), щеки розовые, борода веником, кудрявая и русая, и весь он был коренастый, короткий, ловкий под клетчатым пальто.
Маша струсила немного и нахмурилась. На лице незнакомца, как в зеркале, отразились ее чувства, но в перевернутом виде: чем сильнее сдвигала она подведенные бровки, тем шире он ухмылялся. Словно солнце разорвало облако и тонким лучом оттуда скользнуло по его лицу улыбками и усмешками. Маша двинулась направо, он направо, она — налево, он растопырил руки и прыгнул влево, тогда она вскрикнула, повернулась и побежала назад. Вдоль панели ехал извозчик. Маша вскочила на него, погнала, ударяя муфтой и в страхе оборачиваясь. Сверху, с боков, отовсюду летел туман. Никто не гнался… Маша засмеялась и сказала извозчику адрес. Она уже больше чем на час опаздывала на свидание… И, думая о том, кто в волнении дожидался ее так долго, брезгливо вытянула нижнюю губку и пожала плечами: эта последняя ее связь была совсем не шикарна.
Вдруг на щеке почувствовала Маша горячее дыхание, в испуге отстранилась — сзади, уцепясь за кузов, висел рыжий незнакомец, весело оскалясь, щеки его горели, как яблоки. Маша хотела закричать, а он зарылся губами в ее раскрытом рту, потом оторвался от кузова и пропал в тумане.
Маша не была коварна. Она все-таки зашла к тому, с кем связь ее не была шикарной. Он кинулся на нее еще в прихожей. Он был очень высок, в люстриновом, с форменными пуговицами, пиджаке, унылый и с большими усами. Схватив ее руки в холодные ладони, он стал жаловаться, как будто ожидание возлюбленной девушки, хотя и долгое, одно уже не было счастьем. Маша не сняла шляпы; войдя в коричневую столовую, она наклонилась над столом, где были сласти, фрукты и вино. Разбираясь в шоколадной коробке обтянутым лайкой пальцем, она объяснила, что не может остаться сегодня, очень испуганная нападением на улице. Она положила в рот виноградину и весело поглядела на чиновника: руки его были сложены у подбородка, ноги подгибались, и он стал умолять ее глухим, как из бочки, басом, причем кадык его двигался в разрезе воротника.
Потом он растворил дверь, указывая на мало соблазнительную спальную, и под конец стал на коленки, стукнув ими о паркет. Тогда Маша принялась смеяться, все громче и обиднее. Ей представилось — в какое бы пришел отчаяние чиновник, если бы веселый, здоровенный незнакомец при нем ее поцеловал. И она объяснила, что смеется над сегодняшней встречей. Чиновник же с негодованием рассказал, что этот рыжий незнакомец третий день смущает весь Петербург. Его встречали в центре и на окраинах, многие дамы жаловались в полицию, — говорят, что отдан приказ поймать его непременно, но он переезжает с квартиры на квартиру и неуловим. Совсем бы чиновнику не нужно было это рассказывать. Маша до слез теперь жалела, что упустила редкий и заманчивый случай познакомиться с таким опасным человеком. Она рассердилась, выбросила из муфты коробку конфет, сказала несколько неприятностей и ушла.
Взобравшись к себе на седьмой этаж, Маша сняла жакет и юбку, накинула фланелевый капот, зажгла в углу высокую лампу и, освещенная через красный абажур, легла на диванчик, облокотясь на голую руку. «Или человек замечательный, или никто», — подумала она, заканчивая этим досадливые мысли, вздохнула и раскрыла книгу декадентских стихов.
В это время в прихожей затрещал звонок, кто-то засмеялся отрывисто и хлопнул дверью. Потом в комнату вошла Машина мать, тяжело уселась и сказала, усмехаясь: «Новый жилец вернулся, — ну и скипидар, старуху не пропустит». Мамаша Молина сдавала комнаты жильцам, выбирала преимущественно холостых и одиноких, сама «билась из последнего», но дочь «наряжала, как куклу»; дочка же, ничего этого не ценя, «гнула свою линию», непонятную, путаную, «злодейскую». «Злодейка», — думала она, глядя, как дочь, выставив из-под раздвинутого капота голую коленку, читает стихи. И потом спросила, куда она таскалась, у какого хахаля обивала юбки? Маша ответила на это, спокойно перевернув страницу, что не знает, откуда мать выкапывает такие мещанские выражения, что подобными выражениями она только портит ее карьеру и что другая бы дочь давно лежала на дне реки; она же вместо этого пойдет сейчас, вызовет к телефону какого-нибудь знаменитого поэта — вот этого, кого сейчас читает — и попросит сегодня же вечером увезти ее в Финляндию, в лес. Мамаша принялась обидно смеяться. А из соседней комнаты в замочную скважину глядел на Машу синий любопытный глаз. То новый жилец, переехавший нынче, пододвинул кресло и слушал весь разговор. Не стерпев ядовитого смеха, Маша вскочила проворно, выбежала в прихожую, отыскала по книжке номер знаменитого поэта и позвонила в телефон.
Произошел такой разговор: «Алло, — сказала Маша, — пожалуйста, к телефону Юрия Бледного (так звали поэта). — Это вы? Зачем вам мое имя? Я читаю вашу книгу; какой вы грустный! Ваши слова падают, как увядающие лепестки. Что? Красиво? Мерси. Нет, я сама это представила. Что? Моя наружность? Зачем? Да, я красивая. Тонкая. Глаза? Глаза большие, полузакрытые. Нос? Тоже красивый, с раздувающимися ноздрями. Что? Я лежу… на шелковой софе в подушках. Толстые ковры глушат шаги. Везде бархатные портьеры. У ног стоят белые туберозы, они опьяняюще пахнут. На губах таинственная улыбка… Да, да, я одна… Зачем? Нет… Я совсем раздета, в комнате полумрак, на мне ничего нет, только на груди жемчуг… Да, грудь нежная, маленькая. Только рыжие косы раскинулись… Приезжайте, я жду вас… Хотите, поедем в Финляндию…»
Но мамаша не могла далее слушать; распахнув дверь, она крикнула на всю прихожую: «Шельма», — и дочь, едва успев шепнуть адрес, положила трубку, подобрала капот и, проскользнув мимо матери, заперлась у себя.
Походив в волнении по комнате, Маша легла с ногами на диван, запахнулась поглубже и начала трусить. Мать колотила сначала в дверь, потом ушла на кухню, и оттуда слышно было, как она всхлипывала, жалуясь кухарке. «Конечно, не придет, и бояться нечего. А вдруг придет», — думала Маша. И, прислушиваясь, различила за боковой дверью негромкое пение. От него забилось у Маши сердце:
Темен, темен лес густой, В нем бегут потоки, Хочешь спи, а хочешь пой Песенки далеки. Ляг в траву, гляди в родник. Иль в певучий дуй тростник, Пой — приди, тоскую. Нимфа белою рукой Расплескает над тобой Воду ключевую…Чем дальше слушала Маша, тем непокорнее вздрагивало сердце и сжималось так, словно сочилось медом. Замолк за стеною голос, мамаша ушла спать, а она все еще представляла, как летают пчелы, шумят деревья над ключом, под ногой мнется мокрая трава. Подобного ничего не видала она в жизни, но тем чудеснее нравилось ей это представлять. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел человек. Он был в цилиндре, с русой бородой, суровый, застегнутый наглухо, тень падала ему на все лицо. «Вы меня звали, — сказал он, — я поэт». Маша не могла глядеть от стыда. «Я читала ваши стихи, и мне показалось на самом деле все это, о чем я вам говорила в телефон», — проговорила она.
Он повертел серебряной палкой, потрогал в петлице гвоздику. «Что же, едем в Финляндию», — сказал он насмешливо. Маша, повинуясь, как во сне, зашла за раскрытую дверь шкафа, поспешно надела юбку, шляпу и жакет, взяла сумочку с пудрой и, нагнув голову, проговорила: «Хорошо, поедемте. Только не шумите в прихожей».
Они осторожно вышли, сбежали с седьмого этажа, сели в огромный автомобиль, и он довез их к последнему поезду. Они вскочили в купе. Поезд отошел, и Маша в первый раз, в страхе и сомнении, взглянула на спутника.
Перед ней, сняв цилиндр, сидел давешний рыжий незнакомец и ухмылялся, показывая белые зубы. Маша вскрикнула, но осталась сидеть в углу у окна, глядя исподлобья. Незнакомец дотронулся до ее колена пальцем, затопал ногами и громко захохотал. Поезд несся в тумане через леса, свистел диким свистом, мимо окна проносились огни. Маша молчала от страха и чудесного волнения. Она все еще думала, что перед ней поэт. Незнакомец между смехом рассказывал о проведенных днях в Петербурге, куда любил приезжать со своей дачи в туманные дни. В окутанном облаками городе он искал приключений и каждый раз уезжал не один.
Проехали границу, поезд подошел к Келомякам. Незнакомец взял Машу за руку и вывел из вагона. Все небо было усыпано ясными холодными звездами; светился, как серебро, Млечный Путь. Лес стоял темной стеной, и земля пахла опавшими листьями. Незнакомец подсадил Машу на финского извозчика, и они поехали между деревьями. Финн посвистывал. Незнакомец бородой касался Машиной щеки. Въехали в бор, нельзя было различить руки. Финн сказал «тпру», остановился, и когда седоки сошли, поплелся обратно, хрустя в темноте песком. Незнакомец повернул на тропинку…
Скоро под ногами стал подаваться упругий торф. Незнакомец взял Машу на руки. Она закрыла глаза и, чувствуя его теплоту, прижалась, охватила руками за шею. Когда же он сказал: «Ну вот», она увидела на островке посреди болота освещенный звездами маленький дом. На крылечке сидела человеческая фигура. Подойдя, Маша увидела, что сидящий совсем раздет, покрыт густою шерстью и с козлиными ногами. «Не бойся, он не тронет», — сказал незнакомец и толкнул сидевшего в плечо, тот заржал и кинулся в кусты. «Я хочу домой», — сказала Маша, закрыв глаза. Но незнакомец, подталкивая за плечи, ввел ее в домик и проговорил строго: «Не жмурься, погляди». Маша увидела небольшую синюю комнату, на потолке и стенах в разных местах висело множество золотых тарелочек… Две свечи горели на окошке, но оно было фальшивое — вместо стекол вставлены зеркала. Пол гладкий, эмалевый, на нем нарисованы цветы и бабочки, в углу был брошен ковер, который Маша приняла за кучу сухих и пестрых листьев. «Милая Маша, — сказал незнакомец, — ты не должна ничего бояться. Я не поэт Юрий Бледный, я царь фавнов. Если не веришь, посмотри». Он живо сбросил с себя одежду и показался первый раз в своем виде — весь покрытый рыжей курчавой шерстью, с лакированными копытами и золотыми рогами. «Ты мне очень понравилась, — продолжал он, — я сделаю тебя моей женой. В третьем часу взойдет луна, мы побежим на озеро. Ты тоже думала, как и все, что нас больше нет. Но мы хитрее людей, мы живем между вас, обманываем, завлекаем, и те, кто не хотят подчиниться нам, погибают. Сними одежду, причеши волосы покрасивее, побудь одна, я скоро вернусь… О чем бы ты ни подумала, чего бы ни захотела — все это можешь увидеть, глядя в золотые тарелочки… Но помни, не подходи к окну, не глядись в зеркало…» Погрозив пальцем, он ушел… Маша в отчаянии всплеснула руками… Она слышала, как в темноте, за стеной, бегали по кустам незнакомцы, фыркали или вдруг стучали копытами по крыльцу… «Я погибла, — подумала Маша, — не нужны мне ваши тарелочки, ни о чем не хочу мечтать, я боюсь… И в зеркало погляжу непременно…» На цыпочках она вошла в свет двух свечей и взглянула… В зеркале увидела она себя, свою комнату, убогую и дешевую лампу, раскрытую книгу на кушетке; дверь… Но дверь вдруг стала приотворяться… Пролез в нее давешний незнакомец, нахмуренный и злой, подошел и вдруг ладонями закрыл Маше глаза… Она, не противясь, запрокинула голову, ахнула и крепко сжала рот… Потом она услышала голос: «На этот раз я тебя пожалею, отпущу домой. Прощай». А дальше Маша не могла ничего припомнить. Когда она раскрыла глаза — в комнате было светло. Снизу, с улицы, громыхали ломовые. В прихожей мамаша Молина бранила нового жильца, который, не предупредив, исчез вместе с чемоданом рано поутру.
Маша так и не поняла — сон ли она видела, и если сон, то где он начинался? И всего больше удивлялась она тому, что во сне случилось с нею не бывающее в снах… И что случилось это — она была уверена, удивлялась и покачивала головой. Когда же настал опять туманный день, Маша заперлась на ключ, стала слушать шорохи, надеялась и трусила, как мышь.
Комментарии
Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.
Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.
В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.
Г. Адамович. Вологодский ангел
Впервые: Огонек. 1916. № 14, 3 (16) апреля.
Г. В. Адамович (1892–1972) — поэт, литературный критик, переводчик. Сын генерал-майора, нач. Московского военного госпиталя. Был близок к акмеистам, позднее стал одним из руководителей «Цеха поэтов». В 1923 г. эмигрировал в Берлин, затем и до смерти жил во Франции. Публиковался в журн. Звено, Числа, редактировал журн. Встречи, вел регулярное книжное обозрение в газ. Последние новости. Считается одним из виднейших авторов и идеологом т. наз. поэзии «парижской ноты».
Г. Адамович. Мария-Антуанетта
Впервые: Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. № № 15892, 15894, 15896, 15898, 15900, 20 октября — 1 ноября.
В. Шелговская. Зеркало в черной раме
Впервые: Аргус. 1917. № 11/12.
А. Дунин. Тайна коллер-мейстера Брауна
Впервые: Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения. 1915, сентябрь.
А. А. Дунин — беллетрист, выступал с детскими и нравоучительными рассказами, публиковал исторические очерки и короткую прозу в дореволюционной периодике и т. д.
А. Дунин. Леший
Впервые: Нива. 1916.. № 51,17 декабря, с подзаг. «Очерк».
А. В. Шиунов. Две императрицы
Впервые: Аргус. 1913. № 12.
Предположительно, автор — А. В. Шиунов (1893–1985), один из пионеров авиации в России, участник Первой мировой и Гражданской войн, позднее видный деятель военной и гражданской авиации СССР, выступавший до революции в периодике с рассказами и очерками.
В. Лович. Рука королевы
Впервые: Свободная Пермь. 1919. № 43, 9 марта. Издательство приносит благодарность А. Степанову за предоставленный текст произведения.
B. Лович — поэтесса, публиковалась в пермской периодике в 1916–1919 гг.
М. Сазонов. Сердце королевы
Впервые: Огонек. 1918. № 4, 31 (18) марта.
М. Г. Сазонов (?-?) — беллетрист, в 1914 г. секретарь М. Кузмина, автор кн. рассказов Уродливая маска (1916).
С. Городецкий. В замке королевы Карин
Впервые: Аргус. 1916. № 3. Издательство благодарит С. Никитина за предоставленный скан публикации.
С. М. Городецкий (1884–1967) — поэт, прозаик, переводчик. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В литературу вошел как видный участник жизни «Башни» Вяч. Иванова и автор символистских произведений, насыщенных духом славянского язычества. С осени 1916 г. на Кавказском фронте (представитель Союза городов, военный корреспондент, санитар в сыпнотифозном лагере). После революции заведовал худож. отделением РОСТА в Баку, работал в Политуправлении Каспийского флота. С 1921 г. жил в Москве, активно публиковался, работал в журн. Искусство трудящимся, литотделе газ. Известия, выступал как переводчик поэзии, либреттист, автор политических стихов, критик и литературовед. В отличие от лучшего и хорошо изученного предреволюционного периода поэтического творчества Городецкого, гораздо менее известна его проза, включающая романы и рассказы; среди последних есть и ряд фантастических.
А. Свентицкий. Сон Артура
Впервые: Аргус. 1916. № 4.
А. Э. Свентицкий (1887? - 1943?) — поэт, прозаик, критик. Автор кн. стихов За родину и правду (1914) и Герои и жертвы Великой войны (1917). После революции выступал с критическими статьями в периодике, опубликовал кн. Сказания о короле Артуре и о рыцарях Круглого Стола. Кн. 1: Мерлин (М., 1923).
А. Свентицкий. О злом Вортигерне, о мудром Мерлине и семи звездочетах
Публ. по кн. А. Свентицкого Сказания о короле Артуре и о рыцарях Круглого Стола. Кн. 1: Мерлин (М., 1923).
В. Немирович-Данченко. Черный рыцарь
Публикуется по авторскому сб. Святочные рассказы (СПб., 1904).
В. И. Немирович-Данченко (1844–1936) — писатель, журналист, путешественник. Брат театрального деятеля В. Немировича-Данченко. Родился в Тифлисе в семье офицера, учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. Публиковался с 1860-х гг. Военный корреспондент во время русско-турецкой войны 1877-78 гг., русско-японской войны, Первой балканской войны (1912-13); во время Первой мировой войны был на фронте в чине ротмистра. С 1921 г. — в эмиграции в Германии, затем Чехословакии. Чрезвычайно плодовитый писатель, оставил десятки книг этнографических и путевых очерков, военных и бытовых романов, рассказов, стихотворений.
В. Немирович-Данченко. Фавн в гиперборейском лесу
Впервые: Огонек. 1918. № 4, 31 (18) марта.
А. Толстой. Сатир
Впервые: Волны. 1912. № 5, май; Солнце России. 1912. № 5, май.
Рассказ будущего «красного графа» и классика советской литературы А. Н. Толстого (1883–1945) позднее подвергся радикальной авторской переработке и публиковался под назв. «Фавн» (см. в приложении).
А. Толстой. Старая башня
Впервые: Нива. 1908. № 21,24 мая.
Первый рассказ А. Н. Толстого. Навеян практикой на уральском Невьянском металлургическом заводе в 1905 г. и т. наз. «Невьянской наклонной башней», сооруженной в XVIII в. Уже в 1911 г. рассказ был автором переделан с целью придать ему реалистическую концовку.
А. Толстой. Портрет
Впервые: Волны. 1912. № 7, июль; Солнце России. 1912. № 27, июль.
В позднейших изданиях рассказ, представляющий собой вариацию на тему «Портрета» Н. В. Гоголя, был заметно сокращен: скомкана и изменена завязка, удалены все упоминания о Пушкине, урезаны описания и т. д.
В. Франчич. Портрет
Впервые: 20-ый век. 1916. № 15, апрель. Рассказ найден А. Степановым.
В. А. Франчич (1892–1937) — поэт, беллетрист, драматург. Дебютировал в 1910 г. Сборником стихотворений, в 1910-х гг. опубликовал в «тонких» петроградских журналах ряд фантастических и приключенческих рассказов, написал (частью в соавторстве) несколько фарсов. Участник Гражданской войны, с 1919 г. в эмиграции. Умер в Париже. Посмертно изданы сборник эссе (на фр. яз.), роман Красная Голгофа (на нем. яз., 1938).
В. Ходасевич. Иоганн Вейс и его подруга
Впервые: Утро России. 1911. 13 декабря. В комментариях использованы примечания составителей Собрания сочинений Ходасевича в 4 томах (М., 1996–1997).
B. Ф. Ходасевич (1886–1939) — поэт, критик, мемуарист, историк литературы. Учился в Московском университете на юридическом и историко-филологическом факультетах. С середины 1900-х гг. активно участвовал в литературной жизни, публиковался в периодике. В 1922 г. эмигрировал со своей женой Н. Берберовой в Берлин; в 1922-25 гг. жил (с перерывами) в семье М. Горького, совместно с кот. редактировал журнал Беседа. С 1925 г. жил в Париже, печатался в газ. Дни и Последние новости, с 1927 и до конца жизни — глава лит. отдела газ. Возрождение и ведущий лит. критик эмиграции. Помимо сб. стихов и переводов, опубликовал книги о Державине и Пушкине, кн. воспоминаний Некрополь (1939).
В. Ходасевич. Заговорщики
Впервые: Аргус. 1915. № 10.
Ходасевич был невысокого мнения о своем рассказе и отзывался о нем в одном из писем как о «помеси Стендаля, Андрея Белого, Данте, Пояркова, Брюсова, Садовского, Гете и Янтарева». Как считают исследователи, в рассказе отразились перипетии любовной связи В. Брюсова с поэтессой Н. Львовой и самоубийство последней, а в образе Джулио — соответственно, сам Брюсов, чему находятся и текстуальные подтверждения.
Б. Лазаревский. Двойная старуха
Впервые: Огонек. 1915. № 51, 20 декабря (2 января 1916).
Б. А. Лазаревский (1871–1936) — беллетрист, мемуарист. Сын историка Украины А. М. Лазаревского. По окончании юридического факультета Киевского университета (1897) служил в Севастополе, позднее во Владивостоке. С 1894 г. много печатался в периодике, до 1917 г. выпустил двумя изданиями 7-томное собр. сочинений. С 1920 г. продолжал лит. деятельность в эмиграции.
Б. Лазаревский. Кладбище
Впервые: Синий журнал. 1913. № 5.
Б. Лазаревский. Бессмертие
Впервые: Синий журнал. 1913. № 9.
Б. Лазаревский. Птица
Впервые: Нива. 1911. № 40, 1 октября.
Г. Чулков. Голос из могилы
Впервые: Аргус. 1914. № 13, позднее с небольшими исправлениями в авторском сб. Посрамленные бесы (1921). Текст публикуется по книжному изд.
Г. И. Чулков (1879–1939) — видный литературный деятель Серебряного века, поэт, прозаик, драматург, литературный критик, создатель теории «мистического анархизма». Из дворян, сын сотрудника военного ведомства. Учился на медицинском факультете Московского университета. В 1901 г. был арестован за революц. деятельность, приговорен к 4 годам ссылки в Якутию (амнистирован в 1903 и жил в Нижнем Новгороде под полицейским надзором). С 1904 г. в Петербурге. В 1900-х гг. издавал журнал Вопросы жизни, сборники Факелы. В 1909–1915 гг. жил в Италии, Франции и Швейцарии. В советские годы изучал творчество Ф. Тютчева, публиковал сб. рассказов и стихотворений, литературоведческие и мемуарные труды.
Г. Чулков. Страшный плен
Впервые: Аргус. 1913. № 10, позднее с небольшими исправлениями в авторском сб. Посрамленные бесы (1921).
А. Толстой. Фавн
Видоизмененная версия рассказа Сатир (см. выше) вошла в авторский сб. Мелкие рассказы (1913) и в III том Сочинений (1913).
Примечания
1
Encore un moment monsieur le bourreau — «Еще минуточку, месье палач». Легендарные предсмертные слова графини Дюбарри (1746–1793), сказанные ею перед казнью во время Французской революции.
(обратно)2
…«Не искушай…» — Точнее, «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).
(обратно)3
…Жиля де ла Реца — Жиль де Ре, также де Рэ или де Рец (ок. 1405–1440), французский барон, военачальник, сподвижник Жанны д’Арк. Был казнен по обвинениям в серийных убийствах детей и чернокнижии; считается прототипом Синей Бороды.
(обратно)4
…«Блаженны чистые сердцем…» — Мф. 5:8.
(обратно)5
…замученных Филиппом V рыцарей Храма — Не то опечатка, не то ошибка автора, т. к. расправа над храмовниками (тамплиерами) была организована в 1307 г. королем Франции Филиппом IV.
(обратно)6
…робронах — Роброн — просторное женское верхнее платье.
(обратно)7
Куратор — попечитель (Прим. авт.).
(обратно)8
...idée fixe — идея фикс, навязчивая идея (фр.).
(обратно)9
Плащ (Здесь и далее прим. авт.).
(обратно)10
Камень из породы красных яхонтов.
(обратно)11
…челибухи — Имеется в виду тропическое растение чилибуха обыкновенная или рвотный орех (Strychnos nux-vomica), чьи семена являются основным источником стрихнина.
(обратно)12
…пудермантеле — Пудермантель — накидка, надевавшаяся при напудривании лица и головы.
(обратно)13
«Chez la Veuve Jean François Jolly»… «Ch. Le Roy» — «У вдовы Жана-Франсуа Жолли»… «У короля».
(обратно)14
…Карин и Эрика XIV — Карин — Катарина (Карин) Монсдоттер или Каарина Маунунтютяр (1550–1612), любовница, затем жена шведского короля Эрика XIV (1533–1577) — королева Швеции. Провела на престоле всего 87 дней. После свержения Эрика XIV, низложенного в связи с душевным заболеванием, несколько лет находилась в замке Турку.
(обратно)15
Карин бежит на базар с орехами — По легенде, Эрик XIV обратил внимание на Карин, когда она продавала на базаре орехи. В действительности перед тем, как стать королевской любовницей, Карин была служанкой придворного музыканта, а затем сестры Эрика XIV.
(обратно)16
…«Те Deum laudamus» — «Тебя, Бога, хвалим» (лат.), раннехристианский гимн, созданный около IV в. и используемый в богослужении римско-католической и многих других церквей.
(обратно)17
«От плодов их познаете их» — немного искаж. Мф. 7:16 в церковнослав. версии.
(обратно)18
«Я боюсь рассказать, как тебя я люблю» — Первая строка стих. (1886) Н. Минского (1855–1937), ставшего популярным романсом.
(обратно)19
«Накинув плащ, с гитарой под полою» — из романса неизвестного композитора, слова в ряде источников приписываются В. Соллогубу.
(обратно)20
…Kopfschmerzen — «Похмелье», букв, «головная боль» (нем.).
(обратно)21
…Иоганн Вейс — По мнению исследователей, имя героя Ходасевич позаимствовал из рекламы обувного магазина: «Магазин обуви Генрих Вейс. Москва. Кузнецкий мост».
(обратно)22
…Герман… Доротеи — Герман, Доротея — персонажи поэмы И. В. Гете «Герман и Доротея» (1798).
(обратно)23
С. 221. «Джулио — наше знамя!» — Ходасевич дословно цитирует статью А. Белого В. Брюсов: Силуэт: «Брюсов — не только большой поэт, это — наш лозунг, наше знамя, наш полководец в борьбе с рутиной и пошлостью. <…> Мы представляем собою в искусстве партию. Партия должна иметь своего лидера. И мы чтим в Валерии Брюсове не только поэта, но и наше знамя» (Свободная молва. 1908. 21 янв.).
(обратно)24
…в итальянском городе Мессине еще до землетрясения — Разрушительное землетрясение в Мессине и окрестностях произошло 28 декабря 1908 г. При землетрясении погибло от 70 до 100 (по некоторым оценкам 200) тысяч человек, в том числе от 60 000 в Мессине.
(обратно)25
Cinquanta lira — пятьдесят лир (ит.).
(обратно)26
Vinum lacrimae Christi — Букв, «вино слез Христовых» (лат.). Речь идет об известном сорте вина Lacryma Christi, производящемся в основном в районе Неаполя.
(обратно)27
Расскажите мне все, как самому себе — Очевидно, следующая фраза в оригинальном издании пропущена.
(обратно)28
…pas — па (фр.).
(обратно)29
…хиавата — от Hiawatha (Гайавата); парный салонный танец нач. XX в.
(обратно)30
…А. Д. Вяльцевой — А. Д. Вяльцева (1871–1913) — эстрадная певица, артистка оперы, знаменитая исполнительница русских и «цыганских» романсов.
(обратно)31
…pied à terre — временное пристанище (фр.).
(обратно)32
Ой горе тій чайці… дорозі — Ой, горе той чайке, горе ей, бедняжке, что вывела чаєняток при большой дороге… (укр.).
(обратно)33
…цивильный — не военный (Прим. авт.).
(обратно)34
+22° R — +27.5° по Цельсию.
(обратно)35
…Декарт — Р. Декарт (1596–1650), французский философ, математик, ученый, заложивший основы европейского рационализма XVII в.
(обратно)36
..Христиана Гюйгенса — X. Гюйгенс (1629–1695) — физик и астроном. Декарт дружил с его старшим братом Константином.
(обратно)37
…Пироном — Пирон (Пирон) из Элиды (ок. 360 — ок. 275 д. н. э.) — древнегреческий философ, основатель скептической школы, в качестве нравственного идеала выдвигал «безмятежность» по отношению к окружающему.
(обратно)38
Гольдони, Тьеполо и Казановы — Перечислены знаменитые венецианцы: художник Д. Тьеполо (1696–1770), драматург К. Гольдони (1707–1793), авантюрист и писатель Д. Казанова (1725–1798).
(обратно)39
…Бернини — Д. Бернини (1598–1680), итальянский архитектор, ведущий скульптор своего времени.
(обратно)40
…Мэпс… Менделеева — Перечислены видные ученые, которые являлись сторонниками спиритуализма либо изучали спиритические явления.
(обратно)41
«La Morte trionfa dell 'uomo» — «Смерть торжествует над человеком» (ит.).
(обратно)42
«Éteignez la bougie!» — «Погасите свечу!» (фр.).
(обратно)43
«Lumière» — «Свет» (фр.).
(обратно)44
…Веронеза… Тинторетто… Карпаччио — Перечислены выдающиеся художники венецианской школы П. Веронезе (Калиари, 1528–1588), Я. Тинторетто (Робусти, 1518/19-1594) и В. Карпаччо (ок. 1465–1525/26).
(обратно)45
…Плотин — античный философ-идеалист (204/5-270), основатель неоплатонизма; его нравственное учение основывалось на признании доктрины метемпсихоза.
(обратно)46
«De arte cabalistica» Рейхлина — «О каббалистическом искусстве» (1517), центральное сочинение немецкого философа, гуманиста и гебраиста И. Рейхлина (1455–1522).
(обратно)47
«Equus albus», «Doctrina vitae»… Сведенборга — Э. Сведенборг (1688–1772) — шведский мистик, теолог, философ, естествоиспытатель; здесь перечислены его труды «Конь блед» (1758) и «Доктрина жизни» (1763).
(обратно)48
Эта рукопись заключает в себе особые таблицы с изображениями знаков и символов розенкрейцеровского братства… символическое изображение Мировой Души в обличьи женщины… эмблематические наименования всех частей тела — Вероятней всего, описана рукописная копия известной и любопытной кн. Geheime Figuren dev Rosenkreuzer, aus dem 16 ten und 17 ten Jahrhundert («Тайные фигуры розенкрейцеров 16 и 17 веков», Altona? 1785–1788?). Первая «фигура» издания изображает нагую «девицу Софию» с соответствующими пояснениями.
(обратно)49
Ее мудрость… мужчинами — В книжной публ. далее следует фраза: «Так иногда истинная культура не совпадает по существу с нашей новой цивилизацией».
(обратно)50
…Victoriae Regiae — Точнее, Victoria regia или виктория амазонская, водное тропическое растение семейства кувшинковых и самая большая кувшинка в мире.
(обратно)51
…арбутус с его обнаженным розоватым стволом — Речь идет о греческом земляничнике или красном земляничном дереве (Arbutus andraehne).
(обратно)52
…меон — в древнегреческой философии одна из разновидностей неоформленного бытия, чистой потенции.
(обратно)53
…Филона… «De somniis» — Имеется в виду еврейский эллинистический философ и богослов Филон Александрийский (ок. 20/25 д. н. э. — ок. 50 н. э.) и его трактат «О снах», сохранившийся в двух книгах.
(обратно)54
…одному из братьев — В книжной публ. заменено на «одному из посвященных».
(обратно)


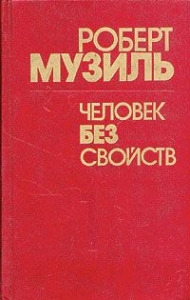


Комментарии к книге «Двойная старуха», Георгий Викторович Адамович
Всего 0 комментариев