Виктор ГЮГО Избранные произведения в одном томе
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Несколько лет тому назад, осматривая собор Парижской Богоматери или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово:
’A N À Г K H[1]
Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой человека Средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в них заключавшийся, глубоко поразили автора.
Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата[2] преступлений или несчастья.
Позже эту стену (я даже точно не припомню, какую именно) не то выскоблили, не то закрасили, и надпись исчезла. Именно так в течение вот уже двухсот лет[3] поступают с чудесными церквами Средневековья. Их увечат как угодно — и изнутри и снаружи. Священник их перекрашивает, архитектор скоблит; потом приходит народ и разрушает их.
И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначало, — ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; в свою очередь исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор.
Это слово и породило настоящую книгу.
Март 1831Книга I
Глава 1
Большая зала
Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами: Ситэ, Университетской стороны и Города[4].
Между тем день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессия с мощами, ни бунт школяров, ни въезд «нашего грозного властелина господина короля», ни даже достойная внимания казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какого-либо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами[5] иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последнее из них — это были фламандские послы, уполномоченные заключить брак между дофином[6] и Маргаритой Фландрской[7],— вступило в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который, из угождения королю, должен был скрепя сердце принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасной моралитэ[8], шуточной сатиры и фарса[9]», пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разостланные у входа во дворец.
Событие, которое 6 января «взволновало всю парижскую чернь», как говорит Жеан де Труа[10] было двойное празднество, объединявшее с незапамятных времен праздник крещения с праздником шутов.
В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни, у Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца, в здании Дворца правосудия давалась мистерия[11]. Об этом еще накануне возвестили при звуках труб на всех перекрестках глашатаи господина парижского прево[12], разодетые в щегольские полукафтанья из лилового камлота с большими белыми крестами на груди.
Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие — майскому дереву, третьи — мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак, следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года, другие — смотреть мистерию в хорошо защищенной от холода зале Дворца правосудия; а бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом, на кладбище Бракской часовни.
Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фламандские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большой зале Дворца.
Нелегко было пробраться в этот день в большую залу, считавшуюся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. (Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадный зал в замке Монтаржи.) Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда пять или шесть улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки голов. Непрестанно возрастая, эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади.
Посредине высокого готического[13] фасада Дворца правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался двойной поток людей; расколовшись ниже, на промежуточной площадке, надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам; эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергавшемуся в озеро. Крик, смех, топот тысячи ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался: течение, несшее всю эту толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо лягавшаяся лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок; эта милая традиция, завещанная парижским прево коннетаблям, перешла от коннетаблей по наследству к конной страже, а от нее к нынешней жандармерии Парижа.
В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на Дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства.
Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века и, получая со всех сторон пинки, толчки, еле удерживаясь на ногах, проникнуть вместе с ней в эту обширную залу Дворца, казавшуюся в день 6 января 1482 года такой тесной, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования; нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны.
Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог этой обширной залы и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтанья и безрукавки.
Прежде всего мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами — двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанный золотыми лилиями по лазурному полю; под ногами — пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий — всего на протяжении залы семь таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых четырех столбов — лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой; вокруг трех остальных — истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами тяжущихся и мантиями стряпчих. Кругом залы вдоль высоких стен, между дверьми, между окнами, между столбами — нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда: королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело поднявших чело и руки к небесам. Далее, в высоких стрельчатых окнах — тысячецветные стекла; в широких дверных нишах — богатые, тончайшей резьбы двери; и все это — своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния — сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом раскраской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда дю Брель, по традиции, все еще восхищался ею.
Теперь вообразите себе эту громадную продолговатую залу, освещенную сумеречным светом январского дня, наводненную пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стен и вертится вокруг семи столбов, и вы уже получите смутное представление обо всей той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее.
Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца правосудия; не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов; значит, не было бы и поджигателей, которым, за неимением лучшего средства, пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию; следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный Дворец с его старинной залой, и я мог бы сказать читателю: «Пойдите, полюбуйтесь на нее»; мы, таким образом, были бы избавлены: я — от описания этой залы, а читатель — от чтения сего посредственного описания.
Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы.
Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если — случайно — они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существуют еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут[14], длиною в локоть[15], свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца правосудия; во-вторых, четверостишие Теофиля:
Да, шутка скверная была, Когда сама богиня Права, Съев пряных кушаний немало, Себе все нёбо обожгла[16].Но, как бы ни думать об этом тройном — политическом, метеорологическом и поэтическом — толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности же по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немногое уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от этого Дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствование короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом.
Исчезло почти все. Что сталось с кабинетом, в котором Людовик Святой «завершил свой брак»? Где тот сад, в котором он, «одетый в камлотовую тунику, грубого сукна безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий», возлежа вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие? Где покои императора Сигизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт[17]? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где та калитка, возле которой были изорваны буллы[18] антипапы Бенедикта и откуда, облаченные на посмешище в ризы и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где большая зала, ее позолота, ее лазурь, ее стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, ее необъятный свод, весь в скульптурных украшениях? А вызолоченный покой, у входа в который стоял коленопреклоненный каменный лев с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия? Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бискорнета? Где тончайшая резьба дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого, взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики? Тяжелые полукруглые низкие своды господина де Брос, сего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве, — это взамен искусства; что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще доныне отдаются эхом в болтовне всевозможных господ Патрю. Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинной зале подлинного древнего Дворца.
Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что если верить старинным описям, стиль которых мог возбудить аппетит у Гаргантюа, «подобного ломтя мрамора никогда не было видано на свете»; противоположный конец занимала часовня, где стояла изваянная по приказанию Людовика XI статуя, изображающая его коленопреклоненным перед Пречистой Девой, и куда он, невзирая на то, что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перевести статуи Карла Великого и Людовика Святого — двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на Небесах. Эта часовня, еще новая, построенная всего только лет шесть тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины XVI века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения.
Небольшая сквозная розетка[19], вделанная над порталом, по филигранности и изяществу работы представляла собой настоящий образец искусства. Она казалась кружевной звездой.
Посреди залы, напротив главных дверей, было устроено прилегавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно, пробитое в этой стене из коридора, смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фламандских послов и для других знатных особ, приглашенных на представление мистерии.
По издавна установившейся традиции, представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите, вдоль и поперек исцарапанной каблуками судейских писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взорам всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, — одевальной для лицедеев. Бесхитростно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одевальной и предоставлять свои крутые ступеньки и для выхода актеров на сцену, и для ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перипетии действия, сценические эффекты — ничто не могло миновать этой лестницы. О невинное и достойное уважения детство искусства и механики!
Четыре судебных пристава Дворца, непременные надзиратели за всеми народными увеселениями как в дни празднеств, так и в дни казней, стояли на карауле по четырем углам мраморного стола.
Представление мистерии должно было начаться только в полдень, с двенадцатым ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было несколько позднее время, но оно было удобно для послов.
Тем не менее вся многочисленная толпа народа дожидалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом Дворца; иные даже утверждали, будто они провели всю ночь лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно и, подобно водам, выступающим из берегов, постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Немудрено, что давка, нетерпение, скука в этот день, дающий волю зубоскальству и озорству, возникающие по всякому пустяку ссоры, будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость от долгого ожидания — все вместе взятое еще задолго до прибытия послов придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной, задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было, что проклятия и сетования по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи Дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетьми, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы шутов, каменных столбов, статуй, этой закрытой двери, того открытого окна, — и все это к несказанной потехе рассеянных в толпе школяров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство своими острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство.
Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали свои лукавые взгляды и замечания попеременно то в толпу, находящуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликам, которыми они обменивались с товарищами через всю залу, видно было, что эти школяры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогавшее им терпеливо переносить ожидание.
— Клянусь душой, это вы там, Жоаннес Фролло де Молендино! — кричал один из них другому, белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожицей, примостившемуся на акантах[20] капители[21].— Недаром вам дали прозвище Жеан Мельник, ваши руки и ноги и впрямь походят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?
— По милости дьявола, — ответил Жоаннес Фролло, — я торчу здесь уже больше четырех часов, надеюсь, они зачтутся мне в чистилище! Еще в семь утра я слышал, как восемь певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель «Достойную».
— Прекрасные певчие! — ответил собеседник. — Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков. Однако перед тем как служить обедню господину святому Иоанну, королю следовало бы осведомиться, приятно ли господину Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом.
— Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля! — злобно крикнула какая-то старуха из теснившейся под окнами толпы. — Скажите на милость! Тысячу парижских ливров за одну обедню! Да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже!
— Помолчи, старуха! — вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. — Обедню надо было отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал?
— Ловко сказано, господин Жиль Лекорню[22], придворный меховщик! — крикнул ухватившийся за капитель маленький школяр.
Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика.
— Лекорню! Жиль Лекорню! — кричали одни.
— Cornutus et hirsutus![23]— вторили другие.
— Чего это они гогочут? — продолжал маленький чертенок, примостившийся на капители. — Ну да, почтеннейший Жиль Лекорню, брат Жеана Лекорню, дворцового судьи, сын мэтра Майе Лекорню, главного смотрителя Венсенского леса, все они граждане Парижа, и все до единого женаты.
Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов, но тщетно он пыхтел и потел. Как загоняемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое, апоплексическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только плотнее втискивалось между плеч соседей.
Наконец один из них, такой же важный, коренастый и толстый, пришел ему на выручку:
— Какая мерзость! Как смеют школяры так издеваться над почтенным горожанином? В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев.
Банда школяров расхохоталась.
— Эй! Кто это там ухает? Какой зловещий филин?
— Стой-ка, я его знаю, — сказал один, — это мэтр Андри Мюнье.
— Один из четырех присяжных библиотекарей Университета, — подхватил другой.
— В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки! — крикнул третий, — четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре эконома, четыре попечителя и четыре библиотекаря.
— Отлично, — продолжал Жеан Фролло, — пусть же и побеснуются вчетверо больше!
— Мюнье, мы сожжем твои книги!
— Мюнье, мы вздуем твоего слугу!
— Мюнье, мы потискаем твою жену!
— Славная толстушка госпожа Ударда!
— А как свежа и весела, точно уже овдовела!
— Черт бы вас побрал! — прорычал мэтр Андри Мюнье.
— Замолчи, мэтр Андри, — не унимался Жеан, все еще продолжавший цепляться за свою капитель, — а то я свалюсь тебе на голову!
Мэтр Андри посмотрел вверх, как бы определяя взглядом высоту столба и вес плута, помножил в уме этот вес на квадрат скорости и умолк.
Жеан, оставшись победителем, злорадно заметил:
— Я бы непременно так и сделал, хотя и прихожусь братом архидьякону.
— Хорошо тоже наше университетское начальство! Даже в такой день, как сегодня, ничем не отметило наших привилегий! В Городе — потешные огни и майское дерево, здесь, в Ситэ, — мистерия, избрание папы шутов и фламандские послы, а у нас в Университете — ничего.
— Между тем на площади Мобер хватило бы места! — сказал один из школяров, устроившихся на подоконнике.
— Долой ректора, попечителей и экономов! — крикнул Жеан.
— Сегодня вечером следовало бы устроить иллюминацию в Шан-Гальяр из книг мэтра Андри, — продолжал другой.
— И сжечь пульты писарей! — крикнул его сосед.
— И трости педелей[24]!
— И плевательницы деканов!
— И буфеты экономов!
— И хлебные лари попечителей!
— И скамеечки ректора!
— Долой! — пропел им в тон Жеан. — Долой мэтра Андри, педелей, писарей, медиков, богословов, законников, попечителей, экономов и ректора!
— Да это просто светопреставление! — возмутился мэтр Андри, затыкая себе уши.
— А наш ректор легок на помине! Вон он появился на площади! — крикнул один из сидевших на подоконнике.
Кто только мог, повернулся к окну.
— Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо? — спросил Жеан Фролло Мельник. Повиснув на одном из внутренних столбов, он не мог видеть того, что происходило на площади.
— Да, да, — ответили ему остальные, — он самый, мэтр Тибо, ректор!
Действительно, это был ректор и все университетские сановники, пересекавшие в эту минуту площадь Дворца и торжественно направлявшиеся навстречу послам. Школяры, тесно облепившие подоконник, приветствовали шествие язвительными насмешками и ироническими рукоплесканиями. Ректору, который шел впереди, пришлось выдержать первый залп, и залп этот был жесток.
— Добрый день, господин ректор! Эй! Здравствуйте же!
— Каким образом очутился здесь этот старый игрок? Как он расстался со своими костяшками?
— Смотрите, как он трусит на своем муле! А уши у мула короче ректорских!
— Эй! Добрый день, господин ректор Тибо[25]! Tibalde aleator! Старый дурак! Старый игрок!
— Да хранит вас Бог! Ну как, сегодня ночью вам часто выпадало двенадцать очков?
— Поглядите только, какая у него серая, испитая и помятая рожа! Это все от страсти к игре и костям!
— Куда это вы трусите, Тибо, Tibalde ad dados, задом к Университету и передом к Городу?
— Он едет снимать квартиру на улице Тиботоде[26]! — воскликнул Жеан Мельник.
Вся компания школяров громовыми голосами, бешено аплодируя, повторила этот каламбур:
— Вы едете искать квартиру на улице Тиботоде, не правда ли, господин ректор, партнер дьявола?
Затем наступила очередь прочих университетских сановников.
— Долой педелей! Долой жезлоносцев!
— Скажи, Робен Пуспен, а это кто такой?
— Это Жильбер Сюльи, Gilbertus de Soliaco, казначей Отенского коллежа.
— Стой, вот мой башмак; тебе там удобнее, запусти-ка ему в рожу!
— Saturnalitias mittimus ecce nuces[27].
— Долой шестерых богословов и белые стихари[28]!
— Как, разве это богословы? А я думал — это шесть белых гусей, которых святая Женевьева[29] отдала городу за поместье Роньи!
— Долой медиков!
— Долой диспуты на заданные и на свободные темы!
— Швырну-ка я в тебя шапкой, казначей святой Женевьевы! Ты меня объегорил! Это чистая правда! Он отдал мое место в нормандском землячестве маленькому Асканио Фальцаспада из провинции Бурж, а ведь тот итальянец.
— Это несправедливо! — закричали школяры. — Долой казначея святой Женевьевы!
— Эй! Иоахим де Ладеор! Эй! Лук Даюиль! Эй! Ламбер Октеман!
— Чтоб черт придушил попечителя немецкой корпорации!
— И капелланов из Сент-Шапель вместе с их серыми меховыми плащами.
— Seii de pellibus grisis fourratis[30]!
— Эй! Магистры искусств! Вон они, черные мантии! Вон они, красные мантии!
— Получается недурной хвост позади ректора!
— Точно у венецианского дожа[31], отправляющегося обручаться с морем.
— Гляди, Жеан, вон каноники святой Женевьевы.
— К черту чернецов!
— Аббат Клод Коар! Доктор Клод Коар! Кого вы ищете? Марию Жифард?
— Она живет на улице Глатиньи.
— Она греет постели смотрителя публичных домов.
— Она выплачивает ему свои четыре денье — quattuor denarios.
— Aut unum bombum.
— Вы хотите сказать — с каждого носа?
— Товарищи, вон мэтр Симон Санен, попечитель Пикардии, а позади него сидит жена!
— Post equitem sedet atra cura[32].
— Смелее, мэтр Симон!
— Добрый день, господин попечитель!
— Покойной ночи, госпожа попечительша!
— Экие счастливцы, им все видно, — вздыхая, промолвил все еще продолжавший цепляться за листья капители Жоаннес де Молендино.
Между тем присяжный библиотекарь Университета, мэтр Андри Мюнье, прошептал на ухо придворному меховщику, Жилю Лекорню:
— Уверяю вас, сударь, что это светопреставление. Никогда еще среди школяров не наблюдалось такой распущенности, и все это наделали проклятые изобретения: пушки, кулеврины[33], бомбарды[34], а главное — книгопечатание, эта новая германская чума. Нет уж более рукописных сочинений и книг. Печать убивает книжную торговлю. Наступают последние времена.
— Это заметно и по тому, как стала процветать торговля бархатом, — ответил меховщик.
В эту секунду пробило двенадцать.
— А-а! — одним вздохом ответила толпа.
Школяры притихли. Затем поднялась невероятная сумятица, зашаркали ноги, задвигались головы; послышалось общее оглушительное сморканье и кашель; всякий приладился, примостился, приподнялся. И вот наступила полная тишина: все шеи были вытянуты, все рты полуоткрыты, все взгляды устремлены на мраморный стол. Но ничего нового на нем не появилось. Там по-прежнему стояли четыре судебных пристава, застывшие и неподвижные, словно раскрашенные статуи. Тогда все глаза обратились к возвышению, предназначенному для фламандских послов. Дверь была все так же закрыта, на возвышении — никого. Собравшаяся с утра толпа ждала полудня, послов Фландрии и мистерии. Своевременно явился только полдень.
Это уже было слишком!
Подождали еще одну, две, три, пять минут, четверть часа; никто не появлялся. Помост пустовал, сцена безмолвствовала.
Нетерпение толпы сменилось гневом. Слышались возгласы возмущения, правда еще негромкие. «Мистерию! Мистерию!» — раздавался приглушенный ропот. Возбуждение возрастало. Гроза, дававшая о себе знать пока лишь громовыми раскатами, уже веяла над толпой. Жеан Мельник был первым, вызвавшим вспышку молнии.
— Мистерию, и к черту фламандцев! — крикнул он во всю глотку, обвившись, словно змея, вокруг своей капители.
Толпа принялась рукоплескать.
— Мистерию, мистерию! А Фландрию ко всем чертям! — повторила толпа.
— Подать мистерию, и немедленно! — продолжал школяр. — А то, пожалуй, придется нам для развлечения и в назидание повесить главного судью.
— Дельно сказано, — закричала толпа, — а для начала повесим его стражу!
Поднялся невообразимый шум. Четыре несчастных пристава побледнели и переглянулись. Народ двинулся на них, и им уже чудилось, что под его напором прогибается и подается хрупкая деревянная балюстрада, отделявшая их от зрителей.
То была опасная минута.
— Вздернуть их! Вздернуть! — кричали со всех сторон. В это мгновение приподнялся ковер описанной нами выше одевальной и пропустил человека, одно появление которого внезапно усмирило толпу и, точно по мановению волшебного жезла, превратило ее ярость в любопытство.
— Тише! Тише! — раздались отовсюду голоса.
Человек этот, дрожа всем телом, отвешивая бесчисленные поклоны, неуверенно двинулся к краю мраморного стола, и с каждым шагом эти поклоны становились все более похожими на коленопреклонения.
Мало-помалу водворилась тишина. Слышался лишь тот еле уловимый гул, который всегда стоит над молчащей толпой.
— Господа горожане и госпожи горожанки, — сказал вошедший, — нам предстоит высокая честь декламировать и представлять в присутствии его высокопреосвященства господина кардинала превосходную моралитэ, под названием «Праведный суд Пречистой Девы Марии». Я буду изображать Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту почетное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, выслушивая у ворот Боде приветственную речь господина ректора Университета. Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем.
Нет сомнения, что только вмешательство самого Юпитера помогло спасти от смерти четырех несчастных приставов. Если бы нам выпало счастье самим выдумать эту вполне достоверную историю, а значит, и быть ответственными за ее содержание перед судом преподобной нашей матери-критики, то, во всяком случае, против нас нельзя было бы выдвинуть классического правила: Nee deus intersit[35]. Надо сказать, что одеяние господина Юпитера было очень красиво и также немало способствовало успокоению толпы, привлекая к себе ее внимание. Он был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом с золотой вышивкой; голову его прикрывала двухконечная шляпа с пуговицами позолоченного серебра; и не будь его лицо частью нарумянено, частью покрыто густой бородой, не держи он в руках усыпанной мишурой и обмотанной канителью трубки позолоченного картона, в которой искушенный глаз легко мог признать молнию, не будь его ноги обтянуты в трико телесного цвета и на греческий манер обвиты лентами, — этот Юпитер по своей суровой осанке мог бы легко выдержать сравнение с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.
Глава 2
Пьер Гренгуар[36]
Однако, пока он держал свою торжественную речь, всеобщее удовольствие и восхищение, возбужденные его костюмом, постепенно рассеивались, а когда он пришел к злополучному заключению: «Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем», его голос затерялся в буре гиканья и свиста.
— Немедленно начинайте мистерию! Мистерию немедленно! — кричала толпа. И среди всех голосов отчетливо выделялся голос Жоаннеса де Молендино, прорезавший общий гул, подобно дудке на карнавале в Ниме.
— Начинайте сию же минуту! — визжал школяр.
— Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! — вопил Робен Пуспен и прочие школяры, угнездившиеся на подоконнике.
— Давайте моралитэ! — вторила толпа. — Сейчас же, сию минуту, а не то мешок и веревка для комедиантов и кардинала!
Несчастный Юпитер, ошеломленный, испуганный, побледневший под слоем румян, уронил свою молнию, снял шляпу, поклонился и, дрожа от страха, пролепетал:
— Его высокопреосвященство, послы… госпожа Маргарита Фландрская…
Он не знал, что сказать. В глубине души он опасался, что его повесят.
Его повесит толпа, если он ее заставит ждать, его повесит кардинал, если он его не дождется; куда ни повернись, перед ним разверзалась пропасть, то есть виселица.
К счастью, какой-то человек пришел ему на выручку и принял всю ответственность на себя.
Этот незнакомец стоял по ту сторону балюстрады, в пространстве, остававшемся свободным вокруг мраморного стола, и до сей поры не был никем примечен благодаря тому, что его долговязая и тощая особа не могла попасть ни в чье поле зрения, будучи заслонена массивным каменным столбом, к которому он прислонялся. Это был высокий, худой, бледный, белокурый и еще молодой человек, хотя щеки и лоб его уже бороздили морщины; его черный саржевый камзол потерся и залоснился от времени. Сверкая глазами и улыбаясь, он приблизился к мраморному столу и сделал рукой знак несчастному страдальцу. Но тот, растерявшись, ничего не видел.
Новоприбывший сделал шаг вперед.
— Юпитер! — сказал он. — Милейший Юпитер! Но тот не слышал его.
Тогда, потеряв терпение, высокий блондин крикнул ему чуть ли не в самое ухо:
— Мишель Жиборн!
— Кто меня зовет? — как бы внезапно пробудившись от сна, спросил Юпитер.
— Я, — ответил незнакомец в черном.
— А! — произнес Юпитер.
— Начинайте сейчас же! — продолжал тот. — Удовлетворите желание народа. Я берусь умилостивить господина судью, а тот в свою очередь умилостивит господина кардинала.
Юпитер облегченно вздохнул.
— Всемилостивейшие господа горожане, — крикнул он во весь голос толпе, все еще продолжавшей его освистывать, — мы сейчас начнем!
— Evoe, Jupiter! Plaudite, cives[37]! — закричали школяры.
— Слава! Слава! — закричала толпа.
Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер ушел за занавес, зала все еще дрожала от приветственных криков. Тем временем незнакомец, столь магически превративший «бурю в штиль», как говорит наш милый старик Корнель[38], скромно отступил в полумрак своего каменного столба и, несомненно, по-прежнему остался бы там невидим, недвижим и безмолвен, не окликни его две молодые женщины, сидевшие в первом ряду зрителей и приметившие его беседу с Мишелем Жиборном — Юпитером.
— Мэтр! — позвала его одна из них, делая ему знак приблизиться.
— Потише, милая Лиенарда, — сказала ее соседка, хорошенькая, цветущая, по-праздничному расфранченная девушка, — он не духовное лицо, а светское; к нему следует обращаться не «мэтр», а «мессир».
— Мессир! — повторила Лиенарда. Незнакомец приблизился к балюстраде.
— Что угодно, сударыни? — учтиво спросил он.
— О, ничего! — смутившись, ответила Лиенарда. — Это моя соседка, Жискетта ла Жансьен, хочет вам что-то сказать.
— Да нет же, — зардевшись, возразила Жискетта. — Лиенарда окликнула вас «мэтр», а я поправила ее, объяснив, что вас следует называть «мессир».
Молодые девушки потупили глазки. Незнакомец, который не прочь был завязать беседу, улыбаясь, глядел на них.
— Итак, вам нечего мне сказать, сударыни?
— О нет, решительно нечего, — ответила Жискетта.
— Нечего, — повторила и Лиенарда.
Высокий молодой блондин намеревался было уйти, но две любопытные девушки не желали так легко выпустить свою добычу из рук.
— Мессир, — со стремительностью воды, врывающейся в открытый шлюз, или женщины, принявшей твердое решение, быстро обратилась к нему Жискетта, — вам, значит, знаком этот военный, который будет играть роль Пречистой Девы в мистерии?
— Вы желаете сказать — роль Юпитера? — спросил незнакомец.
— О да! — воскликнула Лиенарда. — Какая она дурочка! Вы, значит, знакомы с Юпитером?
— С Мишелем Жиборном? Да, знаком, сударыня.
— Какая у него замечательная борода! — сказала Лиенарда.
— А то, что они сейчас будут представлять, красиво? — застенчиво спросила Жискетта.
— Великолепно, сударыня, — без малейшей запинки ответил незнакомец.
— Что же это будет? — спросила Лиенарда.
— «Праведный суд Пречистой Девы Марии» — моралитэ, сударыня.
— А! Это другое дело, — сказала Лиенарда. Последовало краткое молчание. Неизвестный прервал его:
— Это совершенно новая моралитэ, ее еще ни разу не представляли.
— Значит, это не та, которую играли два года тому назад, в день прибытия папского посла, когда три хорошенькие девушки изображали…
— Сирен, — подсказала Лиенарда.
— И совершенно обнаженных, — добавил молодой человек.
Лиенарда стыдливо опустила глазки. Жискетта, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец, улыбаясь, продолжал:
— То было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять моралитэ, написанную нарочно в честь принцессы Фландрской.
— А будут петь пасторали[39]? — спросила Жискетта.
— Фи! — сказал незнакомец. — В моралитэ? Не нужно смешивать различные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда сколько угодно!
— Жаль, — проговорила Жискетта. — А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Понсо разыгрывали дикарей, они сражались между собой и принимали разные позы, когда пели пасторали и мотеты[40].
— То, что годится для папского посла, не годится для принцессы, — сухо заметил незнакомец.
— А около них, — продолжала Лиенарда, — было устроено состязание на всяких духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии.
— А чтобы гуляющие могли освежиться, — подхватила Жискетта, — из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил кто только хотел.
— А не доходя фонтана Понсо, близ церкви Святой Троицы, — продолжала Лиенарда, — показывали пантомиму «Страсти Господни».
— Отлично помню! — воскликнула Жискетта. — Господь Бог на кресте, а справа и слева два разбойника.
Тут молодые болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали наперебой:
— А немного подальше, близ ворот Живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы.
— А помнишь, как охотник около фонтана Непорочных под оглушительный шум охотничьих рогов и лай собак гнался за козочкой?
— А у парижской бойни были устроены подмостки, которые изображали Дьепскую крепость!
— И помнишь, Жискетта, едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом и всем англианам перерезали глотки.
— У ворот Шатле тоже были прекрасные актеры!
— И на мосту Менял, который к тому же был весь обтянут коврами!
— А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более двухсот дюжин всевозможных птиц. Как это было красиво, Лиенарда!
— Сегодня будет еще лучше! — перебил их наконец нетерпеливо внимавший им собеседник.
— Вы ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия? — спросила Жискетта.
— Несомненно, — ответил он; потом добавил несколько напыщенно: — Я автор этой мистерии, сударыни!
— В самом деле? — воскликнули изумленные девушки.
— В самом деле, — слегка приосаниваясь, ответил поэт, — то есть нас двое: Жеан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмостки, и я, который написал пьесу. Мое имя — Пьер Гренгуар.
Едва ли сам автор «Сида» с большей гордостью произнес бы: «Пьер Корнель».
Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор новой моралитэ столь неожиданно разоблачил себя, к наивному восхищению Жискетты и Лиенарды, прошло немало времени. Примечательный факт: вся эта возбужденная толпа теперь благодушно ожидала начала представления, положившись на слово комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и доныне всякий день подтверждается в наших театрах: лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления — это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно.
Однако школяр Жеан не дремал.
— Эй! — закричал он среди всеобщего спокойного ожидания, сменившего прежнюю сумятицу. — Юпитер! Госпожа Богородица! Чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем сначала!
Этой угрозы было достаточно.
Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов; ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре нарумяненные, пестро одетые фигуры. Вскарабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону; оркестр умолк. Мистерия началась.
Вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны, четыре персонажа пьесы среди воцарившегося благоговейного молчания начали декламировать пролог, от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемая ими роль; и это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы, отличавшиеся один от другого лишь качеством ткани: одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи, одежда второго — из шелка, третьего — из шерсти, четвертого — из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — заступ. А чтобы помочь тем тугодумам, которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не доискались бы их смысла, на подоле парчового одеяния большими черными буквами было вышито: «Я — дворянство», на подоле шелкового — «Я — духовенство», на подоле шерстяного — «Я — купечество» и на подоле льняного — «Я — крестьянство». Каждый внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола — по более короткому платью и по островерхим шапочкам, и две женского пола — по длинным платьям и капюшонам на голове.
Лишь очень неблагожелательно настроенный человек не понял бы за поэтическим языком пролога того, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство — с Дворянством и что обе счастливые четы сообща владели великолепным золотым дельфином[41], которого решили присудить красивейшей женщине мира. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Голконды, принцессу Трапезундскую, дочь великого хана татарского и проч., Крестьянство, Духовенство, Дворянство и Купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сентенций, афоризмов, софизмов, определений и поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лиценциата.
Все это было действительно великолепно!
Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорических фигуры взапуски изливали потоки метафор, не было столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта, нашего славного Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять перед тем, чтобы не назвать свое имя двух хорошеньким девушкам. Он отошел и стал на свое прежнее место за каменным столбом, в нескольких шагах от них; он внимал, он глядел, он упивался. Отзвук благосклонных рукоплесканий, которыми встретили начало его пролога, еще продолжал звучать у него в ушах, и весь он погрузился в то блаженное созерцательное состояние, в каком автор внимает актеру, с чьих уст одна за другой слетают его мысли среди тишины многочисленной аудитории. О достойный Пьер Гренгуар!
Хотя нам и грустно в этом сознаться, но блаженство этих первых минут было вскоре нарушено. Едва Пьер Гренгуар пригубил опьяняющую чашу восторга и торжества, как в нее примешалась капля горечи.
Какой-то оборванный нищий, настолько затертый в толпе, что это мешало ему просить милостыню, и не нашедший, по-видимому, достаточного возмещения за понесенный им убыток в карманах соседей, вздумал взобраться на местечко повиднее, желая привлечь к себе и взгляды и подаяния. Едва лишь послышались первые стихи пролога, как он, вскарабкавшись по столбам возвышения, приготовленного для послов, влез на карниз, окаймлявший нижнюю часть балюстрады, и примостился там, словно взывая своими лохмотьями и отвратительной раной на правой руке к вниманию и жалости зрителей. Впрочем, он не произносил ни слова.
Покуда он молчал, действие пролога развивалось беспрепятственно, и никакого ощутимого беспорядка не произошло бы, если б, на беду, школяр Жеан с высоты своего столба не заметил нищего и его гримас. Безумный смех разобрал молодого повесу, и он, не заботясь о том, что прерывает представление и нарушает всеобщую сосредоточенность, задорно крикнул:
— Поглядите-ка на этого хиляка! Он просит милостыню!
Тот, кому случалось бросить камень в болото с лягушками или выстрелом из ружья вспугнуть стаю птиц, легко вообразит себе, какое впечатление вызвали эти неуместные слова среди аудитории, внимательно следившей за представлением. Гренгуар вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Пролог оборвался на полуслове, и все головы повернулись к нищему, а тот, нисколько не смутившись и видя в этом происшествии лишь подходящий случай собрать жатву, полузакрыл глаза и со скорбным видом затянул:
— Подайте Христа ради!
— Вот тебе раз! — продолжал Жеан. — Да ведь это Клопен Труйльфу, клянусь душой! Эй, приятель! Должно быть, твоя рана на ноге здорово тебе мешала, если ты ее перенес на руку?
И тут же он с обезьяньей ловкостью швырнул мелкую серебряную монету в засаленную шапку нищего, которую тот держал в своей больной руке. Не сморгнув, нищий принял и подачку и издевку и продолжал жалобным тоном:
— Подайте Христа ради!
Это происшествие сильно развлекло зрителей; добрая половина их, во главе с Робеном Пуспеном и всеми школярами, принялась весело рукоплескать этому своеобразному дуэту, исполняемому в середине пролога крикливым голосом школяра и невозмутимо-монотонным напевом нищего.
Гренгуар был очень недоволен. Оправившись от изумления, он, даже не удостоив презрительным взглядом двух нарушителей тишины, изо всех сил закричал актерам:
— Продолжайте, черт возьми! Продолжайте!
В эту минуту он почувствовал, что кто-то потянул его за полу камзола. Досадливо обернувшись, он едва мог заставить себя улыбнуться. А нельзя было не улыбнуться. Это Жискетта ла Жансьен, просунув свою ручку сквозь решетку балюстрады, старалась таким способом привлечь его внимание.
— Сударь, — спросила молодая девушка, — а разве они будут продолжать?
— Конечно, — весьма обиженный подобным вопросом, ответил Гренгуар.
— В таком случае, мессир, — попросила она, — будьте столь любезны, объясните мне…
— То, что они будут говорить? — прервал ее Гренгуар. — Извольте. Итак…
— Да нет же, — сказала Жискетта, — объясните мне, что они говорили до сих пор.
Гренгуар подскочил, подобно человеку, у которого задели открытую рану.
— Черт побери эту тупоголовую дуру! — пробормотал он сквозь зубы.
И с этой минуты Жискетта погибла в его мнении.
Между тем актеры вняли его настояниям, и публика, увидев, что они стали декламировать, принялась их слушать, хотя вследствие происшествия, столь неожиданно разделившего пролог на две части, она упустила множество красот пьесы. Гренгуар с горечью думал об этом. Все же мало-помалу воцарилась тишина, школяр умолк, нищий пересчитывал монеты в своей шапке, и пьеса пошла своим чередом.
В сущности, это было великолепное произведение, и мы находим, что с некоторыми поправками им можно при желании воспользоваться и в наши дни. Фабула его, несколько растянутая и бессодержательная, что было в порядке вещей в те времена, отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души чистосердечно восхищался ее ясностью. Само собой разумеется, что четыре аллегорических персонажа, не найдя возможности приличным образом отделаться от своего золотого дельфина, слегка утомились, объехав три части света. Затем следовало похвальное слово чудо-рыбе, заключавшее в себе тысячу деликатных намеков на юного жениха Маргариты Фландрской, который тогда скучал один в своем Амбуазском замке, нимало не подозревая, что Крестьянство и Духовенство, Дворянство и Купечество ради него объездили весь свет. Итак, упомянутый дельфин был молод, был прекрасен, был могуч, а главное (вот чудесный источник всех королевских добродетелей!) он был сыном льва Франции. Я утверждаю, что эта смелая метафора очаровательна и что в день, посвященный аллегориям и эпиталамам в честь королевского бракосочетания, естественная история, процветающая на театральных подмостках, нисколько не бывает смущена тем, что лев породил дельфина. Столь редкостное и высокопарное сравнение свидетельствует лишь о поэтическом восторге. При всем том, с точки зрения критики, следует отметить, что поэту для развития этой великолепной мысли двухсот стихов было многовато. Правда, по распоряжению господина прево мистерии надлежало длиться с полудня до четырех часов, и надо же было актерам что-то говорить. Впрочем, толпа слушала терпеливо.
Внезапно, в самый разгар ссоры между барышней Купечеством и госпожой Дворянством, в то время когда дядюшка Крестьянство произносил следующие изумительные стихи:
Нет, царственней его не видывали зверя,дверь почетного возвышения, до сих пор остававшаяся так некстати закрытой, еще более некстати распахнулась, и звучный голос привратника провозгласил:
— Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!
Глава 3
Кардинал
Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день[42], залп двадцати крепостных аркебуз, выстрел знаменитой кулеврины на башне Бильи, из которой в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито одним ударом семь бургундцев, взрыв порохового склада у ворот Тампль — все это не столь сильно оглушило бы его в такую торжественную и драматическую минуту, как эта короткая фраза привратника: «Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»
И отнюдь не потому, что Пьер Гренгуар боялся или презирал монсеньора кардинала. Он не был подвержен ни подобному малодушию, ни подобному высокомерию. Истый эклектик, как выражаются ныне, Гренгуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, уравновешенных и спокойных духом людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины, stare in dimidio rerum, всегда здраво рассуждают и склонны к либеральной философии, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от мудрости, сей новой Ариадны[43], клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Гренгуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в XV веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца дю Брель, когда он в XVI столетии писал следующие божественно-наивные, достойные перейти из века в век строки: «Я парижанин по рождению и «паризианин» по манере говорить, ибо «parrhisia» в переводе с греческего означает «свобода слова», коей я и докучал даже монсеньорам кардиналам, дяде и брату монсеньора принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга».
Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Гренгуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт, обладая слишком большой дозой здравого смысла и слишком изношенным камзолом, придавал особое значение тому, чтобы его намеки в прологе, особенно же похвалы, расточаемые в нем по адресу дофина, сына льва Франции, дошли до святейшего слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что если сущность поэта может быть обозначена числом десять, то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополизируя ее, как выражается Рабле, вероятно, нашел бы в ней одну десятую корыстолюбия на девять десятых самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти девять десятых самолюбия Гренгуара, распухнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли таких удивительных размеров, что совершенно придушили собой ту неприметную молекулу корыстолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта весьма драгоценна, так как она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Гренгуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоявшее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тирад, которые всякую минуту изливались из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар разделял всеобщий восторг и, в противоположность Лафонтену, который на представлении своей комедии «Флорентинец» спросил: «Что за невежда сочинил эти бредни?», наш поэт охотно осведомился бы у соседа: «Кем написан этот шедевр?» И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала.
Опасения Гренгуара оправдались полностью. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» — повторяли тысячи уст. Злополучный пролог был прерван вторично.
Кардинал помедлил минуту у ступенек, ведущих на возвышение. Пока он окидывал довольно равнодушным взором толпу, всеобщее возбуждение усилилось. Каждому хотелось разглядеть кардинала. Каждый старался поднять голову выше плеча соседа.
Воистину это было высокопоставленное лицо, созерцание которого стоило любых прочих зрелищ. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Лионский, примас Галльский, был одновременно связан родственными узами с Людовиком XI через своего брата Пьера, сеньора Боже, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым через свою мать Агнесу Бургундскую. Отличительными, коренными чертами характера примаса Галльского были гибкость царедворца и раболепие перед власть имущими. Легко вообразить себе те многочисленные затруднения, которые ему доставляло это двойное родство, и все те подводные камни светской жизни, между которыми его умственный челн вынужден был лавировать, дабы не разбиться, налетев на Людовика или на Карла — эту Сциллу и Харибду[44], уже поглотивших герцога Немурского и коннетабля Сен-Поль. Милостью Неба кардинал сумел благополучно разделаться с этим путешествием и беспрепятственно достигнуть Рима, то есть кардинальской мантии. Но хотя он и находился в гавани или, точнее говоря, именно потому, что он находился в гавани, он не мог спокойно вспоминать о превратностях своей долгой политической карьеры, исполненной тревог и трудов. И он часто повторял, что 1476 год был для него «черным и белым», подразумевая под этим, что в один и тот же год он лишился матери, герцогини Бурбонской, и своего двоюродного брата, герцога Бургундского, и что одна утрата смягчила для него горечь другой.
Впрочем, он был человек добродушный, вел веселую жизнь, охотно попивал вино из королевских виноградников Шальо, благосклонно относился к Ришарде ла Гармуаз и к Томасе ла Сальярд, охотнее подавал милостыню хорошеньким девушкам, нежели старухам, и за все это был любим простонародьем Парижа. Обычно он появлялся в сопровождении целого штата знатных епископов и аббатов, любезных, веселых, всегда согласных покутить; и не раз почтенные прихожанки Сен-Жермен д´Озэр, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, возмущались, слыша, как те же самые голоса, которые только что служили вечерню, теперь под звон бокалов тянули «Bibamus papaliter»[45], вакхическую песню Папы Бенедикта XII, прибавившего третью корону к тиаре[46].
Вероятно, благодаря именно этой популярности, вполне им заслуженной, кардинал при своем появлении избежал враждебного приема со стороны шумной толпы, выражавшей такое недовольство всего лишь несколько минут назад и весьма мало расположенной отдавать дань уважения кардиналу в тот самый день, когда ей предстояло избрать Папу. Но парижане — народ не злопамятный; к тому же, самовольно заставив начать представление, добрые горожане сочли, что они как бы восторжествовали над кардиналом, и были вполне удовлетворены. Вдобавок ко всему кардинал Бурбонский был красавец мужчина, в великолепной пурпурной мантии, которую он умел носить с большим изяществом, а это значило, что все женщины — иначе говоря, добрая половина залы — были на его стороне. Ведь несправедливо и бестактно ошикать кардинала только за то, что он опоздал и этим задержал начало спектакля, когда он красавец мужчина и с таким изяществом носит свою пурпурную мантию!
Итак, кардинал вошел, улыбнулся присутствующим той унаследованной от своих предшественников улыбкой, которою сильные мира сего приветствуют толпу, и медленно направился к своему креслу, обитому алым бархатом, размышляя, по-видимому, о чем-то совершенно постороннем. Сопровождавший его кортеж епископов и аббатов, или, как сказали бы теперь, его генеральный штаб, вторгся за ним на возвышение, усилив еще больше шум и любопытство толпы. Всякий хотел указать, назвать, дать понять, что знает хоть одного из них: кто — Алоде, епископа Марсельского, если ему не изменяет память; кто — настоятеля аббатства Сен-Дени; кто — Робера де Леспинаса, аббата Сен-Жермен-де-Пре; этого распутного брата фаворитки Людовика XI; при этом возникало много путаницы и шумных споров. Что же касается школяров, то они сквернословили. Это был их день, их шутовской праздник, их сатурналии[47], ежегодная оргия корпораций писцов и школяров. Любая непристойность считалась сегодня законной и священной. А к тому же в толпе находились такие шалые бабенки, как Симона Четыре Фунта, Агнесса Треска, Розина Козлоногая. Как же не посквернословить в свое удовольствие и не побогохульствовать в такой день, как сегодня, и в такой честной компании, как духовные лица и веселые девицы? И они не зевали; среди всеобщего гама звучал ужасающий концерт ругательств, непристойностей, исполняемый школярами и писцами, распустившими языки, которые в течение всего года сдерживались страхом перед раскаленным железом святого Людовика. Бедный святой Людовик! Как они глумились над ним в его собственном Дворце правосудия! Среди вновь появлявшихся на возвышении духовных особ каждый школяр намечал себе жертву — черную, серую, белую или лиловую рясу. Что до Жеана Фролло де Молендино, то он, как брат архидьякона, избрал себе мишенью красную мантию и дерзко напал на нее. Устремив на кардинала бесстыжие свои глаза, он орал что есть мочи:
— Сарра repleta mero![48]
Все эти выкрики, которые мы приводим здесь без прикрас в назидание читателю, настолько заглушались всеобщим шумом, что тонули в нем, не достигнув парадного помоста. Впрочем, всякого рода вольности в этот день настолько вошли в обычай, что мало трогали кардинала. К тому же у него была иная забота, и это ясно отражалось на его лице, — эта забота преследовала его по пятам и почти одновременно с ним взошла на помост: то было фламандское посольство.
Кардинал не был глубоким политиком; его не слишком беспокоили последствия брака его кузины Маргариты Бургундской и его кузена Карла, дофина Вьенского; его весьма мало тревожило и то, как долго продлится столь непрочное «доброе согласие» между герцогом Австрийским и королем Франции и как отнесется король Англии к пренебрежению, которое выказали его дочери. Он каждый вечер спокойно попивал королевское вино из виноградников Шальо, нимало не подозревая, что несколько бутылок этого вина (правда, несколько разбавленного и подправленного доктором Куактье), радушно предложенные Эдуарду IV Людовиком XI, в одно прекрасное утро избавят Людовика XI от Эдуарда IV. «Достопочтенное посольство господина герцога Австрийского» не причиняло кардиналу ни одной из вышеупомянутых забот, но тяготило его в ином отношении. И в самом деле, было все же тяжко, как мы упоминали об этом уже ранее, ему, Карлу Бурбонскому, быть принужденным чествовать каких-то мещан; ему, кардиналу, — любезничать с какими-то старшинами; ему, французу, веселому сотрапезнику на пирах, — угощать каких-то фламандцев, пивохлёбов; и все это проделывать на людях! Несомненно, это была одна из самых отвратительных личин, какую ему когда-либо приходилось надевать на себя в угоду королю.
Но едва лишь привратник звучным голосом провозгласил: «Господа послы герцога Австрийского», он с самым любезным видом (настолько он изучил это искусство) повернулся к входной двери. Нечего и говорить, что его примеру последовали все остальные.
Тогда попарно, со степенной важностью, представлявшей разительный контраст оживлению церковной свиты Карла Бурбонского, появились сорок восемь посланников Максимилиана Австрийского, возглавляемые преподобным отцом Иоанном, аббатом Сен-Бертенским, канцлером ордена Золотого руна, и Иаковом де Гуа, сьёром Доби, верховным судьей города Гента.
В зале воцарилась глубокая тишина, лишь изредка прерываемая заглушённым смехом, когда привратник, коверкая и путая, выкрикивал странные имена и гражданские звания, невозмутимо сообщаемые ему каждым из новоприбывших фламандцев. Тут были: мэтр Лоис Рёлоф, городской старшина Лувена, мессир Клаис Этюэльд, старшина Брюсселя, мессир Пауль Баёст, сьёр Вуармизель, представитель Фландрии, мэтр Жеан Колегене, бургомистр Антверпена, мэтр Георг де ла Мер, первый старшина города Гента, мэтр Гельдольф ван дер Хаге, старшина землевладельцев того же города, и сьёр Бирбек, и Жеан Пиннок, и Жеан Димерзель и т. д. — судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины, судьи — все, как один, важные, неповоротливые, чопорные, разряженные в бархат и штоф, в черных бархатных шапочках, украшенных кистями из золотых кипрских нитей. Однако у всех у них были славные фламандские лица, исполненные строгости и достоинства, родственные тем, чьи сильные тяжелые черты выступают на темном фоне «Ночного дозора» Рембрандта[49]. Это были люди, всем своим видом как бы подтверждавшие правоту Максимилиана Австрийского, положившегося «всецело», как сказано было в его манифесте, на их «здравый смысл, мужество, опытность, честность и предусмотрительность».
За исключением, впрочем, одного. У этого было тонкое, умное, лукавое лицо — мордочка обезьяны и дипломата одновременно. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и, несмотря на то что тот носил негромкое имя «Гильом Рим, советник и первый сановник города Тента», низко ему поклонился.
Лишь немногим было известно тогда, что представлял собою Гильом Рим. Человек редкого ума, способный в революционную эпоху оказаться на гребне событий и блестяще проявить себя, он в XV веке обречен был на подпольные интриги и, как выразился герцог Сен-Симон, «на существование в подкопах». Тем не менее он был оценен самым выдающимся «подкопных дел мастером» Европы: он интриговал заодно с Людовиком XI и нередко прилагал руку к секретным делам короля. Но ничего этого не подозревала толпа, изумленная необычайным вниманием кардинала к этому невзрачному фламандскому советнику.
Глава 4
Мэтр Жан Копеноль
Когда первый сановник города Гента и его высокопреосвященство, отвешивая друг другу глубокие поклоны, обменивались произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, широколицый и широкоплечий, выступил вперед, намереваясь войти вместе с Гильомом Римом; он напоминал бульдога в паре с лисой. Его войлочная шляпа и кожаная куртка казались грязным пятном среди окружающих его шелка и бархата. Полагая, что это какой-нибудь случайно затесавшийся сюда конюх, привратник преградил ему дорогу.
— Эй, приятель! Сюда нельзя!
Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.
— Чего этому болвану от меня нужно? — спросил он таким громким голосом, что вся зала обратила внимание на этот странный разговор. — Ты что, не видишь, кто я такой?
— Ваше имя? — спросил привратник.
— Жак Копеноль.
— Ваше звание?
— Чулочник в Генте, владелец лавки под вывеской «Три цепочки».
Привратник попятился. Докладывать о старшинах, о бургомистрах еще куда ни шло; но о чулочнике — это уж чересчур! Кардинал был словно на иголках. Толпа прислушивалась и глазела. Целых два дня его преосвященство старался, как только мог, обтесать этих фламандских бирюков, чтобы они имели более представительный вид, — и вдруг эта грубая, резкая выходка. Между тем Гильом Рим приблизился к привратнику и с тонкой улыбкой еле слышно шепнул ему:
— Доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин города Гента.
— Привратник, — повторил кардинал громким голосом, — доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин славного города Гента.
Это была оплошность. Гильом Рим, действуя самостоятельно, сумел бы уладить дело, но Копеноль услышал слова кардинала.
— Нет, крест честной! — громовым голосом воскликнул он. — Жак Копеноль, чулочник! Слышишь, привратник? Ни больше ни меньше! Чулочник! Чем это плохо? Сам господин эрцгерцог[50] не раз прикладывал перчатку к моим чулкам.
Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Парижане умеют сразу понять шутку и оценить ее по достоинству.
Добавьте к тому же, что Копеноль был простолюдин, как и те, что его окружали. Поэтому сближение между ними установилось быстро, молниеносно и совершенно естественно. Высокомерная выходка фламандского чулочника, унизившего придворных вельмож, пробудила в этих простых душах чувство собственного достоинства, столь смутное и неопределенное в XV веке. Он был им ровня, этот чулочник, дающий отпор кардиналу, — сладостное утешение для бедняг, приученных с уважением подчиняться даже слуге судебного пристава, подчиненного судье, в свою очередь подчиненного настоятелю аббатства Святой Женевьевы — шлейфоносцу кардинала.
Копеноль гордо поклонился его высокопреосвященству, и тот вежливо отдал поклон всемогущему горожанину, внушавшему страх даже Людовику XI. Гильом Рим, «человек проницательный и лукавый», как отзывался о нем Филипп де Комин[51], насмешливо и с чувством превосходства следил, как они отправлялись на свои места: кардинал — смущенный и озабоченный, Копеноль — спокойный и надменный. Последний, конечно, размышлял о том, что в конце концов звание чулочника ничем не хуже любого иного и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он, Копеноль, сейчас выдавал замуж, гораздо менее опасалась бы его, будь он кардиналом, а не чулочником. Ведь не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого; не кардинал несколькими словами вооружил толпу против слез и молений принцессы Фландрской, явившейся к самому подножию эшафота с просьбой к своему народу пощадить ее любимцев. А торговец чулками только поднял свою руку в кожаном нарукавнике — и ваши головы, сиятельные сеньоры Гюи д´Эмберкур и канцлер Гильом Гугоне, слетели с плеч!
Однако неприятности многострадального кардинала еще не кончились, и ему пришлось до дна испить чашу горечи, попав в столь дурное общество.
Читатель, быть может, не забыл еще нахального нищего, который, едва только начался пролог, вскарабкался на карниз кардинальского помоста. Прибытие именитых гостей отнюдь не заставило его покинуть свой пост, и в то время как прелаты и послы набились в места, отведенные им на возвышении, точно настоящие фламандские сельди в бочонок, он устроился поудобнее и спокойно скрестил ноги на архитраве. То была неслыханная дерзость, но в первую минуту никто не приметил этого, так как все были заняты другим. Казалось, нищий тоже не замечал происходящего в зале и беспечно, как истый неаполитанец, покачивая головой среди всеобщего шума, тянул по привычке: «Сотворите милостыню!»
Нет сомнения, что только он один из всего собрания не соблаговолил повернуть голову к препиравшимся привратнику и Копенолю. Но случаю было угодно, чтобы достойный чулочник города Гента, к которому толпа почувствовала такое расположение и на которого устремлены были все взоры, сел в первом ряду на помосте, как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее изумление, когда фламандский посол, пристально взглянув на этого пройдоху, расположившегося возле него, дружески хлопнул его по прикрытому рубищем плечу. Нищий обернулся; оба удивились, узнали друг друга, и их физиономии просияли; затем, нимало не заботясь о зрителях, чулочник и нищий принялись перешептываться, держась за руки, причем лохмотья Клопена Труйльфу, раскинутые на золотистой парче возвышения, напоминали гусеницу на апельсине.
Необычность этой странной сцены вызвала такой взрыв безудержного веселья и оживления среди публики, что кардинал не замедлил обратить на это внимание. Слегка наклонившись и лишь смутно различая со своего места омерзительное одеяние Труйльфу, он решил, что нищий просит милостыню, и, возмущенный такой наглостью, воскликнул:
— Господин старший судья, бросьте-ка этого негодяя в реку!
— Крест честной! Высокочтимый господин кардинал, — не выпуская руки Клопена, сказал Копеноль, — да ведь это мой приятель!
— Слава! Слава! — заревела толпа.
И с этой минуты мэтр Копеноль в Париже, как и в Гейте, «снискал великое доверие народа, ибо люди такого склада, — говорит Филипп де Комин, — обычно им пользуются, когда ведут себя столь бесчинно».
Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю аббатства Святой Женевьевы, он проговорил вполголоса:
— Странных, однако, послов отправил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты.
— Вы слишком любезны с этими фламандскими свиньями, ваше высокопреосвященство. Margaritas ante porcos[52].
— Но это скорее porcos ante Margaritam[53], — ответил, улыбаясь, кардинал.
Свита в сутанах пришла в восторг от этого каламбура. Кардинал почувствовал себя несколько утешенным: он сквитался с Копенолем — его каламбур имел не меньший успех.
Теперь позволим себе задать вопрос тем из наших читателей, которые, как ныне принято говорить, одарены способностью обобщать образы и идеи: вполне ли отчетливо они представляют себе зрелище, которое являет собой в эту минуту обширный параллелограмм большой залы Дворца правосудия? Посреди залы, у западной стены, широкий и роскошный помост, обтянутый золотой парчой, куда через маленькую стрельчатую дверку одна за другой выходят важные особы, имена которых пронзительным голосом торжественно выкликает привратник. На передних скамьях уже разместилось множество почтенных фигур, закутанных в горностай, бархат и пурпур. Вокруг этого возвышения, где царят тишина и благоприличие, под ним, перед ним, всюду — невероятная давка и невероятный шум. Тысячи взглядов устремлены на каждого сидящего на возвышении, тысячи уст шепчут каждое имя. Поистине это зрелище отменно любопытное и вполне заслуживающее внимания зрителей. Но там, в конце зала, что означает это подобие подмостков, на которых извиваются восемь раскрашенных марионеток — четыре наверху и четыре внизу? И кто же этот бледный человек в черном потертом камзоле, что стоит возле подмостков? Увы, дорогой читатель, это Пьер Гренгуар и его пролог!
Мы о нем совершенно позабыли.
А именно этого-то он и опасался.
С той минуты, как появился кардинал, Гренгуар не переставал хлопотать о спасении своего пролога. Прежде всего он приказал замолкшим было исполнителям продолжать и говорить погромче; затем, видя, что их никто не слушает, он остановил их и в течение перерыва, длившегося около четверти часа, не переставал топать ногами, бесноваться, взывать к Жискетте и Лиенарде, подстрекать своих соседей, чтобы те требовали продолжения пролога; но все было тщетно. Никто не сводил глаз с кардинала, послов и возвышения, где, как в фокусе, скрещивались взгляды всего огромного кольца зрителей. Кроме того, надо думать — и мы упоминаем об этом с прискорбием, — что пролог стал уже несколько надоедать слушателям, когда его высокопреосвященство кардинал своим появлением столь безжалостно прервал его. Наконец на помосте, обтянутом золотой парчой, разыгрывался тот же спектакль, что и на мраморном столе: борьба между Крестьянством и Духовенством, Дворянством и Купечеством. И большинство зрителей предпочитало видеть их запросто, в действии, подлинных, дышащих, толкающихся, облеченных в плоть и кровь, среди фламандского посольства и епископского двора, в мантии кардинала или куртке Копеноля, нежели под видом раскрашенных, выфранченных, изъясняющихся стихами и похожих на соломенные чучела актеров в белых и желтых туниках, которые напялил на них Гренгуар.
Впрочем, когда наш поэт заметил, что шум несколько утих, он придумал хитрость, которая могла бы спасти положение.
— Сударь, — обратился он к своему соседу, добродушному толстяку, лицо которого выражало терпение, — а не начать ли сначала?
— Что начать? — спросил сосед.
— Да мистерию, — ответил Гренгуар.
— Как вам будет угодно, — согласился сосед.
Этого полуодобрения оказалось достаточно для Гренгуара, и он, взяв на себя дальнейшие заботы, замешавшись поглубже в толпу, изо всех сил принялся кричать: «Начинайте сначала мистерию, начинайте сначала!»
— Черт возьми, — сказал Жоаннес де Молендино, — что это они там распевают в конце залы? (Гренгуар шумел и орал за четверых.) Послушайте, друзья, разве мистерия не окончилась? Они хотят начать ее сначала! Это несправедливо!
— Несправедливо! Несправедливо! — завопили школяры. — Долой мистерию! Долой!
Но Гренгуар, надрываясь, кричал еще сильнее: «Начинайте! Начинайте!»
Наконец эти крики привлекли внимание кардинала.
— Господин старший судья, — обратился он к стоявшему в нескольких шагах от него высокому человеку в черном, — чего эти бездельники подняли такой вой, словно бесы перед заутреней?
Дворцовый судья был чем-то вроде чиновника-амфибии, какой-то разновидностью летучей мыши в судейском сословии; он одновременно был похож на крысу и на птицу, на судью и на солдата.
Он приблизился к его преосвященству и, хотя сильно боялся вызвать его неудовольствие, все же, заикаясь, объяснил причину непристойного поведения толпы: полдень пожаловал до прибытия его высокопреосвященства, и актеры были вынуждены начать представление, не дождавшись его высокопреосвященства.
Кардинал расхохотался.
— Клянусь честью, — воскликнул он, — ректору Университета следовало поступить точно так же! Как вы полагаете, мэтр Гильом Рим?
— Монсеньор, — ответил Гильом Рим, — удовольствуемся тем, что нас избавили от половины представления. Мы во всяком случае в выигрыше.
— Дозволит ли ваше высокопреосвященство этим бездельникам продолжать свою комедию? — спросил судья.
— Продолжайте, продолжайте, — ответил кардинал, — мне все равно. Я тем временем почитаю требник.
Судья подошел к краю помоста и, водворив движением руки тишину, провозгласил:
— Горожане, селяне и парижане, желая удовлетворить как тех, кто требует, чтобы представление начали с самого начала, так и тех, кто требует, чтобы его прекратили, его высокопреосвященство приказывает продолжать.
Обе стороны принуждены были покориться. Но и автор и зрители еще долго хранили в душе обиду на кардинала.
Итак, персонажи на сцене вновь принялись за свои разглагольствования, и Гренгуар стал уповать, что хоть конец его произведения будет выслушан. Но и эта надежда не замедлила обмануть его, как и другие его мечты. В аудитории действительно установилась более или менее сносная тишина, но Гренгуар не заметил, что в ту минуту, когда кардинал приказал продолжать представление, места на возвышении были далеко еще не все заняты и что вслед за фламандскими гостями появились другие участники торжественной процессии, чьи имена и звания, возвещаемые монотонным голосом привратника, врезались в его диалог, внося изрядную путаницу. И в самом деле, вообразите себе, что во время представления визгливый голос привратника вставляет между двумя стихами, а нередко и между двумя полустишиями, такие отступления:
— Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор в духовном суде!
— Жеан де Гарле, дворянин, исполняющий должность начальника ночной стражи города Парижа!
— Мессир Галио де Женуалак, рыцарь, сеньор де Брюсак, начальник королевской артиллерии!
— Мэтр Дре-Рагье, инспектор королевских лесов, вод и французских земель Шампани и Бри!
— Мессир Луи де Гравиль, рыцарь, советник и камергер короля, адмирал Франции, хранитель Венсенского леса!
— Мэтр Дени де Мерсье, смотритель убежища для слепых в Париже!
Это становилось нестерпимым.
Столь странный аккомпанемент, мешавший следить за ходом действия, тем сильнее возмущал Гренгуара, что интерес зрителей к пьесе должен был, как ему казалось, все возрастать; его произведению недоставало лишь одного — внимания слушателей. И действительно, трудно вообразить себе более замысловатое и драматическое сплетение. В то время, когда четыре героя пролога скорбели о своем столь затруднительном положении, вдруг перед ними предстала сама Венера, vera incessu patuit dea[54], одетая в прелестную тунику, на которой был вышит корабль — герб города Парижа. Она явилась требовать дофина, обещанного прекраснейшей женщине в мире. Юпитер, громы которого грохочут в одевальной, поддерживает требование богини, и она уже готова увести дофина за собой, то есть попросту выйти за него замуж, как вдруг юная девушка в белом шелковом платье с маргариткой в руке (прозрачный намек на Маргариту Фландрскую) явилась оспаривать победу Венеры. Внезапная перемена и осложнение. После долгих пререканий Венера, Маргарита и прочие решают обратиться к суду Пречистой Девы. В пьесе была еще одна прекрасная роль — Дона Педро, короля Месопотамии, но благодаря бесчисленным перерывам весьма трудно было уразуметь, на что он там был нужен. Все эти действующие лица взбирались на сцену по приставной лестнице.
Но все было напрасно, ни одна из красот пьесы никем не была понята и оценена. Казалось, с той минуты, как прибыл кардинал, какая-то невидимая волшебная нить внезапно притянула все взоры от мраморного стола к возвышению, от южного конца залы к западному. Ничто не могло разрушить чары, овладевшие аудиторией. Все глаза были устремлены туда; вновь прибывающие гости, их проклятые имена, их физиономии, одежда непрестанно отвлекали зрителей. Это было нестерпимо! За исключением Жискетты и Лиенарды, которые время от времени, когда Гренгуар дергал их за рукав, оборачивались к сцене, да терпеливого толстяка соседа, никто не слушал, никто не смотрел злополучную, всеми покинутую моралитэ. Гренгуар со своего места видел лишь профили зрителей.
С какой горечью наблюдал он, как постепенно разваливалось сооруженное им здание славы и поэзии! И подумать только, что еще недавно вся эта толпа, горя нетерпением поскорее услышать его мистерию, готова была взбунтоваться против самого судьи! Теперь, когда ее желание исполнено, она не обращает на пьесу никакого внимания. На ту самую пьесу, начало которой столь единодушно приветствовала! Вот он, вечный закон прилива и отлива народного благоволения! А за минуту до этого толпа чуть не повесила стражу суда! Чего бы не дал Гренгуар, чтобы воротить это сладостное мгновение!
Нудный монолог привратника, однако, окончился; все уже собрались, и Гренгуар вздохнул свободно. Комедианты снова мужественно принялись декламировать. Но тут встает чулочник, мэтр Копеноль, и среди всеобщего напряженного молчания произносит ужасную речь:
— Господа горожане и дворяне Парижа, клянусь Богом, я не понимаю, что все мы тут делаем. Я вижу вон на тех подмостках, в углу, каких-то людей, которые, видимо, собираются драться. Не знаю, может быть, это и есть то самое, что у вас называется «мистерией», но я не вижу здесь ничего занятного. Эти люди только треплют языком, и ничего больше! Вот уж четверть часа, как я жду драки, а они ни с места! Это трусы, которые умеют только браниться. Вам следовало бы выписать сюда бойцов из Лондона или Роттердама, тогда бы дело пошло как надо. Посыпались бы такие кулачные удары, что их слышно было бы даже на площади! А эти — никудышный народ. Пусть уж лучше пропляшут какой-нибудь мавританский танец или выкинут что-нибудь забавное. Это совсем непохоже на то, что мне говорили. Мне обещали показать празднество шутов и избрание шутовского папы. У нас в Генте есть тоже свой папа шутов, в этом мы не отстаем от других, крест честной! Но мы делаем так. Собирается такая же толпа, как и здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и корчит при этом гримасу. Тот, у кого, по признанию всех, она получится самой безобразной, выбирается папой. Вот и все. Это очень забавно. Не желаете ли избрать папу шутов по обычаю моей родины? Во всяком случае, это будет повеселее, чем слушать этих болтунов. Если же они захотят погримасничать, то можно и их принять в игру. Ваше мнение, граждане! Среди нас достаточно причудливых образчиков обоего пола, чтобы посмеяться над ними по-фламандски, и изрядное количество уродов, от которых можно ожидать отменных гримас!
Гренгуар собрался было ответить, но изумление, гнев, негодование сковали ему язык. К тому же предложение ставшего уже популярным чулочника было так восторженно встречено толпой, польщенной титулом «дворяне», что всякое сопротивление было бы бесполезно. Ему ничего не оставалось делать, как отдаться течению.
Гренгуар закрыл лицо руками — у него не было плаща, которым он мог бы покрыть голову наподобие Агамемнона Тиманта[55].
Глава 5
Квазимодо
В одно мгновение все было готово в зале для осуществления мысли Копеноля. Горожане, школяры и судебные писцы принялись за дело. Маленькая часовня, расположенная против мраморного стола, была избрана сценой для показа гримас. Соискатели должны были просовывать головы в каменное кольцо в середине прекрасного окна-розетки над входом, откуда выбили стекло. Чтобы добраться до него, достаточно было влезть на две бочки, неизвестно откуда взявшиеся и кое-как установленные одна на другую. Условились, что каждый участник, будь то мужчина или женщина (могли избрать и папессу), дабы не нарушать цельности и силы впечатления от своей гримасы, будет находиться в часовне с закрытым лицом, пока не придет время показаться в отверстии. Вмиг часовня наполнилась кандидатами в папы, и дверь за ними захлопнулась.
Копеноль со своего места отдавал приказания, всем руководил, все устраивал. В разгаре этой суматохи кардинал, не менее ошеломленный, чем Гренгуар, под предлогом неотложных дел и предстоящей вечерни удалился в сопровождении своей свиты, и толпа, которую так взволновало его прибытие, не обратила теперь ни малейшего внимания на его уход. Единственным человеком, заметившим бегство его преосвященства, был Гильом Рим. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свой кругооборот: возникнув на одном конце залы и продержавшись одно мгновение в центре, оно перешло теперь к противоположному концу. И мраморный стол, и обтянутое золотой парчой возвышение уже успели погреться в его лучах, очередь была за часовней Людовика XI. Наступило раздолье для всех безумств. В зале остались только фламандцы и всякий сброд.
Начался показ гримас. Первая появившаяся в отверстии рожа, с вывороченными веками, разинутым наподобие пасти ртом и собранным в складки лбом, напоминающим голенище гусарского сапога времен Империи, вызвала у присутствующих такой безудержный хохот, что Гомер принял бы всю эту деревенщину за богов. А между тем большая зала менее всего напоминала Олимп, и бедный Гренгуаров Юпитер понимал это лучше всех. На смену первой гримасе явилась вторая, третья, еще и еще; одобрительный хохот и топот все возрастали. В этом зрелище было что-то головокружительное, какая-то опьяняющая колдовская сила, действие которой трудно описать читателю наших дней.
Представьте себе вереницу лиц, последовательно изображающих все геометрические фигуры — от треугольника до трапеции, от конуса до многогранника; выражения всех человеческих чувств, начиная от гнева и кончая похотливостью; все возрасты — от морщин новорожденного до морщин умирающей старухи; все фантастические образы, придуманные религией, — от Фавна до Вельзевула; все профили животных — от пасти до клюва, от рыла до мордочки. Вообразите, что все каменные личины Нового моста, эти застывшие под рукой Жермена Пилона[56] кошмары, ожили и пришли одни за другими взглянуть на вас горящими глазами или что все маски венецианского карнавала мелькают перед вами, — словом, вообразите непрерывный калейдоскоп человеческих лиц.
Оргия принимала все более и более фламандский характер. Кисть самого Тенирса могла бы дать о ней лишь смутное понятие. Представьте себе битву Сальватора Роза[57], обратившуюся в вакханалию! Не было больше ни школяров, ни послов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин; исчезли Клопен Труйльфу, Жиль Лекорню, Мари Четыре Фунта, Робен Пуспен. Все смешалось в общем безумии. Большая зала превратилась в чудовищное горнило бесстыдства и веселья, где каждый рот вопил, каждое лицо корчило гримасу, каждое тело извивалось. Все вместе выло и орало. Странные рожи, которые одна за другой, скрежеща зубами, возникали в отверстии розетки, напоминали соломенные факелы, бросаемые в раскаленные угли. От всей этой бурлящей толпы отделялся, как пар от горнила, острый, пронзительный, резкий звук, свистящий словно крылья чудовищного комара.
— Ого! Черт возьми!
— Погляди только на эту рожу!
— Ну, она ничего не стоит!
— А эта!
— Гильометта Можерпюи, ну-ка взгляни на эту бычью морду, ей только рогов не хватает. Значит, это не твой муж.
— А вот еще одна!
— Клянусь папским брюхом! Это еще что за рожа?
— Эй! Плутовать нельзя. Показывай только лицо!
— Это, наверно, проклятая Перетта Кальбот! Она на все способна.
— Слава! Слава!
— Я задыхаюсь!
— А вот у этого уши никак не пролезают в отверстие! И так далее, и так далее…
Однако нужно отдать справедливость нашему другу Жеану. Он один среди этого шабаша не покидал своего места и, как юнга за мачту, держался за верхушку своего столба. Он бесновался, он впал в совершенное неистовство. Рот его был широко разинут и издавал такой вопль, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а потому, что звук этого вопля выходил за пределы, воспринимаемые человеческим слухом, как это бывает, по Соверу[58], при двенадцати тысячах, а по Био[59] — при восьми тысячах колебаний в секунду.
Что касается Гренгуара, то он сперва растерялся, но затем быстро овладел собой. Он приготовился дать отпор этому бедствию.
— Продолжайте! — в третий раз крикнул он своим говорящим машинам-актерам. Шагая перед мраморным столом, он ощущал желание показаться в оконце часовни хотя бы для того только, чтобы скорчить рожу этой неблагодарной толпе. «Но нет, это недостойно меня. Не надо мстить! Будем бороться до конца, — твердил он. — Власть поэзии над толпой велика, я образумлю этих людей. Увидим, кто восторжествует — гримасы или изящная словесность».
Увы! Он остался единственным зрителем своей пьесы. Его положение стало еще более плачевным, чем минуту назад. Он видел только спины. Впрочем, я ошибаюсь. Терпеливый толстяк, с которым Гренгуар однажды в критическую минуту уже советовался, продолжал сидеть лицом к сцене. Что же касается Жискетты и Лиенарды, то они давно сбежали.
Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Приблизившись к нему, он заговорил с ним, осторожно тронув его за руку, так как толстяк, облокотившись о балюстраду, видимо, слегка подремывал.
— Благодарю вас, сударь, — сказал Гренгуар.
— За что, сударь? — спросил, зевая, толстяк.
— Я понимаю, что вам надоел весь этот шум. Он мешает вам слушать пьесу. Но будьте покойны, ваше имя перейдет в потомство. Будьте так добры, скажите, как вас зовут?
— Рено Шато, хранитель печати парижского Шатле, к вашим услугам.
— Сударь, вы здесь единственный ценитель муз! — повторил Гренгуар.
— Вы очень любезны, сударь, — ответил хранитель печати Шатле.
— Вы один, — продолжал Гренгуар, — внимательно слушали пьесу. Как она вам понравилась?
— Гм! Гм! — ответил наполовину проснувшийся толстяк. — Пьеса довольно забавна!
Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, потому что гром рукоплесканий, смешавшись с оглушительными криками, внезапно прервал их разговор. Папа шутов был избран.
— Слава! Слава! — ревела толпа.
Рожа, красовавшаяся в отверстии розетки, была воистину изумительна! После всех этих пятиугольных, шестиугольных причудливых лиц, одно за другим появлявшихся в отверстии, но не воплощавших того образца смешного уродства, который в своем распаленном воображении создала толпа, только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать столь бурное одобрение. Сам мэтр Копеноль рукоплескал ей, и даже Клопен Труйльфу, участвовавший в состязании, — а одному Богу известно, какой высокой степени безобразия могло достигнуть его лицо! — даже он признал себя побежденным. Последуем и мы его примеру. Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой, обломанные кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту растрескавшуюся губу, над которой нависал, точно клык слона, один из зубов, этот раздвоенный подбородок… Но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления, грусти, которые отражались на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности!
Одобрение было единодушным. Толпа устремилась к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу шутов. Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела. Гримаса была его настоящим лицом.
Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной; огромный горб между лопаток и другой, уравновешивающей его, — на груди; бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая собой спереди два серпа с соединенными рукоятками; широкие ступни, чудовищные руки. И несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги — необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный шутами папа.
Казалось, это был разбитый и неудачно спаянный великан.
Когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, коренастое, почти одинаковых размеров в ширину и высоту, «квадратное в самом основании», как говорил один великий человек, то по надетому на нем наполовину красному, наполовину фиолетовому камзолу, усеянному серебряными колокольчиками, а главным образом по его несравненному уродству простонародье тотчас же признало его.
— Это Квазимодо, горбун! — закричали все в один голос — Это Квазимодо, звонарь собора Парижской Богоматери! Квазимодо кривоногий, Квазимодо одноглазый! Слава! Слава!
Видимо, у бедного малого не было недостатка в прозвищах.
— Берегитесь, беременные женщины! — орали школяры.
— И те, которые желают забеременеть! — прибавил Жоаннес.
Женщины и в самом деле закрывали лица руками.
— О! Противная обезьяна! — говорила одна.
— Такая же злая, как и уродливая! — прибавляла другая.
— Дьявол во плоти, — вставляла третья.
— К несчастью, я живу возле собора и слышу, как всю ночь он бродит по крыше.
— Вместе с кошками.
— И насылает на нас порчу через дымоходы.
— Как-то вечером он просунул свою рожу ко мне в окно. Я приняла его за мужчину и ужасно перепугалась.
— Я уверена, что он летает на шабаш. Однажды он забыл свою метлу в водосточном желобе на моей крыше.
— О, мерзкая харя!
— О, гнусная душа!
— Фу!
А мужчины — те восхищались и рукоплескали горбуну.
Квазимодо, виновник всей этой шумихи, мрачный, серьезный, стоял на пороге часовни, позволяя любоваться собой.
Один школяр, кажется Робен Пуспен, подошел поближе и расхохотался ему прямо в лицо. Квазимодо ограничился только тем, что взял его за пояс и отбросил шагов на десять в толпу. И все это без единого звука.
Восхищенный мэтр Копеноль подошел к нему и сказал:
— Крест честной! Я никогда в жизни не встречал такого великолепного уродства, святой отец! Ты достоин быть папой не только в Париже, но и в Риме.
И он весело хлопнул его по плечу. Квазимодо не шелохнулся.
— Ты именно такой парень, с которым я охотно кутнул бы, пусть даже это обойдется мне в дюжину новеньких турских ливров! Что ты на это скажешь? — продолжал Копеноль.
Квазимодо молчал.
— Крест честной! — воскликнул чулочник. — Ты глухой, что ли?
Да, Квазимодо был глухой.
Однако приставание Копеноля начало раздражать Квазимодо. Он вдруг повернулся к нему и так страшно заскрипел зубами, что богатырь фламандец попятился, как бульдог от кошки.
И тогда ужас и почтение образовали вокруг этой странной личности кольцо, радиус которого был не менее пятнадцати шагов. Какая-то старуха объяснила Копенолю, что Квазимодо глух.
— Глух! — разразился чулочник грубым фламандским смехом. — Крест честной! Да это не папа, а совершенство!
— Эй! Я знаю его! — крикнул Жеан, спустившись наконец со своей капители, чтобы поближе взглянуть на Квазимодо. — Это звонарь моего брата-архидьякона. Здравствуй, Квазимодо!
— Вот дьявол! — сказал Робен Пуспен, все еще не оправившийся от своего падения. — Поглядишь на него — горбун. Пойдет — видишь, что он хромой. Взглянет на вас — кривой. Заговоришь с ним — он глухой. Да есть ли язык у этого Полифема[60]?
— Он говорит, если захочет, — пояснила старуха. — Он оглох оттого, что звонит в колокола. Он не немой.
— Только этого еще ему недостает, — заметил Жеан.
— Один глаз у него лишний, — заметил Робен Пуспен.
— Ну нет, — справедливо возразил Жеан, — кривому хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен.
Тем временем нищие, слуги и карманники вместе со школярами отправились процессией к шкапу судейских писцов, чтобы достать картонную тиару и нелепую мантию папы шутов. Квазимодо беспрекословно и даже с оттенком какой-то надменной покорности разрешил облечь себя в них. Потом его усадили на пестро раскрашенные носилки. Двенадцать членов братства шутов подняли его на плечи; какой-то горькою и презрительною радостью расцвело мрачное лицо циклопа, когда он увидел у своих кривых ног головы всех этих красивых, стройных, хорошо сложенных мужчин. Затем галдящая толпа оборванцев, прежде чем пойти по улицам и перекресткам, двинулась, согласно обычаю, по внутренним галереям Дворца.
Глава 6
Эсмеральда
Мы счастливы сообщить нашим читателям, что во время всей этой сцены и Гренгуар и его пьеса держались стойко. Понукаемые автором, актеры без устали декламировали его стихи, а он без устали их слушал. Примирившись с окружающим гамом, он решил довести дело до конца и не терял надежды, что публика вновь обратит внимание на его пьесу. Этот луч надежды разгорелся еще ярче, когда он заметил, что Копеноль, Квазимодо и вся буйная ватага шутовского папы с оглушительным шумом покинула залу. Толпа жадно устремилась за ними.
— Отлично! — пробормотал он. — Все крикуны уходят. К несчастью, «крикунами» была вся толпа. В одно мгновение зала опустела.
Собственно говоря, в зале кое-кто еще оставался. Это были женщины, старики и дети, пресытившиеся шумом и гамом. Иные бродили в одиночку, другие толпились около столбов. Несколько школяров все еще сидели верхом на подоконниках и оттуда глазели на площадь.
«Ну что же, — подумал Гренгуар, — и этих достаточно, чтобы дослушать мою мистерию. Их, правда, мало, но зато публика избранная, образованная».
Однако через несколько минут выяснилось, что симфония, которая должна была произвести особенно сильное впечатление при появлении Пречистой Девы, не может быть исполнена. Гренгуар вспомнил, что всех музыкантов увлекла за собой процессия папы шутов.
— Обойдемся и без симфонии, — стоически произнес поэт.
Он приблизился к группе горожан, которые, как ему показалось, рассуждали о его пьесе. Вот услышанный им отрывок разговора:
— Мэтр Шенето, знаете ли вы наваррский особняк, который принадлежал господину де Немуру?
— Да, против Бракской часовни.
— Так вот, казна недавно сдала его в наем Гильому Аликсандру, живописцу, за шесть парижских ливров и восемь су в год.
— Однако как растет арендная плата! «Пустяки, — вздыхая, утешил себя Гренгуар, — зато остальные слушают».
— Друзья, — внезапно крикнул один из молодых озорников, примостившихся на подоконниках, — Эсмеральда! Эсмеральда на площади!
Это имя произвело магическое действие. Все, кто еще оставался в зале, повторяя: «Эсмеральда! Эсмеральда!», бросились к окнам, подтягиваясь до подоконника, чтобы увидеть.
В это же время с площади донеслись громкие рукоплескания.
— Какая еще там Эсмеральда? — воскликнул Гренгуар, в отчаянии сжимая руки. — О Боже мой! Теперь, как видно, пришла очередь глазеть в окна!
Обернувшись к мраморному столу, он увидел, что представление приостановилось. Как раз в это время надлежало появиться Юпитеру со своей молнией. А между тем Юпитер неподвижно стоял внизу, у стены.
— Мишель Жиборн, — раздраженно крикнул поэт, — что ты там застрял? Твой выход! Влезай на сцену!
— Увы! — ответил Юпитер. — Какой-то школяр унес лестницу.
Гренгуар поглядел на сцену. Лестница действительно пропала. Всякое сообщение между завязкой и развязкой пьесы было прервано.
— Экий чудак, — пробормотал он. — Зачем же ему понадобилась лестница?
— Чтобы взглянуть на Эсмеральду, — жалобно ответил Юпитер. — Он сказал: «Стой, а вот и лестница, которая никому не нужна» — и унес ее.
Это был последний удар судьбы. Гренгуар принял его безропотно.
— Убирайтесь все к черту! — крикнул он комедиантам. — Если заплатят мне, я рассчитаюсь и с вами.
И он отступил, понурив голову, но отступил последним, как доблестно сражавшийся полководец.
Спускаясь по извилистым лестницам Дворца, Гренгуар ворчал себе под нос: «Какое скопище ослов и невежд эти парижане! Собрались, чтобы слушать мистерию, и не слушают! Им все интересно: Клопен Труйльфу, кардинал, Копеноль, Квазимодо и сам черт, но только не Пречистая Дева! Знай я это, показал бы я вам пречистых дев, ротозеи! А я-то? Пришел наблюдать, какие лица у зрителей, и увидел только их спины! Быть поэтом, а иметь успех, достойный какого-нибудь шарлатана, торговца зельями! Положим, что Гомер просил милостыню в греческих селениях, а Назон[61] скончался в изгнании у московитов. Но черт меня подери, если я понимаю, что они хотят сказать этим «Эсмеральда». И что это за слово? Цыганское, верно!»
Книга II
Глава 1
Из Харибды в Сциллу
В январе смеркается рано. Улицы были уже погружены во мрак, когда Гренгуар вышел из Дворца. Наступившая темнота была ему по душе; он спешил добраться до какой-нибудь сумрачной и пустынной улички, чтобы поразмыслить там без помехи и дать философу наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была сейчас его единственным прибежищем, ибо ему негде было переночевать. После блистательного провала его пьесы он не решался возвратиться в жилище, которое занимал на Складской улице, против Сенной пристани. Он уже не рассчитывал из вознаграждения за свою эпиталаму[62] уплатить мэтру Гильому Ду-Сиру, откупщику городских сборов с торговцев скотом, квартирную плату за шесть месяцев, что составляло двенадцать парижских су, то есть ровно в двенадцать раз больше того, чем он обладал на этом свете, включая штаны, рубашку и шапку.
Остановившись подле маленькой калитки тюрьмы при Сент-Шапель и раздумывая о том, где бы ему выбрать место для ночлега, — а в его распоряжении были все мостовые Парижа, — он вдруг припомнил, что, проходя на прошлой неделе по Башмачной улице мимо дома одного парламентского советника, он заметил около входной двери каменную ступеньку, служившую подножкой для всадников, и тогда же сказал себе, что она при случае может быть прекрасным изголовьем для нищего или для поэта. Он возблагодарил Провидение, ниспославшее ему столь счастливую мысль, но, намереваясь пересечь Дворцовую площадь, чтобы углубиться в извилистый лабиринт Ситэ, где вьются эти древние улицы-сестры, сохранившиеся и доныне, но уже застроенные девятиэтажными домами, — Бочарная, Старая Суконная, Башмачная, Еврейская и проч., — он увидел процессию папы шутов, которая тоже выходила из Дворца правосудия и с оглушительными криками, с пылающими факелами, под музыку неслась ему наперерез. Это зрелище разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. Его авторская неудача преисполнила душу такой горечью, что все, напоминавшее дневное празднество, раздражало его и заставляло кровоточить его рану.
Он направился было к мосту Сен-Мишель, но по мосту бегали ребятишки с факелами и шутихами.
— К черту все потешные огни! — пробормотал Гренгуар и повернул к мосту Менял.
На домах, стоявших у начала моста, были вывешены три флага с изображениями короля, дофина и Маргариты Фландрской и шесть маленьких флажков, на которых были намалеваны герцог Австрийский, кардинал Бурбонский, господин де Боже, Жанна Французская[63], побочный сын герцога Бурбонского и уж не знаю кто; все это было освещено факелами. Толпа была в восторге.
«Экий счастливец этот художник Жеан Фурбо!» — подумал, тяжело вздохнув, Гренгуар и повернулся спиной к флагам и к флажкам. Перед ним расстилалась улица, достаточно темная и пустынная для того, чтобы там укрыться от праздничного гула и блеска. Он углубился в нее. Через несколько мгновений он обо что-то споткнулся и упал. Оказалось, что это был пучок ветвей майского деревца, который, по случаю торжественного дня, накануне утром судейские писцы положили у дверей председателя судебной палаты. Гренгуар стоически перенес эту новую неприятность. Он встал и дошел до набережной. Миновав уголовную и гражданскую тюрьму и пройдя вдоль высоких стен королевских садов по песчаному, невымощенному берегу, где грязь доходила ему до щиколотки, он добрался до западной части Ситэ и некоторое время созерцал островок Коровий перевоз, который исчез ныне под бронзовым конем Нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узким, смутно белевшим в темноте ручьем, казался ему какой-то черной массой. На нем при свете тусклого огонька можно было различить нечто вроде шалаша, похожего на улей, где по ночам укрывался перевозчик скота.
«Счастливый паромщик, — подумал Гренгуар, — ты не грезишь о славе и ты не пишешь эпиталам! Что тебе до королей, вступающих в брак, и до герцогинь бургундских! Тебе неведомы иные маргаритки, кроме тех, что щиплют твои коровы на зеленых апрельских лужайках! А я, поэт, освистан, я дрожу от холода, я задолжал двенадцать су, и подметки мои так просвечивают, что могли бы заменить стекла в твоем фонаре. Спасибо тебе, паромщик, мой взор отдыхает, покоясь на твоей хижине! Она заставляет меня забыть о Париже!»
Треск большой двойной петарды, внезапно послышавшийся из благословенной хижины, пробудил его от лирического экстаза. Это паромщик, получая свою долю праздничных развлечений, забавлялся потешными огнями.
От взрыва петарды мороз пробежал по коже Гренгуара.
— Проклятый праздник! — воскликнул он. — Неужели ты будешь преследовать меня всюду? Даже до хижины паромщика!
Взглянув на катившуюся у его ног Сену, он почувствовал страшное искушение.
— О, с каким удовольствием я утопился бы, не будь вода такой холодной!
И он принял отчаянное решение. Раз не в его власти избежать папы шутов, флажков Жеана Фурбо, майского деревца, факелов и петард, так не лучше ли пробраться к самому средоточию праздника и пойти на Гревскую площадь.
«По крайней мере, — подумал он, — мне достанется хотя бы одна головешка от праздничного костра, чтобы обогреться, и я смогу поужинать несколькими крохами от трех огромных сахарных кренделей в виде королевского герба, которые выставлены для народа в городском буфете».
Глава 2
Гревская площадь
Ныне от Гревской площади того времени остался лишь едва заметный след: это прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Но и она почти погребена под слоем грубой штукатурки, облепившей острые грани ее скульптурных украшений, и вскоре, быть может, исчезнет совсем, затопленная половодьем новых домов, столь стремительно поглощающим все старинные здания Парижа.
Люди, которые, подобно нам, никогда не могут пройти по Гревской площади, не скользнув взглядом сочувствия и сожаления по этой бедной башенке, защемленной между двумя развалившимися постройками времен Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении ту группу зданий, в число которых она входила, и ясно представят себе старинную готическую площадь XV века.
Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции, окаймленной с одной стороны набережной, а с трех других — рядом высоких, узких и мрачных домов. Днем можно было любоваться разнообразием этих зданий, покрытых резными украшениями из дерева или из камня и уже тогда являвших собой совершенные образцы всевозможных архитектурных стилей Средневековья от XI до XV века; здесь были и прямоугольные окна, начинавшие вытеснять стрельчатые, и полукруглые романские, которые в свое время были заменены стрельчатыми и которые наряду с последними еще продолжали украшать собой второй этаж старинного здания Роландовой башни на углу набережной и Кожевенной улицы. Ночью во всей этой массе домов можно было различить лишь черную зубчатую линию крыш, окружавших площадь цепью острых углов. Одно из основных различий между современными городами и городами прежними заключается в том, что современные постройки обращены к улицам и площадям фасадами, тогда как прежде они стояли к ним боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись к улице.
Посредине восточной стороны площади возвышалось громоздкое, смешанного стиля строение, состоявшее из трех, вплотную примыкавших друг к другу домов. У него было три различных названия, объяснявших его историю, назначение и архитектуру: «Дом дофина» — потому что в нем обитал дофин Карл V, «Торговая палата» — потому что здесь помещалась городская ратуша, и «Дом с колоннами» (domus ad piloria) — потому что ряд толстых колонн поддерживал три его этажа.
Здесь было все, что только могло понадобиться славному городу Парижу: часовня, чтобы молиться; зал судебных заседаний, чтобы чинить суд и расправу над королевскими подданными, и, наконец, арсенал, полный огнестрельного оружия. Горожане Парижа знали, что молитва и судебная тяжба далеко не всегда являются надежной защитой городских привилегий, и потому имели про запас на чердаке городской ратуши некоторое количество ржавых аркебуз.
Уже и в те времена Гревская площадь производила мрачное впечатление, возникающее и сейчас вследствие ужасных воспоминаний, которые с ней связаны, а также при виде угрюмого здания городской ратуши Доминика Бокадора, заменившей «Дом с колоннами». Надо сказать, что виселица и позорный столб, «правосудие и лестница», как говорили тогда, воздвигнутые бок о бок посреди мостовой, отвращали взор прохожего от этой роковой площади, где столько цветущих, полных жизни людей испытали смертные муки и где полвека спустя родилась «лихорадка Сен-Валье», вызываемая ужасом перед эшафотом, — самая чудовищная из всех болезней, ибо ее насылает не Бог, а человек.
Утешительно думать — заметим это мимоходом, — что смертная казнь, которая еще триста лет тому назад своими железными колесами, каменными виселицами, всевозможными орудиями пыток загромождала Гревскую площадь, Рыночную площадь, площадь Дофина, перекресток Трауар, Свиной рынок, этот гнусный Монфокон, заставу Сержантов, Кошачий рынок, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Боде, ворота Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц, поставленных прево, епископами, капитулами, аббатами и приорами[64] — всеми, кому было предоставлено право судить; не считая потопления преступников в Сене по приговору суда, — утешительно думать, что эта древняя владычица феодальных времен, утратив постепенно свои доспехи, свою пышность, замысловатые карательные меры, свою пытку, для которой каждые пять лет переделывалась кожаная скамья в Гран-Шатле, ныне, травимая из уложения в уложение, гонимая с места на место, почти исчезла из наших законов и городов и владеет в нашем необъятном Париже лишь одним опозоренным уголком Гревской площади, лишь одной жалкой гильотиной, прячущейся, беспокойной, стыдящейся, которая, нанеся свой удар, так быстро исчезает, словно боится, что ее застигнут на месте преступления.
Глава 3
Besos para golpes[65]
Пока Пьер Гренгуар добрался до Гревской площади, он весь продрог. Чтобы избежать давки на мосту Менял и не видеть флажков Жеана Фурбо, он шел сюда через Мельничный мост; но по пути колеса епископских мельниц забрызгали его грязью, и камзол его промок насквозь. Притом ему казалось, что после провала его пьесы он стал еще более зябким. А потому он поспешил к праздничному костру, великолепно пылавшему посреди площади. Но его окружало плотное кольцо людей.
— Проклятые парижане! — пробормотал Гренгуар. Как истый драматург, он чувствовал пристрастие к монологам. — Теперь они загораживают огонь, а ведь мне так необходимо хотя бы немножко погреться. Мои башмаки протекают, да еще эти проклятые мельницы пролили на меня слезы сочувствия! Черт бы побрал парижского епископа с его мельницами! Хотел бы я знать, на что епископу мельницы? Уж не надумал ли он сменить епископскую митру на колпак мельника? Ежели ему для этого не хватает только моего проклятия, то я охотно прокляну и его самого, и его собор вместе с его мельницами! Ну-ка, поглядим, сдвинутся ли с места эти ротозеи! Спрашивается, что они там делают! Они греются — наилучшее из удовольствий! Они глазеют, как горит сотня вязанок хвороста — наилучшее из зрелищ!
Но, вглядевшись поближе, он заметил, что круг был значительно шире, чем нужно для того, чтобы греться возле королевского костра, и что этот наплыв зрителей объяснялся не только видом ста роскошно пылавших вязанок хвороста.
На просторном, свободном пространстве между костром и толпой плясала молодая девушка.
Была ли эта юная девушка человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар, сей философ-скептик, сей иронический поэт, сразу определить не мог — настолько был он очарован ослепительным видением.
Она была невысока ростом, но казалась высокой — так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем ее кожа отливала тем чудесным золотистым оттенком, который присущ андалузкам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалузки — так легко ступала она в своем узком изящном башмачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молнией.
Взоры всей толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотанье бубна, который ее округлые девственные руки высоко взносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она воистину казалась существом неземным.
«Право, — думал Гренгуар, — это саламандра, это нимфа, это богиня, это вакханка с горы Менад!»
В это мгновение одна из кос «саламандры» расплелась, привязанная к ней медная монетка упала и покатилась по земле.
— Э, нет, — сказал он, — это цыганка.
Мираж рассеялся.
Девушка снова принялась плясать. Подняв с земли две шпаги и приставив их остриями ко лбу, она начала вращать их в одном направлении, а сама кружилась в обратном. Действительно, это была просто-напросто цыганка. Но как ни велико было разочарование Гренгуара, он не мог не поддаться обаянию и волшебству этого зрелища. Яркий алый свет праздничного костра весело играл на лицах зрителей, на смуглом лице молодой девушки, отбрасывая слабый отблеск вместе с их колышущимися тенями в глубину площади, на черный, покрытый трещинами старинный фасад «Дома с колоннами» с одной стороны и на каменные столбы виселицы — с другой.
Среди тысячи лиц, озаренных багровым пламенем костра, выделялось лицо человека, казалось, более других поглощенного созерцанием плясуньи. Это было суровое, замкнутое и мрачное лицо мужчины. Человеку этому, одежду которого заслоняла теснившаяся вокруг него толпа, на вид можно было дать не более тридцати пяти лет; между тем он был уже лыс, и лишь кое-где на висках еще уцелело несколько прядей редких седеющих волос; его широкий и высокий лоб бороздили морщины, но в глубоко запавших глазах сверкал необычайный юношеский пыл, жажда жизни и затаенная страсть. Он не отрываясь глядел на цыганку, и пока шестнадцатилетняя беззаботная девушка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала, его лицо становилось все мрачнее. Временами улыбка у него сменяла вздох, но в улыбке было еще больше скорби, чем в самом вздохе.
Наконец молодая девушка остановилась, прерывисто дыша, и восхищенная толпа разразилась рукоплесканиями.
— Джали! — позвала цыганка.
И Гренгуар увидел подбежавшую к ней прелестную маленькую белую козочку, резвую, веселую, с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами, в золоченом ошейнике, которую он прежде не заметил; до этой минуты, лежа на уголке ковра, она не отрываясь глядела на пляску своей госпожи.
— Джали, теперь твой черед, — сказала плясунья. Она села и грациозно протянула козочке бубен.
— Джали, какой теперь месяц? — спросила она.
Козочка подняла переднюю ножку и стукнула копытцем по бубну один раз. Был действительно январь. В толпе послышались рукоплескания.
— Джали, — снова спросила молодая девушка, перевернув бубен, — какое нынче число?
Джали опять подняла свое маленькое позолоченное копытце и ударила им по бубну шесть раз.
— Джали, — продолжала цыганка, снова перевернув бубен, — который теперь час?
Джали стукнула семь раз. В ту же минуту на часах Дома с колоннами пробило семь. Толпа застыла в изумлении.
— Это колдовство! — проговорил мрачный голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему с цыганки глаз.
Она вздрогнула и обернулась. Но гром рукоплесканий заглушил зловещие слова и настолько сгладил впечатление от этого возгласа, что девушка как ни в чем не бывало снова обратилась к своей козочке:
— Джали, а как ходит мэтр Гишар Гран-Реми, начальник городских стрелков, во время крестного хода на Сретение[66]?
Джали поднялась на задние ножки и заблеяла, переступая с такой забавной важностью, что все зрители покатились со смеху при виде этой пародии на ханжеское благочестие начальника стрелков.
— Джали, — продолжала молодая девушка, ободренная все растущим успехом, — а как говорит речь мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор, в духовном суде?
Козочка села и заблеяла, так странно подбрасывая передние ножки, что все в ней — поза, движения, повадка — сразу напомнило Жака Шармолю, не хватало только скверного французского и латинского произношения.
Толпа восторженно рукоплескала.
— Святотатство! Кощунство! — снова послышался голос лысого человека.
Цыганка обернулась.
— Ах, опять этот гадкий человек!
И, выпятив нижнюю губку, она сделала гримаску, которая, по-видимому, была ей привычна, затем, повернувшись на каблучках, пошла собирать в бубен даяния зрителей.
Крупные и мелкие серебряные монеты, лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо Гренгуара, он необдуманно сунул руку в карман, и цыганка остановилась.
— Черт возьми! — воскликнул поэт, найдя в глубине своего кармана то, что там было, то есть пустоту. А между тем молодая девушка стояла и глядела ему в лицо черными большими глазами, протягивая свой бубен, и ждала. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара.
Владей он всем золотом Перу, он тотчас же, не задумываясь, отдал бы его плясунье; но золотом Перу он не владел, да и Америка в то время еще не была открыта.
Неожиданный случай выручил его.
— Да уберешься ли ты отсюда, египетская саранча! — крикнул пронзительный голос из самого темного угла площади.
Молодая девушка испуганно обернулась. Теперь крикнул уже не лысый человек — голос был женский, злобный и исступленный.
Этот окрик, так напугавший цыганку, привел в восторг слонявшихся по площади детей.
— Это затворница Роландовой башни! — неистово хохоча, закричали они. — Это брюзжит вретишница[67]! Она, должно быть, не ужинала. Принесем-ка ей оставшихся в городском буфете объедков!
И вся ватага стремительно бросилась к «Дому с колоннами».
Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, ускользнул незамеченным. Возгласы ребятишек напомнили ему, что и он тоже не ужинал. Он побежал за ними. Но у маленьких озорников ноги были проворнее, чем у него, и, когда он достиг цели, все уже было ими дочиста съедено. Не оставалось даже жалкого хлебца по пяти су за фунт. Лишь на стенах, расписанных в 1434 году Матье Битерном, красовались стройные королевские лилии, разбросанные среди роз. Но то был слишком скудный ужин!
Тягостно ложиться спать не поужинав; еще печальнее, оставшись голодным, не знать, где переночевать. В таком положении оказался Гренгуар. Ни хлеба, ни крова; со всех сторон его теснила нужда, и он находил ее чересчур суровой. Уже давно открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии[68] и что мудрецу всю жизнь приходится бороться с судьбой, которая держит его философию в осадном положении. Никогда еще эта осада не была столь жестокой; желудок Гренгуара бил тревогу, и поэт находил, что со стороны злой судьбы крайне несправедливо брать его философию измором.
Эти грустные размышления, овладевавшие им все с большей силой, внезапно были прерваны странным, хотя и не лишенным сладости пеньем. То пела юная цыганка.
И веяло от ее песни тем же, чем и от ее пляски и от ее красоты: чем-то неизъяснимым и прелестным, чем-то чистым и звучным, воздушным и окрыленным, если можно так выразиться. То было непрестанное нарастание звуков, мелодий, неожиданных рулад; простые музыкальные фразы перемешивались с резкими свистящими звуками; водопады трелей, способные обескуражить даже соловья, хранили вместе с тем верность гармонии; мягкие переливы октав то поднимались, то опускались, как грудь молодой певицы. Ее прелестное лицо с необычайной подвижностью отражало всю прихотливость ее песни, от самого страстного восторга до величавого целомудрия. Она казалась то безумной, то королевой.
Язык этой песни был неизвестен Гренгуару. По-видимому, он не был понятен и самой певице, так мало соответствовали те чувства, которые она влагала в пенье, словам песни. Эти четыре стиха:
Un cofre de gran riqueza Hallaron dentro un pilar, Dentro del, nuevas banderas Con figuras de espantar…[69]в ее устах звучали безумным весельем, а мгновение спустя выражение, которое она придавала словам:
Alarabes de caballo Sin poderse menear, Con espadas, у los cuellos, Ballestas de buen echar…[70]исторгало у Гренгуара слезы. Но чаще ее пение дышало радостью, она пела, как птица, ликующе и беспечно. Песнь цыганки встревожила задумчивость Гренгуара, — так тревожит лебедь гладь воды. Он внимал ей упоенный, забыв все на свете. Впервые за долгие часы он забыл свои страдания.
Но это длилось недолго.
Тот же голос, который прервал пляску цыганки, прервал теперь и ее пение.
— Замолчишь ли ты, чертова стрекоза! — послышалось из того же темного угла площади.
Бедняжка «стрекоза» умолкла. Гренгуар заткнул себе уши.
— О проклятая старая пила, разбившая лиру! — воскликнул он.
Зрители тоже ворчали.
— К черту вретишницу! — возмущались многие.
И старое незримое пугало могло бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы в эту минуту внимание толпы не было отвлечено процессией шутовского папы, успевшей обежать улицы и перекрестки и хлынувшей теперь с факелами и шумом на площадь.
Эта процессия, которую читатель наблюдал, когда она выходила из Дворца, в пути установила порядок и вобрала в себя всех мошенников, бездельников, воров и бродяг Парижа. Таким образом, прибыв на Гревскую площадь, она являла собой зрелище поистине внушительное.
Впереди всех двигались цыгане. Во главе их, направляя и вдохновляя шествие, ехал верхом на коне цыганский герцог в сопровождении своих пеших графов; за ними беспорядочной толпой следовали цыгане и цыганки, таща на спине ревущих детей; и все — герцог, графы и чернь — в отрепьях и мишуре. За цыганами двигались подданные королевства Арго[71], то есть все воры Франции, разделенные по рангам на несколько отрядов; первыми шли самые низшие по званию. Так, по четыре человека в ряд, со всевозможными знаками отличия соответственно их ученой степени в области этой странной науки, проследовало множество калек — то хромых, то одноруких: карманников, богомольцев, эпилептиков, скуфейников, христарадников, котов, шатунов, деловых ребят, хиляков, погорельцев, банкротов, забавников, форточников, мазуриков и домушников, — перечисление всех утомило бы самого Гомера. В центре конклава[72] мазуриков и домушников можно было с трудом различить короля Арго, великого кесаря, сидевшего на корточках в маленькой тележке, которую тащили две большие собаки. Вслед за подданными короля Арго шли люди царства галилейского. Впереди бежали дерущиеся и выплясывающие пиррический танец[73] скоморохи, за ними величаво выступал Гильом Руссо, царь галилейский, облаченный в пурпурную, залитую вином хламиду, окруженный своими жезлоносцами, клевретами и писцами счетной палаты. Под звуки достойной шабаша музыки шествие замыкала корпорация судебных писцов в черных мантиях, несших украшенные цветами «майские ветви» и большие желтые восковые свечи. В самом центре этой толпы высшие члены братства шутов несли на плечах носилки, на которых было наставлено больше свечей, чем на раке[74] святой Женевьевы во время эпидемии чумы. А на этих носилках, облаченный в мантию и митру, с посохом в руке, блистал вновь избранный папа шутов — звонарь собора Парижской Богоматери, Квазимодо-горбун.
У каждого отряда этой причудливой процессии была своя особая музыка. Цыгане били в свои балафосы и африканские тамбурины. Народ Арго, весьма мало музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и старинной рюбебы XII столетия. Царство галилейское не намного опередило их в этом отношении: в его оркестре с трудом можно было различить звук жалкой ребеки — скрипки младенческой поры искусства, имевшей всего три тона. Зато все музыкальное богатство эпохи разворачивалось в великолепной какофонии, звучавшей вокруг папы шутов. И все же оно заключалось лишь в ребеках верхнего, среднего и нижнего регистров, если не считать множества флейт и медных инструментов. Увы!
Нашим читателям уже известно, что это был оркестр Гренгуара.
Трудно изобразить выражение той гордой и набожной радости, которая все время, пока процессия двигалась от Дворца к Гревской площади, освещала безобразное и печальное лицо Квазимодо. Впервые испытывал он восторг удовлетворенного самолюбия. До сей поры он знавал лишь унижение, презрение к своему званию и отвращение к своей особе. Невзирая на глухоту, он, словно истый папа, смаковал приветствия толпы, которую ненавидел за ее ненависть к себе. Нужды нет, что его народ был лишь сбродом шутов, калек, воров и нищих! Все же это был народ, а он его властелин. И он принимал за чистую монету эти иронические рукоплескания, эти озорные знаки почтения, к которым примешивалась, однако, — следует в этом сознаться, — немалая толика подлинного страха. Ибо горбун был силен, ибо кривоногий был ловок, ибо глухой был свиреп — три качества, укрощавшие насмешников.
Но едва ли вновь избранный папа шутов отдавал себе ясный отчет в тех чувствах, которые испытывал он сам, и в тех, какие внушал другим. Дух, обитавший в его убогом теле, был столь же убог и несовершенен. Поэтому все, что переживал горбун в эти мгновения, оставалось для него неопределенным, сбивчивым и смутным. Только радость пронизывала его все сильнее, и все больше овладевало им чувство гордости. Его жалкое и угрюмое лицо, казалось, излучало, сияние.
И вдруг, к изумлению и ужасу толпы, в ту минуту, как опьяненного величием Квазимодо торжественно проносили мимо Дома с колоннами, к нему из толпы бросился какой-то человек и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох — знак его шутовского папского достоинства.
Этот смельчак был тот самый незнакомец с облысевшим лбом, который за минуту перед тем, вмешавшись в толпу, окружавшую цыганку, испугал бедную девушку своими угрожающими и полными ненависти словами. На нем была одежда духовного лица. Как только он отделился от толпы, Гренгуар, который ранее не приметил его, тотчас же его узнал.
— Ба, — удивленно воскликнул он, — да это мой учитель герметики[75] отец Клод Фролло, архидьякон! Какого черта ему нужно от этого отвратительного кривого? Ведь тот его сейчас сожрет!
И действительно, в толпе послышался крик ужаса. Страшилище Квазимодо ринулся с носилок, и женщины отвернулись, чтобы не видеть, как он растерзает архидьякона.
Одним скачком Квазимодо бросился к священнику, взглянул на него и упал перед ним на колени.
Архидьякон сорвал с него тиару, сломал его посох, разорвал мишурную мантию.
Квазимодо, по-прежнему коленопреклоненный, потупил голову, сложил руки. Затем между ними завязался странный разговор на языке знаков и жестов, так как ни тот, ни другой не произносили ни слова. Архидьякон стоял выпрямившись, гневный, грозный, властный; Квазимодо распростерся перед ним, смиренный, молящий. А между тем, несомненно, Квазимодо мог бы одним пальцем раздавить священника.
Наконец, грубо встряхнув Квазимодо за мощное плечо, архидьякон жестом приказал ему встать и следовать за собой.
Квазимодо встал.
И тогда братство шутов, очнувшись от своего первоначального изумления, решило вступиться за своего столь внезапно развенчанного папу. Цыгане, арготинцы и вся корпорация судейских писцов, визжа, окружили священника.
Квазимодо заслонил его собою, сжал свои атлетические кулаки и, скрежеща зубами, как разъяренный тигр, оглядел нападающих.
Священник, со своей прежней суровой важностью, сделал знак Квазимодо и молча удалился.
Квазимодо шел впереди, расталкивая толпу, заграждавшую им путь.
Когда они пробрались сквозь толпу и пересекли площадь, туча любопытных и зевак повалила вслед за ними. Тогда Квазимодо, заняв место в арьергарде, пятясь, двинулся за архидьяконом. Приземистый, взлохмаченный, чудовищный, настороженный, свирепый, облизывая свои кабаньи клыки, рыча, точно дикий зверь, он одним лишь движением или взглядом отбрасывал толпу назад. Им дали свернуть в узкую темную уличку, куда никто не посмел следовать за ними, ибо одна мысль о скрежещущем зубами Квазимодо уже преграждала туда доступ.
— Вот так чудеса! — пробормотал Гренгуар. — Но где же, черт возьми, мне поужинать?
Глава 4
Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину
Гренгуар пошел наугад вслед за цыганкой. Он видел, как она со своей козочкой направилась по улице Ножовщиков, и тоже повернул туда.
«Почему бы и нет?» — подумал он.
Гренгуар, искушенный философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение легче всего приходит, когда преследуешь хорошенькую женщину, не зная, куда она держит путь. В этом добровольном отречении от своей свободной воли, в этом подчинении своей прихоти прихоти другого, который об этом даже не подозревает, таится смесь какой-то фантастической независимости и слепого подчинения — нечто промежуточное между рабством и свободою, и это пленяло Гренгуара, одаренного крайне неустойчивым, нерешительным и сложным умом, который совмещал все крайности, беспрестанно колебался между всеми человеческими склонностями и подавлял их одну при помощи другой. Он охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который притягивается двумя магнитами в противоположные стороны и вечно колеблется между высью и бездной, между небесами и мостовой, между падением и взлетом, между зенитом и надиром[76].
Если бы Гренгуар жил в наше время, какое славное место занял бы он между классиками и романтиками!
Но он не был настолько первобытным человеком, чтобы жить триста лет, а жаль! Его отсутствие создает пустоту, которая особенно сильно ощущается именно в наши дни.
Одним словом, настроение человека, не знающего, где ему переночевать, как нельзя лучше подходит для того, чтобы следовать за прохожими (особенно за женщинами), а Гренгуар был до этого большой охотник.
Итак, он задумчиво брел за молодой девушкой, которая, видя, что горожане расходятся по домам и что таверны, единственные торговые заведения, открытые в этот день, запираются, ускоряла шаг и торопила свою козочку.
«Есть же у нее какой-нибудь кров, — думал Гренгуар, — а у цыганок доброе сердце. Кто знает?..»
И многоточие, которое он мысленно поставил после этого вопроса, таило в себе какую-то пленительную мысль.
Время от времени, минуя горожан, запиравших за собой двери, он улавливал долетавшие до него обрывки разговоров, которые разбивали цепь его веселых предположений.
Вот встретились на улице два старика:
— Знаете ли, мэтр Тибо Ферникль, а ведь холодненько! (Гренгуар знал об этом уже с самого начала зимы.)
— Да еще как, мэтр Бонифаций Дизом! Видно, нам опять предстоит такая же лютая зима, как три года тому назад, в восьмидесятом году, когда вязанка дров стоила восемь солей!
— Ба, мэтр Тибо, это пустяки по сравнению с зимой тысяча четыреста седьмого года, когда морозы продолжались с самого Мартынова дня[77] и до Сретения, да такие крепкие, что у секретаря судебной палаты через каждые три слова замерзали на пере чернила! Из-за этого нельзя было вести протокол.
А вот поодаль, стоя у открытых окон с зажженными свечами, потрескивавшими от тумана, переговаривались две соседки.
— Рассказывал ли вам супруг ваш о несчастном случае, госпожа Ла-Будрак?
— Нет. А что такое случилось, госпожа Тюркан?
— Лошадь господина Жиля Годена, нотариуса Шатле, испугалась фламандцев с их свитой и сбила с ног мэтра Филиппо Аврилло, что живет при монастыре целестинцев[78].
— Да что вы?
— Истинная правда.
— Лошадь горожанина! Слыханное ли это дело? Еще добро бы кавалерийская лошадь, — ну тогда я еще понимаю!
И оба окна захлопнулись. Но нить мыслей Гренгуара была уже оборвана.
К счастью, он вскоре нашел и без труда связал ее концы благодаря цыганке и Джали, которые по-прежнему шли впереди него. Его восхищали крошечные ножки, изящные формы, грациозные движения этих двух хрупких, нежных и прелестных созданий, почти сливавшихся в его воображении. Своим взаимным пониманием и дружбой они напоминали ему юных девушек, а легкостью, подвижностью и проворством — козочек.
Между тем улицы с каждой минутой становились темнее и безлюднее. Давно прозвучал сигнал гасить огни, и лишь изредка попадался на улице прохожий или мелькал в окне огонек. Гренгуар, следуя за цыганкой, попал в запутанный лабиринт переулков, перекрестков и глухих тупиков, расположенных вокруг старинного кладбища Невинных и похожих на перепутанный кошкой моток ниток. «Вот улицы, которым не хватает логики», — подумал Гренгуар, сбитый с толку этими бесчисленными поворотами, то и дело приводившими его опять на то же место. Молодая девушка, которой, очевидно, хорошо была знакома эта дорога, двигалась уверенно, ускоряя шаг. Гренгуар, вероятно, заблудился бы окончательно, если бы мимоходом, на повороте одной из улиц, он не различил восьмигранного позорного столба на Рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей темной резьбой на фоне еще светившегося окна одного из домов улицы Верделе.
Молодая девушка давно уже заметила, что ее кто-то преследует; она то и дело с беспокойством оглядывалась, один раз она даже внезапно остановилась, чтобы, воспользовавшись лучом света, падавшим из полуотворенной двери булочной, зорко оглядеть Гренгуара с головы до ног. Он заметил, что после этого осмотра она сделала знакомую ему гримаску и продолжала свой путь.
Эта милая гримаска заставила Гренгуара призадуматься. Несомненно, она таила в себе насмешку и презрение. Понурив голову, пересчитывая булыжники мостовой, он снова пошел за ней, но уже на некотором расстоянии. На одной извилистой уличке он потерял ее из вида, и в ту же минуту до него донесся ее пронзительный крик.
Он пошел быстрее.
Улица тонула во мраке, однако горевший на углу за чугунной решеткой, у подножия статуи Пречистой Девы, фитиль из пакли, пропитанной маслом, дал возможность Гренгуару разглядеть цыганку, которая отбивалась от двух мужчин, пытавшихся зажать ей рот. Бедная перепуганная козочка, наставив на них рожки, жалобно блеяла.
— Стража, сюда! — крикнул Гренгуар и бросился вперед.
Один из державших девушку мужчин обернулся, и он увидел страшное лицо Квазимодо.
Гренгуар не обратился в бегство, но не сделал ни шагу вперед.
Квазимодо приблизился к нему и, одним ударом наотмашь заставив его отлететь на четыре шага и упасть на мостовую, стремительно скрылся во мраке, унося молодую девушку, повисшую на его плече, словно шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка побежала сзади с жалобным блеянием.
— Помогите! Помогите! — кричала несчастная цыганка.
— Стойте, бездельники, отпустите эту девку! — раздался громовый голос, и из-за угла соседней улицы внезапно появился всадник.
Это был вооруженный до зубов начальник королевских стрелков, державший саблю наголо.
Вырвав цыганку из рук ошеломленного Квазимодо, он перебросил ее поперек седла, и в ту самую минуту, когда опомнившийся от изумления ужасный горбун ринулся на него, чтобы отбить добычу, показалось человек пятнадцать-шестнадцать вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим капитаном. То был небольшой отряд королевских стрелков, проверявших ночные дозоры по распоряжению парижского прево мессира Робера д´Эстутвиля.
Квазимодо обступили, схватили, скрутили веревками. Он рычал, бесновался, кусался; будь это днем, один вид его искаженного гневом лица, ставшего от этого еще отвратительней, несомненно обратил бы в бегство весь отряд. Но ночь лишила Квазимодо самого страшного его оружия — уродства.
Спутник Квазимодо исчез во время свалки.
Цыганка, грациозно выпрямившись на седле и положив руки на плечи молодого человека, несколько секунд пристально глядела на него, словно восхищенная его приятной внешностью и любезной помощью, которую он оказал ей. Она первая нарушила молчание и, придав своему нежному голосу еще больше нежности, спросила:
— Как ваше имя, господин офицер?
— Капитан Феб де Шатопер к вашим услугам, моя красавица, — приосанившись, ответил офицер.
— Благодарю вас, — промолвила она.
И пока капитан Феб самодовольно покручивал свои усы, подстриженные по-бургундски, она, словно падающая стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии.
— Пуп дьявола! — воскликнул капитан и приказал стянуть потуже ремни, которыми был связан Квазимодо. — Я предпочел бы оставить у себя девчонку!
— Ничего не поделаешь, капитан, — заметил один из стрелков, — пташка упорхнула, нетопырь остался.
Глава 5
Неудачи продолжаются
Оглушенный падением, Гренгуар продолжал лежать на углу улицы, у подножия статуи Пречистой Девы. Мало-помалу он стал приходить в себя; несколько минут он еще пребывал в каком-то не лишенном приятности полузабытьи, причем воздушные образы цыганки и козочки сливались в его сознании с полновесным кулаком Квазимодо. Но это состояние длилось недолго. Острое ощущение холода в той части его тела, которая соприкасалась с мостовой, заставило его очнуться и привело в порядок его мысли.
— Отчего мне так холодно? — спохватился он и только тут заметил, что лежит почти в самой середине сточной канавы.
— Черт возьми этого горбатого циклопа! — проворчал он сквозь зубы и хотел приподняться, но был настолько оглушен падением и настолько разбит, что ему поневоле пришлось остаться на месте. Впрочем, руками он владел свободно; зажав нос, он покорился своей участи.
«Парижская грязь, — размышлял он (ибо был твердо уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем, —
А коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять!), —парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-видимому, содержит в себе очень много летучей и азотистой соли, так, по крайней мере, полагает мэтр Никол́а Фламель и герметики…»
Слово «герметики» вдруг навело его на мысль об архидьяконе Клоде Фролло. Он вспомнил произошедшую на его глазах сцену насилия; вспомнил, что цыганка отбивалась от двух мужчин, что у Квазимодо был сообщник, и суровый, надменный образ архидьякона смутно промелькнул в его памяти.
«Вот было бы странно!» — подумал он и, взяв все это за основание, принялся возводить причудливое здание гипотез — сей карточный домик философов.
— Так и есть! Я окончательно замерзаю! — воскликнул он, снова возвращаясь к действительности.
И правда, положение поэта становилось все более невыносимым. Каждая частица воды отнимала частицу тепла у его тела, и температура его мало-помалу самым неприятным образом стала уравниваться с температурой ручья.
А тут еще на Гренгуара обрушилась новая беда.
Ватага ребятишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые, под бессмертным прозвищем «гаменов», испокон века гранят мостовые Парижа и которые еще во времена нашего детства швыряли камнями в каждого из нас, когда мы по вечерам выходили из школы, за то только, что на наших панталонах не было дыр, — стая этих маленьких озорников, нисколько не заботясь о том, что все кругом спали, с громким хохотом и криком бежала к тому перекрестку, где лежал Гренгуар. Они волокли за собой какой-то бесформенный мешок, и один стук их сабо о мостовую разбудил бы мертвого. Гренгуар, душа которого еще не совсем покинула тело, немного приподнялся.
— Эй! Генекен Дандеш! Эй! Жеан Пенсбурд! — во все горло перекликались они. — Старикашка Эсташ Мубон, что торговал железом на углу улицы, умер! Мы раздобыли его соломенный тюфяк и сейчас разведем праздничный костер! Сегодня праздник в честь фламандцев!
Подбежав к канаве и не заметив там Гренгуара, они швырнули тюфяк прямо на него. Тут же один из них взял пучок соломы и запалил его от светильни, горевшей перед статуей Пречистой Девы.
— Господи помилуй, — пробормотал Гренгуар, — кажется, теперь мне будет слишком жарко!
Минута была критическая. Гренгуар мог попасть из огня да в полымя. Он сделал нечеловеческое усилие, на какое способен только фальшивомонетчик, которого намереваются бросить в кипящую воду. Вскочив на ноги, он швырнул соломенный тюфяк на ребятишек и пустился бежать.
— Пресвятая Дева! — воскликнули дети. — Торговец железом воскрес! — И бросились врассыпную.
Поле битвы осталось за тюфяком. Бельфоре, отец Ле Жюж и Корозе свидетельствуют, что на следующее утро тюфяк этот был подобран духовенством ближайшего прихода и торжественно отнесен в ризницу церкви Сент-Опортюне, ризничий которой вплоть до 1789 года извлекал преизрядный доход из великого чуда, совершенного статуей Богоматери, стоявшей на углу улицы Моконсей. Одним своим присутствием в знаменательную ночь с 6 на 7 января 1482 года эта статуя изгнала беса из покойного Эсташа Мубона, который, желая надуть дьявола, хитро запрятал свою душу в соломенный тюфяк.
Глава 6
Разбитая кружка
Некоторое время Гренгуар бежал со всех ног, сам не зная куда, натыкаясь на углы домов при поворотах, перескакивая через множество канавок, пересекая множество переулков, тупиков и перекрестков в поисках спасения и выхода, сквозь все излучины старой Рыночной площади и разведывая в паническом страхе то, что великолепная латынь хартий называет tota via, cheminum et viaria[79]. Вдруг наш поэт остановился — во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых, его точно за шиворот схватила неожиданно возникшая в его уме дилемма.
«Мне кажется, мэтр Пьер Гренгуар, — сказал он себе, прикладывая палец ко лбу, — что вы просто сошли с ума. Куда вы бежите? Ведь маленькие озорники испугались вас ничуть не меньше, чем вы испугались их. По-моему, вам прекрасно слышен был стук их сабо, когда они удирали по направлению к югу, в то время как вы бросились к северу. Значит, одно из двух: или они обратились в бегство, и тогда этот соломенный тюфяк, брошенный ими с перепуга, и есть то гостеприимное ложе, за которым вы гоняетесь чуть ли не с самого утра и которое вам чудесным образом посылает Пресвятая Дева в награду за сочиненную вами в ее честь моралитэ, сопровождаемую торжественными шествиями и переодеваниями; или же дети не убежали и, следовательно, подожгли тюфяк, — в таком случае у вас будет великолепный костер, около которого вам приятно будет обсушиться, согреться, и вы немного воспрянете духом. Так или иначе — в виде ли хорошего костра, в виде ли хорошего ложа — соломенный тюфяк является для вас даром небес. Может быть, Пресвятая Дева Мария, стоящая на углу улицы Моконсей, только ради этого и послала смерть Эсташу Мубону, и с вашей стороны очень глупо удирать без оглядки, точно пикардиец от француза, оставляя позади себя то, что вы сами же ищете. Пьер Гренгуар, вы просто болван!» Он повернул обратно и, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфяка. Но все его старания были напрасны. Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чувствуя себя беспомощней, чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул:
— Будь прокляты все перекрестки! Это дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил!
Это восклицание несколько облегчило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улички, вернул ему мужество.
— Слава Богу! — воскликнул он. — Это пылает мой тюфяк. — И, уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил: — Salve, maris Stella[80]!
Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой Деве или к соломенному тюфяку — это для нас осталось невыясненным.
Едва успел он сделать несколько шагов по этой длинной, отлогой, немощеной и чем дальше, тем все более грязной и крутой уличке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна: то тут, то там вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек.
Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Гренгуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из этих гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец, у которого только и осталось что две ноги. Когда Гренгуар проходил мимо паукообразного существа с человечьим лицом, оно жалобно затянуло:
— La buona mancia, signor! La buona mancia![81]
— Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь! — сказал Гренгуар и пошел дальше.
Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий одновременно и настолько изувеченный, что сложная система костылей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Гренгуар, имевший склонность к благородным и классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику Вулкана.
Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шляпу, он тут же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Гренгуара и оглушительно крикнул:
— Senor caballero, para comprar un pedazo de pan![82] «И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. Он счастливее меня, если понимает его», — подумал Гренгуар.
Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал:
— Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?
Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто или, вернее, некто был бородатый, низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом; его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом:
— Facitote caritatem![83]
— Слава Богу! — заметил Гренгуар. — Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просят милостыню. Друг мой, — и он повернулся к слепцу, — на прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь: vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam[84]. это, Гренгуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой; тогда и паралитик и безногий поспешили за Гренгуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню:
— Caritatem!..[85] — начинал слепой.
— La buona mancia!..[86] — подхватывал безногий.
— Un pedazo de pan![87] — заканчивал музыкальную фразу паралитик.
Гренгуар заткнул уши.
— Да это столпотворение вавилонское! — воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец. Побежал паралитик. Побежал и безногий.
И по мере того как он углублялся в переулок, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных: одни выползали из домов, другие из смежных переулков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь, по брюхо в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету.
Гренгуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет в том, чем все это может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике калек, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов.
Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь этот легион, с тремя нищими во главе, сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном.
Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в смутном ночном тумане были рассеяны тысячи мерцающих огоньков. Гренгуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений.
— Onde vas, hombre?[88] — окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа.
Неожиданно встав на ноги, безногий нахлобучил на Гренгуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами.
— Где я? — спросил поэт, ужаснувшись.
— Во Дворе чудес, — ответил нагнавший его четвертый призрак.
— Клянусь душой, это правда! — воскликнул Гренгуар. — Ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают. Но где же Спаситель?
В ответ послышался зловещий хохот.
Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном Дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек; в том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители Шатле, осмелившиеся туда проникнуть; в квартале воров — омерзительной бородавке на лице Парижа; в клоаке, откуда каждое утро вырывался и куда каждую ночь вливался обратно выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества; в том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя; в том своеобразном госпитале, где цыган, расстрига монах, развратившийся школяр, негодяи всех национальностей — испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий — иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа.
Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. Там и сям на ней горели костры, вокруг которых кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле темными гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в Пандемониуме[89], казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье и недуги — все в этой толпе казалось общим, все делалось согласно; все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал какой-то общий для всех отпечаток.
Несмотря на свою растерянность, Гренгуар при колеблющемся и слабом отсвете костров мог разглядеть вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные каждый одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая глазами, смотрели на шабаш.
То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный.
Все сильнее цепенея от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный блеющей и лающей вокруг него толпой, злополучный Гренгуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны, нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?»
В это время среди шума и гама окружавшей его толпы раздался отчетливый крик:
— Отведем его к королю! Отведем его к королю!
— Пресвятая Дева, — пробормотал Гренгуар, — я уверен, что здешний король — козел.
— К королю, к королю! — повторила толпа.
Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него. Но трое нищих не упускали добычу. «Он наш!» — рычали они, вырывая его из рук остальных. Камзол поэта, и без того дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последнее дыхание.
Пересекая ужасную площадь, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вновь вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая и прозаическая причина — его голодный желудок породили словно дымку, словно отделивший его от окружающего туман, сквозь который он различал все лишь в несвязных сумерках кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скучивающих предметы в груды непомерной величины, превращая вещи в химеры, а людей — в призраки.
Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям менее сбивчивым и менее преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать; действительность била ему в глаза, она лежала у его ног и мало-помалу разрушала всю ту ужасающую поэзию, которая, казалось ему, окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс[90], а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни (ибо у него не было денег — этого драгоценного посредника мира, который столь успешно становится между честным человеком и бандитом). Наконец, вглядевшись поближе и с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак.
Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью.
Когда одетый в лохмотья конвой доставил его наконец к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вновь вернуть его к поэтическому настроению: оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая и грубая действительность питейного дома. Если бы дело происходило не в XV столетии, то мы сказали бы, что Гренгуар от Микеланджело спустился до Калло.
Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите и лизавшего своими огненными языками раскаленные ножки порожнего в эту минуту тагана, было кое-как расставлено несколько трухлявых столов, и, очевидно, без участия какого-либо опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или по крайней мере не соприкасались под таким острым углом. На столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а вокруг этих кружек собралось множество пьяных физиономий, раскрасневшихся от вина и огня. Тут толстопузый весельчак звонко целовал обрюзгшую, дебелую девку. Там «забавник» — на воровском жаргоне нечто вроде самозваного солдата, — посвистывая, снимал тряпицы со своей фальшивой раны и разминал здоровое крепкое колено, запеленутое с утра в тысячу бинтов, а какой-то хиляк, наоборот, подготавливал для себя назавтра из чистотела и бычачьей крови «христовы язвы» на ноге. Через два стола от них «святоша», одетый в полное облачение паломника, монотонно гнусил «тропарь Царицы Небесной». Неподалеку неопытный припадочный брал уроки падучей у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобождался от своих мнимых отеков, и сидевшие за тем же столом четыре или пять воровок, пререкавшихся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы.
Все эти чудеса два века спустя, по словам Соваля, казались столь занятными при дворе, что были, для потехи короля, изображены во вступлении к балету «Ночь» в четырех актах, поставленному в театре Пти-Бурбон. «Никогда еще, — добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, — внезапные метаморфозы Двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению».
Повсюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались кружками, а под их стук вспыхивали ссоры, и тогда драчуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубища.
Большая собака, сидя у костра поджав хвост, пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовало несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, четырехлетний карапуз, молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один степенно размазывал пальцем по столу оплывающее со свечи сало. Наконец, четвертый, совсем крошка, сидел в грязи, еле видный из-за котла, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус[91] упал бы в обморок.
Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на своем троне.
Трое бродяг, державших Гренгуара, подтащили его к бочке, и на одну минуту дикий разгул затих, только ребенок продолжал скрести в котле.
Гренгуар не осмеливался ни вздохнуть, ни взглянуть.
— Hombre, quita ta sombrero![92] — сказал один из трех плутов, завладевших им, и, прежде чем Гренгуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шляпенка, но еще пригодная и в солнце и в дождь. Гренгуар вздохнул.
Тем временем король с высоты своей бочки спросил:
— Это что за прощелыга?
Гренгуар вздрогнул. Этот голос, пускай измененный звучащей в нем угрозой, все же напомнил ему другой голос — тот, который нынче утром нанес первый удар его мистерии, прогнусив во время представления: «Подайте Христа ради!» Гренгуар взглянул вверх. Перед ним действительно был Клопен Труйльфу.
Несмотря на знаки королевского достоинства, на Клопене Труйльфу было все то же рубище. Но язва на его руке уже исчезла. Он держал плетку из сыромятных ремней, употреблявшуюся в те времена пешими стражниками, чтобы оттеснять толпу, и носившую название «метелки». Голову Клопена венчал убор с подобием валика вместо полей, закрытых сверху, и трудно было разобрать, детская ли это шапочка или царская корона, до такой степени одно похоже на другое.
Гренгуар, узнав в короле Двора чудес нищего из большой залы Дворца, сам не зная почему, приободрился.
— Мэтр… — пробормотал он. — Монсеньор… Сир… Как вас прикажете величать? — вымолвил он наконец, достигнув постепенно высших степеней титулования и не зная ни как величать его дальше, ни как спустить с этих высот.
— Величай меня как угодно: монсеньор, ваше величество или приятель. Только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?
«В свое оправдание? — подумал Гренгуар. — Плохо дело». И, запинаясь, ответил:
— Я тот самый, который нынче утром…
— Клянусь когтями дьявола, — перебил его Клопен, — говори свое имя, прощелыга, и больше ничего! Слушай. Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов: меня, Клопена Труйльфу, короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго; Матиаса Гуниади Спикали, герцога египетского и цыганского, — вон того желтолицего старика, у которого голова обвязана тряпкой, и Гильома Руссо, императора Галилеи, — того толстяка, который нас не слушает, а обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в королевство Арго, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христарадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся! Скажи свое звание.
— Увы! — ответил Гренгуар. — Я не имею чести состоять в их рядах. Я автор…
— Довольно, — не давая ему договорить, отрезал Труйльфу. — Ты будешь повешен. Это совсем несложно, господа добропорядочные граждане! Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь, у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Ваша вина, если он жесток. Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного человека в пеньковом ожерелье; это придает виселице нечто почтенное. Ну, пошевеливайся, приятель! Раздай-ка поживей свое тряпье вот этим барышням. Я прикажу тебя повесить на потеху бродягам, а ты пожертвуй им на выпивку свой кошелек. Если тебе необходимо поханжить, то у нас среди другого хлама есть отличный каменный Бог-Отец, которого мы украли в церкви Сен-Пьер-о-Беф. В твоем распоряжении четыре минуты, чтобы навязать ему свою душу.
Эта речь звучала устрашающе.
— Здорово сказано, клянусь душой! — воскликнул царь галилейский, разбивая свою кружку, чтобы подпереть черепком ножку стола. — Право, Клопен Труйльфу проповедует не хуже самого святейшего Папы!
— Всемилостивейшие императоры и короли, — хладнокровно сказал Гренгуар (каким-то чудом он снова обрел уверенность в себе и говорил решительно), — опомнитесь! Я Пьер Гренгуар, поэт, автор той самой мистерии, которую нынче утром представляли в большой зале Дворца.
— А! Так это ты, мэтр! — воскликнул Клопен. — Я тоже там был, ей-богу! Ну, дружище, если ты докучал нам утром, это еще не резон миловать тебя вечером!
«Нелегко мне будет вывернуться из беды», — подумал Гренгуар, но тем не менее сделал еще одну попытку.
— Не понимаю, почему, — сказал он, — поэты не зачислены в нищенствующую братию. Бродягой был Эзоп, нищим был Гомер, вором был Меркурий…
— Ты что нам зубы-то заговариваешь своей тарабарщиной! — заорал Клопен. — Тьфу, пропасть! Дай себя повесить и не кобенься!
— Простите, всемилостивейший владыка королевства, — ответил Гренгуар, упорно отстаивая свои позиции. — Об этом стоит подумать… одну минуту. Выслушайте меня… Ведь не осудите же вы меня не выслушав…
Но его жалкий голос был заглушён раздававшимся вокруг него шумом. Маленький мальчик с еще большим остервенением скреб котел, а в довершение всего какая-то старуха поставила на раскаленный таган полную сковороду сала, трещавшего на огне, словно орава ребятишек, преследующая карнавальную маску.
Тем временем Клопен Труйльфу, посовещавшись с герцогом египетским и вдребезги пьяным галилейским царем, пронзительно крикнул толпе:
— Молчать!
Но так как ни котел, ни сковорода не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на десять от ребенка, другой — спихнул сковородку, причем все сало опрокинулось в огонь, и снова величественно взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушённые всхлипывания ребенка, ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем.
Труйльфу подал знак, и герцог, император, мазурики и домушники выстроились полумесяцем, в центре которого стоял Гренгуар, все еще находившийся под крепкой стражей. Это было полукружие, составленное из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, оголенных здоровенных рук, дрожащих от пьянства ног, мерзких и осовелых, отупевших рож. За этим «круглым столом» нищеты, во главе, словно дож этого сената, словно король этого пэрства, словно Папа этого конклава, возвышался Клопен Труйльфу — прежде всего благодаря высоте своей бочки, а затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, которое, зажигая его взор, смягчало в его диком облике животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди свиных рыл.
— Послушай, — обратился он к Гренгуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый подбородок, — я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить. Правда, тебе это, по-видимому, противно, но это вполне понятно: вы, горожане, к этому не привыкли и воображаете, что это невесть что! Впрочем, мы тебе зла не желаем. Вот тебе средство выпутаться из затруднения. Хочешь примкнуть к нашей братии?
Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Гренгуара, уже потерявшего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие. Он живо ухватился за него.
— Конечно, хочу, еще бы! — воскликнул он.
— Ты согласен вступить в братство коротких клинков? — продолжал Клопен.
— Да, именно в братство коротких клинков, — ответил Гренгуар.
— Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан? — спросил король Алтынный.
— Да, признаю себя членом общины вольных горожан.
— Подданным королевства Арго? — Да.
— Бродягой?
— Бродягой.
— От всей души?
— От всей души.
— Имей в виду, — заметил король, — что все равно ты будешь повешен.
— Черт возьми! — воскликнул поэт.
— Разница заключается в том, — невозмутимо продолжал Клопен, — что ты будешь повешен несколько позднее, более торжественно, за счет славного города Парижа, на отличной каменной виселице и порядочными людьми. Это все-таки утешение.
— Да, конечно, — согласился Гренгуар.
— У тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен будешь платить ни за чистку и освещение улиц, ни в пользу бедных; а каждый парижанин вынужден это делать.
— Аминь, — ответил поэт, — я согласен. Я бродяга, арготинец, вольный горожанин, короткий клинок и все, что вам угодно. Всем этим я был уже давно, ваше величество, король Алтынный, ибо я философ. А, как вам известно, et omnia in philosophia, omnes in philosopho continentur[93].
Король Алтынный насупился.
— За кого ты меня принимаешь, приятель? Что ты там болтаешь на арго венгерских евреев? Я не говорю по-еврейски. Я больше не граблю, я выше этого: я убиваю. Перерезать горло — это да, а срезать кошелек — ну нет!
Гренгуар силился вставить какие-то оправдания в этот поток слов, которым гнев придавал все большую отрывистость.
— Ваше величество, прошу вас простить меня, — бормотал он, — я говорил по-латыни, а не по-еврейски.
— А я тебе говорю, — с запальчивостью возразил Клопен, — что я не еврей, и прикажу тебя повесить, отродье синагоги, вместе вот с этим ничтожным иудейским торгашом, который торчит рядом с тобой и которого я надеюсь вскоре увидеть пригвожденным к прилавку, как фальшивую монету!
С этими словами он указал пальцем на низенького бородатого венгерского еврея, который докучал Гренгуару своим «facitote caritatem»[94], а теперь, не разумея никакого иного языка, изумленно взирал на короля Алтынного, не понимая, чем вызвал его гнев.
Наконец его величество Клопен успокоился.
— Итак, прощелыга, — обратился он к нашему поэту, — значит, ты хочешь стать бродягой?
— Конечно, — ответил поэт.
— Хотеть — этого еще мало, — грубо ответил Клопен. — Хорошими намерениями похлебки не сдобришь, с ними разве только в рай попадешь. Но рай и Арго — вещи разные. Чтобы стать арготинцем, надо доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот попробуй обшарь чучело.
— Я обшарю кого вам будет угодно, — ответил Гренгуар.
Клопен подал знак. Несколько арготинцев вышли из полукруга и вскоре вернулись. Они притащили два столба с лопатообразными подпорками у основания, которые придавали им устойчивость, и с поперечным брусом сверху. Все в целом представляло прекрасную передвижную виселицу, и Гренгуар имел удовольствие видеть, как ее воздвигли перед ним в мгновение ока. Все в этой виселице было в исправности, даже веревка, грациозно качавшаяся под перекладиной.
«К чему они все это мастерят?» — с некоторым беспокойством подумал Гренгуар.
Звон колокольчиков, раздавшийся в эту минуту, положил конец его тревоге. Звенело чучело, подвешенное бродягами за шею к виселице, — это было нечто вроде вороньего пугала, наряженного в красную одежду и увешанного таким множеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на украшение упряжи тридцати кастильских мулов. Некоторое время, пока веревка раскачивалась, колокольчики звенели, затем стали постепенно затихать и, когда чучело, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы, повисло неподвижно, совсем замолкли.
Клопен указал Гренгуару на старую, расшатанную скамью, стоявшую под чучелом:
— Ну-ка, влезай!
— Черт побери, — запротестовал Гренгуар, — ведь я могу сломать себе шею. Ваша скамейка хромает, как двустишие Марциала: размер одной ноги у нее — гекзаметр, другой — пентаметр.
— Влезай! — повторил Клопен.
Гренгуар взобрался на скамью и, побалансировав, нашел наконец равновесие.
— А теперь, — продолжал владыка королевства Арго, — зацепи правой ногой левое колено и встань на носок левой ноги.
— Ваше величество, — взмолился Гренгуар, — вы непременно хотите, чтобы я повредил себе что-нибудь?
Клопен покачал головой.
— Послушай, приятель, ты слишком много болтаешь! Вот в двух словах, что от тебя требуется: ты должен, как я уже говорил, встать на носок левой ноги; в этом положении ты дотянешься до кармана чучела, обшаришь его и вытащишь оттуда кошелек. Если ты изловчишься сделать это так, что ни один колокольчик не звякнет, твое счастье: ты станешь бродягой. Тогда нам останется только отлупить тебя хорошенько, на что уйдет восемь дней.
— Черт возьми, — воскликнул Гренгуар, — придется быть осторожным! А ежели колокольчики зазвенят?
— Тогда тебя повесят. Понимаешь?
— Ничего не понимаю, — ответил Гренгуар.
— Ну так слушай еще раз. Ты обшаришь чучело и вытащишь у него из кармана кошелек; если в это время звякнет хоть один колокольчик, ты будешь повешен. Понял?
— Да, ваше величество, понял. Ну а ежели нет?
— Если тебе удастся выкрасть кошелек так, что никто не услышит ни звука, тогда ты — бродяга, и в продолжение восьми дней сряду мы будем тебя лупить. Теперь, я надеюсь, ты понял?
— Нет, ваше величество, я опять ничего не понимаю. В чем же мой выигрыш, коли в одном случае я буду повешен, в другом — избит?
— А то, что ты станешь бродягой, — возразил Клопен, — этого, по-твоему, мало? Бить мы тебя будем для твоей же пользы — это приучит тебя к побоям.
— Покорно благодарю, — ответил поэт.
— Ну, живей! — закричал король, топнув ногой по бочке, загудевшей, словно огромный барабан. — Обшарь чучело, и баста! Предупреждаю тебя в последний раз: если звякнет хоть один бубенец, будешь висеть на его месте.
Банда арготинцев, покрыв слова Клопена рукоплесканиями, безжалостно смеясь, выстроилась вокруг виселицы. Тут Гренгуар понял, что служил им только потехой и, следовательно, мог ожидать от них чего угодно. Итак, не считая слабой надежды на успех в навязанном ему страшном испытании, уповать ему было больше не на что. Он решил попытать счастья, но предварительно обратился с пламенной мольбой к чучелу, которое намеревался обобрать, ибо, казалось, легче умилостивить его, чем бродяг. Мириады колокольчиков с крошечными медными язычками представлялись ему мириадами разверстых змеиных пастей, готовых зашипеть и ужалить его.
— О! — пробормотал он. — Неужели возможно, чтобы моя жизнь зависела от малейшего колебания самого крошечного колокольчика? О! — молитвенно сложив руки, произнес он. — Звоночки, не трезвоньте, колокольчики, не звените, бубенчики, не бренчите!
Он сделал еще одну попытку переубедить Труйльфу.
— А ежели налетит порыв ветра? — спросил тот.
— Ты будешь повешен, — без запинки ответил тот.
Видя, что ему нечего ждать ни отсрочки, ни промедления, ни возможности как-либо отвертеться, Гренгуар мужественно покорился своей участи. Он обхватил правой ногой левую, встал на левый носок и протянул руку; но в ту самую минуту, когда он прикоснулся к чучелу, тело его, опиравшееся лишь на одну ногу, пошатнулось на скамье, которой тоже не хватало одной ноги; чтобы удержаться, он невольно ухватился за чучело и, потеряв равновесие, оглушенный роковым трезвоном тысячи колокольчиков, тяжело грохнулся на землю; чучело от толчка сначала описало круг, затем величественно закачалось между двумя столбами.
— Проклятие! — воскликнул, падая, Гренгуар и остался лежать, уткнувшись носом в землю, неподвижный, как труп.
Он слышал зловещий трезвон над своей головой, дьявольский хохот бродяг и голос Труйльфу:
— Ну-ка, подымите этого чудака и повесьте его без канители.
Он встал. Чучело уже успели отцепить и освободили место для Гренгуара.
Арготинцы заставили его влезть на скамью. К нему подошел сам Клопен и, накинув ему петлю на шею, потрепал его по плечу:
— Прощай, приятель. Теперь, будь в твоем брюхе кишки самого Папы, тебе не выкрутиться!
Слово «пощадите» замерло на устах Гренгуара. Он растерянно огляделся. Никакой надежды: все хохотали.
— Бельвинь де Летуаль, — обратился властелин королевства Арго к какому-то отделившемуся от толпы верзиле, — ну-ка полезай на перекладину.
Бельвинь де Летуаль проворно вскарабкался на поперечный брус виселицы, и мгновение спустя Гренгуар, посмотрев вверх, с ужасом увидал его примостившимся на перекладине над его головой.
— Теперь, — сказал Клопен Труйльфу, — ты, Андри Рыжий, как только я хлопну в ладоши, вышибешь коленом у него из-под ног скамейку, ты, Франсуа Шант-Прюн, повиснешь на ногах этого прощелыги, а ты, Бельвинь, прыгнешь ему на плечи, да все трое разом — слышали?
Гренгуар содрогнулся.
— Ну, поняли? — спросил Клопен трех арготинцев, готовых ринуться на Гренгуара, словно пауки на муху. Несчастная жертва переживала ужасные мгновения, пока Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не успевших загореться прутьев виноградной лозы. — Поняли? — повторил он и уже хотел хлопнуть в ладоши. Еще секунда — и все было бы кончено.
Но вдруг он остановился, точно осененный какой-то неожиданной мыслью.
— Постойте! — воскликнул он. — Чуть не забыл!.. По нашему обычаю, прежде чем повесить человека, мы спрашиваем, не найдется ли женщины, которая захочет его взять. Ну, дружище, это твоя последняя надежда. Тебе придется выбрать между потаскушкой и веревкой.
Этот цыганский обычай, сколь ни покажется он необычайным читателю, еще и доныне в весьма пространном изложении существует в старинном английском законодательстве. О нем можно справиться в «Заметках» Берингтона.
Гренгуар перевел дух. Но в течение получаса он уже второй раз возвращался к жизни, стало быть, слишком доверять этому счастью нельзя.
— Эй! — крикнул Клопен, снова взобравшись на свою бочку. — Эй! Бабье, девки, найдется ли среди вас — будь то ведьма или ее кошка — какая-нибудь потаскушка, которая пожелала бы взять его себе? Эй! Колета Шарон, Элизабета Трувен, Симона Жодуин, Мари Колченогая, Тони Долговязая, Берарда Фануэль, Мишель Женайль, Клодина Грызи Ухо, Матюрина Жирору! Эй! Изабо ла Тьери! Глядите сюда! Мужчина задаром! Кто хочет?
Несомненно, Гренгуар представлял собой малопривлекательное зрелище в том плачевном состоянии, в котором находился. Женщины отнеслись равнодушно к этому предложению. Бедняга слышал, как они ответили: «Нет, лучше повесьте. Тогда все получим удовольствие».
Трое из них, однако, отделились от толпы и подошли посмотреть на него. Первая была толстуха с квадратным лицом. Она внимательно оглядела жалкую куртку философа. Его камзол был до такой степени изношен, что на нем было больше дыр, чем в сковородке для жаренья каштанов. Девушка скорчила гримасу.
— Чистая рвань! — пробурчала она. — А где твой плащ? — спросила она Гренгуара.
— Я потерял его.
— А шляпа?
— У меня ее отняли.
— А башмаки?
— У них отваливаются подошвы.
— А твой кошелек?
— Увы, — запинаясь, ответил Гренгуар, — у меня нет ни полушки.
— Ну так попроси, чтобы тебя повесили, да еще скажи спасибо! — отрезала она и повернулась к нему спиной.
Вторая — старая, смуглая, морщинистая, омерзительная нищенка, до того безобразная, что даже во Дворе чудес казалась исключением, — покружила некоторое время вокруг Гренгуара. Ему даже стало страшно, что вдруг она пожелает его взять.
— Он слишком тощий! — пробормотала она сквозь зубы и отошла прочь.
Третья была молоденькая девушка, довольно свеженькая и не слишком безобразная.
— Спасите меня, — шепнул ей бедняга.
Она взглянула на него с состраданием, затем потупилась, поправила складку на юбке и остановилась в нерешительности. Он следил за всеми ее движениями: это была его последняя надежда.
— Нет, — проговорила она наконец, — нет, Гильом Вислощекий меня поколотит. — И она замешалась в толпу.
— Ну, приятель, тебе не везет, — заметил Клопен.
И, поднявшись во весь рост на своей бочке, он, к величайшей потехе всех, закричал, подражая тону оценщика на аукционе:
— Никто не желает его приобрести? Раз, два, три! — И, повернувшись лицом к виселице, он сказал, кивнув головой: — Остался за вами!
Бельвинь де Летуаль, Андри Рыжий и Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Гренгуару. В эту минуту среди арготинцев поднялся крик:
— Эсмеральда! Эсмеральда!
Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы. Толпа расступилась и пропустила непорочное и ослепительное создание.
То была цыганка.
— Эсмеральда, — повторил Гренгуар, пораженный, несмотря на свое волнение, той быстротой, с какою это магическое слово связало все его воспоминания за этот день.
Казалось, что это удивительное существо простирало до самого Двора чудес власть своего очарования и красоты. Арготинцы и арготинки тихо сторонились, уступая ей дорогу, их зверские лица как бы светлели от одного ее взгляда.
Она приблизилась к осужденному своей легкой поступью. Хорошенькая Джали следовала за ней. Гренгуар был ни жив ни мертв. Она с минуту молча глядела на него.
— Вы хотите повесить этого человека? — с важностью обратилась она к Клопену.
— Да, сестра, — ответил король Алтынный, — разве только ты захочешь взять его в мужья.
Она сделала свою очаровательную гримаску.
— Я беру его, — сказала она.
Тут Гренгуар непоколебимо уверовал в то, что все происходящее с ним с утра лишь сон, а это — продолжение сна.
Развязка хотя и была приятна, но слишком потрясла его.
С шеи поэта сняли петлю и велели спуститься со скамьи. Он вынужден был сесть — так сильно был он ошеломлен. Цыганский герцог, не произнеся ни единого слова, принес глиняную кружку. Цыганка подала ее Гренгуару.
— Бросьте ее на землю, — сказала она. Кружка разлетелась на четыре части.
— Брат, — произнес тогда цыганский король, возложив на их головы свои руки, — она твоя жена. Сестра — он твой муж. На четыре года. Ступайте.
Глава 7
Брачная ночь
По прошествии нескольких минут наш поэт очутился в небольшой каморке со сводчатым потолком, уютной и жарко натопленной, перед столиком, который, казалось, только того и ждал, чтобы позаимствовать какой-нибудь снеди из висящего на стене шкапчика. В перспективе у Гренгуара была удобная постель и общество хорошенькой девушки. Приключение было похоже на волшебство. Он начал не шутя почитать себя за сказочного принца; время от времени он внимательно осматривался, как бы желая убедиться, не здесь ли еще та огненная колесница, запряженная двумя крылатыми Химерами, которая одна могла столь стремительно перенести его из преисподней в рай. Иногда же, чтобы совсем не оторваться от земли, он, хватаясь за действительность, устремлял упорный взгляд на прорехи своего камзола. Его рассудок, колеблясь в фантастических просторах, держался только на этой нити.
Молодая девушка не обращала на него никакого внимания; она уходила, возвращалась, передвигала табурет, болтала с козочкой, строила по временам свою гримаску, наконец она села возле стола, и Гренгуар мог вволю ее разглядывать.
Вы были когда-то ребенком, читатель, а может быть, вам посчастливилось остаться им и по сей день. Несомненно, вы не раз в сияющий солнечный день, сидя на берегу быстрой речки, ловили взором какую-нибудь очаровательную стрекозу, зеленую или голубую, которая быстрым, резким, косым лётом переносилась с кустика на кустик и словно лобзала кончик каждой ветки. (Что до меня, то я проводил за этим занятием долгие дни — плодотворнейшие дни моей жизни.) Вспомните, с каким любовным вниманием ваша мысль и взор были прикованы к этому маленькому вихрю пурпуровых и лазоревых крыл, свистящему и жужжащему, в центре которого трепетал какой-то неуловимый образ, затененный самой стремительностью своего движения. Это воздушное создание, чуть видное сквозь трепетанье крылышек, казалось вам нереальным, призрачным, неосязаемым, неразличимым. А когда наконец стрекоза опускалась на верхушку тростника и вы, затаив дыхание, могли разглядеть продолговатые прозрачные крылья, длинное эмалевое одеяние и два хрустальных глаза, — как бывали вы изумлены и как боялись, что этот образ снова превратится в тень, а живое существо — в Химеру! Припомните эти впечатления, и вам будет понятно, что испытывал Гренгуар, созерцая под видимой и осязаемой оболочкой ту Эсмеральду, которую до сей поры он видел лишь мельком за вихрем пляски, песни и суеты.
«Так вот что такое Эсмеральда! — думал он, следя за ней задумчивым взором и все более и более погружаясь в мечтания. — Небесное создание и уличная плясунья! Столь много и столь мало! Она нанесла нынче утром последний удар моей мистерии, и она же вечером спасла мне жизнь. Мой злой гений! Мой ангел-хранитель! Прелестная женщина, клянусь честью! Она должна любить меня до безумия, если решилась завладеть мной таким странным способом. Да, кстати, — встав внезапно из-за стола, сказал он себе, охваченный тем чувством реальности, которое составляло основу его характера и философии, — как-никак, но ведь я ее муж!»
Эта мысль отразилась в его глазах, и он с таким предприимчивым и галантным видом подошел к молодой девушке, что она отшатнулась.
— Что вам угодно? — спросила она.
— Неужели вы сами не догадываетесь об этом, обожаемая Эсмеральда? — ответил Гренгуар с такой страстью, что сам себе удивился.
Цыганка изумленно посмотрела на него.
— Я не понимаю, что вы хотите сказать.
— Как же! — продолжал Гренгуар, все более и более воспламеняясь и воображая, что, в конце концов, он имеет дело всего лишь с добродетелью Двора чудес. — Разве я не твой, нежная моя подруга? Разве ты не моя?
И он простодушно обнял ее за талию.
Она выскользнула у него из рук, как угорь. Отскочив на другой конец каморки, она наклонилась, затем вновь выпрямилась, и, раньше чем Гренгуар успел сообразить, откуда он взялся, в ее руке сверкнул маленький кинжал. Гордая, негодующая, сжав губы, красная, как наливное яблочко, стояла она перед ним; ноздри ее раздувались, глаза сверкали. Тут же выступила вперед и белая козочка, наставив на Гренгуара свой лоб, вооруженный двумя хорошенькими позолоченными и весьма острыми рожками. Все это произошло в мгновение ока.
Стрекоза превратилась в осу и стремилась ужалить.
Наш бедный философ опешил и с глупым видом смотрел то на козочку, то на Эсмеральду.
— Пресвятая Дева, — воскликнул он, опомнившись от изумления и обретя дар речи, — вот так храбрецы!
Цыганка нарушила молчание:
— А ты, как я погляжу, очень дерзкий плут!
— Простите, мадемуазель, — улыбаясь, ответил Гренгуар, — но зачем же вы взяли меня в мужья?
— А было бы лучше, если бы тебя повесили?
— Значит, вы вышли за меня замуж только ради того, чтобы спасти меня от виселицы? — спросил Гренгуар, несколько разочаровавшись в своих любовных упованиях.
— А о чем же другом я могла думать?
Гренгуар закусил губу. «Ну, ну, — пробормотал он, — видимо, Купидон далеко не столь благосклонен ко мне, как я предполагал. Но для чего же тогда было разбивать эту злосчастную кружку?»
Кинжал молодой цыганки и рожки козочки все еще находились в оборонительном положении.
— Мадемуазель Эсмеральда, — сказал поэт, — заключим перемирие. Я не актуариус[95] Шатле и не буду доносить, что вы, вопреки запрещениям и приказам господина парижского прево, носите при себе кинжал. Но все же вы должны знать, что восемь дней тому назад Ноэль Лекривен был присужден к уплате штрафа в десять су за то, что носил шпагу. Ну, да меня это не касается; я перехожу к делу. Клянусь вам вечным спасением, что я не подойду к вам без вашего согласия и разрешения, только дайте мне поужинать.
В сущности, Гренгуар, как и господин Депрео[96], был «преотменно мало сластолюбив». Он не принадлежал к породе тех грубоватых и развязных мужчин, которые берут девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был противником крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Приятная беседа с глазу на глаз и добрый ужин, в особенности когда человек голоден, казались ему великолепной интермедией между прологом и развязкой любовного приключения.
Цыганка оставила его речь без ответа. Сделав презрительную гримаску, она, точно птичка, подняла голову и вдруг расхохоталась; маленький кинжал исчез так же быстро, как появился, и Гренгуар не успел разглядеть, куда пчелка спрятала свое жало.
Через минуту на столе очутились ржаной хлеб, кусок сала, несколько сморщенных яблок и жбан браги. Гренгуар с увлечением принялся за еду. Слыша бешеный стук его железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было предположить, что вся его любовь обратилась в аппетит.
Сидя напротив него, молодая девушка молча наблюдала за ним, явно поглощенная какими-то другими мыслями, которым она порой улыбалась, и милая ее ручка гладила головку козочки, нежно прижавшуюся к ее коленям.
Свеча желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности.
Заморив червячка, Гренгуар устыдился, заметив, что на столе осталось несъеденным лишь одно яблоко.
— А вы не голодны, мадемуазель Эсмеральда? — спросил он.
Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взор на сводчатый потолок комнатки.
«Что ее там занимает? — спросил себя Гренгуар, посмотрев туда же, куда глядела цыганка. — Не может быть, чтобы рожа каменного карлика, высеченного в центре свода. Черт возьми! С ним-то я вполне могу соперничать».
И он окликнул ее:
— Мадемуазель!
Она, казалось, не слыхала. Он повторил еще громче:
— Мадемуазель Эсмеральда!
Напрасно. Ее мысли витали где-то далеко, и голос Гренгуара был бессилен отвлечь ее от них. К счастью, в дело вмешалась козочка: она принялась тихонько дергать свою госпожу за рукав.
— Что тебе, Джали? — словно пробудившись от сна, быстро спросила цыганка.
— Она голодна, — ответил Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.
Эсмеральда накрошила хлеба, и козочка грациозно начала его есть с ее ладони.
Гренгуар, не дав молодой девушке времени опять впасть в задумчивость, отважился задать ей щекотливый вопрос:
— Итак, вы не желаете, чтобы я стал вашим мужем? Она пристально поглядела на него и ответила:
— Нет.
— А любовником? — спросил Гренгуар. Она сделала гримаску и сказала:
— Нет.
— А другом? — настаивал Гренгуар.
Она опять пристально поглядела на него и, помедлив, ответила:
— Может быть.
Это «может быть», столь любезное сердцу философа, ободрило Гренгуара.
— А знаете ли вы, что такое дружба? — спросил он.
— Да, — ответила цыганка. — Это значит быть братом и сестрой; это две души, которые соприкасаются, не сливаясь; это два перста одной руки.
— А любовь? — спросил Гренгуар.
— О, любовь! — промолвила она, и голос ее дрогнул, и глаза заблистали. — Любовь — это когда двое едины. Когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это — небо!
При этих словах лицо уличной плясуньи просияло чудесной красотой, которая необычайно потрясла Гренгуара и, казалось ему, была в совершенном соответствии с почти восточной экзальтированностью ее слов. Ее розовые невинные уста слегка улыбались, непорочное и ясное чело, как зеркало от дыхания, иногда затуманивалось какой-то мыслью, а из-под опущенных длинных черных ресниц струился неизъяснимый свет, придававший ее чертам ту идеальную нежность, которую впоследствии уловил Рафаэль[97] в мистическом слиянии девственности, материнства и божественности.
— Каким же надо быть, чтобы вам понравиться? — продолжал Гренгуар.
— Надо быть мужчиной.
— А я, — спросил он, — разве я не мужчина?
— Мужчиной, у которого на голове шлем, в руках шпага, а на сапогах золотые шпоры.
— Так! — заметил Гренгуар. — Значит, без золотых шпор нет и мужчины. Вы любите кого-нибудь?
— Любовью?
— Да, любовью.
На минуту она задумалась, затем сказала с каким-то особым выражением:
— Я скоро это узнаю.
— Отчего же не сегодня вечером? Почему не меня?
Она серьезно взглянула на него.
— Я полюблю только того мужчину, который сумеет защитить меня.
Гренгуар покраснел и принял эти слова к сведению. Молодая девушка, очевидно, намекала на ту слабую помощь, которую он оказал ей два часа тому назад, когда она попала в такое опасное положение. Ему вспомнился теперь этот случай, полузабытый им среди других его ночных передряг. Он хлопнул себя по лбу.
— Мне следовало бы с этого и начать! Простите мою ужасную рассеянность, мадемуазель. Скажите, каким образом вам удалось вырваться из когтей Квазимодо?
Этот вопрос заставил цыганку вздрогнуть.
— О! Ужасный горбун! — закрывая лицо руками, воскликнула она и задрожала, словно ее охватило холодом.
— Действительно ужасный! Но как же вам удалось ускользнуть от него? — настойчиво повторил свой вопрос Гренгуар.
Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и промолчала.
— А вы знаете, почему он вас преследовал? — спросил Гренгуар, пытаясь обходным путем вернуться к интересовавшей его теме.
— Не знаю, — ответила молодая девушка, а потом быстро прибавила: — Вы ведь тоже меня преследовали, а зачем?
— Клянусь честью, я и сам не знаю.
Оба замолчали. Гренгуар кромсал своим ножом стол, молодая девушка улыбалась и пристально глядела на стену, словно что-то видела за ней. Вдруг она едва слышно запела:
Quando las pintadas aves Mudas estan, у la tierra…[98]Оборвав песню, она принялась ласкать Джали.
— Какое хорошенькое животное, — сказал Гренгуар.
— Это моя сестричка, — ответила цыганка.
— Почему вас зовут Эсмеральдой[99]? — спросил поэт.
— Не знаю.
— А все же?
Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфары. Ладанка была обтянута зеленым шелком, а посредине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд.
— Может быть, из-за этого, — сказала она. Гренгуар хотел взять ладанку в руки. Эсмеральда отшатнулась.
— Не прикасайтесь к ней! Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам.
Любопытство поэта разгоралось все сильнее.
— Кто же вам его дал?
Она приложила пальчик к губам и спрятала амулет на груди. Гренгуар попытался задать ей еще несколько вопросов, но она отвечала неохотно.
— Что означает слово «Эсмеральда»?
— Не знаю, — сказала она.
— На каком это языке?
— Должно быть, на цыганском.
— Я так и думал, — сказал Гренгуар. — Вы родились не во Франции?
— Я ничего об этом не знаю.
— А кто ваши родители?
В ответ она запела на мотив старинной песни:
Отец мой орел, Мать моя орлица. Плыву я без ладьи. Плыву я без челна. Отец мой орел, Мать моя орлица.— Так, — сказал Гренгуар, — сколько же вам было лет, когда вы приехали во Францию?
— Я была совсем малюткой.
— А в Париж?
— В прошлом году. Когда мы входили в Папские ворота, то над нашими головами пролетела камышовая славка; это было в конце августа; я сказала себе: «Зима нынче будет суровая».
— Да, так оно и было, — сказал Гренгуар, восхищаясь тем, что разговор наконец завязался, — мне все время приходилось дыханием отогревать пальцы. Вы, значит, обладаете даром пророчества?
Она снова вернулась к лаконической форме ответа:
— Нет.
— А тот человек, которого вы называете цыганским герцогом, — глава вашего племени?
— Да.
— А ведь это он сочетал нас браком, — робко заметил поэт.
Она сделала свою обычную гримаску.
— Я даже не знаю, как тебя зовут.
— Извольте! Пьер Гренгуар.
— Я знаю более красивое имя.
— Злая! — сказал поэт. — Но пусть так, я не буду сердиться. Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе. Вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам уже известно, что мое имя Пьер Гренгуар. Я сын сельского нотариуса из Гонеса. Двадцать лет тому назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, шести лет я остался сиротой, и подошвой моим ботинкам служили лишь мостовые Парижа. Не знаю сам, как мне удалось прожить с шести до шестнадцати лет. То торговка фруктами давала мне сливу, то булочник бросал корочку хлеба; по вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор: меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимою я грелся на солнышке у подъезда особняка де Сане, недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В шестнадцать лет я решил выбрать себе профессию. Одно за другим я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Затем я сделался монахом, но оказался недостаточно набожным, и, кроме того, я не умел пить. Тогда с отчаяния я поступил в обучение к плотникам, но оказался слишком слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем; правда, грамоты я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, стал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг, и это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали некоторые вороватые парнишки из числа моих приятелей. К счастью, я однажды встретил преподобного отца Клода Фролло, архидьякона собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона «Об обязанностях» и кончая «Житиями святых», творением отцов-целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиитике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном стечении народа была представлена в переполненной большой зале Дворца. Я написал также труд в шестьсот страниц о страшной комете 1465 года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи. Будучи несколько сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жеана Mora, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила двадцать четыре человека зевак. Итак, вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество весьма забавных штучек, которым могу научить вашу козочку, — например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу, мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении Мельничного моста. А потом я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам: и я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость; я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель, — в целомудрии или в веселии: как муж с женою, буде вам то понравится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете.
Гренгуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на молодую девушку. Глаза ее были опущены.
— Феб, — промолвила она вполголоса и, обернувшись к поэту, спросила: — Что означает слово «Феб»?
Гренгуар, хоть и не очень хорошо понимавший, какое отношение этот вопрос имел к тому, что он только что говорил, был все же не прочь блеснуть своей ученостью и, приосанившись, ответил:
— Это латинское слово, оно означает «солнце».
— Солнце! — повторила цыганка.
— Так звали прекрасного стрелка, который был богом, — присовокупил Гренгуар.
— Богом! — повторила она с каким-то мечтательным и страстным выражением.
В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал. Гренгуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, молодая девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Маленькая дверь, ведущая, по-видимому, в соседнюю каморку, заперлась изнутри.
«Оставила ли она мне хоть постель?» — подумал наш философ.
Он обошел каморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь; но его крышка была резной работы, и это заставило Гренгуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал Микромегас[100], улегшись во всю длину на Альпах.
— Делать нечего, — сказал он, устраиваясь поудобней на этом ложе, — приходится смириться. Однако какая странная брачная ночь! А жаль! В этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное, что мне понравилось.
Книга III
Глава 1
Собор Богоматери
Несомненно, собор Парижской Богоматери еще и доныне является благородным и величественным зданием. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разрушений и повреждений, которым и годы и люди одновременно подвергли этот почтенный памятник старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа-Августа, положившего последний.
На челе этого старейшего патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. Tempus edax, homo edacior[101], что я охотно перевел бы таким образом: «Время слепо, а человек невежествен».
Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все те следы разрушения, которые отпечатались на этом древнем храме, мы бы заметили, что доля времени здесь ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.
Прежде всего — чтобы ограничиться лишь немногими наиболее значительными примерами — следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какой является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними — зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими в пять гигантских ярусов, безмятежно в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа; единое и сложное, подобно «Илиаде» и «Романсеро», которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; одним словом, это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.
То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом; а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах Средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта — значит определить размеры всего его тела.
Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх — quoe mole sua terrorem incutit spectantibus[102].
Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом, с королевскою державою в руке.
Время, поднимая медленно и неудержимо уровень почвы Ситэ, заставило исчезнуть лестницу. Но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты этого здания, время же вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду тот темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.
Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала эту новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда эту безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета? Люди, архитекторы, художники наших дней.
А внутри храма — кто поверг ниц исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большая зала Дворца правосудия среди других зал, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто столь грубо изгнал из храма мириады статуй, которые населяли все промежутки между колоннами нефа и хоров, — статуи коленопреклоненные, стоящие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые? Уж никак не время.
А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчежцами, этим тяжелым каменным саркофагом, разукрашенным головами херувимов и облаками, похожим на попавший сюда архитектурный образчик церкви Валь-де-Грас или Дома инвалидов? Кто столь нелепо вделал в плиты карловингского пола, работы Эркандуса, этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнивший пожелание Людовика XIII?
Кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи, поочередно притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к стрельчатым окнам алтаря? И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту потрясающую желтую замазку, которой наши вандалы архиепископы запачкали собор? Он вспомнил бы, что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом; он вспомнил бы отель Пти-Бурбон, в ознаменование измены коннетабля также вымазанный той самой желтой краской, которая, по словам Соваля, была «столь крепкой и доброкачественной, что еще более ста лет сохраняла свою свежесть». Причетник решил бы, что святой храм осквернен, и в ужасе бежал бы.
А если мы, минуя тысячу мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх собора, то спросим себя: что сталось с той очаровательной колоколенкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиц[103] Сент-Шапель (тоже снесенный)? Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзалась в ясное небо! Один архитектор (1787), обладавший непогрешимым вкусом, ампутировал ее, а чтобы скрыть рану, счел вполне достаточным наложить на нее этот свинцовый пластырь, напоминающий крышку котла.
Таково было отношение к дивным произведениям искусства Средневековья почти повсюду, особенно во Франции. На его руинах можно различить три вида более или менее глубоких повреждений: прежде всего бросаются в глаза те из них, что нанесла рука времени, там и сям неприметно выщербив и покрыв ржавчиной поверхность зданий; затем на них беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут — слепых и яростных по своей природе, — которые растерзали роскошный скульптурный и резной наряд соборов, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния — одни за то, что те были в митрах, другие за то, что их головы венчали короны; довершили разрушения моды, все более вычурные и нелепые, сменявшиеся одна за другой при неизбежном упадке зодчества, после анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения.
Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов, они обкорнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не притязали ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании «хорошего вкуса», они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками, мраморными лентами, металлическими помпонами, медальонами, завитками, ободками, драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые, подобно настоящей проказе, начинают пожирать прекрасный лик искусства еще в молельне Екатерины Медичи, а два века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре Дюбарри.
Итак, повторяем вкратце то, на что мы указывали ранее: троякого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности — дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы — дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо… Увечья, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые реставрации, — дело варварской работы подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим по крайней мере беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя, к вящей славе Парфенона[104], кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва. Так засыхающий дуб точат, сверлят, гложут гусеницы.
Как далеко то время, когда Робер Сеналис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе[105], «столь прославленным язычниками» и обессмертившим Герострата[106], находил галльский собор «великолепней по длине, ширине, высоте и устройству»[107].
Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери не имеет, подобно Турнюсскому аббатству, той суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты зданий, основоположением которых является круглая арка. Он не похож и на собор в Бурже, великолепное, легкое, многообразное по форме, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведение готики. Невозможно причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, целиком эмблематических, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми; являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих; служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожило до времен Вильгельма Завоевателя. Невозможно также отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием витражей, смелых по рисунку; общинных и гражданских, как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных, как творения искусства; служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствование Людовика XI. Таким образом, собор Парижской Богоматери не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые.
Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с той поры, стрельчатый свод определяет формы всего собора в целом. Неискушенный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких чудесных соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских столбов.
Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собою тот оттенок в искусстве, который был бы для нас утрачен без них. Это — прививка стрельчатого свода к полукруглому.
Собор Парижской Богоматери и является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника — это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые Красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жер-мен-де-Пре времен Каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в шестьсот лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола Фламель предшествовал Лютеру, единовластие Папы, раскол Церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри — все расплавилось, смешалось, слилось в соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде Химеры: у нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми.
Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес и для художника, и для любителя древностей, и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, насколько первобытно искусство зодчества, служа наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого — это не столько творения отдельной личности, сколько целого общества; это скорее следствие творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения; это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками; гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого общества; одним словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв, каждое поколение — свой слой, и каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества, Вавилон, представлял собою улей.
Великие здания, как и высокие горы, — создания веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены, pendent opera interrupta[108]; тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит, отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился, это сок, который бродит, это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время — зодчий, а народ — каменщик.
Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладок Востока, мы видим пред собой исполинское образование, разделенное на три резко отличных друг от друга пояса: пояс романский[109], пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, законченны и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста Господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник романский по своему основанию, готический — по средней части, греко-римский — по куполу. Это объясняется тем, что он строился шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этамп. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков собор Парижской Богоматери — здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Такова прелестная полуготическая зала капитула Бошервиля, до половины охваченная романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения[110].
Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается незыблемым. Внутренний остов его все тот же, все то же последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь — хотя бы в зачаточном, начальном состоянии — римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры; это все те же постоянные приделы для крестовых ходов внутри храма или для часовен — нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного богослужения, зодчество в остальном поступает как ему вздумается. Изваяния, витражи, розетки, арабески, резные украшения, капители, барельефы — все это сочетает оно по своему вкусу и своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева — неизменен, листва — прихотлива.
Глава 2
Париж с птичьего полета
Мы попытались восстановить перед читателями чудесный собор Парижской Богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он обладал в XV веке и которых ныне ему недостает, но мы опустили главное, а именно — картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен.
Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, вертикально пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырывались на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась со всех сторон великолепная панорама. То было зрелище sui generis[111], о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности, как, например, Нюрнберг в Баварии, Витториа в Испании или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Бретани или Нордгаузена в Пруссии.
Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж XV столетия, был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере.
Как известно, Париж возник на древнем острове Ситэ, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена — первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами — одним на севере, другим на юге — и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле — на левом.
Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь несколько легенд о ней да ворота Боде, или Бодуайе, Porta Bagauda. Мало-помалу поток домов, непрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, источил, разрушил и стер ее. Филипп-Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, они нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга, они, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются; площади застраиваются и исчезают. Наконец, дома перескакивают через ограду Филиппа-Августа и весело, вольно, вкривь и вкось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются с удобствами.
Начиная с 1367 года город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа; это, так сказать, кладези цивилизации и в то же время каналы, куда, капля за каплей, век за веком, без конца просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население, — все, что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды Филиппа-Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это препятствие, предместья устремились дальше. В XVI столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад, в старый город, — до того разросся за нею новый. Таким образом, уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен, зародышем которых во времена Юлиана Отступника[112] были Гран-Шатле и Пти-Шатле.
Могучий город разорвал один за другим четыре пояса стен — так дитя прорывает одежды, из которых выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения, подобно островам старого Парижа, затопленным приливом нового города.
С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился; но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившего ее, и поэта, ее воспевшего.
В застенке стен Париж стенает.В XV столетии Париж был разделен на три города, резко отличных друг от друга, независимых, обладавших каждый своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей: Ситэ, Университет и Город. Ситэ, расположенный на острове, самый древний из них и самый незначительный по размерам, был матерью двух других городов, напоминая собою — да простится нам это сравнение — маленькую старушку между двумя стройными красавицами дочерьми. Университет занимал левый берег Сены, от башни Турнель до Нельской башни; в современном Париже эти места соответствуют: одно Винному рынку, другое — Монетному двору. Ограда его довольно широким полукругом вдалась в поле, на котором некогда Юлиан Отступник воздвиг свои термы[113]. В ней находился и холм Святой Женевьевы. Высшей точкой этой каменной дуги были Папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен Пантеон[114]. Город, самая обширная из трех частей Парижа, занимал правый берег Сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены, от башни Бильи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь Провиантские склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево Турнель и Нельскую башню, а направо — башню Бильи и башню Буа, известны главным образом под именем «Четырех парижских башен». Город вдавался в поля еще дальше, чем Университет. Высшей точкой его ограды, возведенной Карлом V, были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось и до сих пор.
Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа сама по себе являлась городом, но городом слишком узкого назначения, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Ситэ преобладали церкви, в Городе — дворцы, в Университете — учебные заведения. Не касаясь в данном случае второстепенных особенностей древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства, отметим в общих чертах, основываясь лишь на примерах согласованности и однородности в этом хаосе городских судебных ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу — торговому старшине, на левом — ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому прево, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Ситэ находился собор Парижской Богоматери, в Городе — Лувр и Ратуша, в Университете — Сорбонна. В Городе помещался Центральный рынок, в Ситэ — госпиталь Отель-Дье, в Университете — Пре-о-Клер. Проступки, совершаемые школярами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце правосудия и карались на правом берегу, в Монфоконе, если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что Университет — сила, а король слаб: школяры обладали привилегией быть повешенными у себя. (Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий — среди них встречались и более важные — была исторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай: король тогда лишь уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных: Civibus fidelitas in reges, quae tamen aliquoties seditionibus interrupta, multa peperit privilegia[115].)
В XV столетии Сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды: Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова; острова Коровий и Богоматери — оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг, и оба представлявшие собой ленное владение парижского епископа (в XVII столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом Святого Людовика); затем следовали Ситэ и примыкавший к нему островок Коровий перевоз, с тех пор исчезнувший под насыпью Нового моста. В Ситэ в то время было пять мостов: три с правой стороны — каменные мосты Богоматери и Менял и деревянный Мельничный мост; два с левой стороны — каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель; все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом-Августом; это были, начиная с башни Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Борделль, Папские, ворота Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V; это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Монмартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и, что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступавшие из Сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножие городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж почивал спокойно.
С высоты птичьего полета эти три части — Ситэ, Университет и Город — представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее с первого взгляда становилось очевидным, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся беспрерывно, без поворотов, почти по прямой линии; спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города из конца в конец, с юга на север, они соединяли, связывали, смешивали их и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен; в Университете она называлась улицею Сен-Жак, в Ситэ — Еврейским кварталом, а в Городе — улицею Сен-Мартен; она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицею Подъемного моста — на левом берегу, Бочарной улицею — на острове, улицею Сен-Дени — на правом берегу, мостом Сен-Мишель — на одном рукаве Сены, мостом Менял — на другом, и тянулась от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же две улицы, улицы-матери, улицы-прародительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались.
Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край, во всю его ширину, и общих для всей столицы, Город и Университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым углом обе «артериальные» улицы. Таким образом, в Городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии спуститься к воротам Сент-Оноре, а в Университете — от ворот Сен-Виктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми ранее, представляли собою ту основу, на которой покоилась повсюду одинаково узловатая и густая, подобная лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально вглядываясь в сливающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка, расширяющихся один в сторону Университета, другой — в сторону Города, — две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь, от мостов к воротам.
Кое-что от этого геометрального плана сохранилось и доныне.
Какой же вид представлял город в целом с высоты башен собора Парижской Богоматери в 1482 году? Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать.
Запыхавшийся зритель, взобравшийся на самый верх собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей, колоколен. Его взору одновременно представились бы: резной щипец, остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви — и большое и малое, и массивное и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в различные глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой; все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями; с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами, и кончая величественным Лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем те главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений.
Прежде всего Ситэ. «Остров Ситэ, — говорит Соваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, — напоминает громадное судно, завязшее в тине и отнесенное ближе к середине Сены». Мы уже объясняли, что в XV столетии это «судно» было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта форма острова, напоминающая корабль, поразила также и составителей геральдических книг. По словам Фавена[116] и Паскье[117], только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады нормандцев, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в нем разбираться, герб — алгебра, герб — язык. Вся история второй половины средних веков запечатлена в геральдике, подобно тому как история первой их половины выражена в символике романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии[118].
Итак, первое, что бросалось в глаза, был остров Ситэ, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы различали перед собой бесчисленный рой старых кровель, над которыми широко круглилась свинцовая крыша Сент-Шапель, похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой. Но здесь этой башенкой был самый дерзновенный, самый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого когда-либо просвечивало небо. Перед собором Парижской Богоматери со стороны паперти расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами, с вливающимися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщинами, угрюмый фасад госпиталя Отель-Дье с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу в этом сравнительно тесном пространстве Ситэ вздымались колокольни двадцати одной церкви различных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, начиная от приземистой и источенной червями романской колоколенки Сен-Дени-дю-Па, career Glaucini, и кончая тонкими иглами церквей Сен-Пьер-о-Беф и Сен-Ландри. Позади собора Парижской Богоматери на севере раскинулся монастырь с его готическими галереями; на юге — полуроманский епископский дворец; на востоке — пустынный мыс Терэн. В этом нагромождении домов можно было различить по его высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в ту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар Ювеналу Дезюрсен при Карле VI; чуть подальше — просмоленные балаганы рынка Палюс; еще дальше — новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев; а еще дальше — то кишащий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа-Августа — великолепно вымощенную посреди улицы дорожку для всадников, так неудачно замененную в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшейся мостовою Лиги, то пустынный внутренний дворик, с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому для внутренней винтовой лестницы, как это было принято в XV веке, и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдоне. Наконец, вправо от Сент-Шапель, к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности Ситэ, застилали от взора островок Коровьего перевоза. Что касается воды, то с башен собора Парижской Богоматери ее почти вовсе не было видно ни с той, ни с другой стороны: Сена скрывалась под мостами, а мосты под домами.
И если вы, минуя эти мосты, застроенные домами с зелеными кровлями, преждевременно заплесневелыми от водяных испарений, обращали взор влево, к Университету, то прежде всего вас поражал большой приземистый сноп башен Пти-Шатле, разверстые ворота которого, казалось, поглощали конец Малого моста; если же ваш взгляд устремлялся вдоль берега с востока на запад, от башни Турнель до Нельской, то перед вами длинной вереницей бежали здания с резными балками, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом этажами — нескончаемая ломаная линия островерхих кровель, то и дело перегрызаемая пастью какой-нибудь улицы, обрываемая фасадом или углом какого-нибудь большого особняка, непринужденно развернувшегося своими дворами и садами, крылами и корпусами среди этого сборища теснящихся, жмущихся друг к другу домов, подобно знатному барину среди деревенщины.
Таких особняков на набережной было пять или шесть, начиная от особняка де Лорен, разделившего с бернардинцами большое огороженное пространство по соседству с Турнель, и до особняка Нель, главная башня которого была рубежом Парижа, а остроконечные кровли три месяца в году прорезали своими черными треугольниками багряный диск заходящего солнца.
На этом берегу Сены было меньше торговых заведений, чем на противоположном; здесь больше толпились и шумели школяры, нежели ремесленники, и, в сущности, набережной в настоящем смысле этого слова служило лишь пространство, идущее от моста Сен-Мишель до Нельской башни. Остальная часть берега Сены была либо оголенной песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, либо скопищем домов, подступавших к самой воде, между обоими мостами. Здесь постоянно слышался оглушительный гвалт прачек; с утра до вечера они кричали, болтали и пели вдоль всего побережья и звучно колотили вальками, как и в наши дни. Это был веселый уголок Парижа.
Университетская сторона казалась сплошной глыбой. Из конца в конец это была однородная и плотная масса. Тысячи частых остроугольных, сросшихся, почти одинаковых по форме кровель казались с высоты кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшийся ров улиц разрезал на почти пропорциональные ломти этот пирог домов. Сорок два коллежа Университетской стороны были расположены довольно равномерно и заметны были повсюду. Разнообразные и забавные коньки крыш всех этих прекрасных зданий были произведением того же самого искусства, что и скромные кровли, над которыми они возвышались; в сущности, они были не чем иным, как возведением в квадрат или в куб той же геометрической фигуры. Итак, они лишь усложняли целое, не нарушая его единства; дополняли, не обременяя его. Геометрия — это та же гармония. Над живописными чердаками левого берега там и сям величественно выступало несколько прекрасных особняков: ныне исчезнувшие Невэрское подворье, Римское подворье, Реймское подворье и особняк Клюни, существующий еще и до сих пор на радость художникам, хотя и без башни, которой его так безрассудно лишили несколько лет назад. Здание романского стиля, с прекрасными сводчатыми арками, возле Клюни — это термы Юлиана. Здесь было также множество аббатств более смиренной красоты, более суровой величавости, но не менее прекрасных и не менее обширных. Из них прежде всего останавливали внимание: Бернардинское аббатство с тремя колокольнями; монастырь Святой Женевьевы, уцелевшая четырехугольная башня которого заставляет так сильно сожалеть об остальном; Сорбонна, полушкола-полумонастырь, от которого сохранился еще столь изумительный неф; красивый квадратной формы монастырь матюринцев; его сосед, монастырь бенедиктинцев, в ограду которого за время, протекшее между седьмым и восьмым изданием этой книги, на скорую руку успели втиснуть театр; Кордельерское аббатство, с тремя громадными высящимися рядом пиньонами[119]; Августинское аббатство, изящная стрелка которого поднималась на западной стороне этой части Парижа, вслед за Нельской башней. В ряду этих монументальных зданий коллежи, являющиеся, собственно говоря, соединительным звеном между монастырем и миром, по суровости, исполненной изящества, по скульптуре, менее воздушной, чем у дворцов, и архитектуре, менее строгой, чем у монастырей, занимали среднее место между особняками и аббатствами. К сожалению, теперь почти ничего не сохранилось от этих памятников старины, в которых готическое искусство с такой точностью перемежало пышность и умеренность.
Над всем господствовали церкви (они были многочисленны и великолепны в Университете и также являли собою все эпохи зодчества, начиная с полукруглых сводов Сен-Жюльена и кончая стрельчатыми арками Сен-Северина); как еще один гармонический аккорд, добавленный ко всему хору созвучий, они то и дело прорывали сложный узор пиньонов резными шпилями, сквозными колокольнями, тонкими иглами, линии которых были лишь великолепным и преувеличенным повторением остроугольной формы кровель.
Университетская сторона была холмистою. Холм Святой Женевьевы на юго-восточной стороне вздувался, как огромный пузырь, и любопытное зрелище с высоты собора Парижской Богоматери являло собой это множество узких и извилистых улиц (ныне Латинский квартал), эти грозди домов, разбросанных по всем направлениям на его вершине и в беспорядке, почти отвесно устремляющихся по его склонам к самой реке: одни, казалось, падают, другие карабкаются наверх, а все вместе — цепляются друг за друга. От беспрерывного потока тысяч черных точек, движущихся на мостовой, так и рябило в глазах: это кишела толпа, еле различимая с такой высоты и на таком расстоянии.
Наконец, в промежутках между этими кровлями, шпилями и выступами несчетного множества зданий, столь причудливо изгибавших, закручивавших и зазубривавших линию границы Университетской стороны, местами проглядывали часть толстой замшелой стены, массивная круглая башня, зубчатые городские ворота, изображавшие крепость, — то была ограда Филиппа-Августа. За ней зеленели луга, убегали дороги, вдоль которых тянулись последние дома предместий, все более и более редевшие, по мере того как они удалялись от города.
Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение. Таково, например, начиная от Турнель, предместье Сен-Виктор с его одноарочным мостом через Бьевр, с его аббатством, в котором сохранилась эпитафия Людовика Толстого — epitaphium Ludovici Grossi, с церковью, увенчанной восьмигранным шпилем, окруженным четырьмя колоколенками XI века (такой же точно можно видеть и до сих пор в Этампе, его еще не разрушили); далее — предместье Сен-Марсо, уже имевшее в то время три церкви и один монастырь; еще дальше, оставляя влево четыре белые стены мельницы Гобеленов, можно увидеть предместье Сен-Жак с чудесным резным распятием на перекрестке; потом — церковь Сен-Жак-дю-Го-Па, которая в то время была еще готической, остроконечной, прелестной; церковь Сен-Маглуар XIV века, прекрасный неф которой Наполеон превратил в сеновал; церковь Нотр-Дам-де-Шан с византийской мозаикой. Наконец, минуя стоящий в открытом поле картезианский монастырь — роскошное здание, современное Дворцу правосудия, с множеством палисадничков, и пользующиеся дурной славой руины Вовера, глаз встречал на западе три романские стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре. Позади этой церкви начиналось Сен-Жерменское предместье, бывшее в то время уже большой общиной и состоявшее из пятнадцати — двадцати улиц. Один из углов предместья был отмечен островерхой колокольней Сен-Сюльпис. Тут же рядом можно было разглядеть четырехстенную ограду Сен-Жерменской ярмарочной площади, где ныне расположен рынок; затем — вертящийся позорный столб, принадлежавший аббатству, эту красивую круглую башенку под свинцовым конусообразным куполом; еще дальше — черепичный завод и Пекарную улицу, ведущую к общественной хлебопекарне, мельницу на пригорке и больницу для прокаженных — изолированный домик, которого сторонились. Но что особенно привлекало взор и надолго приковывало к себе — это само аббатство Сен-Жермен. Этот монастырь, производивший внушительное впечатление и как церковь и как господское поместье, этот дворец духовенства, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь, его трапезная, которая благодаря стараниям архитектора по облику, красоте и великолепному окну-розетке напоминала собор, изящная часовня Богородицы, огромный спальный покой, обширные сады, опускная решетка, подъемный мост, зубчатая ограда на зеленом фоне окрестных лугов, дворы, где среди отливающих золотом кардинальских мантий сверкали доспехи воинов, — все это, сомкнутое и сплоченное вокруг трех высоких романских шпилей, прочно покоившихся на готическом своде, вставало на горизонте великолепной картиной.
Когда наконец, вдосталь насмотревшись на Университетскую сторону, вы обращались к правому берегу, к Городу, панорама резко изменялась. Город, хотя и более обширный, чем Университет, не представлял такого единства. С первого же взгляда нетрудно было заметить, что он распадается на несколько совершенно обособленных частей. Та часть Города на востоке, которая и теперь еще называется «болотом» (в память о том болоте, куда Камюложен[120] завлек Цезаря), представляла собою скопление дворцов. Весь этот квартал тянулся до самой реки. Четыре почти смежных особняка — Жуй, Сане, Барбо и особняк королевы — отражали в водах Сены свои шиферные крыши, прорезанные стройными башенками. Эти четыре здания заполняли все пространство от улицы Нонендьер до аббатства целестинцев, игла которого изящно оттеняла линию их зубцов и коньков. Несколько позеленевших от плесени лачуг, нависших над водой перед этими роскошными особняками, не мешали разглядеть прекрасные линии их фасадов, их широкие квадратные окна с каменными переплетами, их стрельчатые портики, уставленные статуями, четкие грани стен из тесаного камня и все те очаровательные архитектурные неожиданности, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество в каждом памятнике прибегает к новым сочетаниям. Позади этих дворцов, разветвляясь по всем направлениям, то в продольных пазах, то в виде частокола и вся в зубцах, как крепость, то прячась, как загородный домик, за раскидистыми деревьями, тянулась бесконечная причудливая ограда того удивительного дворца Сен-Поль, в котором могли свободно и роскошно разместиться двадцать два принца королевской крови, таких, как дофин и герцог Бургундский, с их слугами и с их свитой, не считая знатных вельмож и императора, когда тот посещал Париж, а также львов, которым были отведены особые палаты в этом королевском дворце. Заметим, что в то время помещение царственной особы состояло не менее чем из одиннадцати покоев, от парадного зала и до молельной, не считая галерей, бань, ванных и иных относящихся к нему «подсобных» комнат; не говоря об отдельных садах, отводимых для каждого королевского гостя; не говоря о кухнях, кладовых, людских, общих трапезных, задних дворах, где находились двадцать два главных служебных помещения, от хлебопекарни и до винных погребов; не говоря о залах для разнообразных игр — в шары, в мяч, в обруч, о птичниках, рыбных садках, зверинцах, конюшнях, стойлах, библиотеках, оружейных палатах и кузницах. Вот что представлял собою тогда королевский дворец, будь то Лувр или Сен-Поль. Это был город в городе.
С той башни, на которой мы стоим, дворец Сен-Поль, полузакрытый от нас четырьмя только что упомянутыми большими зданиями, был еще очень внушителен и представлял собой чудесное зрелище. В нем легко можно было различить три особняка, которые Карл пристроил к своему дворцу, хотя они и были искусно связаны с главным зданием при помощи ряда длинных галерей с расписными окнами и колонками. Это были: особняк Пти-Мюс, с резной балюстрадой, изящно окаймлявшей его крышу; особняк аббатства Сен-Мор, имевший вид крепости, с массивной башней, бойницами, амбразурами, небольшими железными бастионами и гербом аббатства на широких саксонских воротах, между двух выемок для подъемного моста; особняк графа д´Этамп, с разрушенной вышкой круглой замковой башни, зазубренной, как петушиный гребень; местами три-четыре вековых дуба образовывали там купы, наподобие огромных кочанов цветной капусты; в прозрачных водах сажалок, переливавшихся светом и тенью, глаз подмечал вольные игры лебедей; а дальше — множество дворов, живописную глубину которых можно было разглядеть; Львиный дворец с низкими сводами на приземистых саксонских столбах, с железными решетками, из-за которых постоянно слышалось рычанье; над всем этим вздымалась чешуйчатая стрела церкви Благовещенья. Слева находилось жилище парижского прево, окруженное четырьмя тончайшей резьбы башенками. В середине, в глубине, находился самый дворец Сен-Поль со всеми его размножившимися фасадами, с постепенными приращениями со времен Карла V, этими смешанного стиля наростами, которыми в продолжение двух веков обременяла его фантазия архитекторов, со сводчатыми алтарями его часовен, коньками его галерей, с тысячей флюгеров на все четыре стороны и двумя высокими смежными башнями, конические крыши которых, окруженные у основания зубцами, напоминали островерхие, с приподнятыми полями шляпы. Продолжая подниматься ступень за ступенью по этому простирающемуся в отдалении амфитеатру дворцов и преодолев глубокую лощину, словно вырытую среди кровель Города и обозначавшую улицу Сент-Антуан, ваш взор достигал наконец Ангулемского подворья — обширного строения, созданного усилиями нескольких эпох, в котором новые, незапятнанной белизны части столь же мало шли к целому, как красная заплата к голубой мантии. Тем не менее до странности остроконечная и высокая крыша нового дворца, щетинившаяся резными желобами, покрытая свинцовыми полосами, на которых тысячей фантастических арабесок вились искрящиеся инкрустации из позолоченной меди, — эта крыша, столь своеобразно изукрашенная, грациозно возносилась над бурыми развалинами старинного дворца, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, словно бочки, осевшие от ветхости и треснувшие сверху донизу, напоминали толстяков с расстегнувшимися на брюхе жилетами. Позади этого здания высился лес стрел дворца Ла-Турнель. Ничто в мире, ни Альгамбра[121], ни Шамборский замок[122] не могло представить более волшебного, более воздушного, более чарующего зрелища, чем этот высокоствольный лес стрел, колоколенок, дымовых труб, флюгеров, спиральных и винтовых лестниц, сквозных, словно изрешеченных пробойником бельведеров, павильонов, веретенообразных башенок или, как их тогда называли, «вышек», всевозможной формы, высоты и расположения. Все это походило на гигантскую каменную шахматную доску.
Направо от Ла-Турнель ершился пук огромных иссиня-черных башен, вставленных одна в другую и как бы перевязанных окружающим их рвом. Эта башня, в которой было прорезано больше бойниц, чем окон, этот вечно вздыбленный подъемный мост, эта вечно опущенная решетка, все это — Бастилия. Эти торчащие между зубцами подобия черных клювов, что напоминают издали дождевые желоба, — пушки.
Под жерлами, у подножия чудовищного здания, — ворота Сент-Антуан, заслоненные двумя башнями.
За Ла-Турнель, вплоть до самой ограды, воздвигнутой Карлом V, расстилался, весь в богатых узорах зелени и цветов, бархатистый ковер королевских полей и парков, в центре которого, по лабиринту деревьев и аллей, можно было различить знаменитый сад Дедала, который Людовик подарил Куактье. Обсерватория этого медика возвышалась над лабиринтом, словно одинокая мощная колонна с маленьким домиком на месте капители. В этой лаборатории составлялись страшные гороскопы.
Ныне на том месте Королевская площадь.
Как мы уже упоминали, дворцовый квартал, о котором мы старались дать некоторое понятие читателю, отметив, впрочем, лишь наиболее примечательные строения, заполнял угол, образуемый на востоке оградою Карла V и Сеною. Центр Города был загроможден жилыми домами. Как раз к этому месту выходили все три моста правобережного Города, а возле мостов жилые дома появляются прежде, чем дворцы. Это скопление жилищ, тесно лепящихся друг к другу, словно ячейки в улье, не лишено было своеобразной красоты. Кровли большого города подобны морским волнам: в них какое-то величие. В сплошной их массе пути пересекающихся, перепутанных улиц складывались в сотни затейливых фигур. Вокруг рынков они напоминали звезду с тысячью лучами. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, со всеми их бесчисленными разветвлениями, поднимались рядом, как два мощных дерева, переплетающих свои сучья. И через весь этот узор змеились извилистыми линиями Штукатурная, Стекольная, Ткацкая и другие улицы. Окаменевшую зыбь этого моря кровель местами прорывали прекрасные здания. Одним из них была башня Шатле, высившаяся в начале моста Менял, за которым, под колесами Мельничного моста, пенились воды Сены; это была уже не римская башня времен Юлиана Отступника, а феодальная башня XIII века, сооруженная из столь крепкого камня, что за три часа работы молоток каменщика мог продолбить его не больше чем на пять пальцев в глубину. К ним относилась и нарядная квадратная колокольня церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, углы которой скрадывались скульптурными украшениями, восхитительная уже в XV веке, хотя она еще не была закончена. В частности, ей тогда недоставало тех четырех чудовищ, которые, взгромоздившись впоследствии на углы ее крыши, кажутся еще и ныне четырьмя сфинксами, загадавшими новому Парижу загадку старого Парижа; ваятель Ро установил их лишь в 1526 году, получив за свой труд двадцать франков. Таков был и Дом с колоннами, выходивший фасадом на Гревскую площадь, о которой мы уже дали некоторое представление нашему читателю. Далее — церковь Сен-Жерве, испорченная с тех пор порталом «хорошего вкуса»; Сен-Мери, чьи древние стрельчатые своды еще почти не отличались от полукруглых; церковь Сен-Жан, великолепный шпиль которой вошел в поговорку, и еще десятки других памятников, которые не погнушались укрыть свои чудеса в этом хаосе темных, узких и глубоких улиц. Прибавьте к этому каменные резные Распятия, которыми еще больше, чем виселицами, изобиловали перекрестки улиц; кладбище Невинных, художественная ограда которого видна была издали за кровлями; вертящийся позорный столб над кровлями Центрального рынка, с его верхушкой, выступавшей между двух дымовых труб Виноградарской улицы; лестницу, поднимавшуюся к Распятию Круа-дю-Трауар, на перекрестке того же названия, где вечно кишел народ; кольцо лачуг Хлебного рынка; то тут, то там остатки древней ограды Филиппа-Августа, затерявшиеся среди массы домов; башни, словно изглоданные плющом, развалившиеся ворота, осыпающиеся, бесформенные куски стен; набережную с тысячами лавчонок и залитыми кровью живодернями; Сену, покрытую судами от Сенной гавани и до самой Епископской тюрьмы, — вообразите себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том, что такое представляла собою в 1482 году имеющая форму трапеции центральная часть Города.
Кроме этих двух кварталов, застроенных — один дворцами, другой домами, третьей частью панорамы правого берега был длинный пояс аббатства, охватывавший почти весь Город с востока на запад и образовавший позади крепостных стен, замыкавших Париж, вторую внутреннюю ограду из монастырей и часовен. Таким образом, вплотную к парку Турнель, между улицей Сент-Антуан и старой улицей Тампль, расположен был монастырь Святой Екатерины, с его необозримым хозяйством, кончавшимся лишь у городской стены Парижа. Между старой и новой улицами Тампль находилось аббатство Тампль — зловещая, высокая и уединенная громада башен за огромной зубчатой оградой. Между новой улицей Тампль и Сен-Мартен было аббатство Сен-Мартен — великолепно укрепленный монастырь, расположенный среди садов; опоясывающие его башни и венцы его колоколен по мощи и великолепию уступали разве лишь церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами Сен-Дени и Сен-Мартен шла ограда аббатства Святой Троицы. А далее, между улицами Сен-Дени и Монторгейль, было аббатство Христовых невест. Рядом с ним виднелись прогнившие кровли и полуразрушенная ограда Двора чудес — единственное мирское звено среди этой благочестивой цепи монастырей.
Наконец, четвертой частью Города, четко выделявшейся среди скопления кровель правого берега и занимавшей западный угол городской стены и весь берег вниз по течению реки, был новый узел дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древний Лувр Филиппа-Августа — колоссальное здание, главная башня которого объединяла двадцать три другие мощные башни, окружавшие ее, не считая башенок, — издали казался как бы втиснутым между готическими фронтонами особняка Алансон и Малого Бурбонского дворца. Эта многобашенная гидра, исполинская хранительница Парижа, с ее неизменно настороженными двадцатью четырьмя головами, с ее чудовищными свинцовыми или чешуйчатыми шиферными крупами, отливающими металлическим блеском, великолепно завершала очертания Города с западной стороны.
Итак, он представлял собою огромный квартал жилых домов — то именно, что римлянами называлось insula[123], — имевший по обе стороны две группы дворцов, увенчанных — одна Лувром, другая — Турнель, и ограниченный на севере длинным поясом аббатств и огородов; взгляду все это представлялось слитным и однородным целым. Над множеством зданий, чьи черепичные и шиферные кровли вычерчивались одни на фоне других причудливыми звеньями, вставали резные, складчатые, узорные колокольни сорока четырех церквей правого берега. Мириады улиц пробивались сквозь толщу этого квартала. И пределами его с одной стороны служила ограда из высоких стен с четырехугольными башнями (башни ограды Университета были круглые), а с другой — перерезаемая мостами Сена с множеством идущих по ней судов. Таков был Город в XV веке.
За городскими стенами к самым воротам жались предместья, но отнюдь не столь многочисленные и более разбросанные, нежели на Университетской стороне. Здесь было десятка два лачуг, скучившихся за Бастилией вокруг странных изваяний Круа-Фобен и упорных арок аббатства Сент-Антуан-де-Шан; далее шел затерявшийся средь нив Попенкур; за ним веселенькая деревенька Ла-Куртиль со множеством кабачков; городок Сен-Лоран с церковью, колокольня которой сливалась издали с остроконечными башнями ворот Сен-Мартен; предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр; за Монмартрскими воротами белели стены, окружавшие Гранж-Бательер; за ними тянулись меловые откосы Монмартра, в котором в то время было почти столько же церквей, сколько мельниц и где теперь уцелели лишь мельницы, ибо современное общество требует одной лишь пищи телесной. Наконец, за Лувром виднелось углублявшееся в луга предместье Сент-Оноре, уже и в то время весьма обширное; дальше зеленело селение Малая Бретань и раскидывался Свиной рынок с круглившейся посредине его ужасной печью, в которой когда-то варили заживо фальшивомонетчиков. Между предместьями Куртиль и Сен-Лоран вы уже, наверное, приметили на вершине холма, среди пустынной равнины, какое-то здание, издали походившее на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. То был не Парфенон, не храм Юпитера Олимпийского, — то был Монфокон.
Теперь, если перечисление такого множества зданий, каким бы кратким мы ни старались его сделать, не раздробило окончательно в сознании читателя общего представления о старом Париже, по мере того как мы его старались воспроизвести, повторим в нескольких словах наиболее существенное.
В центре — остров Ситэ, напоминающий по форме исполинскую черепаху, высунувшую наподобие лап свои мосты в чешуе кровельных черепиц из-под серого щита крыш. Налево — как бы высеченная из цельного куска трапеция Университета, плотная, сбитая, вздыбленная; направо — обширный полукруг Города с многочисленными садами и памятниками. Ситэ, Университет и Город — все эти три части Парижа испещрены множеством улиц. Поперек протекает Сена, «кормилица Сена», как называет ее отец дю Брель, загроможденная островами, мостами и судами. Вокруг простирается бескрайняя равнина, пестреющая, словно заплатами, тысячью нив, усеянная прелестными деревушками; налево — Исси, Ванвр, Вожирар, Монруж, Жантильи с его круглой и четырехугольной башнями и т. д.; направо — двадцать других селений, начиная с Конфлана и кончая Виль-л´Эвек. На дальнем горизонте тянется круглая кайма холмов, словно стенки бассейна. Наконец, вдали, на востоке, — Венсен с семью четырехгранными башнями; на юге — островерхие башенки Бисетра; на севере — игла Сен-Дени, а на западе — Сен-Клу и его крепостная башня. Вот Париж, которым с высоты башен собора Парижской Богоматери любовались вороны в 1482 году.
Однако именно об этом городе Вольтер сказал, что «до Людовика XIV в нем было лишь четыре прекрасных памятника»: купол Сорбонны, Валь-де-Грас, новый Лувр, и не помню уже, какой четвертый, возможно — Люксембург. Но, к счастью, Вольтер написал «Кандида» и остался, среди длинной вереницы людей, сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, непревзойденным мастером дьявольского смеха. Это доказывает, впрочем, лишь то, что можно быть гением, но ничего не понимать в чуждом ему искусстве. Ведь вообразил же Мольер, что оказал большую честь Рафаэлю и Микеланджело, назвав их «Миньярами[124] своего времени».
Однако вернемся к Парижу и к XV столетию.
Он был в те времена не только прекрасным городом, но и городом-монолитом, произведением искусства и истории Средних веков, каменной летописью. Это был город, архитектура которого сложилась лишь из двух слоев — слоя романского и слоя готического, ибо римский слой давно исчез, исключая лишь термы Юлиана, где он еще пробивался сквозь толстую кору Средневековья. Что касается кельтского слоя, то его образцов уже не находили даже при рытье колодцев.
Пятьдесят лет спустя, когда эпоха Возрождения примешала к этому столь строгому и вместе с тем столь разнообразному единству блистательную роскошь своей фантазии и архитектурных систем, оргию римских полукруглых сводов, греческих колонн и готических арок, свою столь изящную и совершенную скульптуру, свое пристрастие к арабескам и акантам, свое архитектурное язычество, современное Лютеру, — Париж предстал перед нами, быть может, еще более прекрасным, хоть и менее гармоничным для глаза и мысли. Но это великолепие не было продолжительным. Эпоха Возрождения оказалась недостаточно беспристрастной: ее не удовлетворяло созидание — она хотела ниспровергать. Правда, она нуждалась в свободном пространстве. Вот почему вполне готическим Париж был лишь одно мгновение. Еще не закончив церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, уже приступили к снесению старого Лувра.
С тех пор великий город изо дня в день утрачивал свой облик. Париж готический, под которым изглаживался Париж романский, исчез в свою очередь. Но можно ли сказать, какой Париж заменил его?
Существует Париж Екатерины Медичи — в Тюильри[125], Париж Генриха II — в Ратуше: оба эти здания еще выдержаны в строгом вкусе; Париж Генриха IV — это Королевская площадь: кирпичные фасады с каменными углами и шиферными кровлями, трехцветные дома; Париж Людовика XIII — в Валь-де-Грас: здесь характеру зодчества свойственны приплюснутость, приземистость, линия сводов напоминает ручку корзины, колонны кажутся пузатыми, купола горбатыми; Париж Людовика XIV — в Доме инвалидов, громоздком, пышном, позолоченном и холодном; Париж Людовика XV — в церкви Сен-Сюльпис: завитки, банты, облака, червячки, листья цикория — все высеченное из камня; Париж Людовика XVI — в Пантеоне, плохой копии собора Святого Петра в Риме (к тому же здание как-то нескладно осело, что отнюдь его не украсило); Париж времен Республики — в Медицинской школе: это убогое подражание римлянам и грекам, столь же напоминающее Колизей или Парфенон, как конституция III года напоминает законы Миноса, — в истории зодчества этот стиль называют стилем мессидора; Париж Наполеона — на Вандомской площади: эта бронзовая колонна, отлитая из пушек, действительно великолепна; Париж времен Реставрации — в Бирже: это очень белая колоннада, поддерживающая очень гладкий фриз, а все вместе взятое представляет собой четырехугольник, стоивший двадцать миллионов.
С каждым из этих характерных для эпохи памятников связано, по сходству стиля, формы и расположения, некоторое количество зданий, рассеянных по разным кварталам города; глаз знатока сразу отметит их и безошибочно определит время их возникновения. Кто умеет видеть, тот даже по ручке дверного молотка сумеет восстановить дух века и облик короля.
Таким образом, у Парижа наших дней нет определенного лица. Это собрание образцов зодчества нескольких столетий, причем лучшие из них исчезли. Столица растет лишь за счет зданий, но каких зданий! Если так пойдет и дальше, Париж будет обновляться каждые пятьдесят лет. Поэтому историческое значение его зодчества с каждым днем падает. Все реже и реже встречаются памятники; жилые дома словно затопляют и поглощают их. Наши предки обитали в каменном Париже, наши потомки будут обитать в Париже гипсовом. Что же касается новых памятников современного Парижа, то мы охотно воздержимся говорить о них. Это не значит, что мы не отдаем им должного. Церковь Святой Женевьевы, создание господина Суфло, несомненно, является одним из самых удачных савойских пирогов, которые когда-либо выпекались из камня. Дворец Почетного легиона тоже очень изысканное пирожное. Купол Хлебного рынка поразительно похож на фуражку английского жокея, насаженную на длинную лестницу. Башни церкви Сен-Сюльпис напоминают два больших кларнета — это ведь ничем не хуже чего-нибудь иного, — а кривая и жестикулирующая вышка телеграфа на их крыше вносит приятное разнообразие. Портал церкви Святого Роха по своему великолепию равен лишь порталу церкви Святого Фомы Аквинского. Он также обладает рельефным изображением Голгофы[126], помещенным в углубление, и солнцем из позолоченного дерева. И то и другое совершенно изумительно! Фонарь лабиринта Ботанического сада также весьма замысловат. Что касается дворца Биржи, греческого по колоннаде, римского по дугообразной форме окон и дверей и эпохи Возрождения по большому, низкому своду, то в целом это, несомненно, вполне законченный и безупречный памятник зодчества: доказательством тому служит невиданная и в Афинах аттическая надстройка, прекрасную и строгую линию коей местами грациозно пересекают печные трубы. Заметим кстати, что если облик здания обычно должен соответствовать его назначению и если это назначение должно само о себе возвещать одним лишь характером постройки, то безусловно следует восхищаться памятником, который одинаково легко может служить и королевским дворцом и палатой общин, городской ратушей и учебным заведением, манежем и академией, складом товаров и зданием суда, музеем и казармами, гробницей, храмом и театром. Но пока это лишь Биржа. Кроме того, каждое здание должно быть приноровлено к известному климату. Очевидно, здание Биржи, словно по заказу, создано специально для нашего хмурого и дождливого неба. Его крыша почти плоская, как на Востоке, поэтому зимой, во время снегопада, ее подметают. И нет сомнения, что крыши для того и строятся, чтобы их подметать. А что касается назначения, о котором мы только что говорили, оно отвечает ему превосходно: оно с таким же успехом служит во Франции биржей, как в Греции могло бы быть храмом. Правда, зодчему немалого труда стоило скрыть циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада, но в возмещение осталась опоясывающая здание колоннада, под сенью которой в торжественные дни религиозных празднеств может величественно продефилировать депутация от биржевых маклеров и менял.
Все это, несомненно, великолепные памятники. К ним можно еще добавить множество красивых, веселых и разнообразных улиц вроде улицы Риволи, и я не теряю надежды, что когда-нибудь вид Парижа с воздушного шара явит то богатство линий, то изобилие деталей, то многообразие, то не поддающееся определению грандиозное в простом и неожиданное в прекрасном, что отличает шахматную доску.
Но каким бы прекрасным вам ни показался современный Париж, восстановите Париж XV столетия, воспроизведите его в памяти; посмотрите на белый свет сквозь этот удивительный лес шпилей, башен и колоколен; разлейте по необъятному городу Сену, всю в зеленых и желтых переливах, более переменчивую, чем змеиная кожа, разорвите ее клиньями островов, сожмите арками мостов; четко вырежьте на голубом горизонте готический профиль старого Парижа; заставьте в зимнем тумане, цепляющемся за бесчисленные трубы, колыхаться его контуры; погрузите город в глубокий ночной мрак и полюбуйтесь прихотливой игрой теней и света в этом мрачном лабиринте зданий; бросьте на него лунный луч, который смутно обрисует его и выведет из тумана большие головы башен, или, не тронув светом этот черный силуэт, углубите тени на бесчисленных острых углах шпилей и коньков и заставьте его внезапно выступить более зубчатым, чем пасть акулы, на медном небе заката. Теперь сравнивайте.
Если же вы захотите получить от старого города впечатление, которого современный Париж вам уже дать не может, то при восходе солнца, утром, в день большого праздника, на Пасху или Троицу, взойдите на какое-нибудь возвышенное место, где бы столица была у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения колоколов. Глядите, как по сигналу, данному с неба, — ибо подает его солнце, — сразу дрогнут тысячи церквей. Сначала это редкий, перекидывающийся с одной церкви на другую перезвон, словно оркестранты предупреждают друг друга о начале. Затем, внезапно, глядите, — ибо кажется, что иногда и ухо обретает зрение, — глядите, как от каждой звонницы одновременно вздымается как бы колонна звуков, облако гармонии. Сначала голос каждого колокола, поднимающийся в яркое утреннее небо, чист и поет как бы отдельно от других. Потом, мало-помалу усиливаясь, голоса растворяются один в другом: они смешиваются, они сливаются, они звучат согласно в великолепном оркестре. Теперь это лишь густой поток звучащих колебаний, непрерывно изливающийся из бесчисленных колоколен; он плывет, колышется, подпрыгивает, кружится над городом и далеко за пределы горизонта разносит оглушительные волны своих раскатов.
А между тем это море созвучий отнюдь не хаотично. Несмотря на всю свою ширину и глубину, оно не утрачивает прозрачности; вы различаете, как из каждой отдельной звонницы змеится согласный подбор колоколов; вы можете расслышать диалог степенного большого колокола и крикливого тенорового; вы различаете, как с одной колокольни на другую перебрасываются октавы; вы видите, как они возносятся, легкие, окрыленные, пронзительные, источаемые серебряным колоколом, и как грузно падают разбитые, фальшивые октавы деревянного; вы наслаждаетесь богатой, скользящей то вверх, то вниз гаммой семи колоколов церкви Святого Евстафия; вы видите, как в эту гармонию вдруг невпопад врывается несколько ясных стремительных ноток и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепительными зигзагами, они гаснут, словно молния. Там запевает аббатство Сен-Мартен — голос этого певца и резок и надреснут; а ближе, в ответ ему, слышен угрюмый, зловещий голос Бастилии; с другого конца к вам доносится низкий бас мощной башни Лувра. Величественный хор колоколов Дворца правосудия шлет непрерывно во все концы лучезарные трели, на которые через равномерные промежутки падают тяжкие удары набатного колокола собора Парижской Богоматери, и трели сверкают, точно искры на наковальне под ударами молота. Порою до вас доносится в разнообразных сочетаниях звон тройного набора колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. Время от времени это море божественных звуков расступается и пропускает быструю, резкую фразу с колокольни церкви Благовещенья, которая, разлетаясь, искрится, словно бриллиантовый звездный пучок. И смутно, приглушенно, из самых недр оркестра еле слышно доносится церковное пение, которое словно испаряется сквозь поры сотрясаемых звуками сводов.
Поистине вот опера, которую стоит послушать. Смешанный гул, обычно стоящий над Парижем днем, — это говор города; ночью — это его дыхание; а сейчас — город поет. Прислушайтесь же к этому хору колоколов; присоедините к нему говор полумиллионного населения, извечный ропот реки, непрерывные вздохи ветра, торжественный отдаленный квартет четырех окружных лесов, раскинувшихся по гряде холмов на далеком горизонте, подобно исполинским трубам органов; смягчите этой полутенью то, что в главной партии оркестра звучит слишком хрипло и слишком резко, и скажите — есть ли в целом мире что-нибудь более пышное, более радостное, более прекрасное и более ослепительное, чем это смятение колоколов и звонниц; чем это горнило музыки; чем эти десять тысяч медных голосов, льющихся одновременно из этих каменных флейт высотою в триста футов; чем этот город, превратившийся в оркестр; чем эта симфония, гудящая словно буря?
Книга IV
Глава 1
Добрые души
За шестнадцать лет до описываемого нами события, в одно погожее воскресное утро на Фоминой неделе[127], после обедни, в деревянные ясли, вделанные в паперть собора Парижской Богоматери, с левой стороны, против исполинского изображения святого Христофора, на которое с 1413 года взирала коленопреклоненная каменная статуя рыцаря мессира Антуана Дезэсара до того времени, пока не додумались сбросить и святого и верующего, было положено живое существо. На это деревянное ложе, по издавна установившемуся обычаю, клали подкидышей, взывая к общественному милосердию. Отсюда каждый, кто хотел, мог взять его на призрение. Перед яслями стояла медная чаша для пожертвований.
То подобие живого существа, которое покоилось в утро Фомина воскресенья 1467 года от Рождества Христова на этой доске, возбуждало сильнейшее любопытство довольно внушительной группы зрителей, столпившихся около яслей. В группе преобладали особы прекрасного пола, и преимущественно старухи.
Впереди, склонившись ниже всех над яслями, стояли четыре женщины. Судя по их серым платьям монашеского покроя, они принадлежали к одной из благочестивых общин. Я не вижу причин, почему бы истории не увековечить для потомства имена этих четырех скромных и почтенных особ. Это были Агнесса ла Герм, Жеанна де ла Тарм, Генриетта ла Готьер и Гошера ла Виолет. Все четыре были вдовы, все четыре — добрые души из братства Этьен-Одри, вышедшие из дому с дозволения своей настоятельницы, чтобы послушать проповедь согласно уставу Пьера д´Эльи.
Впрочем, если в эту минуту славные сестры этого странноприимного братства и соблюдали устав Пьера д´Эльи, то они, несомненно, с легким сердцем нарушали устав Мишеля де Браш и кардинала Пизанского, столь бесчеловечно предписывающий им молчание.
— Что это такое, сестрица? — спросила Агнесса у Гошеры, рассматривая крошечное существо, которое пищало и ежилось в яслях, перепугавшись множества устремленных на него глаз.
— Что только с нами станется, если начали производить на свет подобных детей? — сказала Жеанна.
— Я мало что смыслю в младенцах, — ответила Агнесса, — но уверена, что на этого и глядеть-то грешно.
— Это вовсе не младенец, Агнесса.
— Это полуобезьяна, — заметила Гошера.
— Это знамение, — вставила свое слово Генриетта ла Готьер.
— В таком случае, — сказала Агнесса, — это уже третье начиная с воскресенья Крестопоклонной недели. Ведь не прошло еще и недели, как случилось чудо с тем нечестивцем, которого так божественно покарала Богоматерь Обервилье за его насмешки над пилигримами[128], а то было вторым чудом за последний месяц.
— Этот так называемый подкидыш просто омерзительное чудовище, — сказала Жеанна.
— И так вопит, что способен оглушить даже певчего, — продолжала Гошера. — Да замолчишь ли ты наконец, ревун этакий!
— И подумать только, что монсеньор архиепископ Реймский посылает такого урода монсеньору архиепископу Парижа! — воскликнула ла Готьер, набожно сложив руки.
— По-моему, — сказала Агнесса ла Герм, — это животное, звереныш — словом, что-то нечестивое; его следует бросить либо в воду, либо в огонь.
— Надеюсь, что никто не станет его домогаться, — сказала ла Готьер.
— Боже мой, — сокрушалась Агнесса, — как мне жаль этих бедных кормилиц приюта для подкидышей там, на берегу, в конце улички, рядом с жилищем монсеньора епископа! Каково-то им будет, когда придется кормить это маленькое чудовище! Я бы предпочла дать грудь вампиру.
— Как она наивна, эта бедняжка ла Герм! — возразила Жеанна. — Да неужели вы не видите, сестра, что этому маленькому чудовищу по крайней мере четыре года и что ваша грудь кажется ему менее лакомой, чем кусок жаркого.
Действительно, это «маленькое чудовище» (иначе именовать его мы и сами затрудняемся) не было новорожденным младенцем. Это был какой-то очень угловатый и очень подвижный комочек, втиснутый в холщовый мешок, помеченный инициалами мессира Гильома Шартье, бывшего в то время парижским епископом. Из мешка торчала голова. Голова эта была чрезвычайно безобразна. Заметней всего выделялись копна рыжих волос, один глаз, рот и зубы. Из глаза текли слезы, рот орал, зубы, казалось, жаждали в кого-нибудь вонзиться, а все тело извивалось в мешке к великому удивлению все возраставшей кругом толпы.
Госпожа Алоиза Гонделорье, богатая и знатная женщина, державшая за руку хорошенькую девочку лет шести и волочившая за собой длинную вуаль, прикрепленную к золотому рогу ее высокого головного убора, проходя мимо яслей, остановилась и с минуту наблюдала за несчастным созданием, а ее очаровательное дитя, Флёр-де-Лис де Гонделорье, разодетая в шелк и бархат, водя хорошеньким пальчиком по прибитой к яслям доске, с трудом разбирала на ней надпись: «Подкидыши».
— Я думала, что сюда кладут только детей! — проговорила дама, с отвращением отвернувшись.
И она направилась к двери, бросив в чашу для пожертвований звякнувший среди медных монет серебряный флорин, что вызвало изумление среди бедных сестер общины Этьен-Одри.
Минуту спустя показался важный и ученый Робер Мистриколь, королевский протонотариус[129], державший в одной руке громадный Требник, а другою поддерживавший свою супругу (урожденную Гильометту ла Мерее), имея, таким образом, по обе стороны своих руководителей: духовного и светского.
— Подкидыш! — сказал он, взглянув на ясли. — И найденный, вероятно, на берегу Флегетона!
— У него только один глаз, а другой закрыт бородавкой, — заметила Гильометта.
— Это не бородавка, — возразил мэтр Робер Мистриколь, — а яйцо, которое заключает в себе подобного же демона, в котором, в свою очередь, заложено другое маленькое яйцо, содержащее в себе еще одного дьявола, и так далее.
— А откуда вам это известно? — спросила Гильометта ла Мерее.
— Я знаю сие достоверно, — ответил протонотариус.
— Господин протонотариус, — спросила Гошера, — как вы думаете, что предвещает этот мнимый подкидыш?
— Величайшие бедствия, — ответил Мистриколь.
— О Боже мой! Уж и без того в прошлом году была сильная чума, а теперь люди говорят, будто в Арфле собирается высадиться английское войско! — воскликнула какая-то старуха в толпе.
— Это может помешать королеве в сентябре приехать в Париж, — подхватила другая, — а торговля и так идет из рук вон плохо!
— По моему мнению, — воскликнула Жеанна де ла Тарм, — для парижского простонародья было бы гораздо лучше, если бы этого маленького колдуна бросили не в ясли, а на связку хвороста.
— На великолепную пылающую связку хвороста! — добавила старуха.
— Это было бы благоразумней, — сказал Мистриколь. К рассуждениям монахинь и сентенциям протонотариуса уже несколько минут прислушивался какой-то молодой священник. У него было суровое лицо, высокий лоб и глубокий взгляд. Он молча отстранил толпу, взглянул на «маленького колдуна» и простер над ним руку. Это было как раз вовремя, ибо все ханжи уже облизывались, предвкушая «великолепную пылающую связку хвороста».
— Я усыновляю этого ребенка, — сказал священник.
И, завернув его в свою сутану, он удалился. Присутствующие проводили его недоумевающими взглядами. Минуту спустя он исчез за Красными воротами, соединявшими в то время собор с монастырем.
Когда первое изумление миновало, Жеанна де ла Тарм прошептала на ухо Генриетте ла Готьер:
— Ведь я вам давно говорила, сестра, что этот молодой иерей[130], Клод Фролло, — чернокнижник.
Глава 2
Клод Фролло
Действительно, Клод Фролло был личностью незаурядной.
По своему происхождению он принадлежал к одной из тех семей среднего круга, которые на непочтительном языке прошлого века именовались либо именитыми горожанами, либо мелкими дворянами. Это семейство унаследовало от братьев Пакле ленное владение[131] Тиршап, сюзереном[132] которого был парижский епископ; двадцать один дом этого поместья был в XIII столетии предметом нескончаемых тяжб в консисторском суде. Как владелец этого поместья, Клод Фролло был одним из ста сорока феодалов, имевших право на взимание арендной платы в Париже и его предместьях. Благодаря этому много времени спустя его имя значилось в списках, хранящихся в Сен-Мартен-де Шан, между владением Танкарвиль, принадлежавшим мэтру Франсуа Ле Рецу, и владением Турского коллежа.
Клод Фролло с младенческих лет был предназначен родителями для духовного звания. Его научили читать по-латыни и воспитали в нем привычку опускать глаза долу и говорить тихим голосом. Еще ребенком он был заключен отцом в коллеж Торши, в квартале Университета, где он и рос, склонившись над Требником и Лексиконом.
Впрочем, он по природе был грустным, степенным, серьезным ребенком, который прилежно учился и быстро усваивал знания. Он не шумел во время рекреаций[133], мало интересовался вакханалиями улицы Фуар, не имел понятия о науке dare alapas et capillos laniare[134] и не принимал никакого участия в мятеже 1463 года, который летописцы внесли в хронику под громким названием «шестая университетская смута». Он редко дразнил бедных школяров коллежа Монтегю за их ермолки[135], по которым они получили свое прозвище, или стипендиатов коллежа Дормана за их тонзуры[136] и трехцветные одеяния из голубого и фиолетового сукна, azurini coloris et bruni[137], как сказано в хартии кардинала Четырех корон.
Но зато он усердно посещал все большие и малые учебные заведения улицы Сен-Жан-де-Бове. Первым школяром, которого, начиная свою лекцию о каноническом праве, аббат Сен-Пьер де Валь замечал приросшим к одной из колонн против своей кафедры в школе Сен-Вандрежезиль, был Клод Фролло, вооруженный роговой чернильницей, — покусывая перо, он что-то писал в лежавшей на его потертых коленях тетради, для чего зимой ему приходилось предварительно согревать дыханием пальцы. Первым слушателем, которого мессир Миль д´Илье, доктор истории церковных положений, видел прибегающим, запыхавшись, каждый понедельник утром к открытию дверей школы Шеф-Сен-Дени, был все тот же Клод Фролло. И уже в шестнадцать лет юный ученый мог помериться в теологии[138] мистической с любым отцом Церкви, в теологии канонической — с любым из членов Собора[139], а в теологии схоластической — с доктором Сорбонны.
Покончив с богословием, он принялся изучать церковные положения. Начав со «Свода сентенций», он перешел к «Капитуляриям[140] Карла Великого». Терзаемый жаждой научных познаний, он поглотил одну за другой декреталии[141] Теодора, епископа Гиспальского, Бушара, епископа Вормского, декреталии Ива, епископа Шартрского, свод Грациана, пополнившего капитулярии Карла Великого, затем сборник Григория IX и «Super specula»[142], послание Гонория III. Он разобрался в этом обширном и смутном периоде возникновения и борьбы гражданского и канонического права, происходившей среди хаоса Средних веков, — в периоде, который открывается епископом Теодором в 618 году и заканчивается Папой Григорием IX в 1227 году.
Переварив декреталии, он набросился на медицину и на свободные искусства. Он изучал науку лечебных трав, науку целебных мазей, приобрел основательные сведения по лечению лихорадок, ушибов, ранений и нарывов. Жак д´Эпар охотно выдал бы ему диплом врача, Ришар Гелен — диплом хирурга. С тем же успехом он прошел все ученые степени свободных искусств — лиценциата, магистра и доктора. Он изучил латынь, греческий и древнееврейский — тройную премудрость, мало кому знакомую в те времена. Он был одержим настоящей горячкой приобретать и копить научные богатства. В восемнадцать лет он окончил все четыре факультета. Молодой человек полагал, что в жизни есть одна лишь цель — наука.
Как раз в это время, а именно в знойное лето 1466 года, разразилась страшная чума, которая в одном лишь Парижском округе унесла около сорока тысяч человек, и в том числе, как говорит Жеан де Труа, «мэтра Арну, королевского астролога, который был весьма добродетелен, мудр и любезен». В Университете распространился слух, что особенно сильное опустошение эпидемия произвела среди жителей улицы Тиршап. На этой улице в своем ленном владении жили родители Клода Фролло. Сильно встревоженный, юный школяр поспешил в родительский дом. Переступив порог, он застал и мать и отца уже мертвыми. Они скончались накануне. Его брат, грудной ребенок, был еще жив и, брошенный на произвол судьбы, плакал в своей колыбели. Это было все, что осталось от его семьи. Юноша взял младенца на руки и задумчиво вышел из дома. До сих пор он витал в мире науки, теперь он столкнулся с реальной жизнью.
Эта катастрофа была переворотом в существовании Клода. Оказавшись в девятнадцать лет сиротою и одновременно главой семьи, он почувствовал, как жесток был переход от ученических мечтаний к будничной действительности. И тогда, проникнутый состраданием, он ощутил страстную и преданную любовь к ребенку, к своему брату. Это человеческое чувство было необычайным и сладостным для того, кто до сих пор любил одни только книги.
Новая привязанность развилась в нем с большой силой; для столь нетронутой души это было нечто вроде первой любви. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых он едва знал, зарывшись в свои книги и как бы замуровавшись в них, томимый сильнее всего жаждой учения и познания, целиком поглощенный доселе лишь запросами своего ума, обогащаемого наукой, и своим воображением, питаемым чтением книг, бедный школяр не имел времени прислушаться к голосу сердца. Младший брат, лишенный отца и матери, это крошечное дитя, так внезапно, словно с неба, свалившееся ему на руки, совершенно преобразило его. Он понял, что в мире существует еще что-то, кроме научных теорий Сорбонны и стихов Гомера; он понял, что человек нуждается в привязанности, что жизнь, лишенная нежности и любви, не что иное, как неодушевленный визжащий и скрипучий механизм. Но будучи еще в том возрасте, когда одни иллюзии сменяются другими, он вообразил, что в мире существуют лишь кровные, семейные привязанности и что любви к маленькому брату совершенно достаточно, чтобы заполнить человеческое существование.
Он полюбил маленького Жеана со всей страстью уже сложившейся глубокой натуры, пламенной и сосредоточенной. Это милое слабое существо, прелестное, белокурое, румяное, кудрявое, это осиротевшее дитя, не имеющее иной опоры, кроме другого сироты, волновало его до глубины души, и, привыкнув к серьезному мышлению, он с бесконечной нежностью стал размышлять о судьбе Жеана. Он заботился и беспокоился о нем, словно о чем-то очень хрупком и очень драгоценном. Он был для ребенка больше чем братом: он сделался для него матерью.
Малютка Жеан лишился матери, будучи еще грудным младенцем. Клод нашел ему кормилицу. Кроме владения Тиршап он унаследовал после смерти отца другое владение — Мулен, сюзереном которого был владелец квадратной башни Жантильи. Это была мельница, стоявшая на холме возле замка Винчестр (Бисетра) неподалеку от Университета. Жена мельника в то время кормила своего здоровенького младенца, и Клод отнес к мельничихе маленького Жеана.
С той поры, сознавая, что на нем лежит тяжелое бремя, он стал относиться к жизни гораздо серьезнее. Мысль о маленьком брате стала не только его отдохновением, но и целью всех его научных занятий. Он решился посвятить себя воспитанию брата, за которого он отвечал перед Богом, и навсегда отказался от мысли о жене и ребенке, видя свое личное счастье в благоденствии брата. Итак, еще сильней прежнего он укрепился мыслью в своем духовном призвании. Его нравственные достоинства, его знания, его положение вассала парижского епископа широко раскрывали перед ним двери Церкви. Двадцати лет он, с особого разрешения папской курии, был назначен священнослужителем собора Парижской Богоматери, где, как самый молодой из всех священников, отправлял богослужение в том приделе храма, который называли altare pigrorum[143], вследствие позднего часа служившейся там обедни.
Еще глубже погруженный в свои любимые книги, от которых отрывался лишь для того, чтобы на часок пойти на мельницу, он благодаря своей учености и строгости жизни, столь редкими в его возрасте, не замедлил снискать уважение и восхищение всего клира[144]. Через клириков[145] слава его как ученого распространилась среди народа; впрочем, что нередко случалось в те времена, здесь эта слава обернулась в репутацию чернокнижника.
Так вот, в это утро на Фоминой неделе, только что отслужив обедню в упомянутом приделе лентяев, находящемся возле входа на хоры, с правой стороны нефа, близ статуи Богоматери, и направляясь к себе домой, Клод обратил внимание на группу старух, визжавших вокруг яслей для подкидышей.
Тогда-то он и подошел к жалкому созданию, вызывавшему столько ненависти и угроз. Вид этого несчастного, уродливого, заброшенного существа, потрясшая его мысль о том, что если б он умер, то маленького братца, его любимого малютку Жеана, тоже могли бы бросить в ясли для подкидышей, — все это взяло его за сердце; чувство огромной жалости захлестнуло его. Он унес подкидыша к себе.
Вынув ребенка из мешка, он обнаружил, что тот действительно уродец. У бедного малыша на левом глазу оказалась бородавка, голова глубоко ушла в плечи, позвоночник изогнут дугой, грудная клетка выпячена, ноги искривлены; но он казался живучим, и хотя трудно было понять, на каком языке он лепетал, его крик свидетельствовал о здоровье и силе. Чувство сострадания усилилось в Клоде при виде этого уродства, и в душе он дал себе обет, из любви к брату, воспитать ребенка, с тем чтобы, каковы бы ни были впоследствии прегрешения маленького Жеана, их заранее искупал тот акт милосердия, который был совершен ради него. Это был как бы надежно помещенный капитал благодеяний, которым он заранее обеспечивал маленького баловня; сумма добрых дел, приготовленная заблаговременно, на случай, когда его брат будет испытывать нужду в этой монете, единственной, которою взималась плата за вход в райские врата.
Он окрестил своего приемыша и назвал его «Квазимодо» — то ли в память того дня, когда нашел его, то ли желая этим именем выразить, насколько несчастное маленькое создание несовершенно, насколько начерно сделано. Действительно, Квазимодо, одноглазый, горбатый, кривоногий, был лишь «почти» человеком.
Глава 3
Immanis pecoris custos, immanior ipse[146]
Ныне, в 1482 году, Квазимодо был уже взрослым. Несколько лет тому назад он стал звонарем собора Парижской Богоматери по милости своего приемного отца Клода Фролло, который стал жозасским архидьяконом по милости своего сюзерена, мессира Луи де Бомона, ставшего в 1472 году, после смерти Гильома Шартье, епископом Парижа по милости своего покровителя Оливье ле Дена, бывшего по милости Божьей брадобреем Людовика XI.
Итак, Квазимодо был звонарем в соборе Богоматери.
С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Отрешенный навек от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем — темным происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. По мере того как он рос и развивался, собор Богоматери последовательно служил для него то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной.
Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная предопределенная гармония. Когда, еще крошкой, Квазимодо с мучительными усилиями, вприскочку пробирался под мрачными сводами, он, с его человечьей головой и звериным туловищем, казался пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры.
Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув, раскачал, Клоду, приемному отцу Квазимодо, показалось, будто у ребенка развязался язык и он заговорил.
Таким образом, мало-помалу развиваясь под сенью собора, живя и ночуя в нем, почти никогда его не покидая и непрерывно испытывая на себе его таинственное воздействие, он в конце концов стал на него похож; он словно врос в здание, превратившись в одну из его составных частей. Выступающие углы его тела как будто созданы были для того, чтобы вкладываться (да простится нам это сравнение!) в вогнутые углы здания, и он казался не только обитателем собора, но и естественным его содержанием. Можно, почти не преувеличивая, сказать, что он принял форму собора, подобно тому как улитки принимают форму своей раковины. Это было его жилище, его логово, его оболочка. Между ним и старинной церковью существовала такая глубокая инстинктивная привязанность, такое физическое сродство, что Квазимодо был так же неотделим от собора, как черепаха от своего щитка. Шершавые стены собора были его панцирем.
Излишне предупреждать читателя, чтобы он не принимал буквально тех сравнений, к которым мы вынуждены прибегать здесь, описывая это своеобразное совершенное, непосредственное, почти органическое слияние человека с жилищем. Излишне также говорить о том, до какой степени благодаря этому интимному и длительному сожительству Квазимодо освоился со всем собором. Эта обитель была как бы создана для него. Здесь не было глубин, куда бы не проник Квазимодо, не было высот, которых бы он не одолел. Не раз случалось ему взбираться по фасаду собора, цепляясь лишь за выступы скульптурных украшений. Башни, эти близнецы-великаны, столь высокие, столь грозные, столь страшные, по наружным сторонам которых так часто видели его карабкающимся, словно ящерица, скользящая по отвесной стене, не вызывали в нем ни головокружения, ни страха, ни приступа дурноты. Видя, как они покорны ему, как легко он их преодолевает, можно было подумать, что он приручил их. Постоянно прыгая, лазая, резвясь среди пропастей исполинского собора, он превратился не то в обезьяну, не то в серну, напоминая детей Калабрии, которые начинают плавать раньше, чем ходить, и совсем малютками играют с морем.
Впрочем, не только его тело, но и дух его формировался по образцу собора. Что представляла собой душа Квазимодо? Каковы были ее особенности? Какую форму приняла она под этой угловатой, уродливой оболочкой, при этом дикарском образе жизни? Это трудно определить. Квазимодо родился кривым, горбатым, хромым.
Много усилий и много терпения потратил Клод Фролло, пока научил его говорить. Но нечто роковое тяготело над несчастным подкидышем. Когда он в четырнадцать лет стал звонарем собора Парижской Богоматери, новая беда довершила его несчастия: от колокольного звона лопнули его барабанные перепонки; он оглох. Единственная дверь, широко распахнутая перед ним природой, внезапно захлопнулась навек. Захлопнувшись, она закрыла доступ единственному лучу радости и света, еще проникавшему в душу Квазимодо. Эта душа погрузилась в глубокий мрак. Глубокая печаль несчастного стала теперь столь же неизлечимой и непоправимой, как и его уродство. К тому же глухота сделала его как бы немым. Чтобы не служить причиной постоянных насмешек, он, убедившись в своей глухоте, обрек себя на молчание, которое нарушал лишь наедине с самим собой. Он добровольно вновь сковал свой язык, развязать который стоило таких усилий Клоду Фролло. Вот почему, когда необходимость принуждала его говорить, язык его поворачивался неуклюже и тяжело, как дверь на ржавых петлях.
И если бы нам удалось сквозь эту плотную и грубую кору добраться до души Квазимодо, если бы мы могли исследовать все глубины духа этого уродливого создания, если бы нам дано было увидеть с помощью факела то, что лежит за непрозрачной его оболочкой, постичь внутренний мир этого непроницаемого существа, разобраться во всех темных закоулках и нелепых тупиках его сознания и ярким лучом внезапно осветить на дне этой пещеры скованную его душу, то, несомненно, мы застали бы ее в какой-нибудь жалкой позе, скрюченную и захиревшую, подобно тем узникам венецианских тюрем, которые доживали до старости, согнувшись в три погибели в слишком узких и слишком коротких каменных ящиках.
Не вызывает сомнения, что в увечном теле оскудевает и разум. Квазимодо лишь смутно ощущал в себе слепые порывы души, сотворенной по образу и подобию его тела. Прежде чем достичь его сознания, внешние впечатления странным образом преломлялись. Его мозг представлял собою какую-то особую среду: все, что в него попадало, выходило оттуда искаженным. Его понятия, являвшиеся отражением этих преломленных впечатлений, естественно оказывались сбивчивыми и извращенными.
Это порождало тысячу оптических обманов, неверных суждений и заблуждений, среди которых бродила его мысль, делая его похожим то на сумасшедшего, то на идиота.
Первым последствием такого умственного склада было то, что Квазимодо не мог здраво смотреть на вещи. Он был почти лишен способности непосредственного их восприятия. Внешний мир казался ему гораздо более отдаленным, чем нам.
Вторым последствием этого несчастья была его злобность.
Действительно, он был злобен, потому что был дик; он был дик, потому что был безобразен. В его природе, как и в любой иной, была своя логика.
Его столь непомерно развившаяся физическая сила являлась еще одной из причин его злобы. «Malus puer robustus»[147], — говорит Гоббс[148].
Впрочем, следует отдать ему справедливость: его злобность, надо думать, не была врожденной. С первых же своих шагов среди людей он почувствовал, а затем и ясно осознал себя существом отверженным, оплеванным, заклейменным. Человеческая речь была для него либо издевкой, либо проклятием. Подрастая, он встречал вокруг себя лишь ненависть и заразился ею. Преследуемый всеобщим озлоблением, он сам поднял оружие, которым был ранен.
Лишь с крайней неохотой он обращал свой взор на людей. Ему вполне достаточно было собора, населенного мраморными статуями королей, святых, епископов, которые, по крайней мере, не смеялись ему в лицо и смотрели на него спокойным и благожелательным взором. Статуи чудовищ и демонов тоже не питали к нему ненависти — он слишком был похож на них. Насмешка их относилась скорее к прочим людям. Святые были его друзьями и благословляли его, чудовища также были его друзьями и охраняли его. Он подолгу изливал перед ними свою душу. Сидя на корточках перед какой-нибудь статуей, он часами беседовал с ней. Если в это время кто-нибудь входил в храм, Квазимодо убегал, как любовник, застигнутый за серенадой.
Собор заменял ему не только людей, но и всю вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей; иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей; иных гор, кроме исполинских башен собора; иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия.
Но что он любил всего пламенней в своем родном соборе, что пробуждало его душу и заставляло ее расправлять свои жалкие крылья, столь беспомощно сложенные в тесной ее пещере, что порой делало его счастливым, — это колокола. Он любил их, ласкал их, говорил с ними, понимал их. Он был нежен со всеми, начиная от самых маленьких колоколов средней стрельчатой башенки до самого большого колокола портала. Средняя колоколенка и две боковые башни были для него словно три громадные клетки, в которых вскормленные им птицы заливались лишь для него. А ведь это были те самые колокола, которые сделали его глухим; однако и мать часто всего сильнее любит именно то дитя, которое заставило ее больше страдать.
Правда, звон колоколов был единственным голосом, доступным его слуху. Поэтому сильнее всего он любил большой колокол. Среди шумливой этой семьи, носившейся вокруг него в дни больших празднеств, он отличал его особо. Этот колокол носил имя Мария. Он висел особняком в клетке южной башни, рядом со своей сестрой Жакелиной, колоколом меньших размеров, заключенным в более тесную клетку. Жакелина получила свое имя в честь супруги Жеана Монтегю, который принес этот колокол в дар собору, что, однако, не помешало жертвователю позже красоваться обезглавленным на Монфоконе. Во второй башне висели шесть других колоколов, и, наконец, шесть самых маленьких ютились в звоннице средней башенки, вместе с деревянным колоколом, которым пользовались лишь на Страстной неделе, с полудня Чистого четверга и до заутрени Христова Воскресения. Итак, Квазимодо имел в своем гареме пятнадцать колоколов, но фавориткой его была толстая Мария.
Трудно вообразить себе восторг, испытываемый им в дни большого благовеста[149]. Лишь только архидьякон отпускал его, сказав «иди», он взлетал по винтовой лестнице быстрее, чем иной спустился бы с нее. Запыхавшись, вступал он в воздушное жилище большого колокола. С минуту он благоговейно и любовно созерцал колокол, затем начинал что-то ему шептать; он оглаживал его, словно доброго коня, которому предстояла трудная дорога; он уже заранее жалел его за предстоящие ему испытания. После этих первых ласк он кричал своим помощникам, находившимся в нижнем ярусе, чтобы они начинали. Те повисали на канатах, ворот скрипел, и исполинская медная капсула начинала медленно раскачиваться. Квазимодо, трепеща, следил за ней.
Первый удар медного языка о внутренние стенки колокола сотрясал балки, на которых он висел. Квазимодо, казалось, вибрировал вместе с колоколом. «Давай!» — вскрикивал он, разражаясь бессмысленным смехом. Колокол раскачивался все быстрее, и, по мере того как угол его размаха увеличивался, глаз Квазимодо, воспламеняясь и сверкая фосфорическим блеском, раскрывался все шире и шире.
Наконец начинался большой благовест, вся башня дрожала; балка, водосточные желоба, каменные плиты — все, начиная от свай фундамента и до увенчивающих башню трилистников, гудело одновременно. Квазимодо кипел, как в котле; он метался взад и вперед, вместе с башней он дрожал с головы до пят. Разнузданный, яростный колокол поочередно разверзал то над одним просветом башни, то над другим свою бронзовую пасть, откуда вырывалось дыхание бури, разносившейся на четыре лье окрест. Квазимодо становился перед этой отверстой пастью; следуя движениям колокола, он то приседал на корточки, то вставал во весь рост, он вдыхал этот сокрушающий смерч, глядя поочередно то на площадь с кишащей под ним на глубине двухсот футов толпой, то на исполинский медный язык, ревевший ему в уши. Это была единственная речь, доступная его слуху, единственный звук, нарушавший безмолвие вселенной. И он нежился, словно птица на солнце. Вдруг неистовство колокола передавалось и ему; его глаз приобретал странное выражение; Квазимодо подстерегал колокол, как паук подстерегает муху, и при его приближении стремглав бросался на него. Повиснув над бездной, следуя за колоколом в страшном его размахе, он хватал медное чудовище за ушки, плотно сжимал его коленями, пришпоривал ударами пяток и всем усилием, всей тяжестью своего тела увеличивал бешенство трезвона. Вся башня сотрясалась, а он кричал и скрежетал зубами, рыжие его волосы вставали дыбом, грудь пыхтела, как кузнечные мехи, глаз метал пламя, чудовищный колокол ржал, задыхаясь под ним. И вот это уже не колокол собора Богоматери, не Квазимодо — это бред, вихрь, буря; безумие, оседлавшее звук; дух, вцепившийся в летающий круп; невиданный кентавр[150], получеловек-полуколокол; какой-то ужасный Астольф[151], уносимый чудовищным крылатым конем из ожившей бронзы.
Присутствие этого необычного существа наполняло весь собор каким-то дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу, оживлявшую все камни собора Богоматери и заставлявшую трепетать глубокие недра древнего храма. Людям достаточно было узнать о его присутствии в соборе, как им уже чудилось, что все бесчисленные статуи галерей и порталов начинают оживать и двигаться. И действительно, собор казался покорным, послушным его власти существом; он ждал приказаний Квазимодо, чтобы возвысить свой мощный голос; он был одержим, полон им, словно духом-покровителем. Казалось, что Квазимодо вливал жизнь в это необъятное здание. Он был вездесущ; как бы размножившись, он одновременно присутствовал в каждой точке храма. Люди, ужасаясь, видели, как странный карлик карабкается по самому верху башни, извивается, ползет на четвереньках, повисает над пропастью, перепрыгивает с выступа на выступ и обшаривает недра какой-нибудь каменной горгоны[152], — это Квазимодо, разоряющий вороньи гнезда. То в укромном углу собора наталкивались на какое-то подобие ожившей Химеры[153], насупившейся и скорчившейся, — это Квазимодо, погруженный в размышления. То обнаруживали под колоколом чудовищную голову и мешок с уродливыми щупальцами, остервенело раскачивающийся на конце веревки, — это Квазимодо, который звонит к вечерне или к «Angelus»[154]. Нередко замечали по ночам отвратительное существо, бродившее по хрупкой кружевной балюстраде, венчавшей башни и окаймлявшей окружность свода над хорами, — это опять был горбун собора Богоматери.
И тогда, как уверяли кумушки из соседних домов, собор принимал какой-то фантастический, сверхъестественный, ужасный вид: там и здесь раскрывались глаза и пасти; слышен был лай каменных псов, шипение сказочных змей и каменных драконов, которые денно и нощно с вытянутыми шеями и разверстыми зевами сторожили громадный собор. А в ночь под Рождество, когда большой колокол хрипел от усталости, призывая верующих на полуночное бдение, сумрачный фасад здания принимал такой вид, что главные врата можно было принять за пасть, пожирающую толпу, а розетку — за око, взирающее на нее. И все это причинял Квазимодо. В Египте его почитали бы за божество этого храма; в Средние века его считали демоном; на самом же деле он был душой собора.
Для всех, кто знал о существовании Квазимодо, собор Богоматери кажется теперь пустынным, бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него. Исполинское тело храма опустело; это только остов; дух покинул его, осталась лишь оболочка. Так в черепе глазные впадины еще зияют, но взор угас навеки.
Глава 4
Собака и ее господин
И все же было на свете человеческое существо, на которое Квазимодо не простирал свою злобу и ненависть, которое он любил так же, а быть может, даже сильней, чем собор. Это был Клод Фролло.
Причина проста. Клод Фролло подобрал его, усыновил, вскормил, воспитал. Квазимодо, будучи еще ребенком, привык находить у ног Клода Фролло убежище, когда его преследовали собаки и дети. Клод Фролло научил его говорить, читать и писать. Наконец, Клод Фролло сделал его звонарем. Обручить Квазимодо с большим колоколом — это значило отдать Ромео Джульетту.
Признательность Квазимодо была глубока, пламенна и безгранична; и хотя лицо его приемного отца часто бывало сумрачно и сурово, хотя обычно речь его была отрывиста, суха и повелительна, но никогда сила признательности не ослабевала в Квазимодо. Архидьякон имел в его лице самого покорного раба, самого исполнительного слугу, самого бдительного пса. Когда несчастный звонарь оглох, между ним и Клодом Фролло установился таинственный язык знаков, понятный лишь им одним. Архидьякон был единственным человеческим существом, с которым Квазимодо мог еще общаться. В этом мире он был связан лишь с собором Парижской Богоматери да с Клодом Фролло.
Ничто на свете не могло сравниться с властью архидьякона над звонарем и привязанностью звонаря к архидьякону. По одному знаку Клода из одного желания доставить ему удовольствие Квазимодо готов был ринуться вниз головой с высоких башен собора. Казалось необыкновенным, что вся физическая сила Квазимодо, достигшая такого необычайного развития, была слепо подчинена другому человеку. В этом сказывались не столько сыновняя привязанность и преданность слуги господину, но также и непреодолимое влияние более сильного ума. Убогий, неуклюжий, неповоротливый разум взирал с мольбой и смирением на ум возвышенный и проницательный, могучий и властный.
Но над всем этим господствовало чувство признательности, доведенной до такого предела, что ее трудно с чем-либо сравнить. Среди людей примеры этой добродетели чрезвычайно редки. Поэтому скажем лишь, что Квазимодо любил архидьякона так сильно, как ни собака, ни конь, ни слон никогда не любили своего господина.
Глава 5
Продолжение главы о Клоде Фролло
В 1482 году Квазимодо было около двадцати лет, Клоду Фролло — около тридцати шести. Первый возмужал, второй начал стареть.
Клод Фролло уже не был наивным школяром Торши, нежным покровителем беспомощного ребенка, юным и мечтательным философом, который много знал, но о многом еще не подозревал. Теперь это строгий, суровый, угрюмый священник, блюститель душ, господин архидьякон Жозасский, второй викарий[155] епископа, управляющий двумя благочиниями, Монлерийским и Шатофорским, и ста семьюдесятью четырьмя сельскими приходами. Это важная и мрачная особа, перед которой трепетали и маленькие певчие в стихарях и курточках, и взрослые церковные певчие, и братия святого Августина[156], и причетники ранней обедни собора Богоматери, когда он, величавый, задумчивый, скрестив руки на груди и так низко склонив голову, что виден был лишь его большой облысевший лоб, медленно проходил под высоким стрельчатым сводом хоров.
Однако отец Клод Фролло не забросил ни науки, ни воспитания своего юного брата — двух главных занятий своей жизни. Но с течением времени какая-то горечь примешалась к этим столь сладостным обязанностям. В конце концов, как утверждает Поль Диакон[157], и наилучшее сало горкнет. Маленький Жеан Фролло, прозванный Мельником в честь мельницы, на которой он был вскормлен, развился вовсе не в том направлении, какое наметил для него Клод. Старший брат рассчитывал, что Жеан будет набожным, покорным, любящим науку и достойным уважения учеником. А между тем, подобно деревцам, которые наперекор стараниям садовника упорно тянутся в ту сторону, где воздух и солнце, младший брат рос и развивался, давая чудесные пышные и мощные побеги лишь в сторону лени, невежества и распутства. Это был настоящий чертенок, крайне непокорный, что заставляло грозно хмурить брови отца Клода, но зато очень забавный и очень умный, что заставляло старшего брата улыбаться.
Клод доверил воспитание младшего брата тому же коллежу Торши, в котором сам в занятиях и размышлениях провел свои юные годы; и для него было большим огорчением, что имя Фролло, когда-то делавшее честь сему святилищу науки, теперь стало предметом соблазна. Иногда по поводу этого он читал Жеану очень строгие и очень пространные нравоучения, которые тот мужественно выслушивал. Впрочем, юный повеса обладал добрым сердцем, как это обычно наблюдается во всех комедиях. Выслушав отповедь, он как ни в чем не бывало вновь принимался за свои похождения и дебоши. То он вступал в потасовку, в честь его прибытия, с «желторотым» (так называли в Университете новичков), соблюдая эту драгоценную традицию, тщательно хранимую до наших дней. То он подстрекал банду школяров, и те, quasi classico excitati[158], атаковали по всем правилам какой-нибудь кабачок, избивали кабатчика деревянными рапирами и с хохотом громили таверну, вышибая напоследок днища винных бочек. Вслед за этим к отцу Клоду являлся младший наставник коллежа Торши и с постной физиономией вручал ему составленный на великолепной латыни отчет со следующей горестной пометкой на полях: «Rixa; prima causa vinum optimum potatum»[159]. Поговаривали даже о том, что распущенность Жеана частенько доводила его и до улицы Глатиньи, что для шестнадцатилетнего юноши было совсем не по возрасту.
Вот почему огорченный Клод, отчаявшись в своих человеческих привязанностях, еще с большим увлечением отдался науке, этой сестре, которая по крайней мере не издевается над вами и за внимание к ней всегда вознаграждает вас, правда иногда и довольно стертой монетой. Он становился все более глубоким ученым и вместе с тем, что вполне последовательно, — все более суровым священником и все более печальным человеком. В каждом из нас существует известное соотношение между нашим непрерывно развивающимся умом, склонностями и характером, которое нарушается лишь при крупных жизненных потрясениях.
Так как Клод Фролло уже в юности прошел почти весь круг гуманитарных положенных и внеположенных законом наук, то он вынужден был либо поставить себе предел там, ubi defuit orbis[160], либо идти дальше в поисках иных средств для утоления своей ненасытной жажды познания. Древний символ змеи, жалящей собственный хвост, более всего применим к науке. По-видимому, Клод Фролло убедился в этом на личном опыте. Многие серьезные люди утверждали, что, исчерпав все fas[161] человеческого познания, он осмелился проникнуть в nefas[162]. Говорили, что, вкусив последовательно от всех плодов древа познания, он, то ли не насытившись, то ли пресытившись, кончил тем, что дерзнул вкусить от плода запретного. Читатели помнят, что он принимал участие в совещаниях теологов Сорбонны, в философских собраниях при Сент-Илер, в диспутах докторов канонического права при Сен-Мортен, в конгрегациях медиков при «Кропильнице Богоматери», ad cupam Nostrae Dominae. Он проглотил все разрешенные и одобренные кушанья, которые эти четыре громадные кухни, именуемые четырьмя факультетами, могли изготовить и предложить разуму, и пресытился ими, прежде чем успел утолить свой голод. Тогда он проник дальше, глубже, в самое подземелье этой законченной материальной ограниченной науки. Быть может, он даже поставил свою душу на карту ради того, чтобы принять участие в мистической трапезе алхимиков, астрологов и герметиков за столом, верхний конец которого в Средние века занимали Аверроэс, Гильом Парижский и Никола Фламель, а другой, затерявшийся на Востоке и освещенный семисвечником, достигал Соломона, Пифагора и Зороастра.
Справедливо или нет, но так, по крайней мере, предполагали люди.
Достоверно, что архидьякон нередко посещал кладбище Невинных, где покоились его родители вместе с другими жертвами чумы 1466 года; но там он, казалось, не столько преклонял колени перед крестом на их могиле, сколько перед странными изваяниями, покрывавшими возведенные рядом гробницы Никола Фламеля и Клода Пернеля.
Достоверно и то, что его часто видели на Ламбардской улице, где он украдкой проскальзывал в маленький домик, стоявший на углу улицы Писателей и Мариво. Этот дом выстроил Никола Фламель; там он и скончался около 1417 года. С тех пор он пустовал и начал уже разрушаться: до такой степени герметики и искатели философского камня всех стран исскоблили его стены, вырезая на них свои имена. Некоторые соседи утверждали, что видели через отдушину, как однажды архидьякон Клод рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого Никола Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в течение двух столетий алхимики, начиная с Мажистри и кончая отцом Миротворцем, до тех пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вывернутый наизнанку, не рассыпался наконец прахом под их ногами.
Достоверно также и то, что архидьякон воспылал особенной страстью к символическому порталу собора Богоматери, к этой странице чернокнижной премудрости, изложенной в каменных письменах и начертанной рукой епископа Гильома Парижского, который, несомненно, погубил свою душу, дерзнув приделать к этому вечному зданию, к этой божественной поэме столь кощунственный заголовок. Говорили, что архидьякон досконально исследовал исполинскую статую святого Христофора и высокое загадочное изваяние, высившееся в те времена у главного портала, которое народ в насмешку называл «господином Легри»[163]. Во всяком случае, каждый мог видеть, как Клод Фролло, сидя на ограде паперти, без конца рассматривал скульптурные украшения главного портала, словно изучая то фигуры неразумных дев с опрокинутыми светильниками, то фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками или рассчитывая угол, под которым ворон, изваянный над левым порталом, смотрит на какую-то таинственную точку в глубине собора, где, несомненно, был запрятан философский камень, если его нет в подвале дома Никола Фламеля.
Странная судьба, заметим мимоходом, выпала в те времена на долю собора Богоматери — судьба быть любимым столь благоговейно, но совсем по-разному двумя такими несхожими существами, как Клод и Квазимодо. Один из них — подобие получеловека, дикий, покорный лишь инстинкту, — любил собор за красоту, за стройность, за ту гармонию, которую источало это великолепное целое. Другой же, одаренный пылким, обогащенным знаниями воображением, любил в нем его внутреннее значение, скрытый в нем смысл, любил связанную с ним легенду, его символику, таящуюся за скульптурными украшениями фасада, подобно первичным письменам древнего пергамента, скрывающимся под более поздним текстом, — словом, любил ту загадку, какой извечно остается для человеческого разума собор Парижской Богоматери.
Наконец, достоверно также и то, что архидьякон облюбовал в той башне собора, которая обращена к Гревской площади, крошечную потайную келью, непосредственно примыкавшую к колокольной клетке, куда никто, даже сам епископ, как гласила молва, не смел проникнуть без его дозволения. Эта келья, находившаяся почти на самом верху башни, среди вороньих гнезд, была когда-то устроена епископом Гюго Безансонским[164], который в свое время занимался там колдовством. Никто не знал, что таила в себе эта келья; но нередко по ночам с противоположного берега Сены видели, как в небольшом слуховом окошечке с задней стороны башни то вспыхивал, то потухал через короткие и равномерные промежутки, словно от прерывистого дыхания кузнечного меха, какой-то неровный, багровый, странный свет, скорее походивший на отсвет очага, нежели светильника. Во мраке и на такой высоте этот огонь производил странное впечатление, и кумушки говорили: «Опять архидьякон орудует мехами! Там полыхает сама преисподняя».
Впрочем, во всем этом еще не было неопровержимых доказательств колдовства, но нет дыма без огня, тем более что архидьякон вообще пользовался далеко не доброй славой. А между тем мы должны признать, что все науки Египта — некромантия[165], магия, не исключая даже самой невинной из них белой магии, — не имели более заклятого врага, более беспощадного обличителя перед судьями консистории собора Богоматери, чем архидьякон Клод Фролло. Быть может, это было искренним отвращением, быть может — лишь уловкой вора, кричащего «держи вора!», однако это не мешало ученым мужам капитула смотреть на архидьякона как на душу, дерзнувшую вступить в преддверие ада, затерянную в дебрях кабалистики[166] и блуждающую во мраке оккультных наук. Народ тоже не заблуждался на этот счет: каждый мало-мальски проницательный человек считал Квазимодо дьяволом, а Клода Фролло — колдуном. Было совершенно ясно, что звонарь обязался служить архидьякону до известного срока, а затем, в виде платы за свою службу, он унесет его душу в ад. Вот почему архидьякон, невзирая на чрезмерную строгость своего образа жизни, пользовался дурной славой среди христиан, и не было святоши, настолько неискушенного, чтобы нос его не чуял здесь чернокнижника.
И если с течением времени в его познаниях разверзались бездны, то такие же бездны вырыли годы в его сердце. Так, по меньшей мере, следовало предполагать, всматриваясь в это лицо, на котором душа мерцала, словно сквозь темное облако. Отчего полысел его широкий лоб, отчего голова его всегда была опущена, а грудь вздымалась от непрерывных вздохов? Какая тайная мысль кривила горькой усмешкой его рот, в то время как нахмуренные брови сходились, словно два быка, готовые ринуться в бой? Почему поседели его поредевшие волосы? Что за тайное пламя вспыхивало порой в его взгляде, уподобляя глаза его отверстиям, проделанным в стенке горна?
Все эти признаки внутреннего смятения достигли особой силы к тому времени, когда стали развертываться описываемые нами события. Не раз какой-нибудь маленький певчий, натолкнувшись на архидьякона в пустынном соборе, в ужасе бежал прочь — так странен и ярок был его взор. Не раз на хорах, в часы богослужения, его сосед по скамье слышал, как он к пению церковных гимнов ad omnem tonum[167] примешивал какие-то непонятные слова. Не раз прачка с мыса Терен, стиравшая на капитул, с ужасом замечала на стихаре господина архидьякона Жозасского следы вонзавшихся в материю ногтей.
Вместе с тем он держал себя еще строже и безупречнее, чем всегда. Как по своему положению, так и по складу своего характера, он и прежде чуждался женщин; теперь же, казалось, он ненавидел их сильнее, чем когда-либо. Стоило зашуршать возле него шелковому женскому платью, как он тотчас же надвигал на глаза капюшон. В этом отношении он был настолько ревностным блюстителем установленных правил, что, когда в декабре 1481 года дочь короля, госпожа Анна де Боже, пожелала посетить монастырь собора Богоматери, он серьезно воспротивился этому посещению, напомнив епископу устав Черной книги, помеченный кануном дня Святого Варфоломея 1334 года и воспрещавший доступ в монастырь всякой женщине, «будь она стара или молода, госпожа или служанка». В ответ на это епископ вынужден был сослаться на легата Одо, допускавшего исключение для некоторых высокопоставленных дам, aliquae magnates mulieres, quae sine scandalo evitari non possunt[168]. На это архидьякон возразил, что постановление легата, изданное в 1207 году, на сто двадцать семь лет предшествует Черной книге; следовательно, должно считаться упраздненным. И он отказался предстать перед принцессою. Между прочим, с некоторых пор стали замечать, что отвращение архидьякона к египтянкам и цыганкам усилилось. Он добился от епископа особого указа, по которому цыганкам воспрещалось приходить плясать и бить в бубен на соборной площади; в то же время он рылся в истлевших архивах консистории, подбирая в них те процессы, где, по постановлению церковного суда, колдуны и колдуньи приговаривались к сожжению на костре или к виселице за наведение порчи на людей при помощи козлов, свиней или коз.
Глава 6
Нелюбовь народа
Как мы уже указывали, архидьякон и звонарь не пользовались любовью ни у людей почтенных, ни у мелкого люда, жившего вблизи собора. Всякий раз, когда Клод и Квазимодо, выйдя вместе, шли, слуга за господином, по прохладным, узким и сумрачным улицам, прорезавшим квартал собора Богоматери, вслед им летели то злое словечко, то насмешливая песенка, то оскорбительное замечание. Но случалось, хотя и редко, что Клод Фролло ступал с высоко поднятой головой; тогда его открытое чело и строгий, почти величественный вид приводили в смущение зубоскалов.
Оба они в своем околотке напоминали тех двух поэтов, о которых говорит Ренье[169]:
И всякий сброд преследует поэтов, — Так, щебеча, малиновки преследуют сову.То это был сорванец мальчишка, рисковавший своими костями и шкурой ради неописуемого наслаждения вонзить булавку в горб Квазимодо. То какая-нибудь не в меру бойкая и дерзкая хорошенькая девица мимоходом умышленно задевала черную сутану священника, напевая ему прямо в лицо язвительную песенку: «Ага, попался, пойман бес!» Иногда группа неопрятных старух, примостившихся на ступеньках паперти, принималась громко брюзжать при виде проходивших мимо архидьякона и звонаря и с бранью посылала им вслед подбадривающее приветствие: «Гм! У этого душа точь-в-точь как у другого тело». Или же это была ватага школьников и сорванцов, игравших в котел, которая вскакивала и встречала их улюлюканьем и каким-нибудь латинским восклицанием вроде: «Eia! Eia! Claudus cum claudo»[170].
Но чаще всего оскорбления скользили мимо священника и звонаря. Квазимодо был глух, а Клод слишком погружен в свои размышления, чтобы слышать все эти любезности.
Книга V
Глава 1
Abbas be ati martini[171]
Известность отца Клода простиралась далеко за пределы собора. Ей он был обязан навсегда оставшимся в его памяти посещением, незадолго до того, как он отказался принять г-жу де Боже.
Дело было вечером. Отслужив вечерню, он только что вернулся в свою священническую келью в монастыре собора Богоматери. В этой келье, не считая нескольких стеклянных пузырьков, убранных в угол и наполненных каким-то подозрительным порошком, сильно напоминавшим порошок алхимиков, не было ничего необычного или таинственного. Правда, кое-где на стенах виднелось несколько надписей, но то были либо чисто научные суждения, либо благочестивые поучения почтенных авторов. Архидьякон уселся при свете медного трехсвечника перед широким ларем, заваленном рукописями. Облокотившись на раскрытую книгу Гонория Отенского «De praedestinatione et libero arbitrio»[172], он в глубокой задумчивости перелистывал печатный том in folio[173], только что принесенный им и представлявший собой единственную в келье книгу, вышедшую из-под печатного станка. Его задумчивость была прервана стуком в дверь.
— Кто там? — крикнул ученый с приветливостью потревоженного голодного пса, которому мешают глодать кость.
За дверью ответили:
— Ваш друг, Жак Куактье. Архидьякон встал и отпер дверь.
То был действительно медик короля, человек лет пятидесяти, жесткое выражение лица которого несколько смягчалось вкрадчивым взглядом. Его сопровождал какой-то незнакомец. Оба они были в длиннополых, темно-серых, подбитых беличьим мехом одеяниях, наглухо застегнутых и перетянутых поясами, и в капюшонах из той же материи, того же цвета. Руки у них были скрыты под рукавами, ноги — под длинной одеждой, глаза — под капюшонами.
— Господи помилуй! — сказал архидьякон, вводя их в свою келью. — Вот уж никак не ожидал столь лестного посещения в такой поздний час. — Но, произнося эти учтивые слова, он окидывал медика и его спутника беспокойным, испытующим взглядом.
— Нет того часа, который был бы слишком поздним, чтобы посетить столь знаменитого ученого мужа, как отец Клод Фролло из Тиршапа, — ответил медик Куактье тягучим говором, изобличавшим в нем уроженца Франш-Конте: фразы его тянулись с торжественной медлительностью, как шлейф парадного платья.
И тут между медиком и архидьяконом начался предварительный обмен приветствиями, который в ту эпоху обычно служил прологом ко всем беседам между учеными, что отнюдь не препятствовало им от всей души ненавидеть друг друга. Впрочем, то же самое мы наблюдаем и в наши дни: уста каждого ученого, осыпающего похвалами своего собрата, — это чаша подслащенной желчи.
Любезности, расточаемые Жаку Куактье Клодом Фролло, намекали на те многочисленные мирские блага, которые почтенный медик, возбуждавший своей карьерой столько зависти, умел извлекать для себя из каждого недомогания короля с помощью более совершенной и более достоверной алхимии, нежели та, которая занимается поисками философского камня.
— Поистине, господин Куактье, я был очень обрадован, узнав о назначении вашего племянника, достопочтенного сеньора Пьера Верее, епископом. Ведь он теперь епископ Амьенский?
— Да, отец архидьякон, по благодати и милосердию Божьему.
— А знаете, у вас был весьма величественный вид в день Рождества, когда вы выступали во главе всех членов счетной палаты, господин президент!
— Вице-президент, отец Клод, увы, всего лишь вице-президент!
— А как далеко подвинулась постройка вашего великолепного особняка на улице Сент-Андре-Дезарк? Это настоящий Лувр. Мне чрезвычайно нравится абрикосовое дерево, высеченное над входом, с этой забавной шутливой надписью: «Приют на берегу»[174].
— Увы, мэтр Клод! Эта стройка стоит мне бешеных денег. По мере того как дом растет, я разоряюсь.
— И, полноте! Разве у вас нет доходов от тюрьмы, присутственных мест Дворца правосудия и арендной платы со всех домов, лавок, балаганов, мастерских, расположенных в его ограде? Это для вас хорошая дойная корова.
— Мое кастелянство в Пуасси в этом году не дало ничего.
— Зато дорожные пошлины на заставах Триэль, Сен-Джемс, Сен-Жермен-ан-Ле всегда прибыльны.
— Они дают всего сто двадцать ливров, да и то не парижских.
— Но вы получаете жалованье в качестве королевского советника. Уж это верный доход.
— Да, брат Клод; но зато это проклятое поместье Полиньи, о котором так много толкуют, не приносит мне даже в лучшем случае шестидесяти экю в год.
В любезностях, которые отец Клод расточал Куактье, слышалась язвительная затаенная издевка, печальная и жестокая усмешка одаренного неудачника, который, чтобы отвлечься на миг, подшучивает над грубым благополучием человека заурядного. Последний ничего этого не замечал.
— Клянусь душой, — сказал наконец Клод, пожимая ему руку, — я счастлив видеть вас в столь вожделенном здравии.
— Благодарю вас, мэтр Клод.
— А кстати, — воскликнул отец Клод, — как здоровье вашего царственного больного?
— Он скупо оплачивает своего врача, — ответил медик, искоса поглядывая на своего спутника.
— Вы находите, кум Куактье? — спросил его тот. Эти слова, в которых слышались удивление и упрек, обратили внимание архидьякона на незнакомца, хотя, по правде говоря, с тех пор как этот человек переступил порог его кельи, архидьякон и так ни на минуту не забывал о его присутствии. Не будь у него веских причин сохранять добрые отношения с медиком Жаком Куактье, этим всемогущим лекарем короля Людовика XI, он ни за что не принял бы его в сопровождении этого неизвестного. И он не выразил ни малейшего удовольствия, когда Куактье сказал ему:
— Кстати, отец Клод, я привел к вам одного из ваших собратьев, который, прослышав о вашей славе, пожелал с вами познакомиться.
— Ваш спутник тоже причастен к науке? — спросил архидьякон, вперив в незнакомца проницательный взгляд. Из-под нависших бровей на него сверкнул такой же зоркий и недоверчивый взор.
Насколько можно было разглядеть при мерцании светильника, это был старик лет шестидесяти, среднего роста, казавшийся больным и дряхлым. Его профиль, хотя и не отличался благородством линий, таил в себе что-то властное и суровое; из-под надбровных дуг сверкали зрачки, словно пламя в недрах пещеры, а под низко надвинутым капюшоном угадывались очертания широкого лба — признак одаренности.
Незнакомец сам ответил на вопрос архидьякона.
— Достопочтенный учитель, — степенно проговорил он, — ваша слава дошла до меня, и я хочу просить у вас совета. Сам я — лишь скромный провинциальный дворянин, смиренно снимающий свои сандалии у порога жилища ученого. Но вы еще не знаете моего имени: меня зовут кум Туранжо.
«Странное имя для дворянина!» — подумал архидьякон. Однако он чувствовал, что перед ним сильная и значительная личность. Он чутьем угадал, что под меховым капюшоном кума Туранжо скрывается высокий ум, и по мере того как он вглядывался в эту исполненную достоинства фигуру, ироническая усмешка, вызванная на его угрюмом лице присутствием Жака Куактье, постепенно таяла, подобно сумеркам перед наступлением ночи. Мрачный и молчаливый, он снова уселся в свое глубокое кресло и привычно облокотился о стол, подперев лоб рукой. После нескольких минут раздумья он знаком пригласил обоих посетителей сесть и сказал, обратившись к куму Туранжо:
— Касательно какой науки желаете вы посоветоваться со мной, мэтр?
— Достопочтенный учитель, — отвечал кум Туранжо, — я болен, я очень серьезно болен. За вами утвердилась слава великого эскулапа, и я пришел просить у вас медицинского совета.
— Медицинского! — покачав головой, проговорил архидьякон. Он, казалось, с минуту размышлял и затем ответил: — Кум Туранжо, коли вас так зовут, оглянитесь! Мой ответ вы увидите начертанным на стене.
Кум Туранжо повиновался и прочел как раз над своей головой следующую вырезанную на стене надпись:
Медицина — дочь сновидений.
Ямвлих[175].Медик Жак Куактье выслушал вопрос своего спутника с досадой, которую ответ Клода еще больше усилил. Он наклонился к куму Туранжо и шепнул ему тихонько, чтобы не быть услышанным архидьяконом:
— Я предупреждал вас о том, что это сумасшедший. Но вы непременно пожелали его видеть!
— Вполне возможно, что этот сумасшедший и прав, доктор Жак! — ответил тоже шепотом и с горькой усмешкой кум Туранжо.
— Как вам угодно, — сухо сказал Куактье и, обратившись к архидьякону, проговорил: — Вы человек скорый в своих суждениях, отец Клод. Вам, по-видимому, разделаться с Гиппократом[176] так же легко, как обезьяне с орехом. «Медицина — дочь сновидений»! Сомневаюсь, чтобы аптекари и лекари, будь они здесь, удержались от того, чтобы не побить вас камнями. Итак, вы отрицаете действие любовных напитков на кровь и лекарственных мазей — на кожу? Вы отрицаете эту вековечную аптеку трав и металлов, которая именуется природой и которая нарочно создана для вечного больного, именуемого человеком?
— Я не отрицаю ни аптеки, ни больного, — холодно ответил отец Клод. — Я отрицаю лекаря.
— Стало быть, — с жаром продолжал Куактье, — по-вашему, неверно, что подагра — это лишай, вошедший внутрь тела, что огнестрельную рану можно вылечить, приложив к ней жареную полевую мышь, что умелое переливание молодой крови возвращает старым венам молодость? Вы отрицаете, что дважды два — четыре и что при судорогах тело выгибается сначала вперед, а потом назад?
— О некоторых вещах я имею свое особое мнение, — спокойно ответил архидьякон.
Куактье побагровел от гнева.
— Вот что, милый мой Куактье, — вмешался кум Туранжо, — не будем горячиться. Не забывайте, что господин архидьякон наш друг.
Куактье успокоился, проворчав, однако, вполголоса: «И то правда. Чего можно ожидать от сумасшедшего!»
— Ей-богу, мэтр Клод, — помолчав некоторое время, вновь заговорил кум Туранжо, — вы меня сильно озадачили. Я имел в виду получить у вас два совета: касательно своего здоровья и своей звезды.
— Сударь, — ответил архидьякон, — если вы пришли только с этим, то напрасно утруждали себя, взбираясь ко мне на такую высоту. Я не верю ни в медицину, ни в астрологию.
— В самом деле? — с изумлением произнес кум Туранжо.
Куактье принужденно рассмеялся.
— Вы теперь убедились, что он не в своем уме? — шепнул он куму Туранжо. — Он не верит даже в астрологию!
— Возможно ли вообразить, будто каждый звездный луч есть нить, протянутая к голове человека? — продолжал отец Клод.
— Но во что же вы тогда верите? — воскликнул кум Туранжо.
С минуту архидьякон колебался, затем с мрачной улыбкой, плохо вязавшейся с его словами, ответил:
— Credo in Deum[177].
— Dominum nostrum[178], —добавил кум Туранжо, осенив себя крестным знамением.
— Amen[179],— заключил Куактье.
— Уважаемый учитель, — продолжал кум Туранжо, — меня от души радует, что вы столь непоколебимы в вере. Но неужели, будучи таким великим ученым, вы дошли до того, что перестали верить в науку?
— Нет, — ответил архидьякон, схватив за руку кума Туранжо, и в потускневших зрачках его вспыхнуло пламя воодушевления, — нет, науку я не отрицаю. Недаром же я так долго, ползком, вонзая ногти в землю, пробирался сквозь бесчисленные разветвления этой пещеры, пока далеко впереди, в конце темного прохода, мне не блеснул какой-то луч, какое-то пламя; несомненно, то был отсвет ослепительной центральной лаборатории, в которой все терпеливые и мудрые обретают Бога.
— Но все же, — перебил его кум Туранжо, — какую науку вы почитаете истинной и непреложной?
— Алхимию.
— Помилуйте, отец Клод! — воскликнул Куактье. — Положим, алхимия по-своему права, но зачем же поносить медицину и астрологию?
— Ваша наука о человеке — ничто! Ваша наука о небе — ничто! — твердо сказал архидьякон.
— Это значит попросту разделаться с Эпидавром[180] и Халдеей[181], — посмеиваясь, заметил медик.
— Послушайте, мессир Жак. Я сказал то, что думаю. Я не лекарь короля, и его величество не подарил мне сада Дедала[182], чтобы я мог наблюдать там созвездия… Не сердитесь и выслушайте меня. Я не говорю о медицине, которая вовсе лишена смысла; но скажите: какие истины вы извлекли из астрологии? Укажите мне свойства вертикального бустрофедона[183], укажите открытия, сделанные при помощи чисел зируф и зефирот[184]!
— Неужели вы станете отрицать, — возразил Куактье, — симпатическую силу клавикулы[185] и то, что от нее ведет свое начало вся кабалистика?
— Заблуждение, мессир Жак! Ни одна из ваших формул не приводит ни к чему положительному, тогда как алхимия имеет за собой множество открытий. Будете ли вы оспаривать следующие утверждения этой науки: что лед, пролежавший тысячу лет в недрах земли, превращается в горный хрусталь; что свинец — родоночальник всех металлов, ибо золото не металл, золото — это свет; что свинцу нужно лишь четыре периода, по двести лет каждый, чтобы последовательно превратиться в красный мышьяк, из красного мышьяка — в олово, из олова — в серебро? Разве это не истины? Но верить в силу клавикулы, в линию судьбы, во влияние звезд так же смешно, как верить заодно с жителями Китая, что иволга превращается в крота, а хлебные зерна — в золотых рыбок.
— Я изучил герметику, — вскричал Куактье, — и утверждаю, что…
Но вспыливший архидьякон не дал ему договорить.
— А я изучал и медицину, и астрологию, и герметику. Но истина только вот в чем! — С этими словами он взял с ларя стоявший на нем пузырек, полный того порошка, о котором мы упоминали выше. — Только в этом свет! Гиппократ — мечта; Урания[186] — мечта; Гермес — мысль. Золото — это солнце; уметь делать золото — значит быть равным Богу. Вот единственная наука! Повторяю вам: я исследовал глубины астрологии и медицины — все это ничто! Ничто! Человеческое тело — потемки! Светила — тоже потемки!
Властным и вдохновенным движением он откинулся в своем кресле. Кум Туранжо молча наблюдал за ним. Куактье, принужденно посмеиваясь, пожимал незаметно плечами и повторял про себя: «Вот сумасшедший!»
— Ну, а удалось вам достигнуть своей чудесной цели? Удалось добыть золото?
— Если бы я ее достиг, то короля Франции звали бы Клодом, а не Людовиком, — медленно выговаривая слова, словно в раздумье, ответил архидьякон.
Кум Туранжо нахмурил брови.
— Впрочем, что я говорю! — презрительно усмехнувшись, проговорил Клод. — На что мне французский престол, когда я властен был бы восстановить Восточную империю!
— В добрый час! — сказал кум.
— О несчастный безумец! — пробормотал Куактье. Казалось, архидьякона занимали только собственные мысли, и он продолжал:
— Нет, я все еще передвигаюсь ползком: я раздираю себе лицо и колени о камни подземного пути. Я пока лишь предполагаю, но еще не вижу! Я не читаю, я только разбираю по складам!
— А когда вы научитесь читать, вы сумеете добыть золото? — спросил кум.
— Кто может в этом сомневаться! — воскликнул архидьякон.
— В таком случае — Пресвятой Деве известно, как я нуждаюсь в деньгах, — я очень хотел бы научиться читать по вашим книгам. Скажите, уважаемый учитель, ваша наука не враждебна и не противна Божьей Матери?
В ответ на этот вопрос Клод с высокомерным спокойствием промолвил:
— А кому же я служу как архидьякон?
— Ваша правда, мэтр. А вы удостоите посвятить меня в тайны вашей науки? Позвольте мне вместе с вами учиться читать.
Клод принял величественную позу, словно какой-нибудь первосвященник Самуил[187]:
— Старик, чтобы предпринять путешествие сквозь эти таинственные дебри, нужны долгие годы, которых у вас уже нет впереди. Ваши волосы серебрит седина. Но с седой головой выходят из этой пещеры, а вступают в нее тогда, когда волос еще темен. Наука и сама умеет избороздить, обесцветить и иссушить человеческий лик. Зачем ей старость с ее морщинами? Но если вас, в ваши годы, все еще обуревает желание засесть за науку и разбирать опасную азбуку мудрых, придите, пусть будет так, я попытаюсь. Я не пошлю вас, слабого старика, изучать усыпальницы пирамид, о которых свидетельствует древний Геродот[188], или кирпичную Вавилонскую башню, или исполинское, белого мрамора святилище индийского храма в Эклинге. Я и сам не видел ни халдейских каменных сооружений, воспроизводящих священную форму Сикры[189], ни разрушенного храма Соломона, ни сломанных каменных врат гробницы израильских царей. Мы с вами удовольствуемся отрывками из имеющейся у нас книги Гермеса. Я объясню вам смысл статуи святого Христофора, символ сеятеля и символ двух ангелов, изображенных у портала Сент-Шапель, из которых один погрузил свою длань в сосуд, а другой скрыл свою в облаке…
Но тут Жак Куактье, смущенный пылкой речью архидьякона, оправился и прервал его торжествующим тоном ученого, исправляющего ошибку собрата:
— Erras, amice Claudi[190]. Символ не есть число. Вы принимаете Орфея за Гермеса.
— Это вы заблуждаетесь, — внушительным тоном ответил архидьякон. — Дедал — это цоколь; Орфей — это стены; Гермес — это здание в целом. Вы придете, когда вам будет угодно, — продолжал он, обращаясь к Туранжо, — я покажу вам крупинки золота, осевшего на дне тигля Никола Фламеля, и вы сравните их с золотом Гильома Парижского. Я объясню вам тайные свойства греческого слова peristera[191], но прежде всего я научу вас разбирать одну за другой мраморные буквы алфавита, гранитные страницы великой книги. От портала епископа Гильома и Сен-Жан ле Рон мы отправимся к Сент-Шапель, затем к домику Никола Фламеля на улице Мариво, к его могиле на кладбище Невинных, к двум его больницам на улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре массивные железные решетки портала больницы Сен-Жерве и на Скобяной улице. Мы вместе постараемся разобраться в том, о чем говорят фасады церквей Сен-Ком, Сент-Женевьев-дез-Ардан, Сен-Мартен, Сен-Жак-де-ла-Бушри…
Уже давно, несмотря на весь ум, светившийся в его глазах, кум Туранжо перестал понимать отца Клода. Наконец он перебил его:
— С нами крестная сила! Что же это за книга?
— А вот одна из них, — ответил архидьякон.
И, распахнув окно своей кельи, он указал на громаду собора Богоматери. Выступавший на звездном небе черный силуэт его башен, каменных боков, всего чудовищного корпуса казался исполинским двуглавым сфинксом, который уселся посреди города. Некоторое время архидьякон молча созерцал огромное здание, затем со вздохом простер правую руку к лежавшей на столе раскрытой печатной книге, а левую — к собору Богоматери, и, переведя свой печальный взгляд с книги на собор, он произнес:
— Увы! Вот это убьет то.
Куактье, который поспешно приблизился к книге, не утерпел и воскликнул:
— Помилуйте! Да что же тут такого страшного? «Glossa in epistolas D. Pauli», Norimbergae, Antonius Koburger, 1474[192]. Это вещь не новая. Это сочинение Пьера Ломбара, прозванного «мастером сентенций». Может быть, эта книга страшит вас тем, что она печатная?
— Вот именно, — ответил Клод. Словно погруженный в глубокую думу, он стоял возле стола, опершись согнутым указательным пальцем о фолиант, оттиснутый на знаменитых нюрнбергских печатных станках. Затем он добавил следующие загадочные слова: — Увы! Увы! Малое берет верх над великим; один-единственный зуб осиливает целую толщу. Нильская крыса убивает крокодила, меч-рыба убивает кита, книга убьет здание!
Монастырский колокол дал сигнал о тушении огня в ту минуту, когда мэтр Жак повторял на ухо своему спутнику свой неизменный припев: «Это сумасшедший». На этот раз и спутник ответил: «Похоже на то!»
Пробил час, когда посторонние не могли оставаться в монастыре. Оба посетителя удалились.
— Учитель, — сказал Туранжо, прощаясь с архидьяконом, — я люблю ученых и великие умы, а к вам я испытываю особое уважение. Приходите завтра во дворец Турнель и спросите там «аббата Сен-Мартен-де-Тур».
Архидьякон вернулся к себе в келью совершенно ошеломленный; только теперь он уразумел наконец, кто такой был «кум Туранжо», и вспомнил то место из сбор ника грамот монастыря Сен-Мартен-де-Тур, где сказано: «Abbas beati Martini, scilicet rex Franciae, est canonicus de consuetudine et habet parvam praebendam, quam habet sanctus Venantius et debet-sedere in sede thesaurarii»[193].
Утверждают, что с этого времени архидьякон часто беседовал с Людовиком XI, когда его величество посещал Париж, и что влияние отца Клода тревожило Оливье ле Дена и Жака Куактье, причем последний, по своему обыкновению, грубо пенял на это королю.
Глава 2
«Вот это убьет то…»
Наши читательницы простят нам, если мы на минуту отвлечемся, чтобы попытаться разгадать смысл загадочных слов архидьякона: «Вот это убьет то. Книга убьет здание».
На наш взгляд, эта мысль была двойственной. Раньше всего это была мысль священника. Это был страх духовного лица перед новой силой — книгопечатанием. Это был ужас и изумление служителя алтаря перед излучающим свет печатным станком Гутенберга. Церковная кафедра и манускрипт, изустное слово и слово рукописное били тревогу в смятении перед словом печатным — так переполошился бы воробей при виде ангела Легиона, разворачивающего перед ним свои шесть миллионов крыльев. То был вопль пророка, который уже слышит, как шумит и бурлит освобождающееся человечество, который уже провидит то время, когда разум пошатнет веру, свободная мысль свергнет с пьедестала религию, когда мир стряхнет с себя иго Рима. То было предвидение философа, который зрит, как человеческая мысль, ставшая летучей при помощи печати, уносится, подобно пару, из-под стеклянного колпака теократии. То был страх воина, следящего за медным тараном и возвещающего: «Башня рухнет». Это означало, что новая сила сменит старую силу; иными словами — печатный станок убьет Церковь.
Но за этой первой, несомненно более простой, мыслью скрывалась, как необходимое ее следствие, другая мысль, более новая, менее очевидная, легче опровержимая и тоже философская. Мысль не только священнослужителя, но ученого и художника. В ней выражалось предчувствие того, что человеческое мышление, изменив форму, изменит со временем и средства ее выражения; что господствующая идея каждого поколения будет начертана уже иным способом, на ином материале; что столь прочная и долговечная каменная книга уступит место еще более прочной и долговечной книге — бумажной. В этом заключался второй смысл неопределенного выражения архидьякона. Это означало, что одно искусство будет вытеснено другим; иными словами — книгопечатание убьет зодчество.
С самого сотворения мира и вплоть до XV столетия христианской эры зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей человека во всех стадиях его развития — как существа физического, так и существа духовного.
Когда память первобытных поколений ощутила себя чересчур обремененной, когда груз воспоминаний рода человеческого стал так тяжел и сбивчив, что простое летучее слово рисковало утерять его в пути, тогда эти воспоминания были записаны на почве самым явственным, самым прочным и вместе с тем самым естественным способом. Каждое предание было запечатлено в памятнике.
Первобытные памятники были простыми каменными глыбами, которых «не касалось железо», как говорит Моисей. Зодчество возникло так же, как и всякая письменность. Сначала это была азбука. Ставили стоймя камень, и он был буквой, каждая такая буква была иероглифом, и на каждом иероглифе покоилась группа идей, подобно капители на колонне. Так поступали первые поколения повсюду, одновременно, на поверхности всего земного шара. «Стоячий камень» кельтов находят и в азиатской Сибири, и в американских пампасах.
Позднее стали складывать целые слова. Водружали камень на камень, соединяли эти гранитные слоги и пытались из нескольких слогов создать слова. Кельтские дольмены[194] и кромлехи[195], этрусские курганы, иудейские могильные холмы — все это каменные слова. Некоторые из этих сооружений, преимущественно курганы, — имена собственные. Иногда, если располагали большим количеством камней и обширным пространством, выводили даже фразу. Исполинское каменное нагромождение Карнака[196] — уже целая формула.
Наконец стали составлять и книги. Предания порождали символы, под которыми сами они исчезали, как под листвой исчезает древесный ствол; все эти символы, в которые веровало человечество, постепенно возрастали в числе, умножаясь, перекрещиваясь и все более и более усложняясь; первобытные памятники не могли уже более их вместить; символы их переросли; памятники почти перестали выражать первобытное предание, такое же простое, несложное и сливающееся с почвой, как и они сами. Чтобы развернуться, символу потребовалось здание. Тогда, вместе с развитием человеческой мысли, стало развиваться и зодчество; оно превратилось в тысячеглавого, тысячерукого великана и заключило зыбкую символику в видимую, осязаемую, бессмертную форму. Пока Дедал — символ силы — измерял, пока Орфей — символ разума — пел, в это время столп — символ буквы, свод — символ слога, пирамида — символ слова, движимые разумом по законам геометрии и поэзии, стали группироваться, сочетаться, сливаться, снижаться, возвышаться, сдвигаться вплотную на земле, устремляться в небеса до тех пор, пока под диктовку господствующих идей эпохи им не удалось наконец написать те чудесные книги, которые являются одновременно и чудесными зданиями: пагоду в Эклинге, мавзолей Рамзеса в Египте и храм Соломона.
Основная идея — слово — заключалась не только в сокровенной их сущности, но также и в их формах. Так, например, храм Соломона отнюдь не был только переплетом священной книги — он был самой книгой. На каждой из его концентрических оград священнослужители могли прочесть явленное и истолкованное слово, и, наблюдая из святилища в святилище за его превращениями, они настигали слово в его последнем убежище, в его самой вещественной форме, которая была опять-таки зодческой, — в кивоте Завета. Таким образом, слово хранилось в недрах здания, но образ этого слова, подобно изображению человеческого тела на крышке саркофага, был запечатлен на внешней оболочке здания.
И не только форма зданий, но и само место, которое для них выбиралось, раскрывало идею, отображаемую ими. Сообразно тому, светел или мрачен был ждущий воплощения символ, Греция увенчивала свои холмы храмами, пленявшими глаз, а Индия вспарывала свои горы, чтобы высекать в них неуклюжие подземные пагоды, поддерживаемые вереницами исполинских гранитных слонов.
Таким образом, в течение первых шести тысячелетий, начиная с самой древней пагоды Индостана и до Кёльнского собора, зодчество было величайшей книгой рода человеческого. Неоспоримость этого доказывается тем, что не только все религиозные символы, но и вообще всякая мысль человеческая имеет в этой необъятной книге свою страницу и свой памятник.
Каждая цивилизация начинается с теократии и заканчивается демократией. Этот закон последовательного перехода от единовластия к свободе запечатлен и в зодчестве. Ибо — и мы на этом настаиваем — строительное искусство отнюдь не ограничивается лишь возведением храмов, отображением мифов и священных символов, оно не только записывает иероглифами на каменных своих страницах таинственные скрижали закона. Если бы это было так, то, поскольку для каждого человеческого общества наступает пора, когда священный символ под давлением свободной мысли изнашивается и стирается, когда человек ускользает от влияния священнослужителя, когда опухоль философских теорий и государственных систем разъедает лик религии, зодчество не могло бы воспроизвести это новое состояние человеческой души, его страницы, исписанные с одной стороны, были бы пусты на обороте, его творение было бы искалечено, его летопись была бы неполна. Между тем это не так.
Обратимся для примера к Средним векам, в которых мы можем легче разобраться, потому что они ближе к нам. Когда теократия в течение первого периода своего существования устанавливает свой порядок в Европе, когда Ватикан объединяет и заново группирует вокруг себя элементы того Рима, который возник из Рима старого, лежащего в развалинах вокруг Капитолия, когда христианство начинает отыскивать среди обломков древней цивилизации все ее общественные слои и воздвигает при помощи этих руин новый иерархический мир, краеугольным камнем которого является священство, тогда в этом хаосе сперва возникает, а затем мало-помалу из-под мусора мертвого греческого и римского зодчества под дуновением христианства, под натиском варваров пробивается таинственное романское зодчество, родственное теократическим сооружениям Египта и Индии, — эта неблекнущая эмблема чистого католицизма, этот неизменный иероглиф папского единства.
И действительно, мысль того времени целиком вписана в мрачный романский стиль. От него веет властностью, единством, непроницаемостью, абсолютизмом — иначе говоря, Папой Григорием VII; во всем чувствуется влияние священника и ни в чем — человека; влияние касты, но не народа.
Но вот начинаются крестовые походы. Это было мощное народное движение, а всякое великое народное движение, независимо от его причины и цели, всегда дает как бы отстой, из которого возникает дух свободолюбия. Начинают пробиваться ростки чего-то нового. И открывается бурный период «жакерии»[197], «прагерий»[198], «лиг»[199]. Власть расшатывается, единовластие раскалывается. Феодализм требует разделения власти с теократией в ожидании неизбежного появления народа, который, как это всегда бывает, возьмет себе львиную долю. Quia nominor leo[200]. Из-под духовенства начинает пробиваться дворянство, из-под дворянства — городская община. Лик Европы изменился. И что же? Изменяется и облик зодчества. Оно, как и цивилизация, перевернуло страницу, и новый дух эпохи находит его готовым к тому, чтобы писать под свою диктовку. Из крестовых походов оно вынесло стрельчатый свод, как народы — свободолюбие. И тогда вместе с постепенным распадом Рима умирает и романское зодчество. Иероглиф покидает собор и переходит в гербы на замковых башнях, чтобы придать престиж феодализму. Сам храм, это некогда столь верное догме сооружение, захваченное отныне средним сословием, городской общиной, свободой, ускользает из рук священника и поступает в распоряжение художника. Художник строит его по собственному вкусу. Прощайте тайна, предание, закон! Да здравствует фантазия и каприз! Лишь бы священнослужитель имел свой храм и свой алтарь — ничего другого он и не требует. А стенами распоряжается художник.
Отныне книга зодчества не принадлежит больше духовенству, религии и Риму; она во власти фантазии, поэзии и народа. Отсюда стремительные и бесчисленные превращения этого имеющего всего триста лет от роду зодчества, — превращения, так поражающие нас после устойчивой неподвижности романской архитектуры, насчитывающей шесть или семь веков.
Между тем искусство движется вперед гигантскими шагами. Народный гений во всем своеобразии своего творчества выполняет ту задачу, которую до него выполняли епископы. Каждое поколение мимоходом заносит свою строку на страницу этой книги; оно соскребает древние романские иероглифы с церковных фасадов, и лишь с большим трудом удается различить под наново нанесенными символами кое-где пробивающуюся догму. Религиозный остов еле различим сквозь завесу народного творчества. Трудно вообразить, какие вольности разрешали себе зодчие даже тогда, когда дело касалось церквей. Вот витые капители в виде непристойно обнявшихся монахов и монахинь, как, например, в Каминной зале Дворца правосудия в Париже; вот история посрамления Ноя, высеченная резцом со всеми подробностями на главном портале собора в Бурже; вот пьяный монах с ослиными ушами, держащий чашу с вином и хохочущий прямо в лицо всей братии, как на умывальнике в Бошервильском аббатстве. В ту эпоху мысль, высеченная на камне, пользовалась привилегией, сходной с нашей современной свободой печати. Это было время свободы зодчества.
Свобода эта заходила очень далеко. Порой символическое значение какого-нибудь фасада, портала и даже целого собора было не только чуждо, но даже враждебно религии и Церкви. Гильом Парижский в тринадцатом веке и Никола Фламель в пятнадцатом оставили несколько таких исполненных соблазна страниц. Церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри в целом являлась воплощением духа оппозиции.
Будучи свободной лишь в области зодчества, мысль целиком высказывалась только в тех книгах, которые назывались зданиями. В этой форме она могла бы лицезреть собственное сожжение на костре от руки палача, если бы по неосторожности отважилась принять вид рукописи; мысль, воплощенная в церковном портале, присутствовала бы при казни мысли, воплощенной в книге. Вот почему, не имея иного пути, кроме зодчества, чтобы пробить себе дорогу, она и стремилась к нему отовсюду. Только этим и можно объяснить невероятное обилие храмов, покрывших всю Европу, — количество их настолько необычайно, что, даже проверив его, с трудом можно себе его вообразить. Все материальные силы, все интеллектуальные силы общества сошлись в одной точке — в зодчестве. Таким образом, искусство, под предлогом возведения Божьих храмов, достигло великолепного развития.
В те времена каждый родившийся поэтом становился зодчим. Рассеянные в массах дарования, придавленные со всех сторон феодализмом, словно testudo[201] из бронзовых щитов, не видя иного исхода, кроме зодчества, открывали себе дорогу с помощью этого искусства, и их Илиады выливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его требованиям. Они были рабочими, созидавшими великое творение. Архитектор — поэт — мастер в себе одном объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, и живопись, расцвечивающую его витражи, и музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных трубах. Даже бедная поэзия, подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях, вынуждена была под формой гимна или хорала заключить себя в оправу здания, чтоб приобрести хоть какое-нибудь значение, — другими словами, играть ту же роль, которую играли трагедии Эсхила в священных празднествах Греции или Книга бытия[202] в Соломоновом храме.
Итак, вплоть до Гутенберга зодчество было преобладающей формой письменности, общей для всех народов. Эта гранитная книга, начатая на Востоке, продолженная греческой и римской древностью, была дописана Средними веками. Впрочем, это явление смены кастового зодчества зодчеством народным, наблюдаемое нами в Средние века, повторялось при подобных же сдвигах человеческого сознания и в другие великие исторические эпохи.
Укажем здесь лишь в общих чертах этот закон, для подробного изложения которого потребовались бы целые тома. На далеком Востоке, в этой колыбели первобытного человечества, на смену индусскому зодчеству приходит финикийское — плодовитая родоначальница арабского зодчества; в античные времена за египетским зодчеством, разновидностью которого были этрусский стиль и циклопические постройки, следует греческое зодчество, продолжением которого является римский стиль, но уже отягощенный карфагенским куполообразным сводом; а в описываемое время на смену романскому зодчеству пришло зодчество готическое. И, расчленив на две группы эти три вида зодчества, мы найдем, что первая группа — три старшие сестры: зодчество индусское, зодчество египетское и зодчество романское — воплощают в себе один и тот же символ: теократии, касты, единовластия, догмата, мифа, божества. Что же касается второй группы — младших сестер: зодчества финикийского, зодчества греческого и зодчества готического, — то, при всем многообразии присущих им форм, все они также обозначают одно и то же: свободу, народ, человека. В постройках индусских, египетских, романских ощущается влияние служителя религиозного культа, и только его, будь это брамин[203], жрец или Папа. Совсем другое в народном зодчестве. В нем больше роскоши и меньше святости. Так, в финикийском зодчестве чувствуешь купца; в греческом — республиканца; в готическом — горожанина.
Основные черты всякого теократического зодчества — это косность, ужас перед прогрессом, сохранение традиционных линий, канонизирование первоначальных образцов, неизменное подчинение всех форм человеческого тела и всего, что создано природой, непостижимой прихоти символа. Это темные книги, разобрать которые в силах только посвященный. Впрочем, каждая форма, даже уродливая, таит в себе смысл, делающий ее неприкосновенной. Не требуйте от индусского, египетского или романского зодчества, чтобы они изменили свой рисунок или улучшили свои изваяния. Всякое усовершенствование для них — святотатство. Суровость догматов, застыв на камне созданных ею памятников, казалось, подвергла их вторичному окаменению. Напротив, характерные особенности построек народного зодчества — это разнообразие, прогресс, самобытность, пышность, непрестанное движение. Здания уже настолько отрешились от религии, что могут заботиться о своей красоте, лелеять ее и непрестанно облагораживать свой убор из арабесок[204] или изваяний. Они от мира. Они таят в себе элемент человеческого, непрестанно примешиваемый ими к божественному символу, во имя которого они продолжают еще воздвигаться. Вот почему эти здания доступны каждой душе, каждому уму, каждому воображению. Они еще символичны, но уже доступны пониманию, как сама природа. Между зодчеством теократическим и народным то же различие, что между языком жрецов и разговорной речью, между иероглифом и искусством, между Соломоном и Фидием[205].
Если мы вкратце повторим то, что лишь в общих чертах, опуская тысячу доказательств и тысячу малозначащих выражений, мы говорили ранее, то придем к следующему заключению. До XV столетия зодчество было главной летописью человечества; за этот промежуток времени во всем мире не возникало ни одной хоть сколько-нибудь сложной мысли, которая не выразила бы себя в здании; каждая общедоступная идея, как и каждый религиозный закон, имела свой памятник; все значительное, о чем размышлял род человеческий, он запечатлел в камне. А почему? Потому что всякая идея, будь то идея религиозная или философская, стремится увековечить себя; иначе говоря, всколыхнув одно поколение, она хочет всколыхнуть и другие и оставить по себе след. И как ненадежно это бессмертие, доверенное рукописи! А вот здание — это уже иная книга, прочная, долговечная и выносливая! Для уничтожения слова, написанного на бумаге, достаточно факела или варвара. Для разрушения слова, высеченного из камня, необходим общественный переворот или возмущение стихий. Орды варваров пронеслись над Колизеем, волны потопа, быть может, бушевали над пирамидами.
В XV столетии все изменяется.
Человеческая мысль находит способ увековечить себя, обещающий не только более длительное и устойчивое существование, нежели зодчество, но также и более простой и легкий. Зодчество развенчано. Каменные буквы Орфея заменяются свинцовыми буквами Гутенберга.
Книга убьет здание.
Изобретение книгопечатания — это величайшее историческое событие. В нем зародыш всех революций. Оно является совершенно новым средством выражения человеческой мысли; мышление облекается в новую форму, отбросив старую. Это означает, что тот символический змий, который со времен Адама олицетворял разум, окончательно и бесповоротно сменил кожу.
В виде печатного слова мысль стала долговечной, как никогда: она крылата, неуловима, неистребима. Она сливается с воздухом. Во времена зодчества мысль превращалась в каменную громаду и властно завладевала определенным веком и определенным пространством. Ныне же она превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все точки во времени и в пространстве.
Повторяем: нельзя не видеть, что мысль, таким образом, становится почти неизгладимой. Утратив прочность, она приобрела живучесть. Долговечность она сменяет на бессмертие. Разрушить можно любую массу, но как искоренить то, что вездесуще? Наступит потоп, исчезнут под водой горы, а птицы все еще будут летать, и пусть уцелеет хоть один ковчег, плывущий по бушующей стихии, — птицы опустятся на него, уцелеют с ним, вместе с ним будут присутствовать при убыли воды, и новый мир, который возникнет из хаоса, пробуждаясь, увидит, как над ним парит крылатая и живая мысль мира затонувшего.
И когда убеждаешься в том, что этот способ выражения мысли является не только самым надежным, но и более простым, наиболее удобным, наиболее доступным для всех; когда думаешь о том, что он не связан с громоздкими приспособлениями и не требует тяжеловесных орудий; когда сравниваешь ту мысль, которая для воплощения в здание вынуждена была приводить в движение четыре или пять других искусств, целые тонны золота, целую гору камней, целые леса стропил, целую армию рабочих, — когда сравниваешь ее с мыслью, принимающей форму книги, для чего достаточно иметь небольшое количество бумаги, чернила и перо, то можно ли удивляться тому, что человеческий разум предпочел книгопечатание зодчеству? Пересеките внезапно первоначальное русло реки каналом, прорытым ниже ее уровня, и река покинет старое русло.
Заметьте, как с момента изобретения печатного станка постепенно нищает, чахнет и увядает зодчество. Вы чувствуете, что вода в этом русле идет на убыль, что жизненных сил в нем не стало, что мысль веков и народов уклоняется от него! Это охлаждение к зодчеству в XV веке еще еле заметно, так как печатное слово не окрепло, и самое большее, на что оно способно, это оттянуть у могучего зодчества лишь избыток его жизненных сил. Но уже с XVI столетия болезнь зодчества вполне очевидна: оно перестает быть главным выразителем основных идей общества; оно жалким образом ищет опоры в искусстве классическом. Галльское, европейское, самобытное — оно делается греческим и римским; правдивое и современное — оно становится ложноклассическим. Именно эту эпоху упадка именуют эпохой Возрождения. Упадок, впрочем, блистательный, ибо древний готический гений, это солнце, закатившееся за гигантский печатный станок Майнца, еще некоторое время пронизывает своими последними лучами смешанное нагромождение латинских аркад и коринфских колоннад.
И вот это заходящее солнце мы принимаем за утреннюю зарю.
Однако с той минуты, как зодчество сравнялось с другими искусствами, с той минуты, как оно перестало быть искусством всеобъемлющим, искусством господствующим, искусством тираническим, оно уже не в силах сдерживать развитие прочих искусств. И они освобождаются, разбивают ярмо зодчего и устремляются каждое в свою сторону. Каждое из них от этого расторжения связи выигрывает. Самостоятельность содействует росту. Резьба становится ваянием, роспись — живописью, литургия[206] — музыкой. Это как бы расчленившаяся после смерти своего Александра[207] империя, каждая провинция которой превратилась в отдельное государство.
Вот что породило Рафаэля, Микеланджело, Жана Гужона[208], Палестрину[209] — этих светочей лучезарного XVI века.
Одновременно с искусством освобождается и человеческая мысль. Ересиархи[210] Средневековья пробили уже широкие бреши в католицизме. Шестнадцатый век окончательно сокрушает единство Церкви. До книгопечатания Реформация была бы лишь расколом; книгопечатание превратило ее в революцию. Уничтожьте печатный станок — и ересь обессилена. По предопределению ли свыше или по воле рока, но Гутенберг является предтечей Лютера.
Когда солнце Средневековья окончательно закатилось и гений готики навсегда померк на горизонте искусства, зодчество все более и более тускнеет, обесцвечивается и отступает в тень. Печатная книга, этот древоточец зданий, сосет его и гложет. Подобно дереву, оно оголяется, теряет листву и чахнет на глазах. Оно скудно, оно убого, оно — ничто. Оно уже больше ничего не выражает, даже воспоминаний об искусстве былых времен. Предоставленное собственным силам, покинутое остальными искусствами, ибо и мысль человеческая покинула его, оно призывает себе на помощь ремесленников, за недостатком мастеров. Витраж заменяется простым окном. За скульптором приходит каменотес. Прощайте сила, своеобразие, жизненность, осмысленность! Словно жалкая попрошайка, влачит оно свое существование при мастерских, пробавляясь копиями. Микеланджело, уже в XVI веке несомненно почуявший, что оно гибнет, был озарен последней идеей, идеей отчаяния. Этот титан искусства нагромождает Пантеон на Парфенон и создает собор Святого Петра в Риме. Это величайшее творение искусства, заслуживающее того, чтобы остаться неповторимым, последний самостоятельный образчик зодчества, последний росчерк колосса художника на исполинском каменном списке, у которого нет продолжения. Микеланджело умирает, и что же делает это жалкое зодчество, пережившее само себя в виде какого-то призрака, тени? Оно принимается за собор Святого Петра в Риме, рабски воспроизводит его, подражает ему. Это превращается в манию и вызывает жалость. У каждого столетия есть свой собор Святого Петра: в XVII веке — это церковь Валь-де-Грас, в XVIII веке — церковь Святой Женевьевы. У каждой страны есть свой собор Святого Петра: у Лондона — свой, у Петербурга — свой. У Парижа их имеется даже два или три. Но все это — лишенное всякого значения завещание, последнее надоедливое бормотание одряхлевшего великого искусства, впадающего перед смертью в детство.
Если мы вместо тех отдельных характерных памятников, о которых мы только что упоминали, исследуем общий облик этого искусства за время от XVI до XVIII века, то заметим те же признаки упадка и худосочия. Начиная с Франциска II архитектурная форма зданий все более сглаживается, и из нее начинает выступать, подобно костям скелета на теле исхудавшего больного, форма геометрическая. Изящные линии художника уступают место холодным и неумолимым линиям геометра. Здание перестает быть зданием: оно не более как многогранник. И зодчество мучительно силится скрыть эту наготу. Вот греческий фронтон, который внедряется в римский, и наоборот. Это все тот же Пантеон в Парфеноне, все тот же собор Святого Петра в Риме. А вот кирпичные дома с каменными углами эпохи Генриха IV; вот Королевская площадь и площадь Дофина. Вот церкви эпохи Людовика XIII, тяжелые, приземистые, с плоскими сводами, неуклюжие, отягощенные куполами, словно горбами. Вот зодчество времен Мазарини, коллеж Четырех наций, скверная подделка под итальянцев. Вот дворцы Людовика XIV — длинные, суровые, холодные, скучные казармы, построенные для придворных. Вот, наконец, и эпоха Людовика XV с ее пучками цикория, червячками, бородавками и наростами, обезображивающими древнее зодчество, ветхое, беззубое, но все еще кокетливое. От Франциска II и до Людовика XV недуг возрастает в геометрической прогрессии. От прежнего искусства остались лишь кожа да кости. Оно умирает жалкой смертью.
А что же тем временем сталось с книгопечатанием? В него вливаются все жизненные соки, иссякающие в зодчестве. По мере того как зодчество падает, книгопечатание разбухает и растет. Весь запас сил, который человеческая мысль расточала на возведение зданий, ныне затрачивается ею на создание книг. Так, начиная с шестнадцатого столетия печать, сравнявшись в уровне со слабеющим зодчеством, вступает с ним в единоборство и убивает его. В семнадцатом она уже настолько могущественна, настолько победоносна, настолько упрочила свою победу, что в силах задать миру празднество великого литературного века. В восемнадцатом, после долгого отдыха при дворе Людовика XIV, она вновь хватается за старый меч Лютера, вооружая им Вольтера, и шумно устремляется на приступ той самой Европы, архитектурную форму выражения которой она уже уничтожила. К концу восемнадцатого века печать ниспровергла все старое. В девятнадцатом столетии она начинает строить заново.
Итак, спросим себя теперь: которое же из двух искусств является за последние три столетия подлинным представителем человеческой мысли? Которое из них передает ее? Которое выражает не только ее литературные и схоластические увлечения, но и все ее движение, во всей его широте, глубине и охвате? Которое из них неизменно, непрерывно, постоянно идет в ногу с движущимся вперед родом человеческим, этим тысяченогим чудовищем? Зодчество или книгопечатание? Конечно, книгопечатание.
Не следует заблуждаться: зодчество умерло, умерло безвозвратно. Оно убито печатной книгой; убито, ибо оно менее прочно; убито, ибо обходится дороже. Каждый собор — это миллиард. Представьте же себе теперь, какие понадобились бы громадные затраты, чтобы снова написать эту книгу зодчества; чтобы на земле вновь возникли тысячи зданий, чтобы вернуться к тому времени, когда количество архитектурных памятников было таково, что, по словам очевидца, «казалось, мир, отряхнувшись, сбросил с себя свои старые одежды и облекся в белые церковные ризы». Erat enim lit si mundus, ipse excutiendo semet rejecta vetustate, candidam ecclesiarum vestem indueret. (Glaber Radulphus.)
А книга создается так быстро, она так дешево стоит и ее так легко распространить! Неудивительно, что всякая человеческая мысль устремляется по этому склону! Это не значит, что зодчество не может создать то здесь, то там великолепные памятники, отдельные образцы искусства. Время от времени, даже при господстве книгопечатания, конечно, будут появляться колонны, воздвигнутые из сплава пушек при помощи целой армии, подобно тому как при господстве зодчества целый народ, собирая и сливая воедино отдельные отрывки, создавал Илиады, Романсеро, Махабхараты[211] и Нибелунгов[212]. Великая случайность может породить и в двадцатом столетии гениального зодчего, подобно тому как она породила в тринадцатом веке Данте. Но отныне зодчество более не будет искусством общественным, искусством коллективным, искусством преобладающим. Великая поэма, великое здание, великое творение человечества уже не будет строиться: оно будет печататься.
И впредь, если зодчество случайно и воспрянет, то никогда оно уж не будет властелином. Оно подчинится правилам литературы, для которой некогда само их устанавливало. Взаимоотношения обоих искусств резко изменятся. Несомненно, в эпоху зодчества поэмы, правда малочисленные, походили на его же собственные творения. В Индии — поэмы Виаза сложны, своеобразны и непроницаемы, как пагода; на египетском Востоке — поэзии, как и зданиям, свойственны благородные и бесстрастные линии; в античной Греции — красота, ясность и спокойствие; в христианской Европе — величие католицизма, простодушие народа, богатый и пышный расцвет эпохи обновления. В Библии есть сходство с пирамидами, в Илиаде — с Парфеноном, в Гомере — с Фидием. Данте в тринадцатом столетии — это последняя романская церковь; Шекспир в шестнадцатом — последний готический собор.
Итак, чтобы в немногих словах повторить самое существенное из всего того, о чем мы доселе по необходимости говорили неполно и бегло, мы скажем, что роду человеческому принадлежат две книги, две летописи, два завещания: зодчество и книгопечатание, Библия каменная и Библия бумажная. Бесспорно, когда сравниваешь эти две Библии, так широко раскрытые в веках, то невольно сожалеешь о неоспоримом величии гранитного письма, об этом исполинском алфавите, принявшем форму колоннад, пилонов и обелисков, об этом подобии гор, сложенных руками человека, покрывающих все лицо земли и охраняющих прошлое, — от пирамиды до колокольни, от времени Хеопса до даты создания Страсбургского собора. Следует перечитывать прошлое, записанное на этих каменных страницах. Надо неустанно перелистывать эту книгу, созданную зодчеством, и восхищаться ею, но не должно умалять величия здания, воздвигаемого, в свою очередь, книгопечатанием.
Это строение необозримо. Какой-то статистик вычислил, что если наложить одна на другую все книги, которые печатались со времен Гутенберга, то ими можно заполнить расстояние от Земли до Луны; но мы не намереваемся говорить о величии такого рода. И все же когда мы пытаемся мысленно представить себе общую картину того, что дало нам книгопечатание вплоть до наших дней, то разве не возникает перед нами вся совокупность его творений как исполинское здание, над которым неустанно трудится человечество и которое основанием своим опирается на весь земной шар, а чудовищной вершиной уходит в непроницаемый туман грядущего? Это какой-то муравейник умов. Это улей, куда золотистые пчелы воображения приносят свой мед.
В этом здании тысячи этажей. То тут, то там на их площадки выходят сумрачные пещеры науки, пересекающиеся в его недрах. Повсюду на наружной стороне здания искусство щедро разворачивает перед нашими глазами свои арабески, свои розетки, свою резьбу. Здесь каждое отдельное произведение, каким бы причудливым и обособленным оно ни казалось, занимает свое место, свой выступ. Здесь все источает гармонию. Начиная с собора Шекспира и кончая мечетью Байрона тысячи колоколенок громоздятся как попало в этой метрополии всемирной мысли. У самого подножия здания воспроизведены некоторые не запечатленные зодчеством древние грамоты человечества. Налево от входа вделан античный барельеф из белого мрамора — это Гомер; направо многоязычная Библия возвышает свои семь голов. Дальше щетинится гидра Романсеро и некоторые другие смешанные формы, Веды и Нибелунги.
Впрочем, чудесное здание все еще остается незаконченным. Печать, этот гигантский механизм, безостановочно выкачивающий все умственные соки общества, неустанно извергает из своих недр новые строительные материалы для своего творения. Род человеческий — весь на строительных лесах. Каждый ум — это каменщик. Самый смиренный из них заделывает поручаемую ему щель или кладет свой камень — даже Ретиф де ла Бретонн[213] тащит сюда свою корзину, полную строительного мусора. Ежедневно вырастает новый ряд каменной кладки. Независимо от отдельного, самостоятельного вклада каждого писателя имеются и доли, вносимые сообща. Восемнадцатый век дал «Энциклопедию»[214], эпоха революции создала «Монитёр»[215].
Поистине печать — это тоже сооружение, растущее и взбирающееся ввысь бесконечными спиралями; в ней такое же смешение языков, беспрерывная деятельность, неутомимый труд, яростное соревнование всего человечества; в ней — обетованное убежище для мысли на случай нового всемирного потопа, нового нашествия варваров. Это вторая Вавилонская башня рода человеческого.
Книга VI
Глава 1
Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру
В 1482 году от Рождества Христова благородный Ро-бер д´Эстутвиль, рыцарь, сьёр де Бейн, барон д´Иври и Сент-Андри в Л а-Марш, советник и камергер короля, он же парижский прево, был вполне счастливым человеком. Прошло уже почти семнадцать лет с тех пор, как он 7 ноября 1465 года, то есть в самый год появления кометы[216] получил от короля эту славную должность, которая слыла скорее вотчиной, чем службой, — dignitas, quae cum поп exigua potestate politiam concernente, atque praerogativis multis et juribus conjuncta est[217], — говорит Иоанн Лемней. В 1482 году странно было видеть на королевской службе дворянина, назначение на должность которого относится ко времени бракосочетания побочной дочери короля Людовика XI с незаконнорожденным сыном герцога Бурбонского. Когда Робер д´Эстутвиль заместил мессира Жака де Вилье в звании парижского прево, в тот же день мэтр Жеан Дове занял место Эли де Торета, первого председателя судебной палаты; Жеан Жувенель вытеснил из должности верховного судьи Франции Пьера де Морвилье, а Реньо де Дорман обманул все упования Пьера Пюи, мечтавшего о месте постоянного докладчика при королевском суде, заняв его сам. Вот сколько людей сменилось в званиях председателя, верховного судьи и докладчика, с тех пор как Робер д´Эстутвиль стал парижским прево!
Его должность была ему вручена «на хранение» — так гласила королевская грамота. И точно, он зорко охранял ее. Он вцепился в нее, он врос в нее, он настолько отождествил себя с нею, что сумел устоять против той мании смен, которая владела Людовиком XI, этим недоверчивым, сварливым и деятельным королем, стремившимся при помощи частых назначений и смещений сохранить свободу своей власти. Мало того, славный рыцарь добился для сына наследования после него этой должности, и вот уже два года, как имя дворянина Жака д´Эстутвиля, кавалера, красуется рядом с именем отца во главе списка постоянных членов парижского городского суда. Редкостная и безусловно необычная милость! Правда, Робер д´Эстутвиль был храбрым воином, он мужественно поднял рыцарское знамя против Лиги общественного блага и преподнес королеве в день ее вступления в Париж, в 14… году, отменно великолепного сахарного оленя. К тому же он был в наилучших отношениях с мессиром Тристаном Отшельником, председателем королевского суда.
Сладостно и привольно протекала жизнь мессира Робера. Во-первых, он получал очень большое жалованье, к которому прибавлялись, точно лишние тяжелые гроздья в его винограднике, доходы с канцелярий при гражданских и уголовных судах всего судебного округа, затем доходы с гражданских и уголовных дел, разбирающихся в нижних судебных залах Шатле, не считая некоторых незначительных дорожных сборов с мостов Мант и Корбейль, налогов со сборщиков винограда, меряльщиков дров и весовщиков соли.
Добавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в сопровождении целой свиты общинных старост и квартальных надзирателей, одетых в платье наполовину красного, наполовину коричневого цвета, и красоваться среди них своим мундиром и шлемом, помятым в битве при Монлери, изображения которых вы еще и доныне можете видеть на его гробнице в Вальмонтанском аббатстве в Нормандии. А кроме того, разве не малое удовольствие иметь в полном подчинении городскую стражу, привратника и караул Шатле, двух членов суда Шатле, auditores Castelleti, шестнадцать комиссаров шестнадцати кварталов, тюремщика Шатле, четырех ленных сержантов, сто двадцать конных сержантов, сто двадцать сержантов-жезлоносцев, начальника ночного дозора со всеми его подчиненными? А разве пустяки — вершить правосудие, разрешать все гражданские и уголовные дела, иметь право привода, право выставлять к позорному столбу и вешать, не считая права разбирательства мелких дел в первой инстанции (in prima instantia, как сказано в хартиях) в этом парижском виконтстве, которому столь почетно пожаловали семь дворянских судебных округов? Можно ли вообразить себе что-нибудь более приятное, чем чинить суд и расправу, как это ежедневно делал мессир д´Эстутвиль, заседая в Гран-Шатле, под сенью широких и приземистых сводов эпохи Филиппа-Августа? А какое удовольствие возвращаться ежевечерне в свой очаровательный домик на Галилейской улице, за оградой королевского дворца, полученный им в приданое за женой, г-жой Амбруазой де Лоре, и отдыхать там от трудов, состоявших в том, что он обрекал какого-нибудь горемыку на ночевку в «маленькой хижинке на Живодерной улице, которой судьи и общинные старосты Парижа обычно пользовались как тюрьмой, — а таковая имела одиннадцать футов в длину, семь футов четыре дюйма в ширину и одиннадцать футов в вышину!»[218].
Мессир Робер д´Эстутвиль властвовал не только в судебном ведомстве по праву прево и виконта парижского, но запускал глаза и зубы в дела верховного королевского суда. Не было ни одного сколько-нибудь высокопоставленного лица, которое, прежде чем достаться палачу, не прошло бы через его руки. Это он отправился за герцогом Немурским в Бастилию к Сент-Антуанскому предместью, чтобы доставить его оттуда на площадь Главного рынка, и за г-ном де Сен-Поль, чтобы доставить его на Гревскую площадь, причем последний кричал и отбивался, к великому удовольствию господина прево, который недолюбливал господина коннетабля.
Всего этого, конечно, было более чем достаточно, чтобы сделать жизнь человека счастливой и блистательной и чтобы впоследствии обеспечить ему знаменательную страничку в той любопытной истории парижских прево, из которой можно узнать, что Удард де Вильнев имел собственный дом на Мясницкой улице, что Гильом де Ангаст купил Большую и Малую Савойю, что Гильом Тибу завещал монахиням общины Святой Женевьевы свои дома на улице Клопен, что Гюг Обрио проживал в гостинице Дикобраза, и много других бытовых подробностей.
Однако, несмотря на то что мессир Робер д´Эстутвиль имел все основания относиться к жизни спокойно и радостно, он проснулся в утро 7 января 1482 года в очень угрюмом расположении духа. Откуда взялось это настроение, он и сам не сумел бы сказать. Потому ли, что пасмурно было небо? Потому ли, что пряжка его старой портупеи времен Монлери[219] плохо была застегнута, слишком туго, по-военному, стягивая его дородную, как у всех прево, фигуру? Потому ли, что мимо его окон прошли выказавшие ему неуважение гуляки, шествовавшие по четыре в ряд, в одних куртках без рубашек, с продырявленными шляпами, с котомками и фляжками у пояса? А может статься, его томило смутное предчувствие того, что будущий король Карл VIII должен будет в следующем году урезать доходы парижского прево на триста семьдесят ливров шестнадцать солей и восемь денье? Пускай читатель решит это сам; мы же склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе.
Впрочем, сегодня, после вчерашнего праздника, был скучный день для всех, а в особенности для чиновника, обязанного убирать все нечистоты как в переносном, так и в буквальном смысле, оставляемые всяким празднеством в Париже. Кроме того, ему предстояло заседать в Гран-Шатле, а мы заметили, что обычно судьи всегда подгоняют свое дурное расположение духа к дням судебных заседаний, чтобы всегда иметь кого-нибудь под рукой, на ком можно было бы безнаказанно сорвать сердце именем короля, закона и правосудия.
Между тем заседание началось без него. Его заменяли помощники по уголовным, гражданским и частным делам. Уже с восьми часов утра несколько десятков горожан и горожанок, скученных и стиснутых в темном углу между крепкой дубовой перегородкой и стеною нижнего зала заседаний Шатле, разинув рты от изумления, присутствовали при разнообразном и развлекательном зрелище гражданского и уголовного правосудия, чинимого вперемежку, как придется, мэтром Флорианом Барбедьеном — младшим судьей Шатле и помощником господина прево.
Зал был небольшой, низкий и сводчатый. В глубине его стоял украшенный изображениями королевских гербов стол с громадным креслом резного дуба, предназначенным для прево и в данное время не занятым, а влево от него — скамья для младшего судьи, мэтра Флориана. Несколько ниже сидел что-то строчащий протоколист; напротив — толпа, а перед дверью и перед столом — множество судейских в лиловых камлотовых полукафтаньях с белыми крестами на груди. Два сержанта городского совета общинных старост, одетые в наполовину красные, наполовину голубые стеганые камзолы, стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала, позади стола. Единственное узкое стрельчатое окно, прорезанное в толстой стене, тусклым светом январского дня освещало две забавные фигуры: причудливого каменного демона, который свисал из самого центра свода, и судью, который восседал в глубине зала среди королевских лилий, украшавших его стол.
Вообразите себе фигуру, склонившуюся, тяжело опираясь на локти, над судейским столом, между двух связок судебных дел, с шлейфом гладкого коричневого одеяния под ногами, с багровым, бугристым лицом, утонувшим в белом барашковом воротнике, два клочка которого, казалось, заменяли на нем брови; вообразите моргающие глаза, величественно свисающие толстые щеки, которые как бы встречались под подбородком, — и перед вами мэтр Флориан Барбедьен, младший судья Шатле.
Прибавьте к этому, что он был глух. Порок для судьи, впрочем, малосущественный. Это не мешало мэтру Флориану выносить весьма определенные и безапелляционные решения. Ведь судье достаточно только делать вид, будто он слушает, а почтенный законник вполне удовлетворял этому условию каждого нелицеприятного суда, так как внимание его не нарушалось никаким посторонним шумом.
Однако в зале суда присутствовал один наблюдатель, который безжалостно высмеивал все его поступки и жесты. Это был наш друг Жеан Мельник, вчера еще школяр, «шныряла», которого во всякое время можно было встретить в любом уголке Парижа, но только не перед профессорской кафедрой.
— Смотри, — шепотом обратился он к своему спутнику Робену Пуспену, ухмылявшемуся на его комментарии по поводу всего, что происходило у них перед глазами, — вот Жанетта де Бюисон, хорошенькая дочка лежебоки с Нового рынка! Клянусь душой, он ее осудил, этот старикашка! Да он, кажется, не только оглох, но и ослеп. Пятнадцать солей четыре парижских денье штрафа за то, что она нацепила на себя пару четок! Дороговато! Lex duri carminis[220]. А это кто такой? А! Робен Шьеф де Виль, кольчужный мастер. «По случаю получения им звания мастера и принятия его в вышеозначенный цех». Это он платит свой вступительный взнос! Что это? Два дворянина среди этих бездельников! Эгле де Суан и Ютен де Мальи! Два кавалера, клянусь телом Христовым! А, вот оно что! Они попались за игрой в кости! Когда же я увижу здесь нашего ректора? Сто парижских ливров штрафа в пользу короля! Этот Барбедьен лупит здорово! Впрочем, так и подобает глухому. Пусть я превращусь в моего братца-архидьякона, если это может мне помешать играть; играть днем, играть ночью, жить за игрой, умереть за игрой и, проиграв последнюю рубашку, поставить на карту душу! Пречистая Дева, а девок-то, девок! Так и идут, овечки мои, одна за другой! Амбруаза Лекюйер, Изабо ла Пейнет, Берарда Жиронен! Ей-богу, всех знаю! Штраф! Штраф! То-то, сейчас вам покажут, как красоваться в золоченых кушаках! Десять парижских солей, щеголихи! Ах ты, старая судейская морда, глухарь полоумный! Ах ты, Флориан, пентюх! Ах ты, Барбедьен, невежа! Ишь как расселся у стола! Он жрет истцов, жрет дела, он жрет, он жует, он давится, он до отказу набивает себе брюхо. Штрафы, доход от бесхозяйственного имущества, налоги, пени, судебные издержки, вознаграждение, протори и убытки, пытка, тюрьма и темница, кандалы с взысканием издержек — все это для него святочные пряники и марципаны Иванова дня! Погляди-ка на этого борова! Ого, еще одна жрица любви! Не более и не менее как сама Тибо ла Тибод. Попалась за то, что вышла за пределы улицы Глатиньи! А что это за парень? Жифруа Мабон, конник стрелковой команды. Он все поминал Господа Бога. Оштрафовать ла Тибод! Оштрафовать Жифруа! Оштрафовать обоих! Старый глухарь! Он, должно быть, перепутал эти дела! Ставлю десять против одного, что девицу он заставит платить за божбу, а конника за любовь! Внимание, Робен Пуспен! Кого это они ведут? Смотри, сколько стражи! Клянусь Юпитером, тут вся свора гончих! Видимо, поймали красного зверя. Вроде кабана! Кабан, Робен, как есть кабан! Да еще какой матерый! Клянусь Геркулесом, это же наш вчерашний владыка, наш папа шутов, наш звонарь, наш кривой, наш горбун, наш гримасник! Это же Квазимодо!
Действительно, это был он.
Это был Квазимодо, связанный, скрученный, в путах и оковах, под сильным конвоем. Окружавшую его стражу возглавлял сам начальник ночного дозора, грудь которого была украшена вышитым гербом Франции, а спина — гербом Парижа. Впрочем, в самом Квазимодо не было ничего, за исключением его уродства, что оправдывало бы весь этот набор алебард и аркебуз. Он был мрачен, молчалив и спокоен. Лишь изредка его единственный глаз бросал гневный и угрюмый взгляд на сковывающие его путы.
Он осмотрелся кругом, и его взгляд стал таким безжизненным и сонным, что женщины указывали на звонаря пальцем, только чтобы посмеяться над ним.
Тем временем мэтр Флориан, младший судья, внимательно перелистывал поданное ему протоколистом дело, возбужденное против Квазимодо; бегло просмотрев его, он помолчал, как бы собираясь с мыслями. Благодаря этой предосторожности, к которой он неизменно прибегал, прежде чем приступить к допросу, он всегда заранее знал имя, звание, проступок подсудимого, готовил наперед возражения на предполагаемые ответы и таким образом благополучно выпутывался изо всех затруднений допроса, не слишком обнаруживая свою глухоту. Документы, приложенные к делу, были для него тем же, чем собака-поводырь для слепого. Если ему порой и случалось благодаря неуместному замечанию или бессмысленному вопросу обнаружить свой недостаток, то у одних это сходило за глубокомыслие, а у других — за глупость; но и в том и в другом случае честь суда никак не была затронута, ибо лучше судье слыть глубокомысленным или глупым, нежели глухим. Поэтому он тщательно скрывал свою глухоту и большей частью настолько успевал в этом, что под конец сам себя вводил в заблуждение, что, впрочем, делается гораздо легче, чем думают. Все горбатые ходят с высоко поднятой головой, все заики ораторствуют, все глухие говорят шепотом. Что же касается мэтра Флориана, то он считал себя всего лишь туговатым на ухо. Это была та единственная уступка, которую он делал общественному мнению, и то лишь в минуты откровенности и трезвой оценки собственной личности.
Итак, прожевав как следует дело Квазимодо, он откинул голову назад и полузакрыл глаза, чтобы придать себе более величественный и более беспристрастный вид. Таким образом, он оказался глухим и слепым одновременно. Вот условие, необходимое для того, чтобы быть образцовым судьей. Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу:
— Ваше имя?
Но здесь возник казус, не «предусмотренный законом»: глухой допрашивал глухого.
Никем не предупрежденный о том, что к нему обращаются с вопросом, Квазимодо продолжал пристально глядеть на судью и молчал. Глухой судья, никем не предупрежденный о глухоте обвиняемого, подумал, что тот ответил, как обычно отвечают все обвиняемые, и продолжал вести допрос с присущей ему дурацкой самоуверенностью:
— Прекрасно. Ваш возраст?
Квазимодо и на этот вопрос не ответил. Судья, убежденный в том, что получил ответ, продолжал:
— Так. А ваше звание?
Все то же молчание. А между тем слушатели начали перешептываться и переглядываться.
— Достаточно, — проговорил невозмутимый вершитель правосудия, предполагая, что обвиняемый ответил и на третий вопрос — Вы обвиняетесь: primo[221], в нарушении ночной тишины; secundo[222], в насильственных и непристойных действиях по отношению к женщине легкого поведения, in praejudicium meretricis[223]; tertio[224], в бунте и неподчинении стрелкам, состоящим на службе короля, нашего повелителя. Выскажитесь по всем этим пунктам. Протоколист, вы записали все предыдущие ответы подсудимого?
При этом злополучном вопросе по всему залу, начиная со скамьи протоколиста, раздался такой неистовый, такой безумный, такой заразительный, такой дружный хохот, что даже и глухой судья и глухой подсудимый поневоле заметили это. Квазимодо оглянулся, презрительно поводя своим горбом; между тем мэтр Флориан, не менее удивленный, чем он, возымел предположение, что смех слушателей был вызван каким-нибудь непочтительным ответом обвиняемого; презрительное движение плеч Квазимодо утвердило его в этой мысли, и он с возмущением накинулся на него:
— Негодяй! Подобный ответ заслуживает виселицы! Знаете ли вы, с кем говорите?
Этот выпад только увеличил приступ всеобщего веселья. Он показался всем до того неожиданным и до того несуразным, что бешеный хохот заразил даже и сержантов городского совета общинных старост — эту породу копьеносцев, тупоумие которых было как бы необходимой принадлежностью их мундира. Один лишь Квазимодо, по той простой причине, что не мог ничего понять из всего происходившего, сохранял невозмутимую серьезность. Судья, раздражаясь все сильнее и сильнее, решил продолжать в том же тоне, надеясь нагнать страх на подсудимого и этим способом косвенно воздействовать на слушателей, напомнив им о должном уважении к суду:
— Ах ты, разбойник, чудовище извращенности, так ты еще издеваешься над судьей Шатле, над сановником, коему вверена охрана порядка в Париже, над тем, на кого возложена обязанность расследовать преступления, карать за проступки и распутство, иметь надзор за всеми промыслами и не допускать никаких монополий, содержать в порядке мостовые, пресекать торговлю в разнос домашней и водяной птицей и дичью, следить за правильной мерою дров и других лесных материалов, очищать город от нечистот, а воздух — от заразных заболеваний, — одним словом, неусыпно заботиться о народном благе, и все это безвозмездно, не рассчитывая на вознаграждение! Известно ли тебе, что мое имя — Флориан Барбедьен, что именно я являюсь заместителем господина прево и, кроме того, комиссаром, следователем, контролером и допросчиком и что я одинаково пользуюсь влиянием как в суде парижском, так и в областном, и в делах надзора, и в судах первой инстанции?..
Нет причины, которая заставила бы замолчать глухого, говорящего с другим глухим. Бог весть где и когда достиг бы берега мэтр Флориан, пустившийся на всех парусах в океан высокого красноречия, если бы в эту минуту низкая дверь, находившаяся в глубине комнаты, внезапно не распахнулась, пропуская самого господина прево.
При его появлении мэтр Флориан не запнулся, но, сделав полуоборот на каблуках, сразу обратил свою речь, которою он за минуту перед тем грозил Квазимодо, к господину прево.
— Монсеньор, — сказал он, — я требую по отношению к присутствующему здесь подсудимому того наказания, какое вам будет угодно назначить за нанесенное им тяжелое и неслыханное оскорбление суду.
И, запыхавшись, он снова уселся на свое место, отирая крупные капли пота, скатывавшиеся со лба и увлажнявшие, подобно слезам, разложенные перед ним на столе бумаги. Мессир Робер д´Эстутвиль нахмурил брови и сделал такой величественный, многозначительный и призывающий к вниманию жест, что глухой начал кое-что соображать.
— Отвечай, негодяй, — строго обратился к нему прево, — какое преступление привело тебя сюда?
Бедняга, полагая, что прево спрашивает, как его имя, нарушил свое обычное молчание и ответил гортанным и хриплым голосом:
— Квазимодо.
Ответ до того мало соответствовал вопросу, что снова поднялся безумный хохот, а мессир Робер, побагровев от гнева, закричал:
— Да ты что, и надо мной тоже потешаешься, мерзавец ты этакий!
— Звонарь собора Парижской Богоматери, — ответил Квазимодо, думая, что ему надлежит объяснить судье род своих занятий.
— Звонарь! — продолжал судья, который, как мы упоминали ранее, проснулся в это утро в таком скверном расположении духа, что и без таких странных ответов подсудимого готов был распалиться гневом. — Звонарь! Вот я тебе задам трезвону прутьями по спине! Слышишь ты, негодяй?
— Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, — сказал Квазимодо, — то, кажется, в день Святого Мартина мне исполнится двадцать лет.
Это было уже слишком — прево вышел из себя.
— А! Ты измываешься и над прево! Господа сержанты-жезлоносцы, отведите этого мошенника к позорному столбу на Гревской площади, отстегайте его и покружите-ка его часок на колесе. Клянусь Господом Богом, он мне дорого заплатит за свою дерзость! Я требую, чтобы о настоящем приговоре были оповещены с помощью четырех глашатаев все семь округов парижского виконтства.
Протоколист тотчас же принялся составлять судебный приговор.
— Клянусь Господним брюхом! Вот так правильно рассудил! — крикнул из своего угла школяр Жеан Фролло Мельник.
Прево обернулся и вновь устремил на Квазимодо свой сверкающий взгляд.
— Мне послышалось, что этот пройдоха помянул Господне брюхо? Протоколист, добавьте к приговору еще штраф в двенадцать парижских денье за богохульство, и пускай половина этого штрафа будет отдана церкви Святого Евстафия. Перед этим святым я испытываю особое благоговение.
В несколько минут приговор был готов. Содержание его было несложно и кратко. Старое обычное право, лежавшее в основе судопроизводства прево и парижского виконтства, не было еще в те времена усовершенствовано председателем суда Тибо Балье и Роже Барном, королевским прокурором. Высокоствольный лес крючкотворства и формальностей, насажденный в начале XVI века этими двумя законниками, еще не загромождал его. Все в этом праве было ясно, недвусмысленно и быстро выполнимо. Тогда шли прямо к цели и сейчас же, в конце каждой тропинки, лишенной поворотов и зарослей кустарника, видели колесование, позорный столб и виселицу. По крайней мере, каждый знал, что его ждет впереди.
Протоколист подал постановление суда господину прево, и тот, приложив к нему свою печать, вышел, продолжая свой обход по залам судебных заседаний, в таком расположении духа, при котором следовало ожидать, что все тюрьмы Парижа окажутся в этот день переполненными. Жеан Фролло и Робен Пуспен смеялись втихомолку. Квазимодо на все происходившее глядел равнодушно и удивленно.
В то время как мэтр Флориан Барбедьен перечитывал приговор суда, чтобы скрепить его еще и своей подписью, протоколист, почувствовав сострадание к осужденному и в надежде добиться некоторого смягчения наказания, наклонился к самому уху судьи и, указывая на Квазимодо, проговорил:
— Этот человек глух.
Он полагал, что общность физического недостатка расположит мэтра Флориана в пользу осужденного. Но, как мы уже заметили, мэтр Флориан не желал, чтобы замечали его глухоту, а кроме того, он был настолько туг на ухо, что не услышал ни звука из того, что сказал ему протоколист; однако он хотел показать, что слышит, и ответил:
— Ах, вот как? Это меняет дело, этого я не знал. В таком случае прибавьте ему еще один час наказания у позорного столба.
И он подписал исправленный таким образом приговор.
— Так ему и надо, — проговорил Робен Пуспен, имевший зуб против Квазимодо, — это научит его поучтивее обходиться с людьми.
Глава 2
Крысиная нора
Да позволит нам читатель вновь привести его на Гревскую площадь, которую мы покинули накануне, с тем чтобы вместе с Гренгуаром последовать за Эсмеральдой.
Десять часов утра. Все кругом еще напоминает о вчерашнем празднике. Мостовая усеяна осколками, лентами, тряпками, перьями от султанов, каплями воска от факелов, объедками от народного пиршества. Там и сям довольно многочисленные группы праздношатающихся горожан ворошат ногами потухшие головни праздничных костров или, остановившись перед Домом с колоннами, с восторгом вспоминают украшавшие его вчера великолепные драпировки, ныне взирая лишь на гвозди — последнее оставшееся им развлечение. Среди толпы катят свои бочонки продавцы сидра и браги и деловито снуют взад и вперед прохожие. Стоя в дверях лавок, болтают и перекликаются торговцы. У всех на устах вчерашнее празднество, папа шутов, фламандское посольство, Копеноль; все наперебой сплетничают и смеются.
А между тем четыре конных сержанта, ставшие с четырех сторон позорного столба, уже успели привлечь к себе внимание довольно значительного количества шалопаев, толпящихся на площади и скучающих в надежде увидеть хоть какое-нибудь публичное наказание.
Теперь, если читатель, насмотревшись на эти оживленные и шумные сцены, которые разыгрываются во всех уголках площади, взглянет на древнее, полуготическое-полуроманское здание Роландовой башни, образующее на западной стороне площади угол с набережной, то в конце его фасада он заметит толстый, богато раскрашенный общественный Требник, защищенный от дождя небольшим навесом, а от воров — решеткой, не препятствующей, однако, его перелистывать. Рядом с этим Требником он увидит выходящее на площадь узкое слуховое стрельчатое оконце, перегороженное двумя положенными крест-накрест железными полосами; это единственное отверстие, сквозь которое проникает немного света и воздуха в тесную, лишенную дверей келью, устроенную в толще стены старого здания на уровне мостовой; царящая в ней мрачная тишина кажется особенно глубокой еще и потому, что рядом кипит и грохочет самая людная и шумная площадь Парижа.
Келья эта получила известность около трехсот лет назад, с тех пор как г-жа Роланд, владелица Роландовой башни, в знак скорби по отцу, погибшему в крестовых походах, приказала выдолбить ее в стене собственного дома и навеки заключила себя в эту темницу, отдав все свое богатство нищим и Богу, не оставив себе ничего, кроме этой конуры с замурованной дверью, с всегда раскрытым летом и зимой маленьким оконцем. Двадцать лет неутешная девица ждала смерти в этой преждевременной могиле, молясь денно и нощно о спасении души своего отца, почивая на куче золы, не имея даже камня под головою, облаченная в черное вретище; она питалась хлебом и водой, которые сердобольные прохожие оставляли на выступе ее окна, — так вкушала она от того милосердия, которое ранее сама оказывала. В смертный свой час, прежде чем перейти в вечную могилу, она завещала свою временную усыпальницу тем скорбящим женщинам, матерям, вдовам или дочерям, которые пожелают, предавшись великой скорби или великому раскаянию, схоронить себя заживо в этой келье, чтобы молиться за себя или за других.
Парижская беднота устроила ей пышные похороны, богатые слезами и благословениями; но, к величайшему прискорбию всех ее приверженцев, богобоязненная девица не была сопричислена к лику святых за неимением необходимого покровительства. Менее благочестивые надеялись, что это дело пройдет в раю глаже, чем в Риме, и просто молились за покойницу, которой Папа не воздал должного. Большинство же верующих удовлетворялись тем, что свято чтили память г-жи Роланд и как святыню берегли кусочки ее лохмотьев. Город, в свою очередь, в память знатной девицы прикрепил рядом с оконцем ее кельи общественный Требник, дабы прохожие могли останавливаться около него и помолиться, дабы молитва наводила их на мысль о милосердии и дабы бедные затворницы, наследницы г-жи Роланд, не погибали от голода, позабытые всеми.
В городах Средневековья подобного рода гробницы встречались нередко. Даже на самых людных улицах, на самом оглушительном и пестром рынке, в самой его середине, чуть ли не под копытами лошадей и колесами повозок, можно было наткнуться на нечто вроде погреба, колодца или же на замурованную, зарешеченную конуру, в глубине которой днем и ночью возносило молитвы человеческое существо, добровольно обрекшее себя на вечные стенания, на тяжкое покаяние.
Но людям того времени были несвойственны все те размышления, которые вызвало бы в нас ныне это странное зрелище. Эта жуткая келья, представлявшая собой как бы промежуточное звено между домом и могилой, между кладбищем и городом; это живое существо, отрешенное от человеческого общества и считающееся мертвецом; этот светильник, снедающий во мраке свою последнюю каплю масла; этот теплящийся в могиле огонек жизни; это дыхание, этот голос, это извечное моление из глубины каменного мешка; этот лик, навек обращенный к иному миру; это око, уже осиянное иным солнцем; это ухо, приникшее к могильной стене; эта душа — узница тела, это тело — узник этой темницы, и под этой двойной, телесной и гранитной, оболочкой — приглушенный ропот страждущей души, — ничто из всего этого не постигалось толпой. Нерассуждающее и грубое благочестие той эпохи проще относилось к религиозному подвигу. Люди воспринимали факт в целом, уважали, чтили, временами даже преклонялись перед подвигом самоотречения, но не вдумывались глубоко в страдания, сопряженные с ним, и не слишком им сочувствовали. Время от времени они приносили кое-какую пищу несчастному мученику и заглядывали к нему в окошечко, чтобы убедиться, что он еще жив, не ведая его имени и едва ли зная, как давно началось его умирание. А соседи, вопрошаемые приезжим об этом живом, гниющем в погребе скелете, просто отвечали: «Это затворник», если то был мужчина, или: «Это затворница», если то была женщина.
В те времена на все явления жизни смотрели подобным же образом: без метафизики, трезво, без увеличительного стекла, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен ни для явлений мира физического, ни для явлений мира духовного.
Вот почему случаи подобного добровольного затворничества в самом сердце города не вызывали удивления и, как мы только что упоминали, встречались довольно часто. В Париже насчитывалось немало таких келий для молитвы и покаяния, и почти все они были заняты. Правда, само духовенство радело о том, чтобы они не пустовали, — это служило бы признаком оскудения веры; и если не было кающегося, в них заточали прокаженного. Кроме этой келейки на Гревской площади существовала еще одна в Монфоконе, другая — на кладбище Невинных, еще одна — уж не помню где, кажется в стене жилища Клишон; сверх того — множество рассеянных в разных местах города других убежищ, след которых можно отыскать лишь в преданиях, так как самих убежищ уже более не существует. На Университетской стороне тоже была такая келья. А на горе Святой Женевьевы какой-то средневековый Иов в течение тридцати лет читал нараспев семь покаянных псалмов, сидя на гноище, в глубине водоема; окончив последний псалом, он снова принимался за первый, по ночам распевая громче, чем днем, — magna voce per umbras[225]. И поныне еще любителю древностей, сворачивающему на улицу Говорящего колодца, мерещится этот голос.
Что же касается кельи Роландовой башни, то мы должны заметить, что у нее никогда не было недостатка в затворницах. После смерти г-жи Роланд она редко пустовала больше года или двух. Немалое число женщин до самой своей смерти оплакивали в ней — кто родителей, кто любовников, кто прегрешения. Злоязычные парижане, любящие совать нос не в свое дело, утверждают, что вдов там видели мало.
По обычаю того времени, латинская надпись, начертанная на стене, предупреждала грамотного прохожего о благочестивом назначении этой кельи. Вплоть до середины XVI века сохранилось обыкновение разъяснять смысл здания кратким изречением, написанным над входной дверью. Так, например, во Франции над тюремной калиткой в феодальном замке Турвиль мы читаем слова: Sileto et spera[226]; в Ирландии, под гербом, увенчивающим главные ворота замка Фортескью: Forte scutum, salus ducum[227]; в Англии, над главным входом гостеприимного загородного дома графов Коуперов: Tuum est[228]. Ибо в те времена каждое здание выражало собою мысль.
Так как в замурованной келье Роландовой башни дверей не было, то над ее окном вырезали крупными романскими буквами два слова:
TU, ORA![229]
Народ, здравый смысл которого не видит нужды разбираться во всяких тонкостях и охотно переделывает арку Ludovico Magno[230] в «Ворота Сен-Дени», прозвал эту черную, мрачную и сырую дыру «Крысиная нора»[231]. Название менее возвышенное, но зато более образное.
Глава 3
Рассказ о маисовой лепешке
В ту пору, когда происходили описываемые события, келья Роландовой башни была занята. Ежели читателю угодно знать, кем именно, то ему достаточно будет только прислушаться к болтовне трех почтенных кумушек, которые в тот самый миг, когда мы остановили его внимание на Крысиной норе, направлялись в ее сторону, поднимаясь вдоль набережной от Шатле к Гревской площади.
Две из этих женщин были одеты так, как пристало одеваться почтенным парижским горожанкам. Их тонкие белые шейные косынки, юбки из грубого сукна в синюю и красную полоску, белые нитяные, туго натянутые чулки с вышитыми цветной ниткой стрелками, квадратные башмаки из желтой кожи с черными подошвами и в особенности их головные уборы — род расшитого мишурного рога, увешанного лентами и кружевами, которые еще и ныне носят крестьянки Шампани, соревнуясь в этом с гренадерами русской императорской лейб-гвардии, — свидетельствовали об их принадлежности к классу зажиточных купчих, представляющих нечто среднее между теми, кого лакеи называют просто «женщиной», и теми, кого они называют «дамой». На них не было ни колец, ни золотых крестиков, но легко было понять, что это не от бедности, а просто из боязни штрафа. Их спутница была одета приблизительно так же, как и они, но в ее одежде и во всех ее повадках было нечто такое, что изобличало в ней жену провинциального нотариуса. Уже по одному тому, как высоко она носила кушак, видно было, что она лишь недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку в складках, банты из лент на башмаках, полосы юбки, идущие в ширину, а не вдоль, и тысячу других погрешностей против хорошего вкуса.
Первые две женщины шли той особой поступью, которая свойственна парижанкам, показывающим Париж провинциалке. Провинциалка держала за руку толстого мальчугана, который в свою очередь держал в руке толстую лепешку. К нашему прискорбию, мы вынуждены присовокупить, что стужа заставляла его пользоваться языком вместо носового платка.
Ребенка приходилось тащить за собой поп passibus aequis[232], как говорит Вергилий[233], и он на каждом шагу спотыкался, вызывая окрики матери. Правда и то, что он чаще смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Несомненно, лишь весьма уважительная причина мешала ему откусить кусочек, и он довольствовался тем, что нежно взирал на нее. Но матери следовало бы взять на собственное попечение лепешку: жестоко было подвергать толстощекого карапуза танталовым мукам.
Все три «дамуазель» (ибо «дамами» в то время называли лишь женщин знатного происхождения) болтали наперебой.
— Поторопимся, дамуазель Майетта, — говорила, обращаясь к провинциалке, самая младшая и самая толстая из них. — Я очень боюсь, как бы нам не опоздать; в Шатле нам сказали, что его тотчас же поведут к позорному столбу.
— Вот еще! Что вы там болтаете, дамуазель Ударда Мюнье? — возражала другая парижанка. — Ведь он же целых два часа будет привязан к позорному столбу. Времени у нас достаточно. Вы когда-нибудь видели такого рода наказания, дорогая Майетта?
— Да, — ответила провинциалка, — в Реймсе.
— Вот еще! Воображаю, что такое ваш реймский позорный столб! Какая-нибудь жалкая клетка, в которой крутят одних лишь мужиков. Подумаешь, какая невидаль!
— «Одних мужиков»! — воскликнула Майетта. — Это на Суконном-то рынке! В Реймсе! Да там можно видеть просто замечательных преступников, даже таких, которые убивали мать или отца! «Мужиков»! За кого это вы нас принимаете, Жервеза?
Очевидно, провинциалка готова была яростно вступиться за честь реймского позорного столба. К счастью, благоразумная дамуазель Ударда Мюнье успела вовремя направить разговор по иному руслу.
— А кстати, дамуазель Майетта, что вы скажете о наших фламандских послах? Видели вы когда-нибудь подобное великолепие в Реймсе?
— Сознаюсь, — ответила Майетта, — что таких фламандцев можно увидать только в Париже.
— А заметили вы среди чинов посольства того рослого — посла, который назвал себя чулочником? — спросила Ударда.
— Да, — ответила Майетта, — это настоящий Сатурн[234].
— А того толстяка, у которого физиономия похожа на голое брюхо? — продолжала Жервеза. — И того низенького, с маленькими глазками и красными веками, лишенными ресниц и зазубренными, точно лист чертополоха?
— Самое красивое — это их лошади, убранные по фламандской моде, — заявила Ударда.
— О моя милая, — перебила ее провинциалка Майетта, чувствуя на этот раз свое превосходство, — а что бы вы сказали, если бы вам довелось увидеть в шестьдесят первом году, восемнадцать лет тому назад, в Реймсе, во время коронации, коней принцев и королевской свиты? Попоны и чепраки всех сортов: одни из дамасского сукна, из тонкой золотой парчи, подбитой соболями; другие — бархатные, подбитые горностаем; третьи — все в драгоценных украшениях, увешанные тяжелыми золотыми и серебряными кистями! А каких денег все это стоило! А красавцы пажи, которые сидели верхом!
— Все это может быть, — сухо заметила дамуазель Ударда, — но у фламандцев прекрасные лошади, и в честь посольства господин купеческий старшина дал блестящий ужин в городской ратуше, а за столом подавали засахаренные сласти, коричное вино, конфеты и прочие деликатесы.
— Что вы там болтаете, соседка! — воскликнула Жервеза. — Да ведь фламандцы ужинали у господина кардинала, в Малом Бурбонском дворце!
— Нет, в городской ратуше!
— Нет же, в Малом Бурбонском дворце!
— Нет, в городской ратуше, — со злостью возразила Ударда. — Еще доктор Скурабль обратился к ним с речью на латинском языке, которою они остались очень довольны. Мне сказал об этом мой муж, а он присяжный библиотекарь.
— Нет, в Малом Бурбонском дворце, — упорствовала Жервеза. — Еще эконом господина кардинала выставил им двенадцать двойных кварт белого, розового и красного вина, настоянного на корице, двадцать четыре ларчика двойных золоченых лионских марципанов, столько же свечей весом в два фунта каждая и полдюжины двухведерных бочонков белого и розового боннского вина, самого лучшего, какое только можно было найти. Это-то уж, надеюсь, бесспорно? Мне это все известно от моего мужа, состоящего пятидесятником в городском совете общинных старост: он даже нынче утром сравнивал фламандских послов с послами отца Жеана и императора Трапезундского, которые приезжали из Месопотамии в Париж еще при покойном короле и носили в ушах кольца.
— А все-таки они ужинали в городской ратуше, — ничуть не смущаясь пространными доводами Жервезы, возразила Ударда, — и там подавали такое количество жаркого и сластей, какого никогда еще не видели!
— А я вам говорю, что они ужинали в Малом Бурбонском дворце, но прислуживал им Ле Сек из городской стражи, и вот это-то вас и сбивает с толку.
— В ратуше, говорю я вам!
— В Малом Бурбонском, милочка! Я даже знаю, что слово «надежда» над главным входом было иллюминировано цветными фонариками.
— В городской ратуше! В городской ратуше! И Гюсон-ле-Вуар играл там на флейте!
— А я вам говорю, что нет!
— А я вам говорю, что да!
— А я говорю, что нет!
Добродушная толстая Ударда не думала уступать. Их головным уборам уже грозила опасность, но в эту минуту Майетта воскликнула:
— Глядите, сколько народу столпилось там, в конце моста! Они на что-то смотрят.
— Действительно, — сказала Жервеза, — я слышу бубен. Мне кажется, что это малютка Смеральда выделывает свои штучки с козой. Поторопитесь, Майетта, прибавьте шагу и тащите за собой вашего мальчугана. Вы приехали сюда, чтобы поглядеть на диковинки Парижа. Вчера вы видели фламандцев, нынче нужно поглядеть на цыганку.
— На цыганку! — воскликнула Майетта, круто поворачивая назад и крепко сжимая ручонку сына. — Боже меня избави! Она украдет у меня ребенка! Бежим, Эсташ!
И она бросилась бежать по набережной к Гревской площади и бежала до тех пор, пока мост не остался далеко позади. Ребенок, которого она волокла за собой, упал на колени, и она, запыхавшись, остановилась. Ударда и Жервеза нагнали ее.
— Цыганка украдет вашего ребенка? — спросила Жервеза. — Что за нелепая выдумка!
Майетта задумчиво покачала головой.
— Странно, — заметила Ударда, — ведь и вретишница того же мнения о цыганках.
— Кто это — вретишница? — спросила Майетта.
— Это сестра Гудула, — ответила Ударда.
— Кто это сестра Гудула?
— Вот и видно, что вы — приезжая из Реймса, если этого не знаете! — сказала Ударда. — Да ведь это затворница Крысиной норы.
— Как, — спросила Майетта, — та самая несчастная женщина, которой мы несем лепешку?
Ударда утвердительно кивнула:
— Она самая. Вы сейчас увидите ее у оконца, которое выходит на Гревскую площадь. Она думает то же самое, что и вы, об этих египетских бродяжках, которые бьют в бубен и гадают. Никто не знает, откуда у нее взялась эта ненависть к египтянам и цыганам. Ну а вы, Майетта, почему их так боитесь?
— О! — воскликнула Майетта, обняв белокурую головку своего ребенка. — Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что с Пакеттой Шантфлери.
— Ах, вот история, которую вы должны нам рассказать, милая Майетта, — сказала Жервеза, беря ее за руку.
— Охотно, — ответила Майетта. — Вот и видно, что вы — парижанка, если не знаете этой истории! Так вот… Но что же мы остановились? Об этом можно рассказать и на ходу… Так вот, Пакетта Шантфлери была хорошенькой восемнадцатилетней девушкой как раз в то время, когда и мне было столько же, то есть восемнадцать лет тому назад, и если из нее не вышло, подобно мне, здоровой, полной, свежей тридцатишестилетней женщины, имеющей мужа и ребенка, то это ее собственная вина. Впрочем, уже с четырнадцати лет ей было поздно думать о замужестве! Она, знаете ли, была дочерью Гиберто, реймского менестреля[235] на речных судах, того самого, который увеселял короля Карла Седьмого во время коронации, когда тот катался по нашей реке Вель от Сильери до Мюизона, вместе с госпожой Орлеанской девой. Старик отец умер, когда Пакетта была еще совсем малюткой; у нее осталась мать, сестра господина Прадона, мастера медных и жестяных изделий в Париже, на улице Парен-Гарлен, умершего в прошлом году. Как видите, Пакетта была из хорошей семьи. Мать ее была, на беду, доброй женщиной и ничему иному не обучала Пакетту, как только вышивать золотом и бисером разные безделушки. Девочка росла в бедности. Обе они жили в Реймсе, у самой реки, на улице Великой скорби. Запомните название: мне сдается, что от этого-то и пошли все ее несчастья. В шестьдесят первом году, в год венчания на царство короля нашего Людовика Одиннадцатого, да хранит его Господь, Пакетта была такой веселой и хорошенькой, что ее иначе и не называли, как Шантфлери[236]. Бедная девушка! У нее были прелестные зубы, и она любила смеяться, чтобы видели их. А девушка, которая любит смеяться, — на пути к слезам: прелестные зубы — погибель для прелестных глаз. Так вот какова была Шантфлери. Жилось им с матерью нелегко. Со дня смерти музыканта они очень опустились, золотошвейным ремеслом зарабатывали не более десяти денье в неделю, что составляет неполных два лиара с орлами. Прошло то время, когда ее отец Гиберто в течение одной лишь коронации зарабатывал своими песнями по двенадцать парижских солей. Однажды зимой (это было в том же шестьдесят первом году) они остались совсем без дров и без хвороста, и стужа так разрумянила щечки Шантфлери, что мужчины то и дело стали окликать ее — одни: «Пакетта!», другие: «Пакеретта!» Это ее и погубило!.. Эсташ, ты опять грызешь лепешку?! Однажды в воскресенье она явилась в церковь с золотым крестиком на шее. Тут мы поняли, что она погибла. В четырнадцать-то лет! Подумайте только! Это началось с молодого виконта де Кормонтрей, владельца поместья в трех четвертях лье от Реймса; затем мессир Анри де Трианкур, королевский форейтор; затем, что уже попроще, городской глашатай Шиар де Болион; затем, опускаясь все ниже, она перешла к Гери Обержону, королевскому стольнику, еще ниже — к Масе де Фрепюсу, брадобрею дофина; затем к Тевененл-Муэну, королевскому повару; затем, переходя все к более пожилым и менее знатным, она докатилась наконец до Гильома Расина, менестреля-рылейщика, и до Тьери-де-Мера, фонарщика. Потом бедняжка Шантфлери просто пошла по рукам. От всего ее достатка у нее не осталось ни гроша. Что и говорить! Во время коронационных торжеств, все в том же шестьдесят первом году, она уже грела постели смотрителя публичных домов! И все это в один год!
Майетта вздохнула и отерла навернувшуюся слезу.
— Ну, это обычная история, — сказала Жервеза, — но я не понимаю, при чем же тут цыгане и дети?
— Подождите, — ответила Майетта, — вы сейчас об этом услышите. В этом месяце, в день Святой Павлы, исполнится ровно шестнадцать лет с тех пор, как Пакетта родила девочку. Бедняжка! Она так обрадовалась! Она давно хотела иметь ребенка. Ее мать, добрая женщина, закрывавшая на все глаза, уже умерла. Пакетте больше некого было любить, да и ее никто не любил. За пять лет со времени своего падения бедняжка Шантфлери превратилась в жалкое существо! Она осталась одна-одинешенька на свете. На нее указывали пальцами, над ней глумились, ее била городская стража и высмеивали оборвыши мальчишки. Кроме того, ей исполнилось уже двадцать лет, а двадцать лет ведь это уже старость для публичных женщин. Ее промысел приносил ей не более того, что она вырабатывала золотошвейным мастерством; с каждой новой морщинкой убавлялся экю из ее заработка. Вновь суровой становилась для нее зима, случайными — поленья в очаге и тесто в квашне. Работать она больше не могла, потому что, сделавшись распутницей, она обленилась, а от лености стала еще распутнее. Господин кюре[237] церкви Сен-Реми говорит, что такие женщины в старости сильнее других страдают от холода и голода.
— Так, — заметила Жервеза, — ну а цыганки?
— Погоди минуту, Жервеза! — проговорила более терпеливая Ударда. — Что же останется к концу, если все будет известно с самого начала? Продолжайте, пожалуйста, Майетта. Бедняжка Шантфлери!
Майетта продолжала:
— Она была очень грустна, очень несчастна, щеки ее поблекли от непрерывных слез. Но при всем своем позоре, безрассудстве и одиночестве она думала, что не была бы такой опозоренной, безрассудной и одинокой, если бы нашлось на свете существо, которое она могла бы полюбить и которое платило бы ей взаимностью. Ей нужно было дитя, потому что только невинное дитя могло полюбить ее. Она в этом убедилась после того, как попыталась любить вора, единственного мужчину, который мог бы ее пожелать; но вскоре поняла, что даже вор презирает ее. Чтобы наполнить сердце, гулящим женщинам нужен либо любовник, либо ребенок. Иначе они слишком несчастны. Не найдя верного любовника, она стала страстно желать ребенка и, оставшись богобоязненной, неустанно молила об этом милосердного Творца. Господь сжалился над нею и даровал ей дочь. Не буду говорить, как она была счастлива: это был ураган слез, ласк и поцелуев. Она выкормила грудью свое дитя, нашила пеленок из своего единственного одеяла и уже больше не чувствовала ни холода, ни голода. Она вновь похорошела. Стареющая девушка превратилась в юную мать. Возобновились любовные связи, и мужчины вновь стали посещать Шантфлери, вновь нашлись покупатели на ее товар. Изо всей этой мерзости она извлекала деньги на пеленочки, детские чепчики, слюнявчики, кружевные распашонки и шелковые капора, даже и не помышляя о том, чтобы купить себе хотя бы одеяло… Господин Эсташ, я вам уже говорила, чтобы вы не смели есть лепешку. Я уверена, что у маленькой Агнессы (так нарекли девочку, ибо фамилию свою Шантфлери давно утратила), у этой малютки было больше ленточек и всяких вышивок, чем у дочери владельца Дофинэ[238]. В числе других вещей у нее была пара маленьких башмачков, таких красивых, каких, наверно, даже сам король Людовик Одиннадцатый не носил в детстве! Мать сама сшила их и вышила, как только может золотошвейка, разукрасив их, точно покрывало Божьей Матери. Это были самые малюсенькие розовые башмачки, какие я только видела. Величиною они были не длиннее моего большого пальца, и не верилось, что они впору малютке, пока не увидишь, как ее разувают. Правда, ножки у нее были такие маленькие, такие миленькие, такие розовые — розовее, чем шелк на башмачках! Ах, когда у вас будут дети, Ударда, вы поймете, что нет ничего милее этих маленьких ножек и ручек!
— Я-то не прочь, — вздохнув, ответила Ударда, — но мне приходится ждать, когда этого пожелает господин Андри Мюнье.
— Но у дочурки Пакетты были хороши не только ножки, — продолжала Майетта. — Я видела ее, когда ей исполнилось всего четыре месяца. Это был настоящий херувимчик! Глазки большие — больше, чем ее ротик, — волосики шелковистые, черные и уже вились. Она была бы красавицей брюнеткой к шестнадцати годам! Мать с каждым днем все больше влюблялась в нее. Она ласкала ее, щекотала, купала, наряжала и осыпала поцелуями. Она просто с ума по ней сходила, она благодарила за нее Бога. Особенно ее восхищали крошечные розовые ножки ребенка! Она не переставала им удивляться, она не отрывала от них губ, она теряла голову от счастья. Она их обувала и разувала, любовалась, поражалась, целыми днями разглядывала их на свет, умилялась, видя, как они пытаются переступить по кровати, и охотно провела бы всю свою жизнь на коленях, надевая на них башмачки и снимая, словно то были ножки младенца Иисуса.
— Интересный рассказ, — заметила вполголоса Жервеза, — но все-таки при чем же тут цыгане?
— А вот при чем, — продолжала Майетта. — Как-то в Реймс прибыли какие-то странные всадники. То были нищие и бродяги, шнырявшие по всей стране под предводительством своего герцога и своих графов. Все, как один, смуглые, с курчавыми волосами и серебряными кольцами в ушах. Женщины казались еще уродливее мужчин. У них были еще более загоревшие, всегда открытые лица, скверные платья, ветхие покрывала из грубой мешковины, завязанные на плече, и волосы как лошадиные хвосты. А дети, копошившиеся у них на коленях, могли бы напугать даже обезьян! Шайка нехристей! Все они из Нижнего Египта, прямо через Польшу, нахлынули на Реймс. Говорили, что их исповедовал сам Папа и наложил на них эпитимью[239] — семь лет кряду скитаться по белу свету, ночуя под открытым небом. Поэтому их называли также «кающимися», и от них плохо пахло. Когда-то они, кажется, были сарацинами[240], а потому верили в Юпитера и требовали по десяти турецких ливров со всех архиепископов, епископов и аббатов, имеющих право на митру[241] и посох. И все это будто бы по папской булле. В Реймс они явились затем, чтобы именем алжирского короля и германского императора предсказывать судьбу. Вы понимаете сами, что вход в город им был воспрещен. Тогда вся эта шайка охотно расположилась табором близ Бренских ворот, на том самом пригорке, где стоит мельница, рядом со старыми меловыми ямами. Понятно, что весь Реймс отправился на них глазеть. Они смотрели людям на руки и пророчили всяческие чудеса. Они могли предсказать Иуде, что тот сделается Папой. Но тут стали поговаривать, будто они похищают детей, срезают кошельки и едят человеческое мясо. Благоразумные люди советовали безрассудным: «Не ходите туда», а сами ходили тайком. Все словно помешались на этом. Правда, они так ловко предсказывали, что могли бы удивить даже кардинала. Все матери загордились своими детьми с тех пор, как цыганки прочли по линиям детских ручек всякие чудеса, написанные там на каком-то дикарском и турецком языках. У одной ребенок — будущий император, у другой — Папа, у третьей — полководец. Бедняжку Пакетту разбирало любопытство: она тоже хотела знать, не суждено ли ее хорошенькой Агнессе стать когда-нибудь императрицей Армении или других каких-нибудь земель. И вот она тоже отправилась к цыганам. Цыганки стали любоваться девочкой, ласкать, целовать ее своими черными губами и восторгаться ее крошечной ручкой, и все это — увы! — к великому удовольствию матери. Особенно хвалили они прелестные ножки и башмачки малютки. Девочке в ту пору не было еще и года. Она уже лепетала, заливалась смехом при виде матери, была пухленькой, кругленькой и своими очаровательными движениями походила на ангелочка. Она очень испугалась цыганок и заплакала. Но мать крепко поцеловала ее и ушла в восторге от того будущего, какое ворожея предсказала ее Агнессе. Девочка должна была стать воплощением красоты и добродетели, более того — королевой. Пакетта возвратилась в свою лачугу на улице Великой скорби, гордая тем, что несет домой будущую королеву.
На следующий день, воспользовавшись минуткой, когда ребенок уснул на ее кровати (она всегда укладывала ее спать возле себя), Пакетта, тихонько притворив дверь, побежала на Сушильную улицу к своей подруге рассказать, что наступит день, когда ее Агнессе будут прислуживать за столом король английский и эрцгерцог эфиопский, и еще сотню других невиданных вещей. Подымаясь при возвращении домой по лестнице и не слыша плача ребенка, она сказала себе: «Отлично, дитя еще спит». Дверь она нашла распахнутой гораздо шире, чем оставила, когда уходила. Бедняжка мать вошла, подбежала к кровати… Дитя исчезло, кровать была пуста. От ребенка не осталось и следа, если не считать одного из ее хорошеньких башмачков. Она бросилась вон из комнаты, ринулась вниз по лестнице и стала биться головой об стену, крича: «Мое дитя! Где мое дитя? Кто отнял у меня мое дитя?» Улица была пустынна, дом стоял особняком; никто не мог ей ничего сказать. Она обегала город, она обшарила все улички, она целый день металась то туда, то сюда, исступленная, обезумевшая, страшная, обнюхивая, словно дикий зверь, потерявший своих детенышей, все пороги и окна домов. Задыхающаяся, растрепанная, ужасная, с иссушающим слезы пламенем в очах, она задерживала каждого прохожего, крича: «Дочь моя! Дочь моя! Моя прелестная маленькая дочка! Я буду рабой того, кто возвратит мне мою дочь, я буду рабой его собаки, и пусть она сожрет мое сердце, если захочет!» Встретив господина кюре церкви Сен-Реми, она сказала ему: «Господин кюре, я буду пахать землю ногтями, только верните мне ребенка!» О! Это было раздирающее душу зрелище, Ударда! Я видела, как даже мэтр Понс Лакабр, прокурор, человек жестокий, и тот не мог удержаться от слез. Ах, бедная мать! Вечером она возвратилась домой. Ее соседка видела, как во время отсутствия к ней украдкой поднялись по лестнице две цыганки с каким-то свертком в руках и затем, спустившись, поспешно убежали, захлопнув за собой дверь. После их ухода из комнаты Пакетты послышался плач ребенка. Мать радостно засмеялась, словно на крыльях взбежала к себе наверх, распахнула дверь настежь и вошла… О ужас, Ударда! Вместо ее хорошенькой маленькой Агнессы, такой румяной и свеженькой, вместо этого Божьего дара, по полу, визжа, ползало какое-то чудовище, мерзкое, хромое, кривое, безобразное. В ужасе она закрыла глаза. «О! Неужели колдуньи превратили мою дочь в это страшное животное?» — проговорила она. Маленького урода поспешно унесли. Он свел бы ее с ума. Это было чудовище, родившееся от какой-нибудь цыганки, отдавшейся дьяволу. По виду ему было года четыре, он лепетал на каком-то языке, но уж никак не на человеческом: это были какие-то совершенно невозможные слова. Шантфлери упала на пол, схватив маленький башмачок, — это было все, что у нее осталось от девочки, которую она любила. Она так долго лежала недвижной, бездыханной, безмолвной, что все сочли ее мертвой. Вдруг она вздрогнула всем телом и, покрывая безумными поцелуями свою святыню, разразилась такими рыданиями, словно сердце ее готово было разорваться. Уверяю вас, что мы все рыдали. Она стонала: «О моя маленькая дочка! Моя хорошенькая маленькая дочка! Где ты?» Я и сейчас еще плачу, вспоминая об этом. Подумайте только, ведь наши дети — плоть от плоти нашей… Бедняжка мой Эсташ, ты так хорош! Если бы вы знали, как он мил! Он говорит вчера: «Я хочу быть конным латником». О мой Эсташ! И вдруг бы я лишилась тебя… И тут Пакетта вдруг вскочила и помчалась по улицам Реймса. «В цыганский табор! В цыганский табор! Зовите стражу! Надо сжечь этих проклятых колдуний!» — кричала она. Но цыгане уже исчезли. Была глухая ночь. Гнаться за ними было невозможно.
Назавтра в двух лье от Реймса, на пустоши, поросшей вереском, между Гё и Тилуа, нашли следы большого костра, несколько ленточек, принадлежавших маленькой Агнессе, капли крови и козий помет. Накануне была как раз суббота. Очевидно, цыгане справляли на этой пустоши свой шабаш и сожрали ребенка в сообществе самого Вельзевула, как это водится у магометан. Когда Шантфлери узнала про эти ужасы, она не заплакала, она только пошевелила губами, словно хотела сказать что-то, но не могла произнести ни слова. На следующее утро ее волосы были седыми. На третий день она исчезла.
— Да, это действительно страшная история, — сказала Ударда, — она может заставить заплакать даже бургундца!
— Теперь понятно, почему вы так боитесь цыган, — добавила Жервеза.
— И вы очень благоразумно сделали, убежав с вашим Эсташем, эти цыгане тоже пришли из Польши, — вставила Ударда.
— Да нет же, — сказала Жервеза, — они пришли из Испании и Каталонии.
— Возможно, что из Каталонии, — согласилась Ударда, — Полония, Каталония, Валония — я всегда смешиваю эти три провинции. Но достоверно только одно, что это — цыгане.
— И нет сомнения, — прибавила Жервеза, — что зубы у них достаточно длинные, чтобы сожрать ребенка. Меня нисколько не удивит, если я узнаю, что эта Смеральда тоже лакомится маленькими детьми, складывая при этом свои губки бантиком. У ее белой козочки чересчур хитрые повадки — наверное, тут кроется какое-нибудь нечестие.
Майетта шла молча. Она была погружена в ту задумчивость, которая является как бы продолжением только что прозвучавшего горестного рассказа и рассеивается лишь тогда, когда вызванная им дрожь волнения проникнет до самой глубины сердца. Жервеза обратилась к ней с вопросом:
— Так никто и не узнал, что сталось с Шантфлери?
Майетта не ответила. Жервеза повторила вопрос, тряся ее за руку и окликая по имени. Майетта как будто очнулась.
— Что сталось с Шантфлери? — машинально повторила она и, сделав над собой усилие, чтобы вникнуть в смысл этих слов, быстро ответила: — Ах, об этом ничего не известно.
И, помолчав, добавила:
— Кто говорит, будто видел, как она в сумерки уходила из Реймса через ворота Флешамбо, а другие — что это было на рассвете и вышла она через старые ворота Базе. Какой-то нищий нашел ее золотой крестик, повешенный на каменном кресте в поле на том месте, где бывает ярмарка. Это был тот самый крестик, который погубил ее и был ей подарен в шестьдесят первом году ее первым любовником, красавцем виконтом де Кормонтрей. Пакетта никогда не расставалась с этим подарком, в какой бы нужде она ни была. Она дорожила им, как собственной жизнью. И поэтому, когда мы узнали об этой находке, то решили, что она умерла. Однако люди из Кабареле-Вот утверждают, будто видели, как она, босая, ступая по камням, брела по Большой Парижской дороге. Но в таком случае она должна была выйти из города через Вельские ворота. Все это как-то не вяжется одно с другим. Вернее всего, я думаю, она действительно вышла через Вельские ворота, но только на тот свет.
— Я вас не понимаю, — сказала Жервеза.
— Вель, — с печальной улыбкой ответила Майетта, — это ведь река.
— Бедная Шантфлери! — содрогаясь, воскликнула Ударда. — Значит, она утопилась?
— Утопилась, — ответила Майетта. — Думал ли добряк Гиберто, проплывая с песнями в своем челне вниз по течению реки под мостом Тенке, что придет день, когда его любимая крошка Пакетта тоже проплывет под этим мостом, но только без песен и без челна.
— А маленький башмачок? — спросила Жервеза.
— Исчез вместе с матерью, — ответила Майетта.
— Бедный маленький башмачок! — воскликнула Ударда.
Ударда, женщина чувствительная и тучная, готова была удовольствоваться тем, что повздыхала вместе с Майеттой, но более любопытная Жервеза продолжала свои расспросы.
— А чудовище? — вдруг вспомнила она.
— Какое чудовище? — спросила Майетта.
— Маленькое цыганское чудовище, оставленное ведьмами Шантфлери вместо ее дочери? Что вы с ним сделали? Надеюсь, вы его тоже утопили?
— Нет, — ответила Майетта.
— Как! Значит, сожгли? Для отродья ведьмы это, пожалуй, и лучше!
— Ни то ни другое, Жервеза. Господин архиепископ принял в нем участие, прочитал над ним молитвы, окрестил его, начисто изгнал из него дьявола и отослал в Париж. Там его положили в ясли для подкидышей при соборе Парижской Богоматери.
— Ох уж эти епископы! — проворчала Жервеза. — От большой учености они всегда делают не по-людски. Ну скажите на милость, Ударда, на что это похоже — класть дьявола в ясли для подкидышей! Я не сомневаюсь, что это был сам дьявол! А что же с ним сталось в Париже? Надеюсь, ни один добрый христианин не пожелал взять его на воспитание?
— Не знаю, — ответила жительница Реймса. — Муж мой как раз в это время откупил место сельского нотариуса в Берю, в двух лье от Реймса, и мы больше не интересовались всей этой историей; да и Реймса-то из Берю не видно: оба холма Серне заслоняют от нас даже соборные колокольни.
Беседуя таким образом, три почтенные горожанки незаметно дошли до Гревской площади. Заболтавшись, они, не останавливаясь, прошли мимо Требника Роландовой башни и, сами того не замечая, направились к позорному столбу, вокруг которого толпа возрастала с каждой минутой. Весьма вероятно, что зрелище, притягивавшее туда все взоры, заставило бы приятельниц окончательно позабыть о Крысиной норе и о том, что они хотели там приостановиться, если бы шестилетний толстяк Эсташ, которого Майетта тащила за руку, внезапно не напомнил им об этом.
— Мама, — спросил он, как будто почуяв, что Крысиная нора осталась позади, — можно мне теперь съесть лепешку?
Будь Эсташ похитрее или, вернее, не будь он таким лакомкой, он повременил бы с этим вопросом до возвращения в квартал Университета, в дом мэтра Андри Мюнье на улице Мадам-ла-Баланс. Тогда между Крысиной норой и его лепешкой легли бы оба рукава Сены и пять мостов Ситэ. Теперь же этот опрометчивый вопрос привлек внимание Майетты.
— Кстати, мы совсем забыли о затворнице! — воскликнула она. — Покажите мне вашу Крысиную нору, я хочу отдать лепешку.
— Да-да, — ответила Ударда, — вы сделаете доброе дело.
Но это вовсе не входило в расчеты Эсташа.
— Вот еще! Это моя лепешка! — захныкал он и поочередно то правым, то левым ухом стал тереться о свои плечи, что, как известно, служит у детей признаком высшего неудовольствия.
Три женщины повернули обратно. Когда они дошли до Роландовой башни, Ударда сказала своим двум приятельницам:
— Не следует всем троим заглядывать в нору — это может испугать вретишницу. Вы сделайте вид, будто читаете «Dominus…»[242] по Требнику, а я тем временем загляну к ней в оконце. Она меня уже немножко знает. Я вам скажу, когда можно будет подойти.
Ударда направилась к оконцу. Едва лишь взгляд ее проник в глубь кельи, как глубокое сострадание отразилось на ее лице. Выражение и краски ее веселой, открытой физиономии изменились так резко, как будто вслед за солнечным лучом по ней скользнул луч луны. Ее глаза увлажнились, губы скривились, словно она собиралась заплакать. Она приложила палец к губам и сделала Майетте знак подойти.
Майетта подошла взволнованная, молча, на цыпочках, как будто приближалась к постели умирающего.
Поистине грустное зрелище представилось глазам обеих женщин, которые, боясь шелохнуться, затаив дыхание глядели в забранное решеткой оконце Крысиной норы.
Это была тесная келья со стрельчатым сводом, похожая изнутри на большую епископскую митру. На голой плите, служившей полом, в углу скорчившись сидела женщина. Подбородок ее упирался в колени, крепко прижатые к груди скрещенными руками. На первый взгляд это сжавшееся в комок существо, утонувшее в широких складках коричневого вретища, с длинными седыми волосами, которые свисали на лицо и падали вдоль ног до самых ступней, казалось каким-то странным предметом, чернеющим на сумрачном фоне кельи, каким-то подобием темного треугольника, резко разделенного падающим из оконца лучом света на две половины — одну темную, другую светлую. Это был один из тех призраков, наполовину погруженных во мрак, наполовину залитых светом, которых видишь либо во сне, либо на причудливых полотнах Гойи, — бледных, недвижных, зловещих, присевших на чьей-нибудь могиле или прислонившихся к решетке темницы. Создание это не походило на женщину, ни на мужчину, ни вообще на живое существо определенной формы: это был набросок человека; нечто вроде видения, в котором действительность сливалась с фантастикой, как свет сливается с тьмой. Сквозь ниспадавшие до полу волосы с трудом можно было различить изможденный, суровый профиль; из-под платья чуть виднелся кончик босой ноги, судорожно скрюченной на жестком ледяном полу. Человеческий облик, смутно проступавший сквозь эту скорбную оболочку, вызывал в зрителе содрогание.
Этой фигуре, словно вросшей в каменную плиту, казалось, были чужды движение, мысль, дыхание. Прикрытая в январский холод лишь тонкой холщовой рубахой, на голом гранитном полу, без огня, в полумраке темницы, косое оконце которой пропускало лишь стужу, но не давало доступа солнцу, она, по-видимому, не только не испытывала страданий, но вообще ничего не ощущала. Она стала каменной, как ее келья, и ледяной, как зима. Руки ее были скрещены, глаза устремлены в одну точку. В первую минуту ее можно было принять за призрак, вглядевшись пристальнее — за статую.
И все же ее посиневшие губы время от времени приоткрывались от вздоха, но движение их было столь же безжизненным, столь же бесстрастным, как трепетанье листьев на ветру.
И все же в ее потускневших глазах порой зажигался взгляд неизъяснимый, проникновенный, скорбный, упорно прикованный к невидимому снаружи углу кельи, — взгляд, который, казалось, устанавливал связь между мрачными мыслями этой страждущей души и каким-то таинственным предметом.
Таково было это существо, прозванное за свое обиталище «затворницей», а за свою одежду — «вретишницей».
Все три женщины — так как Жервеза тоже присоединилась к Майетте и Ударде — смотрели в оконце. Несчастная не замечала их, хотя их головы, заслоняя окно, лишали ее и без того скудного дневного света.
— Не будем ее тревожить, — шепотом проговорила Ударда, — она молится.
Между тем Майетта с возраставшим волнением всматривалась в эту безобразную, поблекшую, растрепанную голову.
— Как это странно! — бормотала она.
Просунув голову сквозь решетку, она ухитрилась заглянуть в тот угол, к которому был прикован взор несчастной.
Когда Майетта оторвалась от окна, лицо ее было залито слезами.
— Как зовут эту женщину? — спросила она Ударду.
— Мы зовем ее сестрой Гудулой, — ответила Ударда.
— А я назову ее Пакеттой Шантфлери, — сказала Майетта.
И, приложив палец к губам, она предложила Ударде просунуть голову в оконце и заглянуть внутрь.
Ударда заглянула в тот угол, куда был неотступно устремлен горящий мрачным восторгом взор затворницы, и увидала там маленький, розового шелка башмачок, расшитый золотыми и серебряными блестками.
Жервеза вслед за Удардой тоже заглянула в келью, и все три женщины расплакались при виде несчастной матери.
Однако ни их взоры, ни их слезы не отвлекли внимания затворницы. Ее руки продолжали оставаться скрещенными, уста немыми, глаза неподвижными. Тем, кому была теперь известна вся ее история, этот маленький, так неотступно созерцаемый башмачок раздирал сердце.
Женщины не обменялись ни одним словом; они не осмеливались говорить даже шепотом. Это великое молчание, эта великая скорбь, это великое забвение, поглотившее все, кроме маленького башмачка, производили на них такое впечатление, как будто они стояли перед алтарем в дни Пасхи или Рождества. Они безмолвствовали, полные благоговения, готовые преклонить колени. Им казалось, что они вступили в храм в Страстную пятницу.
Наконец Жервеза, самая любопытная и потому наименее чувствительная, попыталась заговорить с затворницей:
— Сестра! Сестра Гудула!
Она трижды окликнула ее, и с каждым разом все громче. Затворница не шелохнулась. Ни слова, ни взгляда, ни взора, ни малейшего признака жизни.
— Сестра! Сестра Гудула, — в свою очередь сказала Ударда более мягким и ласковым голосом.
То же молчание, та же неподвижность.
— Странная женщина! — воскликнула Жервеза. — Ее и выстрелом не разбудишь!
— Может, она оглохла? — заметила Ударда.
— Или ослепла? — присовокупила Жервеза.
— А может, умерла? — сказала Майетта.
Но если душа еще и не покинула это недвижное, безгласное, бесчувственное тело, то, во всяком случае, она ушла так далеко, затаилась в таких его глубинах, куда не проникали ощущения внешнего мира.
— Придется оставить лепешку на подоконнике, — сказала Ударда. — Но ее стащит какой-нибудь мальчишка. Что бы такое сделать, чтобы заставить ее очнуться?
Тем временем Эсташ, чье внимание было до сих пор отвлечено проезжавшей маленькой тележкой, которую тащила большая собака, вдруг заметил, что его спутницы что-то разглядывают в оконце. Его тоже разобрало любопытство, он влез на тумбу, приподнялся на цыпочках и прижал свое пухлое румяное личико к решетке, воскликнув:
— Мама, я тоже хочу посмотреть!
При звуке этого свежего, звонкого детского голоска затворница задрожала. Резким, стремительным движением стальной пружины она повернула голову и, откинув со лба космы волос своими длинными, исхудавшими до костей руками, вперила в ребенка изумленный, исполненный горечи и отчаяния взгляд — быстрый, как вспышка молнии.
— О Боже! — закричала она, уткнувшись лицом в колени; ее хриплый голос, казалось, разрывал ей грудь. — Не показывайте мне по крайней мере чужих детей!
— Здравствуйте, сударыня, — с важностью сказал мальчик.
Неожиданное потрясение как бы пробудило затворницу к жизни. Длительная дрожь пробежала по ее телу, зубы застучали, она слегка приподняла голову и, прижимая локти к бедрам, обхватив руками ступни, словно желая их согреть, промолвила:
— О, какая стужа!
— Бедняжка, — с горячим состраданием сказала Ударда, — не принести ли вам огонька?
Она покачала головой в знак отрицания.
— Ну так вот коричное вино, выпейте, это вас согреет, — продолжала Ударда, протягивая ей бутылку.
Затворница снова отрицательно покачала головой и, пристально взглянув на Ударду, сказала:
— Воды!
— Ну какой же это напиток в зимнюю пору! Вам необходимо выпить немного вина и съесть вот эту маисовую лепешку, которую мы испекли для вас, — настаивала Ударда.
Затворница оттолкнула лепешку, протягиваемую ей Майеттой, и проговорила:
— Черного хлеба!
— Сестра Гудула, — сказала Жервеза, разжалобившись и расстегивая свою суконную накидку, — вот вам покрывало потеплее вашего. Накиньте-ка его себе на плечи.
Затворница отказалась от одежды, как ранее от вина и лепешки, и отвечала:
— Достаточно и вретища!
— Но ведь надо же чем-нибудь помянуть вчерашний праздник, — сказала добродушная Ударда.
— Я его и так помню, — проговорила затворница, — вот уже два дня, как в моей кружке нет воды. — Помолчав немного, она добавила: — В праздники меня совсем забывают. И хорошо делают! К чему людям думать обо мне, если я не думаю о них? Потухшим угольям — холодная зола.
И, как бы утомившись от такой длинной речи, она вновь уронила голову на колени.
Простоватая и сострадательная Ударда, понявшая из последних слов затворницы, что та все еще продолжает жаловаться на холод, наивно спросила:
— Может быть, вам все-таки принести огонька?
— Огонька? — спросила вретишница с каким-то странным выражением. — Ну, а принесете вы его и той бедной крошке, которая вот уже пятнадцать лет покоится в земле?
Она вся трепетала, ее голос дрожал, очи пылали, она привстала на колени. Вдруг она простерла свою бледную, исхудавшую руку к изумленно смотревшему на нее Эсташу.
— Унесите ребенка! — воскликнула она. — Здесь сейчас пройдет цыганка!
И она упала ничком на пол; лоб ее с резким стуком ударился о плиту, словно камень о камень.
Женщины подумали, что она умерла. Однако спустя мгновение она зашевелилась и поползла в тот угол, где лежал крошечный башмачок. Они не посмели заглянуть туда, но им слышны были бессчетные поцелуи и вздохи, перемежавшиеся с раздирающими душу воплями и глухими ударами, точно она билась головой о стену. После одного из ударов, столь яростного, что все они вздрогнули, до них больше не донеслось ни звука.
— Неужели она убилась? — воскликнула Жервеза, рискнув просунуть голову сквозь решетку. — Сестра! Сестра Гудула!
— Сестра Гудула! — повторила Ударда.
— Боже мой! Она не шевелится! Неужели она умерла? — продолжала Жервеза. — Гудула! Гудула!
Майетта, у которой от волнения так сжалось горло, что до этой минуты она не могла выговорить ни слова, сделала над собой усилие и сказала:
— Подождите. — Потом, наклонившись к окну, окликнула затворницу: — Пакетта! Пакетта Шантфлери!
Ребенок, беспечно дунувший на тлеющий фитиль петарды и вызвавший этим взрыв, опаливший ему глаза, не испугался бы до такой степени, как испугалась Майетта, увидев, какое действие произвело это имя, вдруг прозвучавшее в келье сестры Гудулы.
Затворница вздрогнула всем телом, встала на свои босые ноги и бросилась к оконцу; глаза ее горели таким пламенем, что все три женщины и ребенок попятились до самого парапета набережной.
Зловещее лицо затворницы плотно прижалось к решетке отдушины.
— О! Это цыганка зовет меня! — дико смеясь, закричала она.
Сцена, происходившая в этот момент у позорного столба, приковала ее блуждающий взор. Ее лицо исказилось от ужаса, она протянула сквозь решетку высохшие, как у скелета, руки и голосом, походившим на предсмертное хрипение, крикнула:
— Так это опять ты, цыганское отродье! Это ты кличешь меня, воровка детей! Будь же ты проклята! Проклята! Проклята!
Глава 4
Слеза за каплю воды
Слова эти были как бы соединительным звеном между двумя сценами, которые разыгрывались одновременно и параллельно, каждая на своих подмостках: одна, только что нами описанная, — в Крысиной норе; другая, которую нам еще предстоит описать, — на лестнице позорного столба. Свидетельницами первой были лишь три женщины, с которыми читатель только что познакомился; зрителями второй был весь тот народ, который мы видели выше на Гревской площади толпившимся вокруг позорного столба и виселицы.
Появление четырех сержантов с девяти часов утра у четырех углов позорного столба сулило толпе не одно, так другое зрелище: если не повешение, то наказание плетьми или отсекновение ушей — словом, нечто интересное. Толпа возрастала так быстро, что сержантам, на которых она наседала, не раз приходилось ее «свинчивать», как тогда говорили, ударами тяжелой плети и крупами лошадей.
Впрочем, толпа, уже привыкшая к долгому ожиданию зрелища публичной кары, не выказывала слишком большого нетерпения. Она развлекалась тем, что разглядывала позорный столб — незамысловатое сооружение в форме каменного полого куба, футов десяти в вышину. Несколько очень крутых, из необтесанного камня ступеней, именуемых «лестницей», вели на верхнюю площадку, где виднелось прикрепленное в горизонтальном положении колесо, сделанное из цельного дуба. Преступника, поставленного на колени со скрученными назад руками, привязывали к этому колесу. Деревянный стержень, приводившийся в движение воротом, скрытым в этом маленьком строении, сообщал колесу вращательное движение и таким образом давал возможность видеть лицо наказуемого со всех концов площади. Это называлось «вертеть» преступника.
Из вышеописанного ясно, что позорный столб на Гревской площади далеко не был таким затейливым, как позорный столб на Главном рынке. Тут не было ни сложной архитектуры, ни монументальности. Не было ни крыши с железным крестом, ни восьмигранного фонаря, ни хрупких колонок, расцветающих у самой крыши капителями в форме листьев аканта и цветов, ни дождевых желобов в виде химер и чудовищ, ни деревянной резьбы, ни изящной, глубоко врезанной в камень скульптуры.
Зрителям здесь приходилось довольствоваться четырьмя стенками бутовой кладки, двумя заслонами из песчаника и стоящей рядом скверной, жалкой виселицей из простого камня.
Это было скудное угощение для любителей готической архитектуры. Правда, почтенные ротозеи Средних веков менее всего интересовались памятниками старины и мало заботились о красоте позорного столба.
Наконец прибыл и осужденный, привязанный к задку телеги. Когда его подняли на помост и привязали веревками и ремнями к колесу позорного столба, на площади поднялось неистовое гиканье вперемежку с хохотом и насмешливыми приветствиями. В осужденном узнали Квазимодо.
Да, это был он. Странная превратность судьбы! Быть прикованным к позорному столбу на той же площади, где еще накануне он, шествуя в сопровождении египетского герцога, короля Алтынного и императора Галилеи, был встречен приветствиями, рукоплесканиями и провозглашен единогласно папой и князем шутов! Но можно было не сомневаться, что во всей этой толпе, включая и его самого — то триумфатора, то осужденного, — не нашлось бы ни одного человека, способного сделать такое сопоставление. Для этого нужен был Гренгуар с его философией.
Вскоре Мишель Нуаре, глашатай его величества короля, заставил замолчать этот сброд и, согласно с распоряжением и повелением господина прево, огласил приговор, затем он со своими людьми в форменных полукафтаньях стал позади телеги.
Квазимодо отнесся к этому безучастно, он даже бровью не повел. Всякую попытку сопротивления пресекало то, что на языке тогдашних канцелярий уголовного суда называлось «силою и крепостью уз», иными словами — ремни и цепи, врезавшиеся в его тело. Эта традиция тюрем и галер не исчезла и по сей день. Она бережно сохраняется в виде наручников среди нас, народа просвещенного, мягкого, гуманного (если взять в скобки гильотину и каторгу).
Квазимодо позволял распоряжаться собой, толкать, тащить наверх, вязать и скручивать. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме изумления дикаря или идиота. Что он глухой, знали все, но сейчас он казался еще и слепым.
Его поставили на колени на круглую доску — он подчинился. С него сорвали куртку и рубашку и обнажили до пояса — он не сопротивлялся. Его опутали еще одной сетью ремней и пряжек — он позволил себя стянуть и связать. Лишь время от времени он шумно пыхтел, точно теленок, голова которого, низко свесившись через край тележки мясника, болтается из стороны в сторону.
— Вот дуралей-то! — сказал Жеан Мельник своему другу Робену Пуспену (само собой разумеется, что оба школяра следовали за осужденным). — Он соображает не больше майского жука, посаженного в коробку!
Бешеный хохот раздался в толпе, когда она увидела обнаженный горб Квазимодо, его верблюжью грудь, его острые плечи, поросшие волосами. Не успело утихнуть это веселье, как на помост поднялся коренастый, дюжий человек, на одежде которого красовался герб города, и стал возле осужденного. Его имя с быстротой молнии облетело толпу. Это был мэтр Пьер́а Тортерю, присяжный палач Шатле.
Он начал с того, что поставил в один из углов площадки позорного столба черные песочные часы, верхняя чашечка которых была наполнена красным песком, мерно ссыпавшимся в нижнюю; затем снял с себя двухцветный плащ, и все увидели висящую на его правой руке тонкую плеть из белых лоснящихся длинных узловатых ремней с металлическими коготками на концах; левой рукой он небрежно засучил рукава на правой до самого плеча. Тем временем Жеан Фролло, поднявши кудрявую белокурую голову над толпой (для чего он взобрался на плечи Робена Пуспена), выкрикивал:
— Господа! Дамы! Пожалуйте сюда! Сейчас и незамедлительно начнут стегать мэтра Квазимодо, звонаря моего брата, господина архидьякона Жозасского. Вот чудный образчик восточной архитектуры: спина — как купол, ноги — как витые колонны!
Толпа разразилась хохотом, в особенности смеялись дети и молодые девушки.
Палач топнул ногой. Колесо завертелось. Квазимодо покачнулся в своих оковах. Тупое изумление, отразившееся на его безобразном лице, еще более усилило смех толпы.
Вдруг, когда во время одного из поворотов колеса горбатая спина Квазимодо оказалась перед мэтром Пьер́а, палач взмахнул рукой. Тонкие ремни, словно клубок ужей, с пронзительным свистом рассекли воздух и яростно обрушились на спину несчастного.
Квазимодо подскочил на месте, как бы внезапно пробужденный от сна. Теперь он начинал понимать. Он корчился в своих путах, сильнейшая судорога изумления и боли исказила его лицо, но он не издал ни единого звука. Он лишь откинул голову назад, повернул ее направо, затем налево, словно бык, ужаленный в бок слепнем.
За первым ударом последовал второй, третий и еще, и еще — без конца. Колесо вращалось непрерывно, удары сыпались градом. Вот полилась кровь, и видно было, как она тысячью струек змеилась по смуглым плечам горбуна, а тонкие ремни, вращаясь и разрезая воздух, разбрызгивали ее каплями в толпу.
Казалось, по крайней мере с виду, что Квазимодо вновь стал безучастен ко всему. Сначала он пытался незаметно, без особенно сильных движений, разорвать свои путы. Видно было, как вспыхнул огнем его глаз, как напружинились мускулы, как напряглось тело и натянулись ремни и цепи. Это было мощное, страшное, отчаянное усилие; но испытанные оковы парижского прево выдержали. Они только затрещали, и все. Обессиленный Квазимодо словно обмяк. Изумление на его лице сменилось выражением глубокой горечи и уныния. Он закрыл свой единственный глаз, поник головою и замер.
После этого он уже не шевелился. Ничто не могло вывести его из оцепенения: ни его непрестанно льющаяся кровь, ни удвоившееся бешенство ударов, ни ярость палача, возбужденного и опьяненного собственной жестокостью, ни свист ужасных ремней, более резкий, чем полет ядовитых насекомых.
Наконец судебный пристав Шатле, одетый в черное, верхом на вороном коне, с самого начала наказания стоявший возле лестницы, протянул к песочным часам свой жезл из черного дерева. Палач прекратил пытку. Колесо остановилось. Медленно раскрылся глаз Квазимодо.
Бичевание окончилось. Два помощника палача обмыли сочившиеся кровью плечи осужденного, смазали их какой-то мазью, от которой раны тотчас же затянулись, и накинули ему на спину нечто вроде желтого передника, напоминающего нарамник. Пьер́а Тортерю отряхивал на мостовую кровь, окрасившую и пропитавшую белые ремни его плети.
Но это было не все. Квазимодо еще надлежало выстоять у позорного столба тот час, который столь справедливо был добавлен мэтром Флорианом Барбедьеном к приговору мессира Робера д´Эстутвиля, — все это к вящей славе старинного афоризма Иоанна Куменского, связывающего физиологию с психологией: surdus absurdus[243].
Итак, песочные часы перевернули, и горбуна оставили привязанным к доске, чтобы полностью удовлетворить правосудие.
Простонародье, особенно времен Средневековья, является в обществе тем же, чем ребенок в семье. До тех пор, пока оно пребывает в состоянии первобытного неведения, морального и умственного несовершеннолетия, о нем, как о ребенке, можно сказать:
В сем возрасте не знают состраданья.Мы уже упоминали о том, что Квазимодо был предметом общей ненависти, и не без основания. Во всей этой толпе не было человека, который бы не считал себя вправе пожаловаться на зловредного горбуна собора Парижской Богоматери. Появление Квазимодо у позорного столба было встречено всеобщим ликованием. Жестокая пытка, которой он подвергся, и его жалкое состояние после нее не только не смягчили толпу, но, наоборот, усилили ее ненависть, вооружив ее жалом насмешки.
Когда было выполнено «общественное требование возмездия», как и поныне еще выражаются обладатели судейских колпаков, наступила очередь для сведения с Квазимодо тысячи личных счетов. Здесь, как и в большой зале Дворца, сильнее всех шумели женщины. Почти все они имели против него зуб: одни — за его злобные выходки, другие — за его уродство. Последние бесновались пуще всего.
— О антихристова харя! — кричала одна.
— Чертов наездник на помеле! — кричала другая.
— Что за мрачная рожа! Его наверное бы выбрали папой шутов, если бы сегодняшний день превратился во вчерашний! — рычала третья.
— Это что! — кручинилась какая-то старуха. — Такую рожу он корчит у позорного столба, а вот если бы взглянуть, какая у него будет на виселице!
— Когда же большой колокол хватит тебя по башке и вгонит на сто футов в землю, проклятый звонарь?
— И этакий дьявол благовестит к вечерне!
— Ах ты глухарь! Горбун кривоглазый! Чудовище!
— Эта образина заставит выкинуть младенца лучше, чем все средства и снадобья.
А оба школяра — Жеан Мельник и Робен Пуспен — распевали во всю глотку старинный народный припев:
Висельнику — веревка! Уроду — костер!Тысяча оскорблений, гиканье, брань, насмешки и камни так и сыпались на него со всех сторон.
Квазимодо был глух, но зорок, а народная ярость выражалась на лицах не менее сильно, чем в словах. К тому же удар камнем великолепно дополнял значение каждой издевки.
Некоторое время он крепился. Но мало-помалу терпение, закалившееся под плетью палача, стало сдавать и отступило перед этими комариными укусами. Так астурийский бык, равнодушный к атакам пикадора, приходит в ярость от своры собак и бандерилий.
Он медленно, угрожающим взглядом обвел толпу. Но, крепко связанный по рукам и ногам, он не мог одним лишь взглядом отогнать этих мух, впившихся в его рану. И вот он стал метаться в своих путах. От его бешеных рывков затрещало на своих брусьях старое колесо позорного столба. Но все это повело лишь к тому, что насмешки и издевательства толпы еще более усилились.
Тогда несчастный, подобно дикому зверю, посаженному на цепь и бессильному сломать свой ошейник, внезапно успокоился. Только яростный вздох по временам вздымал его грудь. Лицо его не выражало ни стыда, ни смущения. Он был слишком чужд человеческому обществу и слишком близок к первобытному состоянию, чтобы понимать, что такое стыд. Да и возможно ли вообще при таком уродстве чувствовать позор своего положения? Но постепенно гнев, ненависть, отчаяние стали медленно заволакивать его безобразное лицо тучей, все более и более мрачной, все более насыщенной электричеством, которое тысячью молний вспыхивало в глазу этого циклопа.
Эта туча на миг прояснилась при появлении священника, пробиравшегося сквозь толпу верхом на муле. Как только несчастный осужденный еще издали заметил мула и священника, лицо его смягчилось, ярость, исказившая его черты, уступила место странной улыбке, исполненной нежности, умиления и неизъяснимой любви. По мере приближения священника эта улыбка становилась все ярче, все отчетливее, все лучезарнее. Несчастный словно приветствовал своего спасителя. Но в ту минуту, когда мул настолько приблизился к позорному столбу, что всадник мог узнать осужденного, священник опустил глаза, круто повернул назад и с такой силой пришпорил мула, словно спешил избавиться от оскорбительных для него просьб, не испытывая ни малейшего желания, чтобы его узнал и приветствовал горемыка, стоящий у позорного столба.
Это был архидьякон Клод Фролло.
Мрачная туча снова надвинулась на лицо Квазимодо. Порой сквозь нее еще пробивалась улыбка, но полная горечи, уныния и бесконечной скорби.
Время бежало. Уже почти полтора часа стоял он тут, израненный, истерзанный, осмеянный и забросанный каменьями.
Вдруг он снова заметался в своих цепях, и с таким неистовством, что все сооружение, на котором он стоял, дрогнуло; нарушив свое упорное молчание, он хриплым и яростным голосом, похожим скорее на собачий лай, чем на голос человека, закричал, покрывая шум и гиканье:
— Пить!
Этот возглас отчаяния не только не возбудил сострадание, но вызвал прилив веселости среди обступившего лестницу доброго парижского простонародья, отличавшегося в ту пору не меньшей жестокостью и грубостью, чем ужасное племя бродяг, с которым мы уже познакомили читателя и которое, попросту говоря, представляло собой самые низы этого простонародья. Если кто из толпы и поднимал свой голос, то лишь для того, чтобы поглумиться над его жаждой. Верно и то, что Квазимодо был в эту минуту скорее смешон и отвратителен, чем жалок: по его пылающему лицу струился пот, взор блуждал, на губах выступила пена бешенства и муки, язык наполовину высунулся изо рта. Следует добавить, что если бы даже и нашлась какая-нибудь добрая душа, какой-нибудь сердобольный горожанин или горожанка, пожелавшие принести воды этому несчастному, страдающему существу, то в представлении окружающих гнусные ступени этого столба были настолько связаны с бесчестием и позором, что одного этого предрассудка было достаточно, чтобы оттолкнуть доброго самаритянина.
Подождав несколько минут, Квазимодо обвел толпу взором отчаяния и повторил еще более раздирающим голосом:
— Пить!
И снова поднялся хохот.
— На вот, пососи-ка! — крикнул Робей Пуспен, бросая ему в лицо намоченную в луже тряпку. — Получай, противный глухарь! Я у тебя в долгу!
Какая-то женщина швырнула ему камнем в голову:
— Это отучит тебя будить нас по ночам твоим проклятым трезвоном!
— Ну-ка, сынок, — рычал паралитик, пытаясь достать его своим костылем, — будешь теперь наводить на нас порчу с башен собора Богоматери?
— Вот тебе чашка для питья! — крикнул какой-то человек, запуская ему в грудь разбитой кружкой. — Стоило тебе пройти мимо моей жены, когда она была брюхата, и она родила ребенка о двух головах!
— А моя кошка — котенка о шести лапках! — проверещала какая-то старуха, бросая в него черепком.
— Пить! — в третий раз, задыхаясь, повторил Квазимодо.
В эту минуту он увидел, что весь этот сброд отступил.
От толпы отделилась девушка в причудливом наряде. Ее сопровождала белая козочка с позолоченными рожками. В руках у девушки был бубен.
Глаз Квазимодо засверкал. То была та самая цыганка, которую он прошлой ночью пытался похитить. За этот проступок, как он теперь смутно догадывался, он и нес наказание; это, впрочем, нисколько не соответствовало действительности, ибо он терпел кару лишь за то, что имел несчастие, будучи глухим, попасть к глухому судье. Он не сомневался, что девушка явилась сюда, чтобы отомстить ему и нанести свой удар, как и все другие.
И действительно, он увидел, что она быстро поднимается по лестнице. Гнев и досада душили его. Ему хотелось сокрушить позорный столб, и если бы молния, которую метнул его взгляд, обладала смертоносной силой, то, прежде чем цыганка достигла площадки, она была бы испепелена.
Она молча приблизилась к осужденному, тщетно извивавшемуся в своих путах, чтобы ускользнуть от нее, и, отстегнув от своего пояса флягу, осторожно поднесла ее к пересохшим губам несчастного.
И тогда этот сухой, воспаленный глаз увлажнился, и крупная слеза медленно покатилась по искаженному отчаянием, безобразному лицу. Быть может, то была первая слеза, которую этот злосчастный пролил в своей жизни.
Он, казалось, забыл, что хочет пить. В нетерпении цыганка сделала привычную гримаску и, улыбаясь, прижала флягу к зубастому рту Квазимодо.
Он пил большими глотками. Его жгла жажда.
Напившись, несчастный вытянул почерневшие губы, как бы желая поцеловать прекрасную руку, оказавшую ему такую милость. Но молодая девушка держалась настороже. Она, по-видимому, не забыла еще о грубом нападении на нее минувшей ночью и испуганно отдернула руку, словно ребенок, боящийся, что его укусит животное.
Квазимодо устремил на нее взгляд, полный упрека и невыразимой грусти.
Кого бы не тронуло зрелище красоты, свежести, невинности, очарования и хрупкости, пришедшей в порыве милосердия на помощь воплощению несчастия, уродства и злобы! У позорного же столба это зрелище было величественным.
Даже толпа была им захвачена и принялась рукоплескать, крича: «Слава! Слава!»
Именно в эту минуту затворница из оконца своей норы увидела на площадке позорного столба цыганку и крикнула ей свое зловещее:
— Будь ты проклята, цыганское отродье! Проклята! Проклята!
Глава 5
Конец рассказа о лепешке
Эсмеральда побледнела и, пошатываясь, спустилась вниз. Голос затворницы продолжал ее преследовать:
— Слезай, слезай, египетская воровка! Все равно взойдешь обратно.
— Вретишница опять чудит, — бормотали в толпе, но ничего больше не добавляли. Такие женщины внушали страх, и это делало их неприкосновенными. В те времена остерегались нападать на тех, кто денно и нощно молился.
Наступило время освободить Квазимодо. Его увели, и толпа тотчас же разошлась.
У большого моста Майетта, возвращавшаяся домой со своими двумя спутницами, внезапно остановилась:
— Кстати, Эсташ, куда ты девал лепешку?
— Матушка, — ответил ребенок, — пока вы разговаривали с этой дамой, что сидит в норе, прибежала большая собака и откусила кусок моей лепешки, тогда и я откусил.
— Как, сударь! — воскликнула мать. — Вы съели всю лепешку?
— Матушка, это не я, это собака. Я не позволял, но она меня не послушалась. Ну, тогда я тоже стал ее есть, вот и все.
— Ужасный ребенок, — ворча и улыбаясь одновременно, сказала мать. — Знаете, Ударда, он один объедает все вишневое дерево на нашем дворе в Шарлеранже. Недаром его дед говорит, что быть ему капитаном. Попадитесь вы мне еще раз, господин Эсташ… Смотри ты у меня, увалень!
Книга VII
Глава 1
О том, как опасно доверять свою тайну козе
Прошло несколько недель.
Было начало марта. Солнце, которое Дюбарта, сей классический родоначальник перифразы, еще не успел наименовать «великим князем свечей», тем не менее сияло уже ярко и весело. Стоял один из тех весенних, мягких и чудесных дней, которым весь Париж, высыпав на площади и бульвары, радуется, точно празднику. В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом собора Богоматери. Это то время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все более горизонтальными, медленно покидают мостовую Соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, заставляя выступать из тени тысячи его рельефных украшений, между тем как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна.
Был именно этот час.
Напротив высокого собора, обагренного закатам, на каменном балконе, устроенном над порталом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и Папертной улицы, жеманничая и дурачась, дружески болтали и смеялись несколько красивых молодых девушек. Судя по их длинным покрывалам, спускавшимся до самых пят с верхушки их остроконечного головного убора, унизанного жемчугом, по тонким вышитым шемизеткам[244], прикрывавшим плечи, оставляя обнаженной, сообразно привлекательной моде того времени, верхнюю часть их прелестной девственной груди, судя по пышности нижних юбок, еще более дорогих, чем верхняя одежда (очаровательная изысканность!), по газу, по шелку, по бархатной отделке, а в особенности по белизне ручек, свидетельствующей об их праздности и лени, в этих девушках нетрудно было угадать знатных и богатых наследниц. Действительно, это были девица Флёр-де-Лис де Гонделорье и ее подруги: Диана де Кристейль, Амлота де Монмишель, Коломба де Гайльфонтен и маленькая Шаншеврие — все девушки благородного происхождения, собравшиеся в этот час у вдовствующей г-жи де Гонделорье. В апреле месяце в Париж должны были прибыть монсеньор де Боже с супругой и выбрать здесь фрейлин для мадам Маргариты, невесты дофина, чтобы встретить ее в Пикардии, куда ее доставят фламандцы. Все дворяне на тридцать лье в окружности добивались этой чести для своих дочерей; многие из них уже привезли или прислали своих дочерей в Париж. Эти девицы были поручены родителями разумному покровительству почтенной г-жи Алоизы де Гонделорье, вдовы бывшего начальника королевских стрелков, уединенно жившей со своей единственной дочерью в особняке на площади собора Богоматери.
Дверь балкона, на котором сидели молодые девушки, вела в богатый покой, обитый желтой фламандской кожей с тисненым золотым узором. Параллельно пересекавшие потолок балки веселили глаз тысячей причудливых лепных украшений, раскрашенных и позолоченных. Там и сям на резных ларях отливала всеми цветами радуги роскошная эмаль; фаянсовая кабанья голова увенчивала великолепный поставец, высота которого свидетельствовала о том, что хозяйка была женой или вдовой поместного дворянина, имевшего свое знамя. В глубине покоя, близ камина, сверху донизу покрытого гербами и эмблемами, в роскошном, обитом алым бархатом кресле сидела г-жа де Гонделорье, пятидесятилетняя женщина, о возрасте которой можно было догадаться и по ее лицу, и по ее одежде.
Возле нее стоял молодой человек, довольно представительный, но несколько фатоватый и самодовольный, — один из тех красавцев мужчин, которыми единодушно восхищаются женщины, хотя люди серьезные и физиономисты, глядя на них, пожимают плечами. Этот молодой дворянин был одет в блестящий мундир начальника королевских стрелков, настолько походивший на костюм Юпитера, уже описанный нами в первой части этого рассказа, что мы можем не утомлять читателя вторичным его описанием.
Благородные девицы сидели кто в комнате, кто на балконе: одни — на обитых утрехтским бархатом четырехугольных с золотыми углами подушках, другие — на дубовых скамьях, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край большого вышивания по канве, над которым они все вместе работали и добрая половина которого спускалась на циновку, покрывавшую пол.
Они переговаривались тем полушепотом, с тем придушенным смешком, которые свойственны молодым девушкам, когда среди них находится молодой человек. Однако молодой человек, одного присутствия которого было достаточно, чтобы подстрекнуть в них чувство женского самолюбия, сам, казалось, весьма мало об этом заботился и, в то время как прекрасные девицы наперебой старались обратить на себя его внимание, был преимущественно занят тем, что полировал замшевой перчаткой пряжку своей портупеи.
По временам хозяйка тихонько заговаривала с ним, и он охотно, но с какой-то неловкой и принужденной любезностью отвечал ей. По улыбкам, по незаметным условным знакам, по быстрым взглядам г-жи Алоизы, которые она, тихо разговаривая с капитаном, бросала в сторону своей дочери Флёр-де-Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшейся помолвке или о предстоящем в скором времени бракосочетании молодого человека с Флёр-де-Лис. А по холодности и смущению офицера было ясно, что ни о какой любви, с его стороны во всяком случае, тут не могло быть и речи. Все черты его лица выражали чувство стесненности и скуки, которые наши гарнизонные подпоручики ныне великолепно перевели бы фразой: «Вот собачья повинность-то!»
Но достойная дама, очень гордившаяся своею дочерью, со свойственным матери ослеплением не замечала равнодушия офицера и всеми силами старалась обратить его внимание на то, с каким изумительным совершенством Флёр-де-Лис втыкала иглу или распутывала моток ниток.
— Послушайте, милый кузен, взгляните же на нее! Вот она нагибается, — говорила она, притягивая его к себе за рукав, чтобы сказать ему это на ухо.
— Да, в самом деле, — отвечал молодой человек и снова впадал в свое ледяное и рассеянное молчание.
Минуту спустя ему снова приходилось наклоняться, и г-жа Алоиза шептала ему:
— Встречали ли вы когда-нибудь личико оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? А этот нежный цвет лица и белокурые волосы! А ее руки! Разве это не само совершенство? А шейка! Разве своей восхитительной гибкостью она не напоминает вам лебедя? Как я порой вам завидую! Как вы должны быть счастливы, что родились мужчиной, повеса вы этакий! Ведь правда, красота моей Флёр-де-Лис достойна обожания и вы влюблены в нее без памяти?
— Конечно, — отвечал он, думая о чем-то постороннем.
— Ну поговорите же с ней, — вдруг сказала г-жа Алоиза, легонько толкая его в плечо. — Скажите ей что-нибудь. Вы стали что-то очень застенчивы.
Мы можем уверить нашего читателя, что застенчивость отнюдь не была ни добродетелью, ни пороком капитана. Он, однако, попытался исполнить то, что от него требовали.
— Прекрасная кузина, — сказал он, подойдя к Флёр-де-Лис, — что изображает рисунок вышивки, над которой вы работаете?
— Прекрасный кузен, — с легкой досадой ответила Флёр-де-Лис, — я уже три раза объясняла вам, что это грот Нептуна.
Очевидно, Флёр-де-Лис понимала гораздо лучше, чем ее мать, что означает рассеянность и холодность капитана. Он почувствовал необходимость как-нибудь продолжить разговор.
— А для кого предназначается вся эта нептунология?
— Для аббатства Сент-Антуан-де-Шан, — не глядя на него, ответила Флёр-де-Лис.
Капитан приподнял уголок вышивки.
— А кто такой, моя прелестная кузина, этот здоровенный латник, который изо всех сил дует в трубу?
— Это Тритон, — ответила она.
В отрывистых ответах Флёр-де-Лис чувствовалась досада.
Молодой человек понял, что необходимо шепнуть ей что-нибудь на ухо: какую-нибудь любезность, вздор — все равно. Он наклонился к ней и сказал:
— Почему ваша матушка все еще носит украшенную гербами робу, как носили наши бабки при Карле Седьмом? Скажите ей, прекрасная кузина, что теперь это уже не в моде и что крюк и лавр[245], вышитые в виде герба на ее платье, придают ей вид ходячего каминного украшения. Теперь не принято восседать на своих гербах, клянусь вам!
Флёр-де-Лис подняла на него свои прекрасные глаза, полные укоризны.
— И это все, в чем вы мне можете поклясться? — тихим голосом спросила она.
А в это время достойная г-жа Алоиза, восхищенная тем, что они наклонились друг к другу и о чем-то шепчутся, проговорила, играя застежками своего Часослова:
— Какая трогательная картина любви! Смутившись еще больше, капитан снова устремил свое внимание на вышивку.
— Вот, право, очаровательная работа! — воскликнул он. При этом замечании Коломба де Гайльфонтен, другая красавица блондинка с нежной кожей, затянутая в голубой дамасский шелк, осмелилась, обратившись к Флёр-де-Лис, застенчиво вставить свое слово, в надежде, что на него ей ответит красавец капитан:
— Дорогая Гонделорье, а вы видели вышивки в особняке на Рош-Гийон?
— Это тот самый особняк, за оградой которого находится садик кастелянши Лувра? — спросила, смеясь, Диана де Кристейль; у нее были прелестные зубы, и поэтому она смеялась при всяком удобном случае.
— И где стоит эта большая старинная башня, оставшаяся от древней ограды Парижа? — добавила Амлота де Монмишель, хорошенькая кудрявая цветущая брюнетка, имевшая привычку вздыхать так же, как ее подруга смеяться, сама не зная почему.
— Милая Коломба, вы, по-видимому, говорите об особняке господина де Беквиль, жившего при Карле Шестом? Да, действительно, там были великолепные гобелены, — заметила г-жа Алоиза.
— Карл Шестой! Карл Шестой! — проворчал себе под нос молодой капитан, покручивая усы. — Боже мой, какую старину помнит эта почтенная дама!
Госпожа Гонделорье продолжала:
— Да-да, прекрасные гобелены. И такой искусной работы, что они считаются редкостью!
В эту минуту Беранжера де Шаншеврие, тоненькая семилетняя девочка, глядевшая на площадь сквозь резные трилистники балконной решетки, воскликнула:
— О! Посмотрите, дорогая крестная Флёр-де-Лис, какая хорошенькая плясунья танцует на площади и бьет в бубен вон там, среди этих грубых горожан!
Действительно, слышна была звучная дробь бубна.
— Какая-нибудь цыганка из Богемии, — небрежно ответила Флёр-де-Лис, обернувшись к площади.
— Посмотрим! Посмотрим! — воскликнули ее резвые подруги, и все устремились к решетке балкона; Флёр-де-Лис, задумавшись над холодностью своего жениха, медленно последовала за ними, а тот, избавленный благодаря этому случаю от затруднительного для него разговора, занял вновь свое место в глубине комнаты с довольным видом снятого с караула солдата. А между тем стоять на часах возле Флёр-де-Лис было очаровательной и приятной обязанностью; еще недавно он так и думал; но мало-помалу капитан пресытился этим, и близость предстоящего бракосочетания день ото дня все более охлаждала его пыл. К тому же у него был непостоянный характер и — следует ли признаться в этом? — пошловатый вкус. Несмотря на свое весьма знатное происхождение, он приобрел на военной службе немало солдафонских замашек. Ему нравились кабачки и все, что с ними связано. Он чувствовал себя совершенно непринужденно лишь там, где слышалась ругань, отпускались казарменные любезности, где красавицы были доступны и успех давался легко.
В семье ему дали некоторое образование и привили хорошие манеры, но он слишком юным покинул отчий дом, слишком юным попал на гарнизонную службу, и его дворянский лоск с каждым днем стирался от грубого прикосновения нагрудного ремня. Считаясь с общественным мнением, он посещал Флёр-де-Лис, но чувствовал себя с нею вдвойне стесненным: во-первых, потому, что он растратил свой любовный пыл во всевозможных притонах, почти ничего не оставив на долю невесты; во-вторых, потому, что постоянно опасался, как бы его рот, привыкший извергать ругательства, не закусил удила и не стал бы отпускать крепкие словца среди всех этих затянутых, благовоспитанных и чопорных красавиц. Можно себе представить, каково было бы впечатление!
Впрочем, все это сочеталось у него с большими притязаниями на изящество и на изысканность костюма и манер. Пусть читатель сам разберется во всем этом как ему угодно, я же только историк.
Итак, некоторое время он стоял, не то о чем-то размышляя, не то вовсе ни о чем не размышляя, и молчал, опершись о резной наличник камина, как вдруг Флёр-де-Лис, обернувшись к нему, спросила (в конце концов, бедная девушка была холодна с ним вопреки собственному сердцу):
— Милый кузен, вы, помнится, нам рассказывали о маленькой цыганочке, которую вы, делая ночной обход, вырвали из рук целой дюжины бродяг два месяца тому назад?
— Кажется, рассказывал, прелестная кузина, — отвечал капитан.
— Уж не она ли это пляшет там, на площади? Подойдите-ка сюда и посмотрите, прекрасный кузен Феб.
В этом кротком приглашении подойти к ней, а равно и в том, что она назвала его по имени, сквозило тайное желание примирения. Капитан Феб де Шатопер (ибо именно его с самого начала этой главы видит перед собой читатель) медленно направился к балкону.
— Поглядите на малютку, что пляшет там, в кругу, — обратилась к нему Флёр-де-Лис, нежно тронув его за плечо. — Не ваша ли это цыганочка?
Феб взглянул и ответил:
— Да, я узнаю ее по козочке.
— Ах! В самом деле, какая прелестная козочка! — восторженно всплеснув руками, воскликнула Амлота.
— А что, ее рожки и правда золотые? — спросила Беранжера.
Не вставая с кресла, г-жа Алоиза спросила:
— Не из тех ли она цыганок, что в прошлом году пришли в Париж через Жибарские ворота?
— Матушка, — кротко заметила ей Флёр-де-Лис, — ныне эти ворота называются Адскими воротами.
Девица Гонделорье хорошо знала, до какой степени коробили капитана устаревшие выражения ее матери. И действительно, он начал уже посмеиваться, повторяя сквозь зубы: «Жибарские ворота, Жибарские ворота! Скоро опять дело дойдет до короля Карла Шестого!»
— Крестная! — воскликнула Беранжера, живые глазки которой вдруг остановились на верхушке башни собора Парижской Богоматери. — Что это за черный человек там, наверху?
Все девушки взглянули вверх. Там действительно стоял какой-то человек, облокотившись на верхнюю балюстраду северной башни, выходившей на Гревскую площадь. Это был священник. Можно было ясно различить его одеяние и его лицо, которое он подпирал обеими руками. Он стоял застывший, словно статуя. Его пристальный взгляд был прикован к площади.
В своей неподвижности он напоминал коршуна, который приметил воробьиное гнездо и всматривался в него.
— Это архидьякон Жозасский, — сказала Флёр-де-Лис.
— У вас очень острое зрение, если вы отсюда узнали его! — заметила Гайльфонтен.
— Как он глядит на маленькую плясунью! — сказала Диана де Кристейль.
— Горе цыганке! — произнесла Флёр-де-Лис. — Он терпеть не может это племя.
— Очень жаль, если это так, — заметила Амлота де Монмишель, — она чудесно пляшет.
— Прекрасный кузен Феб, — сказала внезапно Флёр-де-Лис, — вам эта цыганочка знакома. Сделайте ей знак, чтобы она пришла сюда. Это нас позабавит.
— О да! — воскликнули все девушки, захлопав в ладоши.
— Но это безумие, — ответил Феб. — Она, по всей вероятности, забыла меня, а я даже не знаю, как ее зовут. Но раз вам это угодно, сударыня, я все же попытаюсь. — И, перегнувшись через перила балкона, он крикнул: — Эй, малютка!
Плясунья как раз в эту минуту опустила бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался оклик, ее сверкающий взор остановился на Фебе, и она вдруг замерла на месте.
— Эй, малютка! — повторил капитан и поманил ее рукой.
Цыганка еще раз взглянула на него, затем так зарделась, словно в лицо ей пахнуло огнем, и, взяв свой бубен под мышку, медленной поступью, неуверенно, с помутившимся взглядом птички, поддавшейся чарам змеи, направилась сквозь толпу изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звал Феб.
Мгновение спустя ковровая портьера приподнялась, и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, потупив свои большие глаза, не осмеливаясь ступить ни шагу дальше.
Беранжера захлопала в ладоши.
Цыганка продолжала неподвижно стоять на пороге. Ее появление оказало на молодых девушек странное действие. Несомненно, что всеми ими владело смутное и бессознательное желание пленить красивого офицера, что мишенью их кокетства был его блестящий мундир и что, с тех пор как он был среди них, между ними началось тайное, глухое, едва сознаваемое ими соперничество, которое тем не менее ежеминутно сказывалось в их жестах и речах. Все они были одинаково красивы и потому сражались равным оружием; каждая из них могла надеяться на победу. Цыганка сразу нарушила это равновесие. Девушка отличалась такой поразительной красотой, что в ту минуту, когда она показалась на пороге, комнату словно озарило какое-то сияние. В этой тесной гостиной, в темной раме панелей и обоев она была несравненно прекраснее и блистательнее, чем на площади. Она была словно факел, внесенный со света во мрак. Знатные девицы были невольно ослеплены. Каждая из них почувствовала себя уязвленной, и потому они без всякого предварительного сговора между собой (да простится нам это выражение!) тотчас же переменили фронт. Они отлично понимали друг друга. Инстинкт объединяет женщин гораздо быстрее, нежели разум — мужчин. Перед ними появился противник; это почувствовали все и сразу сплотились. Капли вина достаточно, чтобы окрасить целый стакан воды; чтобы испортить настроение целому собранию хорошеньких женщин, достаточно появления более красивой, в особенности если в их обществе всего лишь один мужчина.
Поэтому прием, оказанный цыганке, был удивительно холоден. Оглядев ее сверху донизу, они посмотрели друг на друга, и этим все было сказано! Все было понято без слов. Между тем молодая девушка ждала, что с нею заговорят, и была до того смущена, что не смела поднять ресниц.
Капитан первый нарушил молчание.
— Честное слово, — проговорил он своим самоуверенным и пошловатым тоном, — вот очаровательное создание! Что вы скажете, прелестная кузина?
Это замечание, которое более деликатный поклонник сделал бы вполголоса, не могло способствовать тому, чтобы рассеять женскую ревность, насторожившуюся при появлении цыганки.
Флёр-де-Лис с гримаской притворного пренебрежения ответила капитану:
— Недурна!
Остальные перешептывались.
Наконец г-жа Алоиза, не менее встревоженная, чем другие, если не за себя, то за свою дочь, сказала:
— Подойди-ка поближе, малютка.
— Подойди поближе, малютка! — с комической важностью повторила Беранжера, едва доходившая цыганке до пояса.
Цыганка приблизилась к знатной даме.
— Прелестное дитя, — сделав в свою очередь несколько шагов ей навстречу, напыщенно произнес капитан, — не знаю, удостоюсь ли я высокого счастья быть узнанным вами…
Она прервала его, улыбнувшись ему и подняв на него взгляд, полный глубокой нежности.
— О да! — ответила она.
— У нее хорошая память, — заметила Флёр-де-Лис.
— Однако как вы быстро убежали в тот вечер, — продолжал Феб. — Разве я вас напугал?
— О нет! — ответила цыганка.
В том, как было произнесено это «о нет!» вслед за этим «о да!», был какой-то особенный оттенок, который задел Флёр-де-Лис.
— Вы вместо себя, моя прелесть, оставили мне какого-то угрюмого чудака, горбатого и кривого, кажется звонаря архиепископа, — продолжал капитан, язык которого тотчас же развязался в разговоре с уличной девчонкой. — Мне сказали, что он побочный сын какого-то архидьякона, а по природе своей — сам дьявол. У него потешное имя: его зовут не то Великая пятница, не то Вербное воскресенье, не то Масленица, право, не помню. Одним словом, название большого праздника! И он имел смелость вас похитить, словно вы созданы для пономарей! Это уж слишком. Черт возьми, что от вас было нужно этому нетопырю? А, скажите?
— Не знаю, — ответила она.
— Какова дерзость! Какой-то звонарь похищает девушку, точно какой-нибудь виконт! Деревенский браконьер в погоне за дворянской дичью! Это неслыханно! Впрочем, он за это дорого поплатился. Мэтр Пьер́а Тортерю — самый крутой из конюхов, чистящих скребницей шкуру мошенников, и я могу вам сообщить, если только это вам доставит удовольствие, что он очень ловко обработал спину вашего звонаря.
— Бедняга! — произнесла цыганка, в памяти которой эти слова воскресили сцену у позорного столба.
Капитан громко расхохотался.
— Ах, черт подери! Тут сожаление так же уместно, как перо в заду у свиньи. Пусть я буду брюхат, как Папа, если… — Но тут он спохватился: — Простите, сударыни, я, кажется, сморозил какую-то глупость?
— Фи, сударь! — сказала Гайльфонтен.
— Он говорит языком этой особы! — заметила вполголоса Флёр-де-Лис, досада которой возрастала с каждой минутой. Эта досада отнюдь не уменьшилась, когда она заметила, что капитан, в восторге от цыганки, а еще больше от самого себя, повернулся на каблуках и с грубой простодушной солдатской любезностью повторил:
— Клянусь душой, прехорошенькая девчонка!
— Но в довольно диком наряде, — обнажая в улыбке свои прелестные зубы, сказала Диана де Кристейль.
Это замечание было лучом света для остальных. Оно обнаружило слабое место цыганки. Бессильные уязвить ее красоту, они набросились на ее одежду.
— Что это тебе вздумалось, моя милая, — сказала Амлота де Монмишель, — шататься по улицам без шемизетки и косынки?
— А юбчонка такая короткая, что просто ужас! — добавила Гайльфонтен.
— За ваш золоченый пояс, милочка, — довольно кисло проговорила Флёр-де-Лис, — вас может забрать городская стража.
— Малютка, малютка, — присовокупила с жестокой усмешкой Кристейль, — если бы ты пристойным образом прикрыла плечи рукавами, они не загорели бы так на солнце.
Эти красавицы девушки, с их ядовитыми и злыми язычками, извивающиеся, скользящие, суетящиеся вокруг уличной плясуньи, представляли собою зрелище, достойное более тонкого зрителя, чем Феб. Эти грациозные создания были бесчеловечны. Со злорадством они разбирали ее убогий и причудливый наряд из блесток и мишуры. Смешкам, издевкам, унижениям не было конца. Градом сыпались на цыганку язвительные насмешки, выражения высокомерного доброжелательства и злобные взгляды. Их можно было принять за молодых римских патрицианок, для забавы втыкающих в грудь красивой невольницы золотые булавки. Они напоминали изящных борзых на охоте; раздув ноздри, сверкая глазами, кружатся они вокруг бедной лесной лани, разорвать которую им запрещает строгий взгляд господина.
Да и что собой представляла жалкая уличная плясунья рядом с этими знатными девушками? Они нисколько не считались с ее присутствием и вслух говорили о ней как о чем-то неопрятном, ничтожном, хотя и довольно красивом.
Цыганка не была нечувствительна к этим булавочным уколам. По временам румянец стыда окрашивал ее щеки и молния гнева вспыхивала в очах; слово презрения, казалось, готово было сорваться с ее уст, и на лице ее появлялась пренебрежительная гримаска, уже знакомая читателю. Но она молчала. Она стояла неподвижно и смотрела на Феба покорным, печальным взглядом. В этом взгляде таились счастье и нежность. Можно было подумать, что она сдерживала себя, боясь быть изгнанной отсюда.
А Феб посмеивался и вступался за цыганку с жалостью и нахальством.
— Не обращай на них внимания, малютка! — повторял он, позванивая своими золотыми шпорами. — Ваш наряд, конечно, немного странен и дик, но для такой хорошенькой девушки это ничего не значит!
— Боже мой! — воскликнула белокурая Гайльфонтен, с горькой улыбкой выпрямляя свою лебединую шейку. — Я вижу, что королевские стрелки довольно легко воспламеняются от прекрасных цыганских глаз!
— А почему бы и нет? — проговорил Феб.
При этом столь небрежном ответе, брошенном наудачу, как бросают подвернувшийся камешек, даже не глядя, куда он упадет, Коломба расхохоталась, за ней Диана, Амлота и Флёр-де-Лис, но у последней при этом выступили слезы.
Цыганка, опустившая глаза при словах Коломбы и Гайльфонтен, вновь устремила на Феба взор, сияющий гордостью и счастьем. В это мгновение она была поистине прекрасна.
Почтенная дама, наблюдавшая эту сцену, чувствовала себя оскорбленной и ничего не понимала.
— Пресвятая Дева! — вскрикнула она внезапно. — Что это путается у меня под ногами? Ах, мерзкое животное!
То была козочка, прибежавшая сюда в поисках своей госпожи; бросившись к ней, она по дороге запуталась рожками в том ворохе материи, в который сбивались одежды благородной дамы, когда она садилась.
Это отвлекло внимание присутствующих в другую сторону. Цыганка молча высвободила козу.
— А! Вот и маленькая козочка с золотыми копытцами! — прыгая от восторга, воскликнула Беранжера.
Цыганка опустилась на колени и прижалась щекой к ласкавшейся к ней козочке. Она словно просила прощения за то, что покинула ее.
В это время Диана нагнулась к уху Коломбы:
— О Боже мой, как же я не подумала об этом раньше? Ведь это цыганка с козой. Говорят, что она колдунья и что ее коза умеет выделывать всевозможные чудеса!
— Тогда, — сказала Коломба, — пусть коза тоже позабавит нас каким-нибудь чудом.
Диана и Коломба с живостью обратились к цыганке:
— Малютка, заставь-ка козу проделать какое-нибудь чудо.
— Я не понимаю вас, — ответила плясунья.
— Ну, какое-нибудь волшебство, колдовство, — одним словом, чудо!
— Не понимаю.
И она опять принялась ласкать хорошенькое животное, повторяя: «Джали! Джали!»
В это мгновение Флёр-де-Лис заметила расшитый кожаный мешочек, висевший на шее у козочки.
— Что это такое? — спросила она у цыганки. Цыганка подняла на нее свои большие глаза и серьезно ответила:
— Это моя тайна.
«Хотела бы я узнать, что у тебя за тайна», — подумала Флёр-де-Лис.
Между тем почтенная дама, встав с недовольным видом со своего места, сказала:
— Ну, цыганка, если ни ты, ни твоя коза не можете ничего проплясать, то что же вам здесь нужно?
Цыганка, не отвечая, медленно направилась к двери. Но чем ближе она подвигалась к выходу, тем медленнее становился ее шаг. Казалось, ее удерживал какой-то невидимый магнит. Внезапно, обратив свои влажные от слез глаза к Фебу, она остановилась.
— Клянусь Богом, — воскликнул капитан, — так уходить не полагается! Вернитесь и пропляшите нам что-нибудь. А кстати, душенька, как вас звать?
— Эсмеральда, — ответила плясунья, не отводя от него взора.
При этом странном имени молодыми девушками овладел безумный смех.
— Какое ужасное имя для девушки! — воскликнула Диана.
— Вы видите теперь, что это колдунья! — сказала Амлота.
— Ну, милая моя, — торжественно произнесла г-жа Алоиза, — такое имя нельзя выудить из купели, в которой крестят младенцев.
Между тем Беранжера, неприметно для других, успела с помощью марципана заманить козочку в угол комнаты. Через минуту они уже подружились. Любопытная девочка сняла мешочек, висевший на шее у козочки, развязала его и высыпала на циновку содержимое. Это была азбука, каждая буква которой была написана отдельно на маленькой дощечке из букового дерева. Едва только эти игрушки рассыпались по циновке, как ребенок, к своему изумлению, увидел, что коза принялась за одно из своих «чудес»: она стала отодвигать золоченым копытцем определенные буквы и, потихоньку подталкивая, располагать их в известном порядке. Получилось слово, по-видимому хорошо знакомое ей — так быстро и без заминки она его составила. Восторженно всплеснув руками, Беранжера воскликнула:
— Крестная, посмотри-ка, что сделала козочка!
Флёр-де-Лис подбежала и вздрогнула. Разложенные на полу буквы составляли слово
ФЕБ.
— Это написала коза? — прерывающимся голосом спросила она.
— Да, крестная, — ответила Беранжера.
Сомневаться было невозможно: ребенок не умел писать. «Так вот ее тайна!» — подумала Флёр-де-Лис. На возглас ребенка прибежали все остальные: мать, молодые девушки, цыганка и офицер.
Цыганка увидела, какую оплошность сделала ее козочка. Она вспыхнула, затем побледнела и, словно уличенная в преступлении, вся дрожа, стояла перед капитаном, который глядел на нее с удивленной и самодовольной улыбкой.
— Феб! — шептали пораженные молодые девушки. — Но ведь это имя капитана!
— У вас отличная память! — сказала Флёр-де-Лис окаменевшей цыганке. Потом, разразившись рыданиями, она горестно пролепетала, закрыв лицо прекрасными руками: «О, это колдунья!» А в глубине ее сердца какой-то еще более горестный голос прошептал: «Это соперница».
Флёр-де-Лис упала без чувств.
— Дочь моя! Дочь моя! — вскричала испуганная мать. — Убирайся вон, чертова цыганка!
Эсмеральда мигом подобрала злополучные буквы, сделала знак Джали, выбежала в одну дверь, между тем как Флёр-де-Лис выносили в другую.
Капитан Феб, оставшись в одиночестве, колебался с минуту, в какую дверь ему направиться, и последовал за цыганкой.
Глава 2
Священник и философ не одно и то же
Священник, которого молодые девушки заметили на верхушке северной башни и который так внимательно следил, перегнувшись через перила, за пляской цыганки, был действительно архидьякон Клод Фролло.
Наши читатели не забыли таинственной кельи, устроенной для себя архидьяконом в этой башне. (Между прочим, я не уверен в том, но, возможно, это та самая келья, внутрь которой можно заглянуть еще и теперь сквозь четырехугольное слуховое оконце, проделанное на высоте человеческого роста, с восточной стороны площадки, откуда устремляются ввысь башни собора. Ныне это — голая, пустая, обветшалая каморка, плохо оштукатуренные стены которой там и сям «украшены» отвратительными пожелтевшими гравюрами, изображающими фасады разных соборов. Надо полагать, что эту дыру населяют летучие мыши и пауки, а следовательно, там ведется двойная истребительная война против мух.)
Ежедневно за час до солнечного заката архидьякон поднимался по башенной лестнице и запирался в келье, порой проводя в ней целые ночи. В этот день, когда он, дойдя до низенькой двери своего убежища, вкладывал в замочную скважину замысловатый ключ, который он неизменно носил при себе в кошеле, висевшем у него на поясе, до его слуха долетели звуки бубна и кастаньет. Звуки эти неслись с Соборной площади. В келье, как мы уже упоминали, было только одно окошечко, выходящее на купол собора. Клод Фролло поспешно выдернул ключ из двери и минуту спустя стоял уже на верхушке башни в той мрачной и сосредоточенной позе, в которой его и заметили девицы.
Он стоял там серьезный, неподвижный, поглощенный одним-единственным зрелищем, одной-единственной мыслью. Весь Париж расстилался у его ног, с тысячью шпилей своих стрельчатых зданий, с окружавшим его кольцом мягко очерченных холмов на горизонте, с рекой, змеившейся под мостами, с толпой, переливавшейся по улицам, с облаком своих дымков, с неровной цепью кровель, теснившей собор Богоматери своими частыми звеньями. Но во всем этом городе архидьякон видел лишь один уголок его мостовой — Соборную площадь; среди всей этой толпы лишь одно существо — цыганку.
Трудно было бы определить, что выражал этот взгляд и чем порожден горевший в нем пламень. То был взгляд неподвижный и в то же время полный смятения и тревоги. Судя по глубокому оцепенению всего тела, по которому лишь изредка, словно по дереву, сотрясаемому ветром, пробегал невольный трепет, по окостенелости локтей, более неподвижных, чем мрамор перил, служивший им опорой, по застывшей улыбке, искажавшей лицо, всякий сказал бы, что в Клоде Фролло в эту минуту жили одни только глаза.
Цыганка плясала. Она вертела бубен на кончике пальца и, танцуя провансальскую сарабанду[246], подбрасывала его в воздух, проворная, легкая, радостная, она не чувствовала тяжести страшного взгляда, падавшего на нее сверху.
Вокруг нее кишела толпа; время от времени какой-то мужчина, наряженный в желто-красную куртку, расширял около нее круг и затем вновь усаживался на стул в нескольких шагах от плясуньи, прижимая головку козочки к своим коленям. По-видимому, этот мужчина был спутником цыганки. Клод Фролло с той высоты, на которой находился, не мог ясно разглядеть черты его лица.
Как только архидьякон заметил этого незнакомца, его внимание, казалось, раздвоилось между ним и плясуньей, и с каждой минутой он становился мрачнее. Внезапно он выпрямился, и по его телу пробежала дрожь.
— Что это за человек? — пробормотал он сквозь зубы. — Я всегда видел ее одну!
И, скрывшись под извилистыми сводами винтовой лестницы, он спустился вниз. Минуя приотворенную дверь звонницы, он заметил нечто поразившее его: он увидел Квазимодо, который через щель одного из шиферных навесов, напоминающих громадные жалюзи, наклонившись, тоже смотрел на площадь. Он настолько ушел в созерцание, что даже не заметил, как мимо него прошел его приемный отец. Обычно угрюмый взгляд звонаря приобрел какое-то странное выражение. То был восхищенный и нежный взгляд.
— Как странно! — пробормотал Клод. — Неужели он так смотрит на цыганку?
Он продолжал спускаться. Через несколько минут озабоченный архидьякон вышел на площадь через дверь у подножия башни.
— А куда же девалась цыганка? — спросил он, смешавшись с толпой зрителей, привлеченных звуками бубна.
— Не знаю, — ответил ему ближайший из них, — она куда-то исчезла. Вероятно, пошла плясать фанданго вон в тот дом напротив, откуда ее кликнули.
Вместо цыганки на том самом ковре, арабески которого еще за минуту перед тем исчезали под капризным узором ее пляски, архидьякон увидел человека, одетого в красное и желтое; желая, в свою очередь, заработать несколько серебряных монет, он прохаживался по кругу, упершись руками в бока, запрокинув голову, с багровым лицом, вытянутой шеей и держа в зубах стул. К этому стулу он привязал взятую напрокат у соседки кошку, громко выражавшую свой испуг и неудовольствие.
— Владычица! — воскликнул архидьякон, когда фигляр, на лбу которого выступили крупные капли пота, проносил мимо него свою пирамиду из кошки и стула. — Чем это занимается здесь мэтр Пьер Гренгуар?
Суровый голос архидьякона привел в такое замешательство бедного малого, что он со всем своим сооружением потерял равновесие, и среди отчаянного гиканья стул с кошкой обрушился на головы зрителей.
Весьма вероятно, что мэтру Пьеру Гренгуару (ибо это был именно он) пришлось бы дорого поплатиться и за соседскую кошку, и за все ушибы и царапины окружавших его зрителей, если бы он не поторопился, воспользовавшись произошедшей суматохой, скрыться в церкви, куда Клод Фролло знаком пригласил его следовать за собой.
Внутри собора было уже пусто и сумрачно. Боковые приделы заволокло тьмой, а лампады мерцали, как звезды, — так глубок был мрак, окутывавший своды. Лишь большая розетка фасада, разноцветные стекла которой купались в лучах заката, искрилась в темноте, словно груда алмазов, отбрасывая свой ослепительный спектр на другой конец нефа.
Пройдя немного вперед, отец Клод прислонился к одной из колонн и пристально взглянул на Гренгуара. Но это не был взгляд, которого боялся Гренгуар, пристыженный тем, что такая важная и ученая особа застала его в наряде фигляра. Во взоре священника не чувствовалось ни насмешки, ни иронии: он был серьезен, спокоен и проницателен. Архидьякон первый нарушил молчание:
— Послушайте, мэтр Пьер, вы многое должны мне объяснить. Прежде всего, почему вас не было видно почти два месяца, а теперь вы появляетесь на перекрестках и в премилом костюме — нечего сказать! — наполовину желтом, наполовину красном, словно кодебекское яблоко?
— Мессир, — жалобно ответил Гренгуар, — это действительно необычный наряд, и я чувствую себя в нем ничуть не лучше кошки, которой надели бы на голову тыкву. Я сознаю, что с моей стороны очень скверно подвергать господ сержантов городской стражи риску обработать палками плечи философа-пифагорийца, скрывающегося под этой курткой. Но что поделаешь, достопочтенный учитель? Виноват в этом мой старый камзол, столь подло покинувший меня в самом начале зимы под тем предлогом, что он рассыпается в клочья и что ему необходимо отправиться на покой в корзину тряпичника. Что делать? Цивилизация еще не достигла той степени развития, когда можно было бы расхаживать нагишом, как того желал старик Диоген. Прибавьте к этому, что повеял очень холодный ветер и что январь — неподходящий месяц для успешного продвижения человечества на эту новую ступень цивилизации. Тут подвернулась мне вот эта куртка. Я взял ее и незамедлительно сбросил мой старый черный кафтан, который для герметика, каковым я являюсь, был далеко не герметически закрыт. И вот я, наподобие блаженного Генесия[247], облачен в одежду жонглера[248]. Что поделаешь? Это временное затмение моей звезды. Приходилось же Аполлону пасти свиней у царя Адмета!
— Недурное у вас ремесло! — заметил архидьякон.
— Я совершенно согласен с вами, учитель, что гораздо более почтенно философствовать, писать стихи, раздувать пламя в горне или доставать его с неба, нежели подымать на щит кошек. Поэтому-то, когда вы меня окликнули, я почувствовал себя глупее, чем осел перед вертелом. Но что делать, мессир! Ведь надо как-то перебиваться, а самые прекрасные александрийские стихи не заменят зубам куска сыра бри. Недавно я сочинил в честь Маргариты Фландрской известную вам эпиталаму, но город мне за нее не уплатил под тем предлогом, что она недостаточно совершенна. Как будто можно было за четыре экю сочинить трагедию Софокла! Я обречен был на голодную смерть. К счастью, у меня оказалась очень крепкая челюсть, и я сказал ей: «Показывай-ка твою силу и прокорми себя сама эквилибристическими упражнениями. Ale te ipsam[249]». Шайка оборванцев, ставших моими добрыми приятелями, научила меня множеству различных атлетических штук, и ныне я каждый вечер отдаю моим зубам тот хлеб, который они в поте лица моего зарабатывают днем. Оно конечно, concedo, я согласен, что это очень жалкое применение моих умственных способностей и что человек не создан для того, чтобы всю жизнь бить в бубен и запускать зубы в стулья. Но, почтенный учитель, мало того, что живешь, нужно еще поддерживать жизнь.
Отец Клод слушал молча. Внезапно его глубоко запавшие глаза приняли выражение такой проницательности и прозорливости, что Гренгуару показалось, будто этот взгляд перерыл его душу до самого дна.
— Все это очень хорошо, мэтр Пьер, но почему вы очутились в обществе цыганской плясуньи?
— Черт возьми! — ответил Гренгуар. — Да потому, что она моя жена, а я ее муж.
Сумрачный взгляд священника загорелся.
— И ты осмелился это сделать, несчастный?! — вскричал он, яростно хватая руку Гренгуара. — Неужели Бог настолько отступился от тебя, что ты мог коснуться этой девушки?
— Если только это вас беспокоит, монсеньор, — весь дрожа, ответил Гренгуар, — то, клянусь спасением своей души, я никогда не прикасался к ней.
— Так что же ты болтаешь о муже и жене? Гренгуар поспешил вкратце рассказать ему все то, о чем уже знает читатель: о своем приключении во Дворе чудес и о своем венчанье с разбитой кружкой. Но до сих пор брак ни к чему не привел, так как цыганка каждый вечер, как и в первый раз, ловко обманывала его надежды на брачную ночь.
— Это досадно, — заключил он, — но причина этого в том, что я имел несчастье жениться на девственнице.
— Что вы этим хотите сказать? — спросил архидьякон, постепенно успокаиваясь во время рассказа Гренгуара.
— Это очень трудно вам объяснить, — ответил поэт, — это своего рода суеверие. Моя жена, как это объяснил мне один старый плут, которого у нас величают герцогом египетским, подкидыш или найденыш, что, впрочем, одно и то же. Она носит на шее талисман, который, как уверяют, поможет ей когда-нибудь отыскать своих родителей, но который утратит свою силу, как только девушка утратит целомудрие. Отсюда следует, что мы оба остаемся весьма целомудренными.
— Значит, мэтр Пьер, — спросил Клод, лицо которого все более и более прояснялось, — вы полагаете, что к этой твари еще не прикасался ни один мужчина?
— Что может мужчина поделать против суеверия, отец Клод? Она это вбила себе в голову. Полагаю, что эта монашеская добродетель, так свирепо себя охраняющая, — большая редкость среди этих цыганских девчонок, которых вообще легко приручить. Но у нее есть три покровителя: египетский герцог, взявший ее под свою защиту в надежде, вероятно, продать ее какому-нибудь проклятому аббату; затем все ее племя, которое чтит ее, точно Богородицу; и, наконец, крошечный кинжал, который плутовка носит всегда при себе, несмотря на запрещение господина прево, и который тотчас же появляется у нее в руках, как только обнимешь ее за талию. Это настоящая оса, уверяю вас!
Архидьякон засыпал Гренгуара вопросами.
По мнению Гренгуара, Эсмеральда была безобидное и очаровательное существо. Она — красавица, когда не строит свою гримаску. Наивная и страстная девушка, не знающая жизни и всем увлекающаяся; она не имеет даже понятия о различии между мужчиной и женщиной — вот она какая! Дитя природы, она любит пляску, шум, жизнь под открытым небом; это женщина-пчела с невидимыми крыльями на ногах, живущая в каком-то постоянном вихре. Своим характером она обязана тому бродячему образу жизни, который она постоянно вела. Гренгуару удалось узнать, что, еще будучи ребенком, она исходила Испанию и Каталонию вплоть до Сицилии; он предполагал даже, что цыганский табор, в котором она жила, водил ее в Алжирское царство, лежавшее в Ахайе, а сия Ахайя граничит с одной стороны с маленькой Албанией и Грецией, а с другой — с Сицилийским морем, этим путем в Константинополь. Цыгане, по словам Гренгуара, были вассалами алжирского царя как главы всего племени белых мавров. Но достоверно было лишь то, что во Францию Эсмеральда пришла в очень юном возрасте через Венгрию. Из всех этих стран молодая девушка вынесла обрывки странных наречий, иноземные песни и понятия, которые превращают ее речь в нечто столь же пестрое, как и ее полупарижский-полуафриканский наряд. Но жители тех кварталов, которые она посещает, любят ее за жизнерадостность, за приветливость, за живость, за ее пляски и песни. Она считает, что во всем городе ее ненавидят два человека, о которых она нередко говорит с содроганием: вретишница Роландовой башни, противная затворница, которая неизвестно почему таит злобу против всех цыганок и проклинает бедную плясунью всякий раз, когда та проходит мимо ее оконца, и какой-то священник, который при встрече с ней пугает ее своим взглядом и словами. Последняя подробность сильно взволновала архидьякона, но Гренгуар не обратил на это внимания, настолько двухмесячный промежуток времени успел изгладить из памяти беззаботного поэта странные подробности того вечера, когда он впервые встретил цыганку, и то обстоятельство, что при этом присутствовал архидьякон. Впрочем, маленькая плясунья ничего не боится: она ведь не занимается гаданьем, и потому ей нечего опасаться обвинений в колдовстве, за что так часто судят цыганок. Помимо того, Гренгуар если и не был ей мужем, то, во всяком случае, заменял ей брата. В конце концов, философ весьма терпеливо сносил эту форму платонического супружества. Как-никак, у него был кров и кусок хлеба. Каждое утро он, чаще всего вместе с цыганкой, покидал воровской квартал и помогал ей делать на перекрестках ежедневный сбор экю и мелкого серебра; каждый вечер он возвращался с нею под общий кров, не препятствовал ей запирать на задвижку дверь своей каморки и засыпал сном праведника. Существование это, говорил он, если вдуматься, было очень приятным и весьма располагало к мечтательности. К тому же, по совести говоря, философ не был твердо убежден в том, что безумно влюблен в цыганку. Он почти так же любил и ее козочку. Это очаровательное животное, кроткое, умное, понятливое — словом, ученая козочка. В Средние века такие ученые животные, восхищавшие зрителей и нередко доводившие своих учителей до костра, были весьма заурядным явлением. Но чудеса козочки с золотыми копытцами являлись самой невинной хитростью. Гренгуар объяснил их архидьякону, который с интересом выслушал все подробности. В большинстве случаев достаточно было то так, то эдак повертеть бубном перед козочкой, чтобы заставить ее проделать желаемый фокус. Обучила ее всему цыганка, обладавшая в этом тонком деле столь необыкновенным талантом, что ей достаточно было двух месяцев, чтобы научить козочку из отдельных букв складывать слово «Феб».
— Феб? — спросил священник. — Почему же Феб?
— Не знаю, — ответил Гренгуар. — Быть может, она считает, что это слово одарено каким-то магическим и тайным свойством. Она часто вполголоса повторяет его, когда ей кажется, что она одна.
— Вы уверены в том, что это слово, а не имя? — спросил Клод, проницательным взором глядя на Гренгуара.
— Чье имя? — спросил поэт.
— Кто знает, — ответил священник.
— Вот что я думаю, мессир! Цыгане отчасти огнепоклонники и боготворят солнце. Отсюда и взялось слово «Феб».
— Мне это не кажется столь ясным, как вам, мэтр Пьер.
— В сущности, меня это мало трогает. Пусть бормочет себе на здоровье своего «Феба» сколько ей заблагорассудится. Верно только то, что Джали любит меня уже почти так же, как и ее.
— Кто это — Джали?
— Козочка.
Архидьякон подпер подбородок рукой и на мгновение задумался. Внезапно он круто повернулся к Гренгуару:
— И ты мне клянешься, что не прикасался к ней?
— К кому? — спросил Гренгуар. — К козочке?
— Нет, к этой женщине.
— К моей жене? Клянусь вам: нет!
— А ты часто бываешь с ней наедине?
— Каждый вечер, не меньше часа. Отец Клод нахмурил брови.
— О! О! Solus cum sola non cogitabuntur orare «Pater noster»[250].
— Клянусь душой, что я мог бы прочесть при ней и «Pater noster», и «Ave Maria», и «Credo in Deum patrem omnipotentem»[251], и она обратила бы на меня столько же внимания, сколько курица на церковь.
— Поклянись мне утробой твоей матери, что ты и пальцем не прикасался к этой твари, — с силой повторил архидьякон.
— Я готов поклясться в этом и головой моего отца, поскольку между той и другой существует известное соотношение. Но, уважаемый учитель, разрешите и мне в свою очередь задать вам один вопрос.
— Спрашивай.
— Какое вам до всего этого дело?
Бледное лицо архидьякона вспыхнуло, как щеки молодой девушки. Некоторое время он молчал и затем с явным замешательством ответил:
— Слушайте, мэтр Пьер Гренгуар. Вы, насколько мне известно, еще не погубили свою душу. Я принимаю в вас участие и желаю вам добра. Малейшее сближение с этой дьявольской цыганкой отдаст вас во власть сатаны. Вы ведь знаете, что именно плоть всегда губит душу. Горе вам, ежели вы приблизитесь к этой женщине! Вот и все.
— Я однажды было попробовал, — почесывая у себя за ухом, проговорил Гренгуар, — это было в первый день, да накололся на осиное жало.
— У вас хватило на это бесстыдства, мэтр Пьер? И лицо священника омрачилось.
— В другой раз, — улыбаясь, продолжал поэт, — я, прежде чем лечь спать, приложился к замочной скважине и ясно увидел в одной сорочке прелестнейшую из всех женщин, под чьими обнаженными ножками когда-либо скрипела кровать.
— Убирайся к черту! — вперив в него страшный взгляд, крикнул священник и, толкнув изумленного Гренгуара в плечо, большими шагами скрылся под самой темной из аркад собора.
Глава 3
Колокола
Со дня казни у позорного столба люди, жившие близ собора Парижской Богоматери, заметили, что звонарский пыл Квазимодо значительно охладел. В былое время колокольный звон раздавался по всякому поводу: протяжный благовест — к заутрене и к повечерью, гул большого колокола — к поздней обедне, а в часы венчанья и крестин — полнозвучные гаммы, пробегавшие по малым колоколам и переплетавшиеся в воздухе, словно узор из пленительных звуков. Древний храм, трепещущий и гулкий, был наполнен неизбывным весельем колоколов. В нем постоянно ощущалось присутствие шумного своевольного духа, певшего всеми этими медными устами. Но ныне дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно хранящим безмолвие. В праздничные дни и в дни похорон обычно слышался сухой, будничный, простой звон, как то полагалось по церковному уставу, но не более. Из того двойного гула, который исходит от церкви и рождается органом внутри и колоколами извне, остался лишь голос органа. Казалось, звонницы лишились своих музыкантов. А между тем Квазимодо все еще обитал там. Что же произошло с ним? Быть может, в сердце его гнездились стыд и отчаяние, пережитые им у позорного столба; или все еще отдавались в его душе удары плети палача; или боль наказания заглушила в нем все, вплоть до его страсти к колоколам? А может статься, «Мария» обрела в его сердце соперницу, и большой колокол с его четырнадцатью сестрами был забыт ради чего-то более прекрасного?
Случилось, что в год от Рождества Христова 1482-й, день Благовещения, 25 марта, пришелся во вторник. И воздух был так чист тогда и прозрачен, что в сердце Квазимодо ожила былая любовь к колоколам. Он поднялся на северную башню, пока причетник раскрывал внизу настежь церковные двери, представлявшие собой в то время громадные створы из крепкого дерева, обтянутые кожей, прибитой по краям железными позолоченными гвоздями, и обрамленные скульптурными украшениями «сугубо искусной работы».
Войдя в верхнюю часть звонницы, он смотрел некоторое время на висевшие там шесть колоколов и грустно покачивал головой, словно сокрушаясь о том, что в его сердце между ним и его любимцами встало что-то чуждое. Но когда он раскачал их, когда он почувствовал, как заколыхалась под его рукой вся эта гроздь колоколов, когда он увидел — ибо слышать он не мог, — как по этой звучащей лестнице, словно птичка, перепархивающая с ветки на ветку, вверх и вниз пробежала трепетная октава, когда демон музыки, этот дьявол, потряхивающий искристой связкой стретто, трелей и арпеджио, завладел несчастным глухим, тогда он вновь обрел счастье; он забыл все, и облегченье, испытываемое его сердцем, отразилось на его просветлевшем лице.
Он ходил взад и вперед, хлопал в ладоши, перебегал от одной веревки к другой, голосом и жестом подбадривая своих шестерых певцов, — так дирижер оркестра воодушевляет искусных музыкантов.
— Ну! Габриэль, вперед! — говорил он. — Нынче праздник, затопи площадь звуками. Не ленись, Тибо! Ты отстаешь. Да ну же! Ты заржавел, бездельник, что ли? Так! Хорошо! Живей, живей, чтобы не видно было языка! Оглуши их всех, чтобы они стали как я! Так, Тибо, молодчина! Гильом! Гильом! Ведь ты самый большой, а Паскье самый маленький, и все же он тебя обгоняет. Бьюсь об заклад, что те, кто может слышать, слышат его лучше, чем тебя! Хорошо, хорошо, моя Габриэль! Громче, еще громче! Эй, Воробьи! Что вы там оба делаете на вышке? Вас вовсе не слышно. Это еще что за медные клювы? Они как будто зевают, вместо того чтобы петь! Извольте работать! Ведь нынче Благовещение. В такой отличный солнечный день и благовест должен звучать отлично! Бедняга Гильом, ты совсем запыхался, толстяк!
Он был совершенно поглощен колоколами, а они, все шестеро, подстрекаемые его окриками, подпрыгивали вперегонки, встряхивая своими блестящими крупами, точно шумная запряжка испанских мулов, то и дело подгоняемая уколами заостренной палки погонщика.
Внезапно, взглянув в просветы между широкими шиферными щитками, перекрывавшими проемы в отвесной стене колокольни, он увидел остановившуюся на площади молоденькую девушку в причудливом наряде, расстилавшую ковер, на который вспрыгнула козочка. Вокруг них уже собралась группа зрителей. Это зрелище круто изменило направление его мыслей и, подобно дуновению ветра, охлаждающему растопленную смолу, остудило его музыкальный пыл. Он выпустил из рук веревки, повернулся спиной к колоколам и присел на корточки позади шиферного навеса, устремив на плясунью тот нежный, мечтательный и кроткий взор, который уже однажды поразил архидьякона. Забытые колокола сразу смолкли, к великому разочарованию любителей церковного звона, внимательно слушавших его с моста Менял и разошедшихся с тем чувством недоумения, которое испытывает собака, когда ей, показав кость, дают камень.
Глава 4
’ANÀГKH
Однажды, в погожее утро того же марта месяца, кажется в субботу 29-го числа, в день Святого Евстафия, наш молодой друг, школяр Жеан Фролло Мельник, одеваясь, заметил, что карман его штанов, где лежал кошелек, не издает больше металлического звука.
— Бедный кошелек! — воскликнул он, вытаскивая его на свет Божий. — Как! Ни одного су? Однако здорово же тебя выпотрошили кости, пиво и Венера! Ты совсем пустой, сморщенный, дряблый! Точно грудь ведьмы! Я спрашиваю вас, судари мои, Цицерон и Сенека, произведения которых в покоробленных переплетах валяются вон там на полу, я спрашиваю вас: какая мне польза, если я лучше любого начальника монетного двора или еврея с моста Менял знаю, что золотое экю с короной весит тридцать пять унций по двадцать пять су и восемь парижских денье каждая, что экю с полумесяцем весит тридцать шесть унций по двадцать шесть су и шесть турских денье каждая, — какая мне от этого польза, если у меня нет даже презренного лиара, чтобы поставить на двойную шестерку в кости? О консул Цицерон, вот бедствие, из которого не выпутаешься пространными рассуждениями и всякими quemadmodum и verum enim vero![252]
Он продолжал одеваться. В то время как он уныло шнуровал башмаки, его осенила некая мысль, но он отогнал ее; однако она вновь вернулась, и он надел жилет наизнанку — явный признак сильнейшей внутренней борьбы. Наконец, с сердцем швырнув свою шапочку оземь, он воскликнул:
— Тем хуже! Будь что будет! Пойду к брату! Нарвусь на проповедь, зато раздобуду хоть одно экю.
Поспешно набросив на себя кафтан с подбитыми мехом широкими рукавами, он подобрал с пола шапочку и в совершенном отчаянии выбежал из дому.
Он спустился по улице Подъемного моста к Ситэ. Когда он проходил по улице Охотничьего рожка, восхитительный запах мяса, которое жарилось на непрестанно повертывавшихся вертелах, защекотал его обоняние. Он любовно взглянул на гигантскую съестную лавку, при виде которой у францисканского монаха Калатажирона однажды вырвалось сие патетическое восклицание: «Veramente, questo rotisserie sono cosa stupenda!»[253] Ho Жеану нечем было заплатить за завтрак, и он, тяжело вздохнув, вошел под портик Пти-Шатле, громадный шестигранник массивных башен, охранявших вход в Ситэ.
Он даже не приостановился, чтобы, по принятому обычаю, швырнуть камнем в статую презренного Перине-Леклерка, сдавшего при Карле VI Париж англичанам, — преступление, за которое его статуя с лицом, избитым камнями и испачканным грязью, несла покаяние уже целых три столетия, стоя на перекрестке улиц Подъемного моста и Бюси, словно у вечного позорного столба.
Перейдя через Малый мост и быстро миновав Новую Сент-Женевьевскую улицу, Жеан де Молендино очутился перед собором Парижской Богоматери. Тут им вновь овладела нерешительность, и некоторое время он прогуливался вокруг статуи господина Легри, повторяя с тоской:
— Проповедь — вне сомнения, а вот экю — сомнительно! Он окликнул выходившего из собора причетника:
— Где господин архидьякон Жозасский?
— Мне кажется, он в своей башенной келье, — ответил причетник, — и я вам не советую его беспокоить, если только, конечно, вы не посол от кого-нибудь вроде Папы или короля.
Жеан захлопал в ладоши:
— Черт возьми! Вот прекрасный случай взглянуть на эту пресловутую колдовскую нору!
Это соображение заставило его решиться; он смело направился к маленькой темной двери и стал взбираться по винтовой лестнице Святого Жиля, ведущей в верхние ярусы башни.
«Клянусь Пресвятой Девой, — размышлял он по дороге, — прелюбопытная вещь, должно быть, эта каморка, которую мой уважаемый братец скрывает, точно свой срам. Говорят, что он разводит там адскую стряпню и варит на большом огне философский камень. Фу, дьявол! Мне этот философский камень так же нужен, как булыжник. Я предпочел бы увидеть на его очаге небольшую яичницу на сале, чем самый большой на свете философский камень!»
Добравшись до галереи с колоннами, он перевел дух, ругая бесконечную лестницу и призывая на нее миллионы чертей; затем, пройдя сквозь узкую дверку северной башни, ныне закрытую для публики, он вновь стал подниматься вверх. Через несколько минут, миновав колокольную клеть, он увидел небольшую площадку, устроенную в боковом углублении, а под сводом — низенькую стрельчатую дверку. Свет, падавший из бойницы, пробитой против нее в круглой стене лестничной клетки, позволял разглядеть огромный замок и массивные железные скрепы. Те, кто в настоящее время поинтересуется взглянуть на эту дверь, узнают ее по надписи, выцарапанной белыми буквами на черной стене: «Я обожаю Корали. 1823. Подписано Эжен». «Подписано» значится в самом тексте.
— Уф! — вздохнул школяр. — Должно быть, здесь!
Ключ торчал в замке. Жеан стоял возле самой двери. Тихонько приоткрыв ее, он просунул в отверстие голову.
Читателю, несомненно, приходилось видеть великолепные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. В числе его многих чудесных гравюр особо примечателен один офорт, изображающий, как полагают, доктора Фауста. На этот офорт нельзя смотреть без глубокого волнения. Пред вами мрачная келья. Посреди нее стол, загроможденный странными предметами: это черепа, глобусы, реторты, циркули, пергаменты, покрытые иероглифами. Ученый сидит перед столом, облаченный в свою широкую мантию; меховая шапка надвинута на самые брови. Видна лишь верхняя половина его туловища. Он несколько привстал со своего огромного кресла, сжатые кулаки его опираются на стол. Он с любопытством и ужасом всматривается в светящийся широкий круг, составленный из каких-то магических букв и горящий на задней стене комнаты, как солнечный спектр в камере-обскуре[254]. Это кабалистическое солнце словно дрожит и освещает сумрачную келью таинственным сиянием. Это и жутко и прекрасно!
Нечто похожее на келью доктора Фауста представилось глазам Жеана, когда он осторожно просунул голову в полуотворенную дверь. Это было такое же мрачное, слабо освещенное помещение. И здесь тоже стояло большое кресло и большой стол, те же циркули и реторты, скелеты животных, свисавшие с потолка, валяющийся на полу глобус, на манускриптах, испещренных буквами и геометрическими фигурами, — человеческие и лошадиные черепа вперемешку с бокалами, в которых мерцали пластинки золота, груды огромных раскрытых фолиантов, наваленных один на другой без всякой жалости к ломким углам их пергаментных страниц, — словом, весь мусор науки; и на всем этом хаосе пыль и паутина. Но здесь не было ни круга светящихся букв, ни ученого, который восторженно созерцает огненное видение, подобно орлу, взирающему на солнце.
Однако же келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жеан, к которому человек этот сидел спиной, мог видеть лишь его плечи и затылок; но ему нетрудно был узнать эту лысую голову, на которой сама природа выбрила вечную тонзуру, как бы желая этим внешним признаком отметить неизбежность духовного призвания.
Итак, Жеан узнал брата. Но дверь распахнулась так тихо, что Клод не догадался о присутствии Жеана. Любопытный школяр воспользовался этим, чтобы не спеша оглядеть комнату. Большой очаг, которого он в первую минуту не заметил, находился влево от кресла под слуховым окном. Дневной свет, проникавший в это отверстие, пронизывал круглую паутину, которая изящно вычерчивала свою тончайшую розетку на стрельчатом верхе слухового оконца; в середине ее неподвижно застыл архитектор-паук, точно ступица этого кружевного колеса. На очаге в беспорядке были навалены всевозможные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные двугорлые реторты, колбы с углем. Жеан со вздохом отметил, что сковородки там не было.
«Вот так кухонная посуда, нечего сказать!» — подумал он.
Впрочем, в очаге не было огня; казалось, что его давно уже здесь не разводили. В углу, среди прочей утвари алхимика, валялась забытая и покрытая пылью стеклянная маска, которая, по всей вероятности, должна была предохранять лицо архидьякона, когда он изготовлял какое-нибудь взрывчатое вещество. Рядом лежал не менее запыленный поддувальный мех, на верхней доске которого медными буквами была выведена надпись: SPIRA, SPERA[255].
На стенах, по обычаю герметиков, также были начертаны многочисленные надписи: одни — написанные чернилами, другие — выцарапанные металлическим острием. Буквы готические, еврейские, греческие, римские, романские перемешивались между собой, надписи как попало перекрывали одна другую, более поздние заслоняли более ранние, и все это переплеталось, словно ветви кустарника, словно пики во время схватки. Поистине это было весьма беспорядочное столкновение всяких философий, всяких чаяний, всякой человеческой мудрости. То тут, то там выделялась какая-нибудь из этих надписей, блистая словно знамя среди леса копий. Чаще всего это были краткие латинские или греческие изречения, которые так хорошо умели формулировать в Средние века: Unde? Inde? — Homo homini monstrum. — Astra, castra, nomen, numen. — Μεγα βισλιον, μεγα χαχογ. — Sapere aiide. — Flat ubi vult[256] и пр. Иногда встречалось и лишенное видимого смысла слово Ηνηστεία[257], которое, быть может, таило в себе горький намек на монастырский режим; иногда — какое-нибудь простое правило духовной дисциплины, изложенное гекзаметром: Caelestem dominum, terrestrem dicito damnum[258]. Местами попадалась какая-то тарабарщина на древнееврейском языке, в котором Жеан, не особенно сильный и в греческом, не понимал ни слова; и все это, где только возможно, перемежалось звездами, фигурами людей и животных, пересекающимися треугольниками, что придавало этой измаранной стене сходство с листом бумаги, по которому обезьяна водила пером, обильно напоенным чернилами.
Общий вид каморки производил впечатление заброшенности и запустения, а скверное состояние приборов заставляло предполагать, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих трудов иными заботами.
А между тем хозяина этого, склонившегося над обширной рукописью, украшенной странными рисунками, казалось, терзала какая-то мысль, которая непрестанно примешивалась к его размышлениям. Так, по крайней мере, заключил Жеан, услышав, как его брат раздумчиво, с перерывами, словно мечтатель, грезящий наяву, восклицал:
— Да, Ману[259] говорит это, и Зороастр[260] учит тому же: Солнце рождается от огня, Луна — от Солнца. Огонь — душа Вселенной. Его первичные атомы, непрерывно струясь бесконечными потоками, изливаются на весь мир. В тех местах, где эти потоки скрещиваются на небе, они производят свет; в точках своего пересечения на Земле они производят золото. Свет и золото — одно и то же. Золото — огонь в твердом состоянии. Разница между видимым и осязаемым, между жидким и твердым состоянием одной и той же субстанции такая же, как между водяными парами и льдом. Не более того. Это отнюдь не фантазия — это общий закон природы. Но как применить к науке этот таинственный закон? Ведь свет, заливающий мою руку, — золото! Это те же самые атомы, но лишь разреженные по определенному закону; их надо только уплотнить на основании другого закона! Но как это сделать? Одни придумали закопать солнечный луч в землю. Аверроэс — да, это был Аверроэс — зарыл один из этих лучей под первым столбом с левой стороны в святилище Корана, в большой Кордовской мечети, но вскрыть этот тайник, чтобы увидеть, удался ли опыт, можно только через восемь тысяч лет.
«Черт возьми! — сказал про себя Жеан. — Долгонько же придется ему ждать своего экю!»
— …Другие полагают, — продолжал, задумчиво архидьякон, — что лучше взять луч Сириуса. Но добыть этот луч в чистом виде очень трудно, так как по пути с ним сливаются лучи других звезд. Фламель утверждает, что проще всего брать земной огонь. Фламель! Какое пророческое имя, Flamma[261]! Да, огонь! Вот и все. В угле заключается алмаз, в огне — золото. Но как извлечь его оттуда? Мажистри утверждает, что существуют некоторые женские имена, обладающие столь нежными и таинственными чарами, что достаточно во время опыта произнести их, чтобы он удался. Прочтем, что говорит об этом Ману: «Где женщины в почете, там боги довольны; где женщин презирают, там бесполезно взывать к божеству. Уста женщины всегда непорочны; это струящаяся вода, это солнечный луч. Женское имя должно быть приятным, сладостным, неземным; оно должно оканчиваться на долгие гласные и походить на слова благословения». Да, мудрец прав, в самом деле: Мария, София, Эсмер… Проклятие! Опять! Опять эта мысль!
И он с силой захлопнул книгу.
Он провел рукой по лбу, словно отгоняя навязчивый образ. Затем взял со стола гвоздь и маленький молоток, рукоятка которого была причудливо разрисована кабалистическими знаками.
— С некоторых пор, — горько усмехаясь, сказал он, — все мои опыты заканчиваются неудачей. Одна мысль владеет мною и словно клеймит мой мозг огненной печатью. Я даже не могу разгадать тайну Кассиодора[262], светильник которого горел без фитиля и без масла. А между тем это сущий пустяк!
«Как для кого!» — пробурчал про себя Жеан.
— Достаточно, — продолжал священник, — какой-нибудь одной несчастной мысли, чтобы сделать человека бессильным и безумным! О, как бы посмеялась надо мной Клод Пернель, которой не удалось ни на минуту отвлечь Никола Фламеля от его великого дела! Вот я держу в руке магический молот Зехиэля! Всякий раз, когда этот страшный раввин ударял в глубине своей кельи этим молотком по этому гвоздю, тот из его недругов, кого он обрекал на смерть, — будь он хоть за две тысячи лье, — уходил на целый локоть в землю. Даже сам король Франции за то, что однажды опрометчиво постучал в дверь этого волшебника, погрузился по колено в парижскую мостовую. Это произошло меньше чем три столетия тому назад. И что же! Этот молоток и гвоздь принадлежат теперь мне, но в моих руках эти орудия не более опасны, чем «живчик» в руках кузнеца. А ведь все дело лишь в том, чтобы найти магическое слово, которое произносил Зехиэль, когда ударял по гвоздю.
«Пустячок!» — подумал Жеан.
— Ну-ка, попытаемся! — воскликнул архидьякон. — В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя сверкнет голубая искра… Эмен-хетан! Эмен-хетан! Нет, не то! Сижеани! Сижеани! Пусть этот гвоздь разверзнет могилу всякому, кто носит имя Феб!.. Проклятие! Опять! Вечно одна и та же мысль!
Он гневно отшвырнул молоток. Затем, низко склонившись над столом, глубоко уселся в кресло и, заслоненный его громадной спинкой, совершенно скрылся с глаз Жеана. В течение нескольких минут Жеану был виден лишь его кулак, судорожно сжатый на какой-то книге. Внезапно Клод встал, схватил циркуль и молча вырезал на стене большими буквами греческое слово:
’ANÀГKH
— Он сошел с ума, — пробормотал Жеан, — гораздо проще написать Fatum[263], ведь не все же обязаны знать по-гречески!
Архидьякон снова уселся в кресло и уронил голову на сложенные руки, подобно больному, чувствующему в ней тяжесть и жар.
Школяр с изумлением наблюдал за братом. Открывая свое сердце навстречу всем ветрам, следуя лишь одному закону — влечениям природы, дозволяя страстям своим изливаться по руслам своих наклонностей, Жеан, у которого источник сильных чувств пребывал неизменно сухим — так щедро каждое утро открывались для него все новые и новые стоки, — не понимал, не мог себе представить, с какой яростью бродит и кипит море человеческих страстей, когда ему некуда излиться, как оно переполняется, как вздувается, как рвется из берегов, как размывает сердце, как разражается внутренними рыданиями в безмолвных судорожных усилиях, пока наконец не прорвет свою плотину и не разворотит свое ложе. Суровая ледяная оболочка Клода Фролло, его холодная личина высокой, недосягаемой добродетели вводили Жеана в заблуждение. Жизнерадостный школяр никогда не подозревал, что в глубине покрытой снегом Этны таится кипящая, яростная лава.
Нам неизвестно, догадался ли он тут же об этом, однако при всем своем легкомыслии он понял, что подсмотрел то, чего ему не следовало видеть, что он застиг душу своего старшего брата в одном из самых сокровенных ее проявлений и что Клод не должен об этом знать. Заметив, что архидьякон снова застыл в неподвижности, Жеан бесшумно отступил назад и зашаркал перед дверью ногами, как человек, который только что пришел и предупреждает о своем приходе.
— Войдите! — крикнул изнутри кельи голос архидьякона. — Я поджидаю вас! Я нарочно оставил ключ в замке, войдите же, мэтр Жак!
Школяр смело переступил порог. Архидьякон, которому подобный визит в этом месте был нежелателен, вздрогнул:
— Как, это вы, Жеан?
— Да, меня зовут тоже на «Ж», — отвечал румяный, дерзкий и веселый школяр.
Лицо Клода приняло свое обычное суровое выражение.
— Зачем вы явились сюда?
— Братец, — ответил школяр, с невинным видом вертя в руках свою шапочку и стараясь придать своему лицу приличное, жалобное и скромное выражение, — я пришел просить у вас…
— Чего?
— Некоторых наставлений, в которых я очень нуждаюсь. — Жеан не осмелился прибавить вслух: «…и немного денег, в которых я нуждаюсь еще больше!» Последняя часть фразы не была им оглашена вовсе.
— Сударь, — сказал архидьякон холодным тоном, — я очень недоволен вами.
— Увы! — вздохнул школяр.
Клод, полуобернувшись вместе со своим креслом, пристально взглянул на Жеана.
— Я очень рад вас видеть.
Вступление не предвещало ничего хорошего. Жеан приготовился к жестокой головомойке.
— Жеан, мне ежедневно приходится выслушивать жалобы на вас. Что это было за побоище, когда вы отколотили палкой молодого виконта Альбера де Рамоншана?
— О! — ответил Жеан. — Подумаешь, какая важность! Скверный парнишка забавлялся тем, что забрызгивал грязью школяров, пуская свою лошадь вскачь по лужам!
— А кто такой Майе Фаржель, на котором вы изорвали одежду? — продолжал архидьякон. — В жалобе сказано: Tunicam dechiraverunt[264].
— Вот еще! Просто дрянной плащ одного из школяров Монтегю. Только и всего!
— В жалобе сказано tunicam, а не cappetam[265]. Вы понимаете по-латыни?
Жеан молчал.
— Да, — продолжал священник, покачивая головой, — вот как теперь изучают науки и литературу! По-латыни еле-еле разумеют, сирийского языка не знают, а к греческому относятся с таким пренебрежением, что даже самых ученых людей, пропускающих при чтении греческое слово, не считают невеждами и говорят: «Graecum est; non legitur»[266].
Школяр взглянул на него с решительным видом.
— Брат мой, угодно вам, чтобы я на чистейшем французском языке прочел вам вот это греческое слово, написанное на стене?
— Какое слово?
– ’ANÀГKH.
Легкая краска выступила на желтых скулах архидьякона подобно клубу дыма, возвещающему о сотрясении в недрах вулкана. Но школяр этого не заметил.
— Хорошо, Жеан, — с усилием пробормотал старший брат, — что же означает это слово?
— Рок.
Обычная бледность вернулась на лицо Клода, а школяр беззаботно продолжал:
— А слово, написанное пониже той же рукой, Αυαγεεια, означает «скверна». Теперь вы видите, что я разбираюсь в греческом.
Архидьякон хранил молчание. Этот урок греческого языка заставил его задуматься.
Юный Жеан, обладавший лукавством балованного ребенка, счел этот момент подходящим, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым умильным голосом:
— Добрый братец, неужели вы так сильно гневаетесь на меня, что оказываете мне суровый прием из-за нескольких жалких пощечин и затрещин, которые я надавал в честной схватке каким-то мальчишкам и карапузам, quibusdam marmosetis? Видите, братец Клод, латынь я тоже знаю.
Но все это вкрадчивое лицемерие не произвело на старшего брата обычного действия. Цербер[267] не поймался на медовый пряник. Ни одна морщина не разгладилась на лбу Клода.
— К чему вы все это клоните? — сухо спросил он.
— Хорошо, — храбро сказал Жеан, — вот к чему: мне нужны деньги.
При этом нахальном признании лицо архидьякона приняло наставнически отеческое выражение.
— Вам известно, господин Жеан, что ленное владение Тиршап приносит нам, включая арендную плату и доход с двадцати одного дома, всего лишь тридцать девять ливров, одиннадцать су и шесть парижских денье. Это, правда, в полтора раза больше, чем было при братьях Пакле, но все же это не много.
— Мне нужны деньги, — твердо повторил Жеан.
— Вам известно решение духовного суда о том, что все наши дома полностью, как вассальное владение, зависят от епархии и что откупиться от нее мы можем не иначе, как уплатив его преподобию епископу две серебряные, позолоченные марки по шесть парижских ливров каждая. Этих денег я еще не накопил. Это тоже вам известно.
— Мне известно только то, что мне нужны деньги, — в третий раз повторил Жеан.
— А для чего?
Этот вопрос зажег луч надежды в глазах юноши. К нему вернулись его кошачьи ужимки.
— Послушайте, дорогой братец Клод, — сказал он, — я не обратился бы к вам, если бы у меня были дурные намерения. Я не собираюсь щеголять на ваши деньги в кабачках и прогуливаться по парижским улицам, наряженный в золотую парчу, в сопровождении моего лакея, cum meo laquasio[268]. Нет, братец, я прошу денег на доброе дело.
— На какое это доброе дело? — несколько озадаченный, спросил Клод.
— Двое из моих друзей хотели бы купить приданое для ребенка одной бедной вдовы из общины Одри. Это акт милосердия. Требуется всего три флорина, и мне хотелось бы внести свою долю.
— Как зовут ваших друзей?
— Пьер Мясник и Батист Птицеед.
— Гм! — пробормотал архидьякон. — Вот имена, которые так же пристали к доброму делу, как пушка к алтарю.
Несомненно, Жеан очень неудачно подобрал имена своих друзей, но он спохватился слишком поздно.
— А к тому же, — продолжал проницательный Клод, — что это за приданое, которое должно стоить три флорина? Да еще для ребенка благочестивой вдовы? С каких же это пор вдовы из этой общины стали обзаводиться грудными младенцами?
Жеан вторично попытался пробить лед:
— Так и быть, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня вечером к Изабола-Тьери в Валь-д´Амур!
— Презренный развратник! — воскликнул священник.
– Αυαγχοϕαγια, — прервал Жеан.
Это слово, заимствованное, быть может, не без лукавства со стены кельи, произвело на священника странное впечатление: он закусил губу и только покраснел от гнева.
— Уходите, — сказал он наконец Жеану, — я жду одного человека.
Школяр сделал последнюю попытку:
— Братец Клод, дайте мне хоть какую-нибудь мелочь, мне не на что пообедать.
— А на чем вы остановились в декреталиях[269] Грациана[270]?
— Я потерял свои тетради.
— Кого из латинских писателей вы изучаете?
— У меня украли мой экземпляр Горация.
— Что вы прошли из Аристотеля?
— А вспомните-ка, братец, кто из отцов Церкви утверждает, что еретические заблуждения всех времен находили убежище в дебрях аристотелевской метафизики? Плевать мне на Аристотеля! Я не желаю, чтобы его метафизика поколебала мою веру.
— Молодой человек, — сказал архидьякон, — во время последнего въезда короля в город у одного из придворных, Филиппа де Комина, на попоне лошади был вышит его девиз: «Qui non laborat, поп manducet[271]». Поразмыслите над этим.
Опустив глаза и приложив палец к уху, школяр с сердитым видом помолчал с минуту. Внезапно, с проворством трясогузки, он повернулся к Клоду:
— Итак, любезный брат, вы отказываете мне даже в одном жалком су, на которое я могу купить кусок хлеба у булочника?
— Qui non laborat, поп manducet.
При этом ответе неумолимого архидьякона Жеан закрыл лицо руками, словно рыдающая женщина, и голосом, исполненным отчаяния, воскликнул:
— Otototototoi!
— Что это означает, сударь? — изумленный этой выходкой, спросил Клод.
— Извольте, я вам скажу! — отвечал школяр, подняв на него свои дерзкие глаза, которые он только что натер докрасна кулаками, чтобы они казались заплаканными. — Это по-гречески! Это анапест[272] Эсхила, отлично выражающий отчаяние.
И он разразился таким задорным и таким раскатистым хохотом, что заставил улыбнуться архидьякона. Клод почувствовал свою вину: к чему он так баловал этого ребенка?
— О добрый братец Клод, — снова заговорил Жеан, ободренный этой улыбкой, — взгляните на мои дырявые башмаки! Ботинок, у которого подошва просит каши, ярче свидетельствует о трагическом положении героя, нежели греческие котурны[273].
К архидьякону быстро вернулась его прежняя суровость.
— Я пришлю вам новые башмаки, но денег не дам, — сказал он.
— Ну хоть одну жалкую монетку! — умолял Жеан. — Я вызубрю наизусть Грациана, я буду веровать в Бога, стану истинным Пифагором по части учености и добродетели. Но, умоляю, хоть одну монетку! Неужели вы хотите, чтобы разверстая передо мной пасть голода, черней, зловонней и глубже, чем преисподняя, чем монашеский нос, пожрала меня?
Клод, нахмурившись, покачал головой:
— Qui non laborat… Жеан не дал ему окончить.
— Ах так! — крикнул он. — Тогда к черту все! Да здравствует веселье! Я засяду в кабаке, буду драться, бить посуду, шляться к девкам!
Он швырнул свою шапочку о стену и прищелкнул пальцами, словно кастаньетами.
Архидьякон сумрачно взглянул на него:
— Жеан, у вас нет души.
— В таком случае у меня, если верить Эпикуру[274], отсутствует нечто состоящее из чего-то, чему нет имени!
— Жеан, вам следует серьезно подумать о том, чтобы исправиться.
— Вот вздор! — воскликнул школяр, переводя взгляд от брата к ретортам на очаге. — Здесь все пустое — и мысли и бутылки!
— Жеан, вы катитесь по наклонной плоскости. Знаете ли вы, куда вы идете?
— В кабак, — ответил Жеан.
— Кабак ведет к позорному столбу.
— Это такой же фонарный столб, как и всякий другой, и, может быть, именно с его помощью Диоген и нашел бы человека, которого искал.
— Позорный столб приводит к виселице.
— Виселица — коромысло весов, к одному концу которого подвешен человек, к другому — Вселенная! Даже лестно быть таким человеком.
— Виселица ведет в ад.
— Это всего-навсего жаркий огонь.
— Жеан, Жеан, вас ждет печальный конец.
— Зато начало было хорошее!
В это время на лестнице послышались чьи-то шаги.
— Тише, — проговорил архидьякон, приложив палец к губам, — вот и мэтр Жак. Послушайте, Жеан, — добавил он тихим голосом, — остерегайтесь когда-нибудь проронить хоть одно слово о том, что вы здесь увидите и услышите. Спрячьтесь под очаг — и ни звука!
Школяр скользнул под очаг; там его внезапно осенила блестящая мысль.
— Кстати, братец Клод, за молчание — флорин.
— Тише. Обещаю.
— Дайте сейчас.
— На, бери! — сказал гневно архидьякон, швыряя ему кошелек.
Жеан забился глубже под очаг, и дверь распахнулась.
Глава 5
Два человека в черном
В келью вошел человек в черной мантии, с хмурым лицом. Прежде всего поразил нашего приятеля Жеана (который, как это ясно для каждого, примостился в своем закутке таким образом, чтобы вволю можно было смотреть и слушать) поистине мрачный вид одежды и лица новоприбывшего. А между тем от всего его облика веяло какой-то вкрадчивостью, но вкрадчивостью кошки или судьи — приторной вкрадчивостью. Он был совершенно седой, в морщинах, лет шестидесяти; он щурил глаза, у него были белые брови, отвисшая нижняя губа и большие руки. Когда Жеан понял, что это, по-видимому, всего только какой-либо врач или судья и что у этого человека нос далеко отстоял ото рта — признак глупости, — он отодвинулся подальше в угол, досадуя, что придется долго просидеть в такой неудобной позе и в таком неприятном обществе.
Архидьякон даже не привстал навстречу незнакомцу. Он сделал ему знак присесть на стоявшую около двери скамейку и, помолчав немного, словно додумывая какую-то мысль, слегка покровительственным тоном сказал:
— Здравствуйте, мэтр Жак.
— Мое почтение, мэтр! — ответил человек в черном.
В тоне, которым было произнесено это «мэтр Жак» одним из них и «мэтр» — другим, приметна была та разница, какая слышна, когда произносится «сударь» и «господин» и «domne», «domine». Несомненно, это была встреча ученого с учеником.
— Ну как? — спросил архидьякон после некоторого молчания, которое мэтр Жак поостерегся нарушить. — Надеетесь вы на успех?
— Увы, мэтр, — печально улыбаясь, ответил гость, — я все еще продолжаю раздувать огонь. Пепла — хоть отбавляй, но золота — ни крупинки!
Клод сделал нетерпеливое движение.
— Я не об этом вас спрашиваю, мэтр Жак Шармолю, а о процессе вашего колдуна. По вашим словам, это Марк Сенен, казначей Высшей счетной палаты. Сознаётся он в колдовстве? Привела ли к чему-нибудь пытка?
— Увы, нет! — ответил мэтр Жак, все так же грустно улыбаясь. — Мы лишены этого утешения. Этот человек — кремень. Его нужно сварить живьем на Свином рынке, прежде чем он что-нибудь скажет, и, однако, мы ничем не пренебрегаем, чтобы добиться правды. У него уже вывихнуты все суставы. Мы пускаем в ход всевозможные средства, как говорит старый забавник Плавт[275]:
Advorsum stimulos, laminas, crucesque, compedesque, Nervos, catenas, carceres, numellas, pedicas, boias[276].Ничего не помогает. Это ужасный человек. Я понапрасну бьюсь над ним.
— Ничего нового не нашли в его доме?
— Как же! — ответил мэтр Жак, роясь в своем кошеле. — Вот этот пергамент. Тут есть слова, которые мы не понимаем. А между тем господин прокурор уголовного суда Филипп Лелье немного знает древнееврейский язык, которому он научился во время процесса евреев с улицы Кантерстен в Брюсселе.
Продолжая говорить, мэтр Жак развертывал свиток.
— Дайте-ка, — проговорил архидьякон и, взглянув на пергамент воскликнул: — Чистейшее чернокнижие, мэтр Жак! «Эмен-хетан!» Это крик оборотней, прилетающих на шабаш. Per ipsum, et cum ipso, et ipso[277] — это заклинание, ввергающее дьявола с шабаша обратно в ад. Нах, pax, max[278]— относится к врачеванию: это заговор против укуса бешеной собаки. Мэтр Жак, вы — королевский прокурор церковного суда! Эта рукопись чудовищна!
— Мы вновь подвергнем пытке этого человека. Вот что еще мы нашли у Марка Сенена, — сказал мэтр Жак, роясь в своей сумке.
Это оказался сосуд, сходный с теми, которые загромождали очаг отца Клода.
— А, это алхимический тигель! — заметил архидьякон.
— Сознаюсь, — со своей робкой и принужденной улыбкой сказал мэтр Жак, — я испробовал его на очаге, но получилось не лучше, чем с моим.
Архидьякон принялся рассматривать сосуд.
— Что это он нацарапал на своем тигле? «Och! Och!» — слово, отгоняющее блох? Этот Марк Сенен — невежда! Ясно, что в этом тигле вам никогда не добыть золота! Он годится лишь на то, чтобы ставить его летом в вашей спальне.
— Если уж мы заговорили об ошибках, — сказал королевский прокурор, — то вот что. Прежде чем подняться к вам, я рассматривал внизу портал; вполне ли вы уверены, ваше преподобие, в том, что со стороны Отель-Дье изображено начало работ по физике и что среди семи нагих фигур, находящихся у ног Божьей Матери, фигура с крылышками на пятках изображает Меркурия?
— Да, — ответил священник, — так пишет Августин Нифо, итальянский ученый, которому покровительствовал обучивший его бородатый демон. Впрочем, сейчас мы спустимся вниз, и я вам все это разъясню на месте.
— Благодарю вас, мэтр, — кланяясь до земли, ответил Шармолю. — Кстати, я чуть было не запамятовал! Когда вам будет угодно, чтобы я распорядился арестовать маленькую колдунью?
— Какую колдунью?
— Да хорошо вам известную цыганку, которая, несмотря на запрещение духовного суда, приходит всякий день плясать на Соборную площадь! У нее есть еще какая-то одержимая дьяволом коза с бесовскими рожками, которая читает, пишет, знает математику не хуже Пикатрикса. Из-за нее одной следовало бы перевешать все цыганское племя. Обвинение составлено. Суд не затянется, не сомневайтесь! А хорошенькое создание эта плясунья, ей-богу! Какие великолепные черные глаза, точно два египетских карбункула[279]! Так когда же мы начнем?
Архидьякон был страшно бледен.
— Я скажу вам тогда, — еле слышно пробормотал он. Затем с усилием прибавил: — Пока займитесь Марком Сененом.
— Будьте спокойны, — улыбаясь, ответил Шармолю. — Вернувшись домой, я снова заставлю привязать его к кожаной скамье. Но только это дьявол, а не человек. Он доводит до изнеможения даже самого Пьер́а Тортерю, у которого ручищи посильнее моих. Как говорит этот добряк Плавт:
Nudus vinctus centum pondo, es quando pendes per pedes[280].Допросим его на дыбе — это лучшее, что у нас есть! Он попробует и этого.
Казалось, отец Клод был погружен в мрачное раздумье. Он обернулся к Шармолю:
— Мэтр Пьер́а… мэтр Жак, хотел я сказать, займитесь Марком Сененом.
— Да, да, отец Клод. Несчастный человек! Ему придется страдать, как Муммолю[281]. Но что за дикая мысль отправиться на шабаш! Ему, казначею Высшей счетной палаты, следовало бы знать закон Карла Великого: «Stryga vel masca![282]» Что же касается малютки Смеральды, как они ее называют, то я буду ожидать ваших распоряжений. Ах да! Когда мы будем проходить под порталом, объясните мне, пожалуйста, что означает садовник на фреске у самого входа в церковь. Это, должно быть, Сеятель? Э, мэтр, над чем вы задумались?
Отец Клод, поглощенный своими мыслями, не слушал его. Шармолю проследил за направлением его взгляда и увидел, что глаза священника были устремлены на паутину, затягивающую слуховое окно. В этот момент какая-то легкомысленная муха, стремясь к мартовскому солнцу, ринулась сквозь эту сеть к стеклу и увязла в ней. Почувствовав сотрясение паутины, громадный паук, сидевший в самом ее центре, резким движением подскочил к мухе, перегнул ее пополам своими передними лапками, в то время как его отвратительный хоботок ощупывал ее головку.
— Бедная мушка! — сказал королевский прокурор церковного суда и потянулся, чтобы спасти муху.
Архидьякон, как бы внезапно пробужденный, судорожным движением удержал его руку.
— Мэтр Жак! — воскликнул он. — Не перечьте судьбе! Прокурор испуганно обернулся. Ему почудилось, будто руку его сжали железные клещи. Неподвижный, свирепый, сверкающий взгляд архидьякона был прикован к ужасной маленькой группе — мухе и пауку.
— О да, — продолжал священник голосом, который, казалось, исходил из самых недр его существа, — вот символ всего! Она летает, она ликует, она только что родилась; она жаждет весны, вольного воздуха, свободы! О да! Но стоит ей столкнуться с роковой розеткой, и оттуда вылезает паук, отвратительный паук! Бедная плясунья! Бедная обреченная мушка! Не мешайте, мэтр Жак, это судьба! Увы, Клод, и ты паук! Но в то же время ты и муха! Клод, ты летел навстречу науке, свету, солнцу, ты стремился только к простору, к яркому свету вечной истины; но, бросившись к сверкающему оконцу, выходящему в иной мир, в мир света, разума и науки, ты, слепая мушка, безумец ученый, ты не заметил тонкой паутины, протянутой роком между светом и тобой, ты бросился в нее стремглав, несчастный глупец! И вот ныне, с проломленной головой и оторванными крыльями, ты бьешься в железных лапах судьбы! Мэтр Жак! Мэтр Жак! Не мешайте пауку!
— Уверяю вас, что я не трону его, — ответил прокурор, глядя на него с недоумением. — Но, ради Бога, отпустите мою руку, мэтр! У вас не рука, а тиски.
Но архидьякон не слушал его.
— О безумец! — продолжал он, неотрывно глядя на оконце. — Если бы тебе даже и удалось прорвать эту опасную паутину своими мушиными крылышками, то неужели же ты воображаешь, что выберешься к свету! Увы! Как преодолеть тебе потом это стекло, эту прозрачную преграду, эту хрустальную стену, несокрушимую, как адамант[283], отделяющую философов от истины? О тщета науки! Сколько мудрецов, стремясь к ней издалека, разбиваются об нее насмерть! Сколько научных систем сталкиваются и жужжат у этого вечного стекла!
Он умолк. Казалось, эти последние рассуждения незаметно отвлекли его мысли от себя самого, обратив их к науке, и это подействовало на него успокоительно. Жак Шармолю окончательно вернул его к действительности.
— Итак, мэтр, — спросил он, — когда же вы придете помочь мне добыть золото? Мне не терпится достигнуть успеха.
Горько усмехнувшись, архидьякон покачал головой.
— Мэтр Жак, прочтите Михаила Пселла «Dialogus de energia et operatione daemonum»[284]. To, чем мы занимаемся, не так-то уж невинно.
— Тише, мэтр, я догадываюсь об этом! — сказал Шармолю. — Но что делать! Приходится понемногу заниматься и герметикой, когда ты всего лишь королевский прокурор церковного суда и получаешь жалованья тридцать турских экю в год. Однако давайте говорить потише.
В эту минуту шум жующих челюстей, донесшийся из-под очага, поразил настороженный слух Шармолю.
— Что это? — спросил он.
То был школяр, который, изнывая от скуки и усталости в своем тайничке, вдруг обнаружил там черствую корочку хлеба с огрызком заплесневелого сыра и, не стесняясь, занялся ими, найдя в этом завтрак и утешение. Так как он был очень голоден, то, грызя свой сухарь и с аппетитом причмокивая, он производил сильный шум, возбудивший тревогу прокурора.
— Это, должно быть, мой кот лакомится мышью, — поспешно ответил архидьякон.
Это объяснение удовлетворило Шармолю.
— Правда, мэтр, — ответил он, почтительно улыбаясь, — у всех великих философов были свои домашние животные. Вы помните, что говорил Сервиус[285]: Nullus enim locus sine genio est[286].
Однако Клод, опасаясь какой-нибудь новой выходки Жеана, напомнил своему почтенному ученику, что им еще предстоит вместе исследовать несколько изображений на портале, и они оба вышли из кельи, к большому облегчению школяра, который начал уже серьезно опасаться, как бы на его коленях не остался навеки отпечаток его подбородка.
Глава 6
Последствия, к которым могут привести семь прозвучавших на вольном воздухе проклятий
— Те Deum laudamus[287]! — воскликнул Жеан, вылезая из своей дыры. — Наконец-то оба филина убрались! Ох! Ох! Гаке! Паке! Макс! Блохи! Бешеные собаки! Дьявол! Я сыт по горло этой болтовней! В голове трезвон, точно в колокольне. Да еще этот затхлый сыр в придачу! Ну-ка поскорее вниз! Мошну старшего брата захватим с собой и обратим все эти монетки в бутылки!
Он с нежностью и восхищением заглянул в драгоценный кошелек, оправил на себе одежду, обтер башмаки, смахнул пыль со своих серых от золы рукавов, засвистал какую-то песенку, подпрыгнул, повернувшись на одной ноге, обследовал, нет ли еще чего-нибудь в келье, чем можно было бы поживиться, подобрал несколько валявшихся на очаге стеклянных амулетов, годных на то, чтобы подарить их вместо украшений Изабо-ла-Тьери, и наконец, толкнув дверь, которую брат его оставил незапертой — последняя его поблажка — и которую Жеан тоже оставил открытой — последняя его проказа, — он, подпрыгивая, словно птичка, спустился по винтовой лестнице.
В потемках он толкнул кого-то, тот ворча посторонился; школяр решил, что налетел на Квазимодо, и эта мысль показалась ему до того забавной, что весь остальной путь по лестнице он бежал, держась за бока от смеха. Выскочив на площадь, он все еще продолжал хохотать.
Очутившись на мостовой, он топнул ногой.
— О добрая и почтенная парижская мостовая! — воскликнул он. — Проклятые ступеньки! На них запыхались бы даже ангелы, восходившие по лестнице Иакова! Чего ради я полез в этот каменный бурав, который дырявит небо? Чтобы отведать обомшелого сыра да полюбоваться из слухового окна колокольнями Парижа?
Пройдя несколько шагов, он заметил обоих филинов, то есть Клода и мэтра Жака Шармолю, созерцавших какое-то изваяние портала. Он на цыпочках приблизился к ним и услышал, как архидьякон тихо говорил Шармолю:
— Этот Иов[288] на камне цвета ляпис-лазури с золотыми краями был вырезан по приказанию епископа Гильома Парижского. Иов знаменует собою философский камень. Чтобы стать совершенным, он должен тоже подвергнуться испытанию и мукам. Sub conservatione formae specificae salva anima[289], говорит Раймонд Люлль[290].
— Ну, меня это не касается, — пробормотал Жеан, — кошелек-то ведь у меня.
В эту минуту он услышал, как чей-то громкий и звучный голос позади него разразился целой серией ужасающих проклятий.
— Чертово семя! К чертовой матери! Черт побери! Провалиться ко всем чертям! Пуп Вельзевула! Клянусь Папой! Гром и молния!
— Клянусь душой, — воскликнул Жеан, — так ругаться может только мой друг капитан Феб!
Имя Феба долетело до слуха архидьякона в ту самую минуту, когда он объяснял королевскому прокурору значение дракона, опустившего свой хвост в чан, из которого выходит в облаке дыма голова короля. Клод вздрогнул, прервал, к великому изумлению Шармолю, свои объяснения, обернулся и увидел своего брата Жеана, подходившего к высокому офицеру, стоявшему у дверей дома Гонделорье.
Действительно, это был г-н капитан Феб де Шатопер. Он стоял, прислонившись к углу дома своей невесты, и безбожно ругался.
— Честное слово, капитан Феб, — сказал Жеан, касаясь его руки, — ну и мастер же вы ругаться!
— Поди к черту! — ответил капитан.
— Сам поди туда же! — возразил школяр. — Однако скажите, любезный капитан, что это вас прорвало таким красноречием?
— Простите, дружище Жеан, — ответил Феб, пожимая ему руку. — Ведь вы знаете, что если уж пустилась лошадь вскачь, то сразу не остановится. А я ведь ругался галопом. Я только что удрал от этих жеманниц. И каждый раз, когда я выхожу от них, у меня полон рот проклятий. Мне необходимо их изрыгнуть, иначе я задохнусь! Убей меня гром!
— Не хотите ли выпить? — спросил школяр. Это предложение успокоило капитана.
— Не прочь, но у меня ни гроша.
— А у меня есть!
— Ба! Неужели?
Жеан величественным и вместе с тем простодушным жестом раскрыл перед капитаном кошелек. Тем временем архидьякон, который покинул остолбеневшего от изумления Шармолю, приблизился к ним и остановился в нескольких шагах, наблюдая за ними. Молодые люди не обратили на это никакого внимания — настолько они были поглощены созерцанием кошелька.
— Жеан, — воскликнул Феб, — кошелек в вашем кармане — это все равно что луна в ведре с водою. Ее видно, но ее там нет. Только отражение! Черт возьми! Держу пари, что там камешки!
Жеан ответил холодно:
— Вот они, камешки, которыми я набиваю свой карман.
И, не прибавив к этому ни слова, он с видом римлянина, спасающего отечество, высыпал содержимое кошелька на ближайшую тумбу.
— Истинный Господь, — пробормотал Феб, — щитки, большие беляки, малые беляки, два турских грошика, парижские денье, лиарды, настоящие, с орлом! Невероятно!
Жеан продолжал держаться с достоинством и невозмутимостью. Несколько лиардов покатились в грязь; капитан бросился было их поднимать, но Жеан удержал его:
— Фи, капитан Феб де Шатопер!
Феб сосчитал деньги и, торжественно повернувшись к Жеану, произнес:
— А знаете ли вы, Жеан, что здесь двадцать три парижских су? Кого это вы ограбили нынче ночью на улице Перерезанных глоток?
Жеан откинул назад белокурую кудрявую голову и, высокомерно прищурив глаза, ответил:
— На то у меня имеется брат — полоумный архидьякон.
— Черт возьми! — воскликнул Феб. — Какой достойный человек!
— Идем выпьем, — предложил Жеан.
— Куда же мы пойдем? — спросил Феб. — В «Яблоко Евы»?
— Не стоит, капитан, пойдем лучше в кабачок «Старая наука» — ста раёв наука. Это почти ребус. Люблю такие названия.
— Наплевать на ребусы, Жеан! Вино лучше в кабачке «Яблоко Евы». А кроме того, там возле двери вьется на солнце виноградная лоза. Это меня развлекает, когда я пью.
— Ладно, пусть будет Ева с ее яблоком! — согласился школяр и, взяв под руку капитана, сказал: — Кстати, дражайший капитан, вы только что упомянули об улице Перерезанных глоток. Так не говорят. Мы уже не варвары. Надо говорить: улица Перерезанного горла.
И оба приятеля направились к «Яблоку Евы». Излишне упоминать о том, что предварительно они подобрали упавшие в грязь деньги и что вслед за ними пошел и архидьякон.
Он следовал за ними мрачный и растерянный. Был ли этот Феб тем самым Фебом, чье проклятое имя после встречи с Гренгуаром вплеталось во все его мысли, — этого он не знал, но все же это был какой-то Феб, и этого магического имени достаточно было, чтобы архидьякон крадучись, словно волк, шел вслед за беззаботными друзьями, с напряженным вниманием прислушиваясь к их болтовне и следя за каждым их жестом. Впрочем, ничего не было легче, как подслушать их беседу: они говорили во весь голос, мало стесняясь тем, что приобщали прохожих к своим излияниям. Они болтали о дуэлях, девках, попойках, сумасбродствах.
На углу одной из улиц с перекрестка донесся звук бубна. Клод услышал, как офицер сказал школяру:
— Гром и молния! Поспешим!
— Почему?
— Боюсь, как бы меня не заметила цыганка.
— Какая цыганка?
— Да та — малютка с козочкой.
— Смеральда?
— Она самая. Я все позабываю ее чертово имя. Поспешим, а то она меня узнает. Мне не хочется, чтобы эта девчонка заговорила со мной на улице.
— А разве вы с ней знакомы, Феб?
Тут архидьякон увидел, как Феб ухмыльнулся и, наклонившись к уху школяра, что-то прошептал ему. Затем он разразился хохотом и с победоносным видом тряхнул головой.
— Неужели? — спросил Жеан.
— Клянусь душой! — отвечал Феб.
— Нынче вечером?
— Да, нынче вечером.
— И вы уверены, что она придет?
— Да вы с ума сошли, Жеан! Разве в этом можно сомневаться!
— Ну и счастливчик же вы, капитан Феб!
Архидьякон услышал весь этот разговор. Его зубы застучали, заметная дрожь пробежала по всему телу. На секунду он остановился, прислонившись, словно пьяный, к какой-то тумбе, и затем снова пошел вслед за веселыми гуляками.
Но когда он нагнал их, они уже во все горло распевали старинный припев:
В деревушке Каро все ребята Попали в петлю, как телята.Глава 7
Монах-привидение
Знаменитый кабачок «Яблоко Евы» находился в Университетском квартале, на углу улицы Круглого щита и улицы Жезлоносца. Он занимал в первом этаже дома довольно обширную и низкую залу, свод которой опирался посредине на толстый, выкрашенный в желтую краску деревянный столб. Повсюду столы, на стенах начищенные оловянные кувшины; множество гуляк, изобилие уличных женщин; окно на улицу, виноградная лоза у дверей и над дверью ярко размалеванный железный лист с изображением женщины и яблока, проржавевший от дождя и повертывавшийся на железном стержне при каждом порыве ветра. Это подобие флюгера, обращенного к мостовой, служило вывеской.
Вечерело. Перекресток был окутан мраком. Кабачок, озаренный множеством свечей, пылал издали, точно кузница во тьме. Сквозь разбитые стекла доносился звон стаканов, шум кутежа, божба, перебранка. В запотелом от жары большом окне мелькали какие-то смутные фигуры; время от времени из залы долетали звучные раскаты хохота. Прохожие, спешившие по своим делам, старались проскользнуть мимо шумного окна, не заглядывая в него. Лишь изредка какой-нибудь мальчишка в лохмотьях, поднявшись на цыпочки и ухватившись за подоконник, бросал в залу старинный насмешливый стишок, которым в те времена дразнили пьяниц:
Того, кто пьян, того, кто пьян, — того в бурьян!Все же какой-то человек неустанно прохаживался взад и вперед перед шумной таверной, не спуская с нее глаз и отходя от нее не дальше, чем часовой от своей будки. На нем был плащ, поднятый воротник которого скрывал нижнюю часть его лица. Он только что купил этот плащ у старьевщика по соседству с «Яблоком Евы» — вероятно, для того, чтобы защитить себя от свежести мартовских вечеров, а быть может — чтобы скрыть свою одежду. Время от времени он останавливался перед тусклым окном в свинцовом решетчатом переплете, прислушивался, всматривался, топал ногой.
Наконец дверь кабачка распахнулась. Казалось, он только этого и ждал. Вышли двое гуляк. Сноп света, вырвавшийся из двери, на мгновение озарил их веселые лица. Человек в плаще перешел на другую сторону улицы и, укрывшись в глубокой дверной арке, продолжал свои наблюдения.
— Гром и молния! — воскликнул один из бражников. — Сейчас пробьет семь часов! А ведь мне пора на свидание.
— Уверяю вас, — пробормотал заплетающимся языком его собутыльник, — я не живу на улице Сквернословия. Indignus qui inter mala verba habitat[291]. Жилье мое на улице Жеан Мягкий Хлеб, in vico Johannis-Pain-Mollet. Вы более рогаты, чем единорог, ежели утверждаете противное! Всякому известно: кто однажды оседлал медведя, тот ничего не боится! А вы, я вижу, охотник полакомиться, не хуже святого Жака Странноприимца.
— Жеан, друг мой, вы пьяны, — отвечал второй. Но тот, пошатываясь, продолжал:
— Говорите что хотите, Феб, но давно доказано, что у Платона был профиль охотничьей собаки.
Несомненно, читатель уже узнал наших достойных приятелей, капитана и школяра. По-видимому, человек, стороживший их, хоронясь в тени, также узнал их, ибо он медленным шагом пошел за ними, повторяя все зигзаги, которые школяр заставлял описывать капитана, более закаленного в попойках и потому твердо державшегося на ногах. Внимательно прислушиваясь к их разговору, человек в плаще не упустил ни слова из следующей интересной беседы.
— Клянусь Вакхом! Постарайтесь же идти прямо, господин бакалавр. Ведь вам известно, что я должен вас покинуть. Уже семь часов. У меня свидание с женщиной.
— Отстаньте вы от меня! Я вижу звезды и огненные копья. А вы очень похожи на замок Дампмартен, который лопается со смеху.
— Клянусь бородавками моей бабушки! Нельзя же плести такую чушь! Кстати, Жеан, у вас еще остались деньги?
— Господин ректор, здесь нет никакой ошибки: parva boucheria означает «маленькая мясная лавка».
— Жеан, друг мой Жеан! Вы же знаете, что я назначил свидание малютке за мостом Святого Михаила, знаете, что я могу ее отвести только к шлюхе Фалурдель, живущей на мосту. А ведь ей надо платить за комнату.
Старая карга с белыми усами не поверит мне в долг. Жеан, умоляю вас, неужели мы пропили все поповские деньги? Неужели у вас не осталось ни одного су?
— Сознание полезно проведенных часов — это лакомая приправа к столу.
— Вот ненасытная утроба! Бросьте вы, наконец, ваши бредни! Скажите мне, чертова кукла, остались у вас деньги? Давайте их, или, ей-богу, я обыщу вас, будь вы покрыты проказой, как Иов, или паршой, как Цезарь!
— Сударь, улица Галиаш одним концом упирается в Стекольную улицу, а другим — в Ткацкую.
— Ну да, голубчик Жеан, мой бедный товарищ, улица Галиаш, это верно, совершенно верно! Но, во имя Неба, придите же в себя! Мне нужно всего-навсего одно парижское су к семи часам вечера.
— Заткните глотку и слушайте припев:
Если коты будут в брюхе крысином, Станет в Аррасе король властелином; Если безбурное море нежданно Будет заковано льдом в день Иванов, — Люди узрят, как по гладкому льду, Бросив свой город, аррасцы пойдут.— Ах ты, чертов школяр, чтоб тебе повеситься на кишках твоей матери! — воскликнул Феб и грубо толкнул пьяного школяра, который, скользнув вдоль стены, мягко шлепнулся на мостовую Филиппа-Августа. Движимый остатком чувства братского сострадания, никогда не покидающего пьяниц, Феб ногой подкатил Жеана к одной из тех «подушек бедняков», которые провидение всегда держит наготове возле всех уличных тумб Парижа и которые богачи презрительно клеймят названием «мусорной кучи». Капитан примостил голову Жеана на груде капустных кочерыжек, и школяр тотчас же захрапел великолепным басом. Однако досада еще не угасла в сердце капитана.
— Тем хуже, если тебя подберет чертова тележка! — обратился он к бедному крепко уснувшему школяру и удалился.
Не отстававший от него человек в плаще приостановился было перед храпевшим школяром, словно в нерешительности, но затем, тяжело вздохнув, последовал за капитаном.
По их примеру и мы, читатель, предоставим Жеану мирно спать под благосклонным покровом звездного неба и, если вы не возражаете, отправимся вслед за капитаном и человеком в плаще.
Выйдя на улицу Сент-Андре-Дезар, капитан Феб заметил, что кто-то его выслеживает. Случайно обернувшись, он увидел позади себя какую-то тень, кравшуюся вдоль стен. Он приостановился — приостановилась и тень, он двинулся вперед — двинулась и тень. Это, впрочем, мало его встревожило. «Не беда! — подумал он. — Ведь у меня все равно нет ни одного су!»
Он остановился перед фасадом Отенского коллежа. Именно в этом коллеже он получил начатки того, что сам называл образованием. По укоренившейся школьной привычке он никогда не мог миновать этого здания без того, чтобы не заставить статую кардинала Пьера Бертрана, стоявшую справа у входа, претерпеть тот род оскорбления, на которое так горько жалуется Приап в одной из сатир Горация: «Olim truncus eram ficulnus»[292]. Благодаря стараниям, вкладываемым капитаном в это дело, надпись «Eduensis episkopus»[293] почти совершенно смылась. Итак, он, по обыкновению, остановился. Улица была совершенно пустынна. Глазея по сторонам и небрежно завязывая свои тесемки, капитан заметил, что тень стала медленно к нему приближаться — так медленно, что он успел разглядеть на ней плащ и шляпу. Подойдя ближе, тень замерла; она казалась более неподвижной, чем изваяние кардинала Бертрана. Ее глаза, устремленные на Феба, горели тем неопределенным светом, который по ночам излучают кошачьи зрачки.
Капитан не был трусом, и его мало испугал бы грабитель с клинком в руке. Но эта ходячая статуя, этот окаменелый человек леденил ему кровь. Ему смутно припомнились ходившие в то время россказни о каком-то привидении-монахе, ночном бродяге парижских улиц. Некоторое время он простоял в оцепенении и наконец, силясь усмехнуться, проговорил:
— Сударь, ежели вы вор, как мне кажется, то вы представляетесь мне цаплей, нацелившейся на ореховую скорлупу. Я, мой милый, сын разорившихся родителей. Обратитесь-ка лучше по соседству. В часовне этого коллежа среди церковной утвари хранится кусок дерева от Животворящего Креста.
Из-под плаща высунулась рука призрака и сжала руку Феба с неодолимой силой орлиных когтей. Тень заговорила:
— Вы капитан Феб де Шатопер?
— О черт! — воскликнул Феб. — Вам известно мое имя?
— Мне известно не только ваше имя, — ответил замогильным голосом человек в плаще, — я знаю, что нынче вечером у вас назначено свидание.
— Да, — ответил удивленный Феб.
— В семь часов.
— Да, через четверть часа.
— У Фалурдель.
— Совершенно верно.
— У потаскухи с моста Сен-Мишель.
— У святого Михаила-архангела, как говорится в молитвах.
— Нечестивец! — пробурчал призрак. — Свидание с женщиной?
— Confiteor[294].
— Ее зовут…
— Смеральдой, — развязно ответил Феб. Мало-помалу к нему возвращалась его всегдашняя беспечность.
При этом имени призрак яростно стиснул руку Феба.
— Капитан Феб де Шатопер, ты лжешь!
Тот, кто в эту минуту увидел бы вспыхнувшее лицо капитана, его стремительный прыжок назад, освободивший его из тисков, в которые он попался, тот надменный вид, с каким он схватился за эфес своей шпаги, кто увидел бы противостоящую этой ярости мертвенную неподвижность человека в плаще, — тот содрогнулся бы от ужаса. Это напоминало поединок Дон Жуана со статуей командора.
— Клянусь Христом и сатаной! — крикнул капитан. — Такие слова не часто приходится слышать Шатоперам! Ты не осмелишься их повторить!
— Ты лжешь! — спокойно повторила тень.
Капитан заскрежетал зубами. Монах-привидение, суеверный страх перед ним — все было забыто в этот миг! Он видел лишь человека, слышал лишь оскорбление.
— А, вот как! Отлично! — задыхаясь от бешенства, пробормотал он. Выхватив шпагу из ножен, он, заикаясь, ибо гнев, подобно страху, бросает человека в дрожь, крикнул: — Здесь! Не медля! Живей! Ну-ка! На шпагах! На шпагах! Кровь на мостовую!
Но призрак стоял неподвижно. Когда он увидел, что противник стал в позицию и готов сделать выпад, он сказал:
— Капитан Феб, — и голос его дрогнул от горечи, — вы забываете о вашем свидании.
Гнев людей, подобных Фебу, напоминает молочный суп: одной капли холодной воды достаточно, чтобы прекратить его кипение. Эти простые слова заставили капитана опустить сверкавшую в его руке шпагу.
— Капитан, — продолжал незнакомец, — завтра, послезавтра, через месяц, через десять лет — я всегда готов перерезать вам горло; но сегодня идите на свидание!
— В самом деле, — сказал Феб, словно пытаясь убедить себя, — приятно встретить в час свидания и женщину и шпагу, они стоят друг друга. Но почему я должен упустить одно из этих удовольствий, когда могу получить оба! Он вложил шпагу в ножны.
— Спешите же на свидание, — повторил незнакомец.
— Сударь, — ответил, несколько смешавшись, Феб, — благодарю вас за любезность. Это верно, ведь мы и завтра успеем с вами наделать прорех и петель в костюме прародителя Адама. Я вам глубоко признателен за то, что вы дозволили мне провести приятно еще несколько часов моей жизни. Правда, я надеялся успеть уложить вас в канаву и попасть вовремя к прелестнице, тем более что заставить женщину немножко подождать даже служит в таких случаях признаком хорошего тона. Но вы произвели на меня впечатление смельчака, и потому правильнее будет отложить наше дело до завтра. Итак, я отправляюсь на свидание. Как вам известно, оно назначено на семь часов. — Здесь Феб почесал за ухом. — Ах, черт! Я совсем запамятовал! Ведь у меня нет денег, чтобы расплатиться за нищенский чердак, а старая сводня потребует вперед. Она мне не поверит в долг.
— Уплатите вот этим.
Феб почувствовал, как холодная рука незнакомца сунула ему в руку крупную монету. Он не мог удержаться от того, чтобы не взять деньги и не пожать руку, которая их дала.
— Ей-богу, — воскликнул он, — вы славный малый!
— Только с одним условием, — проговорил человек. — Докажите мне, что я ошибался и что вы сказали правду. Спрячьте меня в каком-нибудь укромном уголке, откуда я мог бы увидеть, действительно ли это та самая женщина, чье имя вы назвали.
— О, пожалуйста! — ответил Феб. — Мне это совершенно безразлично! Я займу каморку святой Марты[295]. Из соседней собачьей конуры вы будете отлично все видеть.
— Идемте же, — проговорил призрак.
— К вашим услугам, — ответил капитан. — Может быть, вы дьявол собственной персоной, но на сегодняшний вечер мы друзья. Завтра я уплачу все: и долг моего кошелька, и долг моей шпаги.
Они быстро зашагали вперед. Через несколько минут шум реки возвестил им о том, что они вступили на мост Сен-Мишель, застроенный в те времена домами.
— Я прежде всего провожу вас, — сказал Феб своему спутнику, — а затем уже пойду за моей красоткой, которая должна ждать меня возле Пти-Шатле.
Спутник промолчал. За все время, что они шли бок о бок, он не вымолвил ни слова. Феб остановился перед низенькой дверью и громко постучал. Сквозь дверные щели мелькнул свет.
— Кто там? — крикнул шамкающий голос.
— Клянусь Телом Господним! Головой Господней! Чревом Господним! — заорал капитан.
Дверь сразу распахнулась, и перед глазами обоих мужчин предстали старая женщина и старая лампа, обе одинаково дрожащие. Это была одетая в лохмотья сгорбленная старушонка с маленькими глазками и трясущейся головой, обмотанной какой-то тряпицей; ее руки, лицо и шея были изборождены морщинами; губы ввалились, рот окаймляли пучки седых волос, придававшие ее лицу сходство с кошачьей мордой.
Внутренность конуры была не лучше старухи. Беленные мелом стены, закопченные потолочные балки, развалившийся очаг, во всех углах паутина; посреди комнаты — скопище расшатанных столов и хромых скамей; грязный ребенок, копошившийся в золе очага; в глубине — лестница, или, точнее, деревянная лесенка, приставленная к люку в потолке.
Войдя в этот вертеп таинственный спутник Феба прикрыл лицо плащом до самых глаз. Между тем капитан, сквернословя, словно сарацин, «заставил экю поиграть на солнышке», как говорит наш несравненный Ренье.
— Комнату святой Марты! — приказал он.
Старуха, величая его монсеньором, схватила экю и запрятала в ящик стола. Это была та самая монета, которую дал Фебу человек в черном плаще. Когда старуха отвернулась, всклокоченный и оборванный мальчишка, копавшийся в золе, ловко подобрался к ящику, вытащил из него экю, а на его место положил сухой лист, оторванный им от веника.
Старуха жестом пригласила обоих кавалеров, как она их называла, последовать за нею и первая стала взбираться по лесенке. Поднявшись на верхний этаж, она поставила лампу на сундук. Феб уверенно, как завсегдатай этого дома, толкнул дверку, ведущую в темный чулан.
— Войдите сюда, любезный, — сказал он своему спутнику.
Человек в плаще молча повиновался. Дверка захлопнулась за ним; он услышал, как Феб запер ее на задвижку и начал спускаться со старухой по лестнице. Стало совсем темно.
Глава 8
Как удобно, когда окна выходят на реку
Клод Фролло (мы предполагаем, что читатель, более догадливый, чем Феб, давно уже узнал в этом привидении архидьякона), итак, Клод Фролло несколько мгновений ощупью пробирался по темной каморке, где его запер капитан. То был один из закоулков, которые оставляют иногда архитекторы в месте соединения крыши с капитальной стеной. В вертикальном разрезе эта собачья конура, как ее удачно окрестил Феб, представляла собой треугольник. В ней не было окон и даже слухового оконца, а скат крыши мешал выпрямиться во весь рост. Клод присел на корточки среди пыли и мусора, хрустящего у него под ногами. Голова его горела. Пошарив вокруг себя руками, он наткнулся на осколок стекла, валявшийся на земле, и приложил его ко лбу; холодок стекла несколько освежил его.
Что происходило в эту минуту в темной душе архидьякона? То ведомо было лишь Богу да ему самому.
В каком роковом порядке располагались в его воображении Эсмеральда, Феб, Жак Шармолю, его любимый брат, брошенный им среди уличной грязи, его архидьяконская сутана, быть может, и его доброе имя, которым он пренебрег, идя к какой-то Фалурдель, и вообще все картины и события этого дня? Этого я сказать не могу. Но не сомневаюсь, что все эти образы сложились в его мозгу в чудовищное сочетание.
Он прождал четверть часа; ему казалось, что он состарился на сто лет. Вдруг он услышал, как заскрипели ступеньки деревянной лесенки; кто-то поднимался наверх. Дверца люка приоткрылась; показался свет. В источенной червями двери его боковуши была довольно широкая щель; он приник к ней лицом. Таким образом ему было видно все, что происходило в соседней комнате. Старуха с кошачьей мордой вошла первой, держа в руках фонарь; за ней следовал, покручивая усы, Феб, и, наконец, третьей появилась прелестная и изящная фигурка Эсмеральды. Словно ослепительное видение, возникла она перед глазами священника. Клод затрепетал, глаза его заволокло туманом, кровь закипела, все вокруг него загудело и закружилось. Он больше ничего не видел и не слышал.
Когда он пришел в себя, Феб и Эсмеральда были уже одни; они сидели рядом на деревянном сундуке возле лампы, выхватывавшей из мрака их юные лица и жалкую постель в глубине чердака.
Близ постели находилось окно, сквозь разбитые стекла которого, как сквозь прорванную дождем паутину, виднелся клочок неба и вдали луна, покоящаяся на мягком ложе пушистых облаков.
Молодая девушка сидела пунцовая, смущенная, трепещущая. Ее длинные опущенные ресницы бросали тень на пылающие щеки. Офицер, на которого она не осмеливалась взглянуть, так и сиял. Машинально, очаровательно-неловким движением она чертила по сундуку кончиком пальца беспорядочные линии и глядела на этот пальчик. Ног ее не было видно: к ним приникла маленькая козочка.
Капитан выглядел щеголем. Ворот и рукава его рубашки были богато отделаны кружевом, видневшимся из-под мундира, что считалось в то время верхом изящества.
Клод с трудом мог разобрать, о чем они говорили, — так сильно стучало у него в висках.
(Болтовня влюбленных — вещь довольно банальная. Это вечное «я люблю вас». Для равнодушного слушателя она звучит бедной, совершенно бесцветной музыкальной фразой, ежели только не украшена какими-нибудь фиоритурами. Но Клод был отнюдь не равнодушным слушателем.)
— О, не презирайте меня, монсеньор Феб, — говорила, не поднимая глаз, молодая девушка. — Я чувствую, что поступаю очень дурно.
— Презирать вас, прелестное дитя! — отвечал капитан в тоне снисходительной и учтивой галантности. — Вас презирать? Черт возьми, но за что же?
— За то, что я пришла сюда.
— На этот счет, моя красавица, я держусь другого мнения. Мне нужно не презирать вас, а ненавидеть.
Молодая девушка испуганно взглянула на него:
— Ненавидеть? Что же такое я сделала?
— Вы слишком долго заставили себя упрашивать.
— Увы! — ответила она. — Это потому, что я боялась нарушить обет. Мне теперь не найти моих родителей, талисман потеряет свою силу. Но что мне до того? Зачем мне теперь мать и отец?
И она подняла на капитана свои большие черные глаза, увлажненные радостью и нежностью.
— Черт меня побери, я ничего не понимаю! — воскликнул капитан.
Некоторое время Эсмеральда молчала, потом слеза скатилась с ее ресниц, с уст ее сорвался вздох, и она промолвила:
— О монсеньор, я люблю вас!
Молодую девушку окружало благоухание такой невинности, обаяние такого целомудрия, что Феб чувствовал себя стесненным в ее присутствии. Эти слова придали ему отваги.
— Вы любите меня! — восторженно воскликнул он и обнял за талию цыганку. Он только и ждал такого случая.
Священник, увидев это, нащупал концом пальца острие кинжала, спрятанного у него на груди.
— Феб, — продолжала цыганка, тихонько отводя от себя цепкие руки капитана, — вы добры, вы великодушны, вы прекрасны. Вы меня спасли — меня, бедную безвестную цыганку. Уже давно мечтаю я об офицере, который спас бы мне жизнь. Это о вас мечтала я, еще не зная вас, мой Феб. У героя моей мечты такой же красивый мундир, такой же благородный вид и такая же шпага. Ваше имя — Феб. Это чудное имя. Я люблю ваше имя, я люблю вашу шпагу. Выньте ее из ножен, Феб, я хочу на нее посмотреть.
— Дитя! — воскликнул капитан и, улыбаясь, обнажил шпагу.
Цыганка взглянула на рукоятку, на лезвие, с очаровательным любопытством исследовала вензель, вырезанный на эфесе, и поцеловала шпагу, сказав ей:
— Ты шпага храбреца. Я люблю твоего хозяина.
Феб воспользовался случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на ее прелестной шейке, что заставило молодую девушку, пунцовую, словно вишня, быстро выпрямиться. Священник во мраке заскрежетал зубами.
— Феб, — сказала она, — не мешайте мне, я хочу с вами поговорить. Пройдитесь немного, чтобы я могла вас увидеть во весь рост и услышать звон ваших шпор. Какой вы красивый!
Капитан в угоду ей поднялся со своего места и, самодовольно улыбаясь, пожурил ее:
— Ну можно ли быть таким ребенком? А кстати, прелесть моя, видели вы меня когда-нибудь в парадном мундире?
— Увы, нет! — отвечала она.
— Вот это действительно красиво!
Феб вновь уселся возле нее, но гораздо ближе, чем прежде.
— Послушайте, дорогая моя…
Цыганка ребячливым жестом, полным шаловливости, грации и веселья, несколько раз слегка ударила его по губам своей хорошенькой ручкой.
— Нет, нет, я не буду вас слушать. Вы меня любите? Я хочу, чтобы вы мне сказали, любите ли вы меня.
— Люблю ли я тебя, ангел моей жизни! — воскликнул капитан, преклонив колено. — Мое тело, кровь моя, моя душа — все твое, все для тебя. Я люблю тебя и никогда, кроме тебя, никого не любил.
Капитану столько раз доводилось повторять эту фразу при подобных же обстоятельствах, что он выпалил ее одним духом, не позабыв ни одного слова. Услышав это страстное признание, цыганка подняла к грязному потолку, заменявшему небо, взор, полный райского блаженства.
— Ах, — прошептала она, — вот мгновение, когда я хотела бы умереть!
Феб же нашел это «мгновение» более подходящим для того, чтобы сорвать у нее еще один поцелуй, чем подверг новой пытке несчастного архидьякона.
— Умереть! — воскликнул влюбленный капитан. — Что вы говорите, прелестный мой ангел! Теперь-то и надо жить, клянусь Юпитером! Умереть в самом начале такого удовольствия! Клянусь рогами сатаны, все это ерунда! Дело не в этом! Послушайте, моя дорогая Симиляр… Эсменарда… Простите, но у вас такое басурманское имя, что я никак не могу с ним сладить. Оно как густой кустарник, в котором я каждый раз застреваю.
— Боже мой, — проговорила бедная девушка, — а я-то считала его красивым, ведь оно такое необыкновенное! Но если оно вам не нравится, зовите меня просто Готон[296].
— Э, не будем огорчаться из-за таких пустяков, моя милочка! К нему нужно привыкнуть, вот и все. Я выучу его наизусть, и все пойдет хорошо. Так послушайте же, моя дорогая Симиляр, я обожаю вас до безумия. Это просто удивительно, как я люблю вас. Я знаю одну особу, которая лопнет от ярости из-за этого…
Ревнивая девушка прервала его:
— Кто она такая?
— А что нам до нее за дело? — отвечал Феб. — Любите вы меня?
— О!.. — произнесла она.
— Ну и прекрасно! Это главное! Вы увидите, как я люблю вас. Пусть этот долговязый дьявол Нептун подденет меня на свои вилы, ежели я не сделаю вас счастливейшей женщиной. У нас будет где-нибудь хорошенькая маленькая квартирка. Я заставлю моих стрелков гарцевать под вашими окнами. Они все конные и за пояс заткнут стрелков капитана Миньона. Среди них есть копейщики, лучники и пищальники. Я поведу вас на большой смотр близ Рюлли. Это великолепное зрелище. Восемьдесят тысяч человек в строю; тридцать тысяч белых лат, панцирей и кольчуг; стяги шестидесяти семи цехов, знамена парламента, счетной палаты, казначейства, монетного двора; словом, вся чертова свита! Я покажу вам львов королевского дворца — это хищные звери. Все женщины любят такие зрелища.
Молодая девушка, упиваясь звуками его голоса, мечтала, не вникая в смысл его слов.
— О! Как вы будете счастливы! — продолжал капитан, незаметно расстегивая пояс цыганки.
— Что вы делаете? — поспешно воскликнула она. Этот переход к «предосудительным действиям» развеял ее грезы.
— Ничего, — ответил Феб. — Я говорю только, что, когда вы будете со мной, вам придется расстаться с этим нелепым уличным нарядом.
— Когда я буду с тобой, мой Феб! — с нежностью прошептала молодая девушка.
И вновь задумалась и умолкла.
Капитан, ободренный ее кротостью, обнял ее стан — она не противилась. Тогда он принялся потихоньку расшнуровывать ее корсаж и привел в такой беспорядок ее шейную косынку, что взору задыхавшегося архидьякона предстало выступившее из кисеи дивное плечико цыганки, округлое и смуглое, словно луна, поднимающаяся из тумана на горизонте.
Молодая девушка не мешала Фебу. Казалось, она ничего не замечала. Взор предприимчивого капитана сверкал.
Вдруг она обернулась к нему.
— Феб, — сказала она с выражением бесконечной любви, — научи меня своей вере.
— Моей вере! — воскликнул, разразившись хохотом, капитан. — Мне научить тебя моей вере! Гром и молния! Да на что тебе понадобилась моя вера?
— Чтобы мы могли обвенчаться, — сказала она.
На лице капитана изобразилась смесь изумления, пренебрежительности, беспечности и сладострастия.
— Вот как? — проговорил он. — А разве мы собираемся венчаться?
Цыганка побледнела и грустно склонила головку.
— Прелесть моя, — нежно продолжал Феб, — все это глупости! Велика важность венчание! Разве люди больше любят друг друга, если их посыплют латынью в поповской лавочке?
Продолжая говорить с ней самым сладким голосом, он совсем близко придвинулся к цыганке, его ласковые руки вновь обвили ее тонкий, гибкий стан. Взор его разгорался с каждой минутой, и все говорило о том, что для господина Феба наступило мгновение, когда даже сам Юпитер совершает немало глупостей и добряку Гомеру приходится звать себе на помощь облако.
Отец Клод видел все. Дверка была сколочена из неплотно сбитых гнилых бочоночных дощечек, и его взгляд, подобный взгляду хищной птицы, проникал в широкие щели. Смуглый широкоплечий священник, обреченный доселе на суровое монастырское воздержание, трепетал и кипел перед этой сценой любви, ночи и наслаждения. Зрелище прелестной юной полураздетой девушки, отданной во власть пылкого молодого мужчины, вливало расплавленный свинец в жилы священника. Он испытывал неведомые прежде чувства. Его взор со сладострастной ревностью впивался во все, что обнажала каждая отколотая булавка. Тот, кто в эту минуту увидел бы лицо несчастного, приникшее к источенным червями доскам, подумал бы, что перед ним тигр, смотрящий сквозь прутья клетки на шакала, который терзает газель. Его зрачки горели сквозь дверные щели, как свечи.
Внезапно быстрым движением Феб сдернул шейную косынку цыганки. Бедная девушка, сидевшая все еще задумавшись, с побледневшим личиком, вдруг словно пробудилась от сна.
Быстро отодвинулась она от предприимчивого капитана и, взглянув на свои обнаженные плечи и грудь, смущенная, раскрасневшаяся, онемевшая от стыда, скрестила на груди прекрасные руки, чтобы прикрыть наготу. Если бы не горевший на ее щеках румянец, то в эту минуту ее можно было бы принять за безмолвную, неподвижную статую Целомудрия. Глаза ее были опущены.
Между тем, сдернув косынку, капитан открыл таинственный амулет, спрятанный у нее на груди.
— Что это такое? — спросил он, воспользовавшись предлогом, чтобы вновь приблизиться к прелестному созданию, которое он вспугнул.
— Не троньте! — воскликнула она. — Это мой хранитель. Он поможет мне найти моих родных, если только я буду этого достойна. О, оставьте меня, господин капитан! Мать моя! Моя бедная матушка! Мать моя! Где ты? Помоги мне! Сжальтесь, господин Феб! Отдайте косынку!
Феб отступил и холодно ответил:
— О сударыня, теперь я отлично вижу, что вы меня не любите!
— Я не люблю тебя! — воскликнула бедняжка, прильнув к капитану, которого она заставила сесть рядом с собой. — Я не люблю тебя, мой Феб! Что ты говоришь? Злой, ты хочешь разорвать мне сердце! Хорошо! Возьми меня, возьми все! Делай со мной что хочешь. Я твоя. Что мне талисман! Что мне мать! Ты мне мать, потому что я люблю тебя! Мой Феб, мой возлюбленный Феб, видишь, вот я! Это я, погляди на меня! Я та малютка, которую ты не пожелаешь оттолкнуть от себя, которая сама, сама ищет тебя. Моя душа, моя жизнь, мое тело, я сама — все принадлежит тебе. Хорошо, не надо венчаться, если тебе это не нравится. Да и что я такое? Жалкая уличная девчонка, а ты, мой Феб, ты — дворянин. Не смешно ли, на самом деле? Плясунья венчается с офицером! Да я с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой, всем, чем ты пожелаешь! Ведь я для того и создана. Пусть я буду опозорена, запятнана, унижена, что мне до этого? Зато любима! Я буду самой гордой, самой счастливой из женщин. А когда я постарею или подурнею, когда я уже не буду для вас приятной забавой, о монсеньор, тогда вы разрешите мне прислуживать вам. Пусть другие будут вышивать вам шарфы, а я, ваша раба, буду их беречь. Вы позволите мне полировать вам шпоры, чистить щеткой вашу куртку, смахивать пыль с ваших сапог. Не правда ли, мой Феб, вы не откажете мне в такой милости? А теперь возьми меня! Вот я, Феб, я вся принадлежу тебе, лишь люби меня! Нам, цыганкам, нужно немного — вольный воздух да любовь.
Обвив руками шею капитана, она глядела на него снизу вверх, умоляющая, очаровательно улыбаясь сквозь слезы, ее нежная грудь терлась о грубую суконную куртку с жесткой вышивкой. Ее полуобнаженное прелестное тело изгибалось на коленях капитана. Опьяненный, он прильнул пылающими губами к ее прекрасным смуглым плечам. Молодая девушка запрокинула голову, блуждая взором по потолку, и трепетала, замирая под этими поцелуями.
Вдруг над головой Феба она увидела другую голову, бледное, зеленоватое, искаженное лицо с адской мукой во взоре, а близ этого лица — руку, занесшую кинжал. То было лицо и рука священника. Он выломал дверь и стоял подле них. Феб не мог его видеть. Молодая девушка окаменела, заледенела, онемела перед этим ужасным видением, как голубка, приподнявшая головку в тот миг, когда своими круглыми глазами в гнездо к ней глянул коршун.
Она не могла даже вскрикнуть. Она видела лишь, как кинжал опустился над Фебом и снова взвился, дымясь.
— Проклятие! — крикнул капитан и упал. Она потеряла сознание.
В тот миг, когда веки ее смыкались, когда всякое чувство угасало в ней, она смутно ощутила на своих устах огненное прикосновение, поцелуй, более жгучий, чем каленое железо палача.
Когда она очнулась, ее окружали солдаты ночного дозора; капитана, залитого кровью, куда-то уносили, священник исчез, выходившее на реку окно в глубине комнаты было открыто настежь, близ него подняли какой-то плащ, принадлежавший, как предполагали, офицеру. Она слышала, как вокруг нее говорили:
— Эта колдунья заколола кинжалом капитана.
Книга VIII
Глава 1
Экю, превратившееся в сухой лист
Гренгуар и весь Двор чудес были в смертельной тревоге. Уже больше месяца никто не знал, что случилось с Эсмеральдой и куда девалась ее козочка. Исчезновение Эсмеральды очень огорчало герцога египетского и его друзей-бродяг; исчезновение козочки удваивало скорбь Гренгуара. Однажды вечером цыганка пропала, и с тех пор она как в воду канула. Все поиски были напрасны. Несколько задир эпилептиков поддразнивали Гренгуара, уверяя, что встретили ее в тот вечер близ моста Сен-Мишель вместе с каким-то офицером; но этот муж, обвенчанный по цыганскому обряду, был последователем скептической философии, и к тому же он лучше, чем кто бы то ни было, знал, насколько целомудренна была его жена. По собственному опыту он мог судить о той неодолимой стыдливости, которая являлась следствием сочетания свойств амулета и добродетели цыганки, и с математической точностью рассчитал степень сопротивления этого возведенного в квадрат целомудрия. Итак, в этом отношении он был спокоен.
Следовательно, объяснить себе исчезновение Эсмеральды он не мог. Это причиняло ему глубокое горе. Он даже похудел бы, если бы только это было возможно. Он все забросил, вплоть до своих литературных занятий, даже свое обширное сочинение «De figuris regularibus et irregularibus»[297], которое он собирался напечатать на первые же заработанные деньги. (Он просто бредил книгопечатанием с тех пор, как увидел книгу Гуго де Сен-Виктора «Didascalon»[298], напечатанную знаменитым шрифтом Винделена Спирского.)
Однажды, когда он, полный уныния, проходил мимо башни, где находилась судебная палата по уголовным делам, он заметил группу людей, толпившихся у одного из входов во Дворец правосудия.
— Что там случилось? — спросил он у выходившего оттуда молодого человека.
— Не знаю, сударь, — ответил молодой человек. — Болтают, будто судят какую-то женщину, убившую военного. Кажется, здесь не обошлось без колдовства; епископ и духовный суд вмешались в это дело, и мой брат, архидьякон Жозасский, не выходит оттуда. Я хотел было потолковать с ним, но никак не мог к нему пробраться — такая там толпа. Это очень досадно, потому что мне нужны деньги.
— Увы, сударь, — отвечал Гренгуар, — я охотно одолжил бы вам денег, но ежели карманы моих штанов и прорваны, то отнюдь не от тяжести монет.
Он не осмелился сказать молодому человеку, что знаком с его братом-архидьяконом, к которому после встречи в соборе он так и не заглядывал; эта небрежность смущала его.
Школяр пошел своим путем, а Гренгуар последовал за толпой, поднимавшейся по лестнице в залу суда. Он был того мнения, что ничто так хорошо не разгоняет печали, как зрелище уголовного судопроизводства, — настолько потешна глупость, обычно проявляемая судьями. Толпа, к которой присоединился Гренгуар, несмотря на сутолоку, продвигалась вперед, соблюдая тишину. После долгого и нудного пути по длинному сумрачному коридору, извивавшемуся по дворцу, словно пищеварительный канал этого старинного здания, он добрался наконец до низенькой двери, ведущей в залу, которую он благодаря своему высокому росту мог рассмотреть поверх голов волнующейся толпы.
В обширной зале стоял полумрак, отчего она казалась еще обширнее. Вечерело; высокие стрельчатые окна пропускали лишь слабый луч света, который гас прежде, чем достигал свода, представлявшего собой громадную решетку из резных балок, покрытых тысячью украшений, которые, казалось, смутно шевелились во тьме. Кое-где на столах уже были зажжены свечи, озарявшие низко склоненные над бумагами головы протоколистов. Переднюю часть залы заполняла толпа; направо и налево за столами сидели судейские чины; а в глубине, на возвышении, с неподвижными и зловещими лицами, множество судей, последние ряды которых терялись во мраке. Стены были усеяны бесчисленными изображениями королевских лилий. Над головами судей можно было смутно различить большое Распятие, а по всей зале — копья и алебарды, на остриях которых пламя свечей зажигало огненные точки.
— Сударь, — спросил у одного из своих соседей Гренгуар, — кто эти господа, расположившиеся там, словно прелаты на церковном соборе?
— Сударь, — ответил сосед, — направо — это советники судебной палаты, а налево — советники следственной камеры; низшие чины — в черном, высшие — в красном.
— А кто это сидит выше всех, вон тот красный толстяк, что обливается потом?
— Это сам господин председатель.
— А те бараны позади него? — продолжал спрашивать Гренгуар, который, как мы уже упоминали, недолюбливал судейское сословие. Быть может, это объяснялось той злобой, которую он питал к Дворцу правосудия со времени постигшей его неудачи на драматическом поприще.
— А это все докладчики королевской палаты.
— А впереди него, вот этот кабан?
— Это господин протоколист королевского суда.
— А направо, этот крокодил?
— Мэтр Филипп Лелье — чрезвычайный королевский прокурор.
— А налево, вон тот черный жирный кот?
— Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда, и господа члены этого суда.
— И еще один вопрос, сударь, — сказал Гренгуар, — что же делают здесь все эти почтенные господа?
— Они судят.
— Судят? Но кого же? Я не вижу подсудимого.
— Сударь, это женщина. Вы не можете ее видеть. Она сидит к нам спиной, и толпа заслоняет ее. Глядите, она вон там, где стража с бердышами.
— Кто же эта женщина? Не знаете ли вы, как ее зовут?
— Нет, сударь. Я сам только что пришел. Думаю, дело идет о колдовстве: здесь присутствуют члены духовного суда.
— Итак, — сказал наш философ, — мы сейчас увидим, как все эти судейские мантии будут пожирать человечье мясо! Что ж, это зрелище не хуже всякого другого!
— Сударь, — заметил сосед, — не находите ли вы, что у мэтра Жака Шармолю весьма кроткий вид?
— Гм! Я не доверяю кротости, у которой вдавленные ноздри и тонкие губы, — ответил Гренгуар.
Здесь окружающие заставили собеседников умолкнуть: давалось важное свидетельское показание.
— Государи мои, — повествовала, стоя посреди залы, старуха, на которой было накручено столько тряпья, что вся она казалась ходячим ворохом лохмотьев, — государи мои, все, что я расскажу, так же верно, как верно то, что я зовусь Фалурдель, что сорок лет я живу в доме на мосту Сен-Мишель, супротив Тасен-Кайяра, красильщика, дом которого стоит против течения реки, и что я аккуратно выплачиваю пошлины, подати и налоги. Теперь я жалкая старуха, а когда-то была красавицей девкой, государи мои! Так вот, давненько уж мне люди говорили: «Фалурдель, не крути допоздна прялку по вечерам; дьявол любит расчесывать своими рогами кудель у старух. Известно, что монах-привидение, который в прошлом году показался возле Тампля, бродит нынче по Ситэ. Берегись, Фалурдель, как бы он не постучался в твою дверь». И вот как-то вечером я пряду, и вдруг кто-то стучит в мою дверь. «Кто там?» — спрашиваю я. Ругаются. Я отпираю. Входят два человека. Один черный такой, а с ним красавец офицер. У черного только и видать что глаза — горят как уголья, а все остальное закрыто плащом да шляпой. Они и говорят мне: «Комнату святой Марты». А это моя верхняя комната, государи мои, самая чистая из всех. Суют мне экю. Я прячу экю в ящик, а сама думаю: «На эту монетку завтра куплю себе требухи на Глориетской бойне». Мы подымаемся наверх. Когда мы пришли в верхнюю комнату, я отвернулась, смотрю — черный человек исчез. Подивилась я. А красивый офицер, видать знатный барин, воротился со мною вниз и вышел. Не успела я напрясть четверть мотка, как он идет назад с хорошенькой девушкой, прямо куколкой, которая была бы краше солнышка, будь она понарядней. С нею козел, большущий козел, не то белый, не то черный, этого я не упомню. Он-то и навел на меня сомнение. Ну, девушка — это не мое дело, а вот козел!.. Не люблю я козлов за их бороду да за рога. Ни дать ни взять — мужчина. И кроме того, от них так и разит шабашем. Однако я помалкиваю. Я ведь получила свое экю. Ведь правильно я говорю, господин судья? Проводила я офицера с девушкой наверх и оставила их наедине, то есть с козлом. А сама спустилась вниз и опять села прясть. Надо вам сказать, что дом у меня двухэтажный, задней стороной он выходит к реке, как и все дома на мосту, а окна в первом и во втором этаже открываются на воду. Вот, значит, я пряду. Не знаю почему, но в мыслях у меня все монах-привидение — должно быть, козел мне напомнил про него, да и красавица была не по-людски одета. Вдруг слышу — наверху крик, что-то грохнулось об пол, распахнулось окно. Я подбежала к своему окну в нижнем этаже и вижу: пролетает мимо меня что-то темное и бултых в воду. Вроде как привидение в рясе священника. Ночь была лунная. Я очень хорошо его разглядела. Оно поплыло в сторону Ситэ. Вся дрожа от страха, я кликнула ночную охрану. Господа дозорные вошли ко мне, и так как они были выпивши, то, не разобрав, в чем дело, прежде всего поколотили меня. Я объяснила им, что случилось. Мы поднялись наверх — и что же мы увидели? Бедная моя комната вся залита кровью, капитан с кинжалом в горле лежит, растянувшись на полу, девушка прикинулась мертвой, а козел мечется от страха. «Здорово, — сказала я себе, — хватит мне теперь мытья на добрых две недели! Придется скоблить пол, вот напасть!» Офицера унесли. Бедный молодой человек! То же самое и девушку, почти совсем раздетую. Но это еще не все. Худшее еще впереди. На другой день я хотела взять экю, чтобы купить требухи, и что же? Вместо него я нашла сухой лист. — Старуха умолкла. Ропот ужаса пробежал по толпе.
— Привидение, козел — все это попахивает колдовством, — заметил один из соседей Гренгуара.
— А сухой лист! — подхватил другой.
— Несомненно, — добавил третий, — колдунья стакнулась с монахом-привидением, чтобы грабить военных.
Сам Гренгуар склонен был признать всю эту страшную историю правдоподобной.
— Женщина по имени Фалурдель, — величественно спросил председатель, — имеете вы еще что-нибудь сообщить правосудию?
— Нет, государь мой, — ответила старуха, — разве только то, что в протоколе мой дом назвали покосившейся вонючей лачугой, а это слишком уж обидно. Все дома на мосту не бог весть как приглядны, потому что они битком набиты бедным людом, однако в них проживают мясники, а это люди зажиточные, и жены у них красавицы и чистюли.
Судебный чин, напоминавший Гренгуару крокодила, встал со своего места.
— Довольно, — сказал он. — Прошу господ судей не упускать из виду, что на обвиняемой найден был кинжал. Женщина, именуемая Фалурдель, вы принесли с собой сухой лист, в который превратилось экю, данное вам дьяволом?
— Да, государь мой, — ответила она, — я отыскала его. Вот он.
Судебный пристав передал сухой лист «крокодилу», который, зловеще покачав головой, передал его председателю, а тот в свою очередь — королевскому прокурору церковного суда. Таким образом лист обошел всю залу.
— Это березовый лист, — сказал мэтр Жак Шармолю. — Вот новое доказательство колдовства.
Один из советников попросил слова:
— Свидетельница, два человека поднялись к вам вместе: человек в черном, который на ваших глазах сначала исчез, а потом в одежде священника переплывал реку, и офицер. Который же из них дал вам экю?
Старуха призадумалась на мгновение и ответила:
— Офицер. Толпа загудела.
«Вот как? — подумал Гренгуар. — Это заставляет меня усомниться во всей истории».
Но тут вновь вмешался мэтр Филипп Лелье, чрезвычайный королевский прокурор:
— Напоминаю господам судьям: в показании, снятом с него у одра болезни, тяжело раненный офицер заявил, что, когда к нему подошел человек в черном, у него сразу мелькнула мысль, не тот ли это самый монах-привидение; что призрак настоятельно уговаривал его вступить в сношения с обвиняемой и на его, капитана, слова об отсутствии у него денег сунул ему экю, которым вышеупомянутый офицер расплатился с Фалурдель. Следовательно, это экю — адская монета.
Такой убедительный довод, казалось, рассеял все сомнения Гренгуара и остальных скептиков из числа присутствующих.
— Господа, у вас в руках все документы, — добавил, занимая свое место, чрезвычайный королевский прокурор, — вы можете обсудить показания Феба де Шатопера.
При этом имени подсудимая встала. Голова ее показалась над толпой. Гренгуар, ужаснувшись, узнал Эсмеральду.
Она была очень бледна, ее волосы, некогда столь изящно заплетенные в косы и отливавшие блеском цехинов, в беспорядке рассыпались по плечам, губы посинели, ввалившиеся глаза внушали страх.
— Феб! — растерянно промолвила она. — Где он? О государи мои! Прежде чем убить меня, прошу вашей милости, скажите мне, жив ли он?
— Замолчи, женщина, — проговорил председатель. — Это к делу не относится.
— О, сжальтесь! Ответьте мне, жив ли он? — вновь заговорила она, молитвенно складывая свои прекрасные исхудалые руки, и слышно было, как цепи, звеня, скользнули по ее платью.
— Ну, хорошо, — сухо ответил королевский прокурор. — Он при смерти. Довольна ты?
Несчастная упала на низенькую скамью, молча, без слез, бледная, как восковая статуя.
Председатель нагнулся к сидевшему у его ног человеку в шитой золотом шапке, в черной мантии, с цепью на шее и жезлом в руке.
— Пристав, введите вторую обвиняемую.
Все взоры обратилась к маленькой двери, которая распахнулась и пропустила, вызвав сильнейшее сердцебиение у Гренгуара, маленькую хорошенькую козочку с вызолоченными рожками и копытцами. Изящное животное на мгновение задержалось на пороге, вытянув шею, словно, стоя на краю скалы, оно озирало расстилавшийся перед ним необозримый горизонт. Вдруг козочка заметила цыганку и, в два прыжка перескочив через стол и голову протоколиста, очутилась у ее колен; тут она грациозно свернулась у ног своей госпожи, будто выпрашивая внимание и ласку; но подсудимая оставалась неподвижной, и даже бедная Джали не удостоилась ее взгляда.
— Вот те на! — сказала старуха Фалурдель. — Да ведь это то самое мерзкое животное, я их отлично узнаю, одну и другую!
Тут взял слово Жак Шармолю:
— Если господам судьям угодно, то мы приступим к допросу козы.
Это и была вторая обвиняемая.
В те времена судебное дело о колдовстве, возбужденное против животных, не было редкостью. В судебных отчетах 1466 года среди других подробностей встречается любопытный перечень издержек по делу Жиле-Сулара и его свиньи, «казненных за их злодеяния» в Корбейле. Туда входят и расходы по рытью ямы, куда закопали свинью, и пятьсот вязанок хвороста, взятых в Морсанском порту, три пинты вина и хлеб — последняя трапеза осужденного, которую братски с ним разделил палач, — даже стоимость прокорма свиньи и присмотр за ней в течение одиннадцати дней по восьми парижских денье в сутки. Иногда правосудие заходило еще дальше. Так, по капитуляриям Карла Великого и Людовика Благочестивого, устанавливались тягчайшие наказания для огненных призраков, дерзнувших появиться в воздухе. Прокурор духовного суда воскликнул:
— Если демон, который вселился в эту козу и не поддавался доселе никаким заклинаниям, собирается и впредь упорствовать в своих зловредных действиях и пугать ими суд, то мы предупреждаем его, что будем вынуждены требовать для него виселицы или костра!
Гренгуар облился холодным потом. Шармолю, взяв со стола бубен цыганки и определенным движением приблизив его к козе, спросил:
— Который час?
Посмотрев на него смышлеными своими глазами, козочка приподняла золоченое копытце и стукнула им семь раз. Было действительно семь часов. Движение ужаса пробежало по толпе.
Гренгуар не выдержал.
— Она губит себя! — громко воскликнул он. — Неужели вы не видите, что она сама не понимает, что делает?
— Тише вы там, мужичье! — резко крикнул пристав. Жак Шармолю при помощи того же бубна заставил козочку проделать множество других странных вещей — указать число, месяц и прочее, чему читатель был уже свидетелем. И вследствие оптического обмана, присущего судебным разбирательствам, те самые зрители, которые, быть может, не раз рукоплескали на перекрестках невинным хитростям Джали, были теперь потрясены ими здесь, под сводами Дворца правосудия. Несомненно, коза была сам дьявол.
Дело обернулось еще хуже, когда королевский прокурор опорожнил на пол висевший у Джали на шее кожаный мешочек, заключавший дощечки с буквами. Коза тут же своей ножкой составила разбросанные буквы в роковое имя: Феб. Колдовство, жертвой которого пал капитан, казалось неопровержимо доказанным, и цыганка, эта восхитительная плясунья, столько раз пленявшая прохожих своей грацией, преобразилась в ужасающего вампира.
Но сама она не подавала ни малейшего признака жизни. Ни изящные движения Джали, ни угрозы судей, ни глухие проклятия слушателей — ничто более не доходило до нее.
Чтобы привести ее в себя, сержанту пришлось грубо встряхнуть ее, а председателю торжественно возвысить голос:
— Девушка, вы принадлежите к цыганскому племени, посвятившему себя чародейству. В сообществе с заколдованной козой, прикосновенной к сему судебному делу, вы в ночь на двадцать девятое число прошлого марта месяца, при содействии адских сил, с помощью чар и тайных способов убили, заколов кинжалом, капитана королевских стрелков Феба де Шатопера. Продолжаете ли вы это отрицать?
— О ужас! — воскликнула молодая девушка, закрывая лицо руками. — Мой Феб! О! Это ад!
— Продолжаете вы это отрицать? — холодно переспросил председатель.
— Да, отрицаю! — сказала она с силой и встала, сверкая глазами.
Председатель поставил вопрос ребром:
— В таком случае, как объясните вы факты, свидетельствующие против вас?
Она ответила прерывающимся голосом:
— Я уже сказала. Я не знаю… Это священник. Священник, которого я не знаю. Тот адский священник, который преследует меня!
— Правильно, — подтвердил судья, — монах-привидение.
— О господин! Сжальтесь! Я ведь только бедная девушка…
— Цыганка, — добавил судья.
Тут елейным голосом заговорил мэтр Жак Шармолю:
— Ввиду прискорбного запирательства подсудимой я предлагаю применить пытку.
— Принято, — ответил председатель.
Несчастная задрожала с головы до ног. Однако по приказанию стражей, вооруженных бердышами, она встала и довольно твердой поступью, предшествуемая Жаком Шармолю и членами духовного суда, направилась между двумя рядами алебардщиков к небольшой двери. Дверь внезапно распахнулась и столь же быстро за ней захлопнулась, что произвело на опечаленного Гренгуара впечатление отвратительной пасти, поглотившей цыганку.
Когда она исчезла, в зале послышалось жалобное блеяние: то плакала маленькая козочка.
Заседание было приостановлено. Один из советников заметил, что господа судьи устали и ждать окончания пытки слишком долго, но председатель возразил ему, что судья должен уметь жертвовать собой во имя долга!
— Строптивая, гадкая девка! — проворчал какой-то старый судья. — Заставляет себя пытать, когда мы еще не поужинали.
Глава 2
Продолжение главы об экю, превратившемся в сухой лист
Поднявшись и снова спустившись по нескольким лестницам, выходившим в какие-то коридоры, до того темные, что даже среди бела дня в них горели лампы, Эсмеральда, окруженная своим мрачным конвоем, попала наконец в какую-то комнату зловещего вида, куда ее втолкнула стража. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из тех массивных башен, которые еще и в наши дни пробиваются сквозь пласт современных построек нового Парижа, прикрывающих собой старый город. В этом склепе не было ни окон, ни какого-либо иного отверстия, кроме входа — низкой, кованой, громадной железной двери. Света, впрочем, в нем казалось достаточно: в толще стены была выложена печь; в ней горел яркий огонь, наполняя склеп багровыми отсветами, в которых словно таял язычок свечи, стоящей в углу. Железная решетка, закрывавшая печь, была поднята. Над устьем пламенеющего в темной стене отверстия виднелись только нижние концы ее прутьев, словно ряд черных, острых и редко расставленных зубов, что придавало горну сходство с пастью сказочного дракона, извергающего пламя. При свете этого огня пленница увидела вокруг себя ужасные орудия, употребление которых было ей непонятно. Посредине комнаты, почти на полу, находился кожаный тюфяк, а над ним ремень с пряжкой, прикрепленной к медному кольцу, которое держал в зубах изваянный в центре свода курносый урод. Тиски, клещи, широкие треугольные ножи, брошенные как попало, загромождали внутренность горна и накалялись там на пылающих углях. Куда ни падал кровавый отблеск печи, всюду он освещал лишь груды жутких предметов, заполнявших склеп.
Эта преисподняя называлась просто «пыточной комнатой».
На тюфяке в небрежной позе сидел Пьер́а Тортерю — присяжный палач. Его помощники — два карлика с квадратными лицами, в кожаных фартуках и в холщовых штанах — поворачивали раскалившееся на углях железо.
Бедная девушка напрасно крепилась. Когда она попала в эту комнату, ее охватил ужас.
Стража дворцового судьи встала по одну сторону, священники духовного суда — по другую. Писец, чернильницы и стол находились в углу.
Мэтр Жак Шармолю со слащавой улыбкой приблизился к цыганке.
— Дорогое дитя мое, — сказал он, — итак, вы все еще продолжаете отпираться?
— Да, — угасшим голосом ответила она.
— В таком случае, — продолжал Шармолю, — мы вынуждены, как это ни прискорбно, допрашивать вас более настойчиво, чем сами того желали бы. Будьте любезны, потрудитесь сесть вот на это ложе. Мэтр Пьер́а, уступите мадмуазель место и затворите дверь.
Пьер́а неохотно поднялся.
— Ежели я закрою дверь, мой огонь погаснет, — пробурчал он.
— Хорошо, друг мой, оставьте ее открытой, — быстро согласился Шармолю.
Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось столько страдальцев, пугала ее. Страх леденил кровь. Она стояла испуганная, оцепеневшая. По знаку Шармолю оба помощника палача схватили ее и усадили на тюфяк. Они не причинили ей ни малейшей боли; но лишь только они притронулись к ней, лишь только она почувствовала прикосновение кожаной постели, вся кровь тотчас же прилила ей к сердцу. Она блуждающим взором обвела комнату. Ей почудилось, что, вдруг задвигавшись, к ней со всех сторон устремились все эти безобразные орудия пытки. Среди всевозможных инструментов, до сей поры ею виденных, они были тем же, чем являются летучие мыши, тысяченожки и пауки среди насекомых и птиц. Ей казалось, что они сейчас начнут ползать по ней, кусать и щипать ее тело.
— Где врач? — спросил Шармолю.
— Здесь, — отозвался человек в черной одежде, которого Эсмеральда до сих пор не замечала.
Она вздрогнула.
— Мадмуазель, — снова зазвучал вкрадчивый голос прокурора духовного суда, — в третий раз спрашиваю: продолжаете ли вы отрицать поступки, в которых вас обвиняют?
На этот раз у нее хватило сил лишь кивнуть головой. Голос изменил ей.
— Вы упорствуете! — сказал Жак Шармолю. — В таком случае, к крайнему моему сожалению, я должен исполнить мой служебный долг.
— Господин королевский прокурор, — вдруг резко сказал Пьер́а, — с чего мы начнем?
Шармолю с минуту колебался, словно поэт, который приискивает рифму для своего стиха.
— С «испанского сапога», — выговорил он наконец.
Злосчастная девушка почувствовала себя настолько покинутой и Богом и людьми, что голова ее упала на грудь как нечто безжизненное, лишенное силы.
Палач и лекарь подошли к ней одновременно. В то же время оба помощника палача принялись рыться в своем отвратительном арсенале.
При лязге этих страшных орудий бедная девушка вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся гальванический ток.
— О мой Феб! — прошептала она так тихо, что ее никто не услышал. Затем снова стала неподвижной и безмолвной, как мраморная статуя.
Это зрелище тронуло бы любое сердце, но не сердце судьи. Казалось, сам сатана допрашивает несчастную грешную душу под багровым оконцем ада. Это кроткое, чистое, хрупкое создание и было тем бедным телом, в которое готовился вцепиться весь ужасный муравейник пил, колес и козел, — тем существом, которым готовились овладеть грубые лапы палачей и тисков. Жалкое просяное зернышко, отдаваемое правосудием на размол чудовищным жерновам пытки!
Между тем мозолистые руки помощников Пьер́а Тортерю грубо обнажили ее прелестную ножку, которая так часто очаровывала прохожих на перекрестках Парижа своей ловкостью и красотой.
— Жаль, жаль! — проворчал палач, рассматривая ее изящные и нежные линии.
Если бы здесь присутствовал архидьякон, он, несомненно, вспомнил бы о своем символе — мухи и паука.
Вскоре несчастная сквозь туман, застилавший ей глаза, увидела, как приблизился к ней «испанский сапог» и как ее ножка, вложенная между двух окованных железом брусков, исчезла в страшном приборе. Ужас придал ей сил.
— Снимите это! — вскричала она запальчиво. И, выпрямившись, вся растрепанная, добавила: — Пощадите!
Она рванулась вперед, чтобы броситься к ногам прокурора, но ее ножка была ущемлена тяжелым, взятым в железо дубовым обрубком, и она припала к этой колодке, бессильная, как пчела, к крылу которой привязан свинец.
По знаку Шармолю ее снова положили на постель, и две грубые руки подвязали ее к ремню, свисавшему со свода.
— В последний раз: признаете ли вы свои преступные деяния? — спросил с невозмутимым добродушием Шармолю.
— Я не виновна.
— В таком случае, мадмуазель, как объясните вы обстоятельства, уличающие вас?
— Увы, монсеньор, я не знаю!
— Итак, вы отрицаете?
— Все отрицаю!
— Приступайте! — крикнул Шармолю.
Пьер́а повернул рукоятку, «испанский сапог» сжался, и несчастная испустила ужасный вопль, передать который не в силах ни один человеческий язык.
— Довольно, — сказал Шармолю, обращаясь к Пьер́а. — Сознаетесь? — спросил он цыганку.
— Во всем сознаюсь! — воскликнула несчастная девушка. — Сознаюсь! Только пощадите!
Она не рассчитала своих сил, идя на пытку. Бедная малютка! Ее жизнь до сей поры была такой беззаботной, такой приятной, такой сладостной! Первая же боль сломила ее.
— Человеколюбие побуждает меня предупредить вас, что ваше признание равносильно для вас смерти, — сказал королевский прокурор.
— Надеюсь! — ответила она и упала на кожаную постель полумертвая, перегнувшись назад, безвольно повиснув на ремне, который охватывал ее грудь.
— Ну, моя прелесть, приободритесь немножко, — сказал мэтр Пьер́а, приподнимая ее. — Вы, ни дать ни взять, золотая овечка с ордена, который носит на шее герцог Бургундский.
Жак Шармолю возвысил голос:
— Протоколист, записывайте! Девушка-цыганка, вы сознаетесь, что являлись соучастницей в дьявольских трапезах, шабашах и колдовстве купно со злыми духами, уродами и вампирами? Отвечайте.
— Да, — так тихо прошептала она, что ответ ее слился с ее дыханием.
— Вы сознаетесь в том, что видели того овна, которого Вельзевул заставляет появляться среди облаков, дабы собрать шабаш, и видеть которого могут одни только ведьмы?
— Да.
— Вы признаетесь, что поклонялись головам Бофомета, этим богомерзким идолам храмовников?
— Да.
— Что постоянно общались с дьяволом, который под видом ручной козы привлечен ныне к делу?
— Да.
— Наконец, сознаетесь ли вы, что с помощью дьявола и оборотня, именуемого в просторечии «монах-привидение», в ночь на двадцать девятое прошлого марта месяца вы предательски умертвили некоего капитана, по имени Феб де Шатопер?
Померкший взгляд ее огромных глаз остановился на судье, и, не дрогнув, не запнувшись, она машинально ответила:
— Да.
Очевидно, все в ней было уже надломлено.
— Запишите, протоколист, — сказал Шармолю и, обращаясь к заплечным мастерам, произнес: — Отвяжите подсудимую и проводите назад, в залу судебных заседаний.
Когда подсудимую «разули», прокурор духовного суда осмотрел ее ногу, еще онемелую от боли.
— Ничего! — сказал он. — Тут большой беды нет. Вы закричали вовремя. Вы могли бы еще плясать, красавица! — Затем он обратился к своим коллегам из духовного суда: — Наконец-то правосудию все стало ясно! Это утешительно, господа! Мадмуазель должна отдать нам справедливость: мы отнеслись к ней со всей доступной нам мягкостью.
Глава 3
Окончание главы об экю, превратившемся в сухой лист
Когда она, прихрамывая, вернулась в залу суда, ее встретил шепот всеобщего удовольствия. Что касается слушателей, то они выражали им чувство удовлетворения, которое человек испытывает в театре при окончании последнего антракта, видя, что занавес взвился и начинается развязка пьесы. Что касается судей, то в них заговорила надежда на скорый ужин. Маленькая козочка тоже радостно заблеяла. Она рванулась было навстречу своей госпоже, но ее привязали к скамье.
Уже совсем стемнело. Свечи, числа которых не увеличили, так тускло озаряли залу, что нельзя было различить ее стены. Сумрак окутал предметы словно туманом. Кое-где из тьмы выступали бесстрастные лица судей. В конце длинной залы можно было разглядеть выделявшееся на темном фоне смутное белое пятно. Это была подсудимая. Она с трудом дотащилась до своей скамьи.
Шармолю, шествовавший с внушительным видом, дойдя до своего места, уселся, затем тут же встал и, сдерживая чувство самодовольства по поводу достигнутого успеха, заявил:
— Обвиняемая созналась во всем.
— Цыганка, — спросил председатель, — вы сознались во всех своих преступлениях: в колдовстве, проституции и убийстве Феба де Шатопера?
Ее сердце сжалось. Слышно было, как она всхлипывала в темноте.
— Во всем, что вам угодно, только убейте меня поскорее! — ответила она едва слышно.
— Господин королевский прокурор церковного суда, — сказал председатель, — суд готов выслушать ваше заключение.
Мэтр Шармолю вытащил устрашающей толщины тетрадь и принялся, неистово жестикулируя и с преувеличенной выразительностью, присущей судебному сословию, читать по ней латинскую речь, где все доказательства виновности подсудимой основывались на цицероновских перифразах, подкрепленных цитатами из комедий его любимого писателя Плавта. Мы сожалеем, что не можем предложить читателям это замечательное произведение. Оратор говорил с удивительным усердием. Не успел он дочитать вступление, как пот уже выступил у него на лбу, а глаза готовы были выскочить из орбит.
Внезапно, посреди какого-то периода, он остановился, и его взор, обычно довольно добродушный и даже глуповатый, стал метать молнии.
— Господа! — воскликнул он (на сей раз по-французски, так как этого в тетради не было). — Сатана так сильно замешан в этой истории, что присутствует здесь и глумится над величием суда. Глядите!
Он указал рукой на маленькую козочку, которая, увидев, как жестикулирует Шармолю, нашла вполне уместным подражать ему. Усевшись и тряся бородкой, она принялась добросовестно воспроизводить передними ножками патетическую пантомиму королевского прокурора церковного суда, что было, как читатель припомнит, одним из наиболее привлекательных ее талантов. Это происшествие, это последнее «доказательство» произвело сильное впечатление. Козочке связали ножки, и королевский прокурор снова стал изливать потоки своего красноречия.
Это продолжалось очень долго, но зато заключение речи было превосходно. Вот ее последняя фраза; присовокупите к ней охрипший голос и жестикуляцию запыхавшегося Шармолю:
— Ideo, Domni, coram stryga demonstrata, crimine patente, intentione criminis existente, in nomine sanctae ecclesiae Nostrae— Dominae Parisiensis, quae est in saisina habendi omnimodam altam et bassam justitiam in ilia hac intemerata Civitatis insula, tenore praesentium declaramus nos requirere, primo, aliquandam pecuniariam indemnitatem; secundo, amendationem honorabilem ante portalium maximum Nostrae-Dominae, ecclesiae cathedralis; tertio, sententiam in virtute cujus ista stryga cum sua capella, seu in trivio vulgariter dicto la Greve, seu in insula exeunte in fluvio Sequanae, juxta pointam jardini regalis, executatae sint![299]
Закончив, он надел свою шапочку и сел.
— Eheu! Bassa latinitas![300] — вздохнул удрученный Гренгуар.
Тогда возле осужденной поднялся другой человек в черной мантии. То был ее защитник. Проголодавшиеся судьи начали роптать.
— Защитник, будьте кратки, — сказал председатель.
— Господин председатель, — ответствовал тот, — так как моя подзащитная созналась в своем преступлении, то мне остается сказать лишь одно господам судьям. Текст салического закона гласит: «В случае если оборотень пожрал человека и уличен в этом, то должен заплатить штраф в восемь тысяч денье, что равно двумстам золотых су». Не будет ли угодно судебной палате приговорить мою подзащитную к штрафу?
— Устаревший текст, — заметил чрезвычайный королевский прокурор.
— Nego[301], — возразил адвокат.
— На голоса! — предложил один из советников. — Преступление доказано, а час уже поздний.
Суд приступил к голосованию, не выходя из залы заседания. Судьи подавали голос путем снятия шапочки, они торопились. В сумраке зала видно было, как одна за другой обнажались их головы в ответ на мрачный вопрос, который шепотом задавал им председатель. Несчастная осужденная, казалось, следила за ними, но ее помутившийся взор уже ничего не видел.
Затем протоколист принялся что-то строчить, после чего он передал председателю длинный пергаментный свиток.
И несчастная услышала, как зашевелилась толпа, как залязгали, сталкиваясь, копья и как чей-то ледяной голос произнес:
— Девушка-цыганка, в полдень того дня, который угодно будет назначить нашему всемилостивейшему королю, вы будете доставлены на телеге, в рубахе, босая, с веревкой на шее, к главному порталу собора Парижской Богоматери и тут всенародно принесете покаяние, держа в руке двухфунтовую восковую свечу; оттуда вас доставят на Гревскую площадь, где вы будете повешены и удушены на городской виселице, а также ваша коза; кроме того, вы уплатите духовному суду три лиондора в возмездие за совершенные вами преступления, в которых вы сознались: за колдовство, магию, распутство и убийство сьёра Феба де Шатопера. Прими Господь вашу душу!
— О, это сон! — прошептала она и почувствовала, что ее уносят чьи-то грубые руки.
Глава 4
La sci ate ogni speranza[302]
В Средние века каждое законченное здание занимало почти столько же места под землей, сколько над землей. В каждом Дворце, каждой крепости, каждой церкви, если только они не возводились на сваях, подобно собору Парижской Богоматери, были подземелья. В соборах существовал как бы еще другой, скрытый собор, низкий, сумрачный, таинственный, темный и немой, расположенный под верхним нефом, день и ночь залитым светом и оглашавшимся звуками органа и звоном колоколов. Иногда эти подземелья служили усыпальницей. В дворцах, в крепостях это были тюрьмы или могильные склепы, а иногда то и другое вместе. Эти огромные сооружения, закон образования и «произрастания» которых мы уже объясняли в другом месте, имели не только фундамент, но, так сказать, корни, которые углублялись в землю, ответвляясь в виде тех же комнат, галерей, лестниц, как и в верхнем сооружении. Таким образом соборы, дворцы, крепости по пояс уходили в землю. Подвалы здания представляли собой второе здание, куда спускались, вместо того чтобы подниматься; подземные этажи этих подвалов соприкасались с громадой наземных этажей так же, как соприкасаются отраженные в озере прибрежные леса и горы с подножием настоящих лесов и гор.
В крепости Сент-Антуан, в парижском Дворце правосудия, в Лувре эти подземелья служили темницами. Этажи этих темниц, внедряясь в почву, становились все теснее и мрачнее. Они являлись как бы зонами нарастающего ужаса. Данте не мог бы найти ничего более подходящего для своего ада. Обычно эти воронки-темницы оканчивались каменными мешками, куда Данте поместил сатану и куда общество помещало приговоренных к смерти. Если какое-либо несчастное существо попадало туда, то должно было сказать прости свету, воздуху, жизни, ogni speranza[303]. Выход был лишь на виселицу или на костер. Нередко люди сгнивали там заживо. Человеческое правосудие называло это «забвением». Между собой и людьми осужденный чувствовал нависающую над его головой громаду камня и темниц, и вся тюрьма, вся эта массивная крепость превращалась для него в огромный, сложного устройства замок, запиравший его от мира живых.
Вот в такую-то яму, в один из каменных мешков, вырытых по приказанию Людовика Святого в подземной тюрьме Турнель, опасаясь, видимо, побега, ввергли Эсмеральду, приговоренную к виселице. Весь огромный Дворец правосудия давил на нее своей тяжестью. Бедная мушка, бессильная сдвинуть с места даже самый маленький из его камней!
Несомненно, судьба и общество были одинаково к ней несправедливы: не было надобности в таком избытке несчастий и мук, чтобы сломить столь хрупкое создание.
И вот она здесь, затерянная в кромешной тьме, погребенная, зарытая, замурованная. Всякий, кому довелось бы увидеть ее в этом состоянии и кто ранее знал ее смеющейся и пляшущей на солнце, содрогнулся бы. Холодная, как ночь, холодная, как смерть; ветерок не играл более ее волосами, человеческий голос не достигал ее слуха, дневной свет не отражался в ее глазах. Низко согнувшись, раздавленная цепями, сидела она возле кружки с водой и куска хлеба, на охапке соломы, в луже воды, натекавшей с сырых стен камеры. Неподвижная, почти бездыханная, она уже не ощущала страданий. Феб, солнце, полдень, вольный воздух, улицы Парижа, пляска и рукоплескания, сладостный любовный лепет, а вслед за этим — священник, сводница, кинжал, кровь, пытка, виселица! Все это иногда возникало еще в ее памяти то как радостное золотое видение, то как уродливый кошмар; но это было лишь ужасной, смутной борьбой, затерянной во мраке, либо отдаленной музыкой, звеневшей там, наверху, на земле, и неслышной на той глубине, где была погребена несчастная.
С тех пор как она находилась здесь, она не бодрствовала, но и не спала. В этой темнице, сломленная горем, она не могла более отличить явь от сна, грезу от действительности, день от ночи. Все смешивалось, дробилось, колебалось и смутно расплывалось в ее мыслях. Она не чувствовала, не понимала, не думала, порой лишь грезила. Никогда еще живое существо не стояло так близко к небытию.
Так, оцепенев, заледенев, окаменев, она почти не слышала, как раза два-три где-то над головой с шумом открывался люк, не пропуская при этом ни малейшего света; через этот люк чья-то рука бросала ей корку черного хлеба. А между тем эти регулярные посещения тюремщика были единственной оставшейся у нее связью с людьми.
Лишь одно еще заставляло ее бессознательно напрягать слух. Над ее головой сквозь заплесневевшие камни свода просачивалась влага, и через равномерные промежутки срывалась капля воды. Узница тупо прислушивалась к звуку, который производили эти капли, падая в лужу подле нее.
Эти падавшие в лужу капли были здесь единственным признаком жизни, единственным маятником, отмечавшим время, единственным звуком, долетавшим до нее из всех земных шумов.
Время от времени в этой клоаке мглы и грязи она ощущала, как что-то холодное, то там, то тут, пробегало у нее по руке или ноге; тогда она вздрагивала.
Сколько времени пробыла она в этом узилище? Она не знала. Она помнила лишь произнесенный где-то над кем-то смертный приговор, помнила, что ее потом унесли и что она проснулась во мраке и безмолвии, закоченевшая от холода. Она поползла было на руках, но железное кольцо впилось ей в щиколотку, и забряцали цепи. Вокруг нее были стены, под ней — залитая водой каменная плита и охапка соломы. Ни фонаря, ни отдушины. Тогда она села на солому; иногда, чтобы переменить положение, она переходила на нижнюю ступеньку каменной лестницы, спускавшейся в склеп.
Как-то раз она вздумала считать те мрачные минуты, которые ей отмеривали капли, но вскоре это жалкое усилие больного мозга оборвалось само собой, и она погрузилась в полное оцепенение.
И вот однажды днем или ночью, ибо полдень и полночь были одинаково черны в этой гробнице, она услышала над своей головой более сильный шум, чем обычно производил тюремщик, когда приносил ей хлеб и воду. Она подняла голову и увидела красноватый свет, проникавший сквозь щели дверцы или крышки люка, который был проделан в своде этого каменного мешка. В ту же минуту тяжелый засов загремел, крышка люка, заскрипев на своих ржавых петлях, откинулась, и она увидела фонарь, руку и ноги двух человек. Свод, в который была вделана дверца, нависал слишком низко, чтобы можно было разглядеть их головы. Свет причинил ей такую острую боль, что она закрыла глаза.
Когда она их открыла, дверь была заперта, фонарь стоял на ступеньках лестницы, а перед ней оказался только один человек. Черная монашеская ряса ниспадала до самых пят, того же цвета капюшон спускался на лицо. Нельзя было разглядеть ни лица, ни рук. Это был длинный черный саван, под которым чувствовалось что-то живое. Несколько мгновений она пристально смотрела на это подобие призрака. Оба молчали. Их можно было принять за две столкнувшиеся друг с другом статуи. В этом склепе казались живыми только фонарный фитиль, потрескивавший от сырости, да водяные капли, которые, падая со свода, прерывали это неравномерное потрескивание своим однообразным тонким звоном и заставляли дрожать луч фонаря в концентрических кругах, разбегавшихся на маслянистой поверхности лужи.
Наконец узница прервала молчание:
— Кто вы?
— Священник.
Это слово, интонация, звук голоса заставили ее вздрогнуть. Священник продолжал медленно и глухо:
— Готовы ли вы?
— К чему?
— К смерти.
— Скоро ли это будет? — спросила она.
— Завтра.
Голова ее, с радостью было поднявшаяся, опять тяжело упала на грудь.
— О, как долго ждать! — пробормотала она. — Что им стоило сделать это сегодня?
— Вы, стало быть, очень несчастны? — помолчав, спросил священник.
— Мне так холодно, — ответила она.
Она обхватила руками ступни своих ног — привычное движение бедняков, страдающих от холода, его мы заметили и у затворницы Роландовой башни, — зубы ее стучали.
Казалось, священник из-под своего капюшона разглядывал склеп.
— Без света! Без огня! В воде! Это ужасно!
— Да, — ответила она с тем изумленным видом, который придало ей несчастье. — День сияет для всех. Отчего же мне дана только ночь?
— Знаете ли вы, — после нового молчания спросил священник, — почему вы здесь находитесь?
— Кажется, знала, — ответила она, проводя исхудавшим пальчиком по лбу, словно стараясь помочь своей памяти, — но теперь забыла.
Вдруг она расплакалась, как дитя.
— Мне хотелось бы уйти отсюда, господин. Мне холодно, мне страшно. Какие-то звери ползают по моему телу.
— Хорошо, следуйте за мной.
Священник взял ее за руку. Несчастная промерзла насквозь, и все же рука священника ей показалась холодной.
— О! — прошептала она. — Это ледяная рука смерти. Кто же вы?
Священник откинул капюшон. Перед нею было зловещее лицо, которое так давно преследовало ее, голова демона, которая возникла над головой ее обожаемого Феба у старухи Фалурдель, те глаза, которые она видела в последний раз горящими вблизи кинжала.
Появление этого человека, всегда столь роковое для нее, толкавшее ее от несчастья к несчастью вплоть до пытки, вывело ее из оцепенения. Ей показалось, что плотная завеса, нависшая над ее памятью, разорвалась. Все подробности ее мрачного приключения, от ночной сцены у Фалурдель и до приговора, вынесенного в Турнельской башне, сразу всплыли в ее памяти — не спутанные и смутные, как до сей поры, а четкие, яркие, резкие, трепещущие, ужасные. Эти воспоминания, почти изглаженные, почти стертые чрезмерным страданием, ожили вновь близ этой мрачной фигуры, подобно тому как близ огня отчетливо выступают на белой бумаге невидимые слова, начертанные симпатическими чернилами. Ей показалось, что вскрылись все ее сердечные раны и вновь засочились кровью.
— А! — воскликнула она, судорожно вздрогнув и закрывая руками глаза. — Это тот священник!
И, бессильно уронив руки, она осталась сидеть, низко опустив голову, устремив глаза в землю, онемевшая, не переставая дрожать.
Священник глядел на нее глазами коршуна, который долго чертил в небе плавные круги над бедным притаившимся в хлебах жаворонком и, постепенно суживая огромную спираль своего полета, внезапно, как молния, ринувшись на свою добычу, держит ее теперь, задыхающуюся, в своих когтях.
Она чуть слышно прошептала:
— Добивайте! Наносите последний удар! — и с ужасом втянула голову в плечи, словно овечка под обухом мясника.
— Я вам внушаю ужас? — спросил он наконец. Она не ответила.
— Разве я внушаю вам ужас? — повторил он.
Губы ее искривились, словно она хотела улыбнуться.
— Да, — сказала она, — палач всегда издевается над осужденным. Сколько месяцев он травит меня, грозит мне, пугает меня! О Боже! Как счастлива была я без него! Это он вверг меня в эту пропасть! О Небо, это он убил… это он убил его, моего Феба! — Рыдая, она подняла глаза на священника. — О презренный! Кто вы? Что я вам сделала? Вы ненавидите меня? За что же?
— Я люблю тебя! — крикнул священник.
Ее слезы внезапно высохли. Она бессмысленно глядела на него. Он упал к ее ногам, пожирая ее пламенным взором.
— Слышишь? Я люблю тебя! — повторил он.
— О, что это за любовь! — содрогаясь, промолвила несчастная.
Он сказал:
— Любовь отверженного.
Оба некоторое время молчали, придавленные тяжестью своих переживаний: он — обезумев, она — отупев.
— Слушай, — вымолвил наконец священник, и необычайный покой снизошел на него. — Ты все узнаешь. Я скажу тебе то, в чем до сих пор едва осмеливался признаться самому себе, украдкой вопрошая свою совесть в те безмолвные ночные часы, когда мрак так глубок, что, кажется, сам Бог уже не может видеть нас. Слушай! До встречи с тобой я был счастлив, девушка!..
— И я! — прошептала она еле слышно.
— Не прерывай меня! Да, я был счастлив, по крайней мере я мнил себя счастливым. Я был невинен, душа моя была полна хрустальной чистоты. Надменнее, лучезарнее, чем у всех, сияло чело мое! Священнослужители учились у меня целомудрию, ученые — науке. Да, наука была для меня всем. Она была мне сестрой, и ни в ком другом я не нуждался. Лишь с годами иные мысли овладели мной. Не раз, когда мимо меня проходила женщина, моя плоть возмущалась. Эта власть пола, власть крови, которую я, безумный юноша, считал в себе навек подавленной, не раз в судорожном усилии натягивала цепь железных обетов, приковавших меня, несчастного, к холодным плитам алтаря. Но пост, молитва, занятия, умерщвление плоти сделали мою душу владычицей тела. Я избегал женщин. К тому же стоило мне раскрыть книгу, как весь нечистый угар моих помыслов рассеивался перед величием науки. Протекали минуты, и я чувствовал, как куда-то вдаль отступает земное и плотское, и я вновь обретал мир, чистоту и покой перед безмятежным сиянием вечной истины. Пока дьявол искушал меня смутными видениями, проходившими перед моими глазами то в храме, то на улице, то в лугах, они лишь мельком возникали в моих сновидениях, и я легко побеждал их. Увы, если ныне я сражен, то в этом виновен Бог, который, сотворив человека и дьявола, не одарил их равной силой. Слушай. Однажды…
Тут священник остановился, и узница услышала хриплые, тяжкие вздохи, вырывавшиеся из его груди.
Он продолжал:
— …однажды я стоял, облокотившись на подоконник, в моей келье… Какую же это книгу читал я тогда? О, все это словно вихрь в моей голове! Я читал. Окна моей кельи выходили на площадь. Вдруг слышу звуки бубна и музыки. Досадуя, что меня потревожили в моей задумчивости, я взглянул на площадь. То, что я увидел, видели и другие, не только я, а между тем зрелище это было создано не для глаз человека. Там, в середине площади — был полдень, солнце стояло высоко, — плясала девушка, создание столь дивной красоты, что Бог предпочел бы ее Святой Деве и избрал бы матерью своей, он бы пожелал быть рожденным ею, если бы она жила, когда он воплотился в человека! У нее были черные блестящие глаза, в темных ее волосах, когда их пронизывало солнце, загорались золотые нити. В стремительной пляске нельзя было различить ее ножек — они мелькали, как спицы быстро вертящегося колеса. Вокруг головы, в черных ее косах, сверкали на солнце металлические бляхи, которые, словно звездной короной, осеняли ее лоб. Ее синее платье, усеянное блестками, искрилось, словно пронизанная тысячью золотых точек летняя ночь. Ее гибкие смуглые руки сплетались и вновь расплетались вокруг ее стана, словно два шарфа. Линии ее тела были дивно прекрасны! О блистающий образ, чье сияние не меркло даже в свете солнечных лучей! Увы, девушка, то была ты! Изумленный, опьяненный, очарованный, я дал себе волю глядеть на тебя. Я до тех пор глядел на тебя, пока внезапно не дрогнул от ужаса: я почувствовал себя во власти чар!
Задыхаясь, священник снова на мгновение умолк. Затем продолжал:
— Уже наполовину околдованный, я пытался найти опору, чтобы удержаться в своем падении. Я припомнил те ковы, которые сатана уже когда-то строил мне. Создание, представшее очам моим, было так сверхчеловечески прекрасно, что могло быть послано лишь Небом или адом. Она не была обыкновенной девушкой, созданной из персти земной и скудно освещенной изнутри мерцающим лучом женской души. То был ангел! Но ангел мрака, сотканный из пламени, а не из света. В ту минуту, как я это думал, я увидел близ тебя козу, бесовское животное, которое, усмехаясь, глядело на меня. На полуденном солнце ее рожки казались огненными. Тогда я понял, что это дьявольская западня, и больше не сомневался, что ты послана адом — и послана на мою погибель. Так я думал.
Тут священник взглянул в лицо узницы и холодно добавил:
— Так я думаю и теперь. А между тем чары мало-помалу начинали оказывать на меня действие, твоя пляска кружила мне голову; я ощущал, как таинственная порча проникала в меня. Все, что должно было бодрствовать, засыпало в душе моей, и, подобно людям, замерзающим в снегах, я находил наслаждение в том, чтобы поддаваться этой дреме. Внезапно ты запела. Что оставалось мне делать, несчастному! Твое пение было еще пленительней твоей пляски. Я хотел бежать. Невозможно! Я был пригвожден, я врос в землю. Мне казалось, что мрамор плит доходит мне до колен. Пришлось остаться до конца. Ноги мои оледенели, голова пылала. Наконец, быть может сжалившись надо мной, ты перестала петь, ты исчезла. Отсвет лучезарного видения постепенно погасал в глазах моих, и слух мой более не улавливал отзвука волшебной музыки. Тогда я склонился на край подоконника, более недвижный и беспомощный, нежели статуя, сброшенная с пьедестала. Вечерний благовест пробудил меня. Я поднялся, я бежал, но — увы! — что-то было низвергнуто во мне, чего нельзя уже было поднять; что-то снизошло на меня, от чего нельзя было спастись бегством.
Он снова приостановился, потом продолжал:
— Да, начиная с этого дня во мне возник человек, которого я в себе не знал. Я пытался прибегнуть ко всем моим обычным средствам: монастырю, алтарю, работе, книгам. Безумие! О, сколь пустозвонна наука, когда ты, в отчаянии, преисполненный страстей, ищешь у нее прибежища! Знаешь ли ты, девушка, что вставало отныне между книгами и мной? Ты, твоя тень, образ светозарного видения, возникшего однажды передо мной в пространстве. Но образ этот стал уже иным — темным, зловещим, мрачным, как черный круг, который неотступно стоит перед глазами того неосторожного, кто пристально взглянул на солнце.
Не будучи в силах избавиться от него, вечно преследуемый напевом твоей песни, видя вечно на моем молитвеннике твои пляшущие ножки, вечно ощущая ночью во сне, как твое тело касается моего, я хотел вновь увидеть тебя, дотронуться до тебя, знать, кто ты, убедиться, соответствуешь ли ты тому идеальному образу, который запечатлелся во мне, а быть может, и затем, чтобы суровой действительностью разбить мою грезу. Как бы то ни было, я надеялся, что новое впечатление развеет первое, а это первое стало для меня невыносимо. Я искал тебя. Я вновь тебя увидел. О горе! Увидев тебя однажды, я хотел тебя видеть тысячу раз, я хотел тебя видеть непрестанно. И — можно ли удержаться на этом адском склоне? — я перестал принадлежать себе. Другой конец нити, которую дьявол привязал к моим крыльям, он прикрепил к твоей ножке. Я стал скитаться и бродить по улицам, как и ты. Я поджидал тебя в подъездах, я подстерегал тебя на углах улиц, я выслеживал тебя с высоты моей башни. Каждый вечер я возвращался все сильнее завороженный, все сильнее отчаявшийся, все сильнее околдованный, все более обезумевший!
Я знал, кем ты была — египтянка, цыганка, гитана, зингара, — можно ли было сомневаться в колдовстве? Слушай. Я надеялся, что судебный процесс избавит меня от порчи. Когда-то ведьма околдовала Бруно Аста; он приказал сжечь ее и исцелился. Я знал это. Я хотел испробовать это средство. Я запретил тебе появляться на Соборной площади, надеясь, что забуду тебя, если ты больше не придешь туда. Но ты не придала этому значения. Ты вернулась. Затем мне пришла мысль похитить тебя. Однажды ночью я попытался это сделать. Нас было двое. Мы уже схватили тебя, как вдруг появился этот презренный офицер. Он освободил тебя и этим положил начало твоему несчастью, моему и своему собственному. Наконец, не зная, что делать и как поступить, я донес на тебя в духовный суд.
Я думал, что исцелюсь, подобно Бруно Асту. Я смутно рассчитывал также и на то, что приговор отдаст тебя в мои руки, что в темнице я застигну тебя, что буду обладать тобой, что там тебе не удастся ускользнуть от меня, что ты уже достаточно времени владела мною и теперь я в свою очередь овладею тобой. Когда творишь зло, твори его до конца. Безумие останавливаться на полпути! В чрезмерности греха таится исступленное счастье. Священник и колдунья могут слиться в наслажденье на охапке соломы и в темнице!
И вот я донес на тебя. Именно тогда-то я и пугал тебя при встречах. Заговор, который я умышлял против тебя, гроза, которую я собрал над твоей головой, давала о себе знать угрозами и вспышками. Однако я все еще медлил. Мой план был ужасен, и это заставляло меня отступать перед ним.
Быть может, я отказался бы от него совсем, быть может, моя чудовищная мысль погибла бы в моем мозгу, не дав плода. Мне казалось, что только от меня зависело продлить или прервать это судебное дело. Но каждая дурная мысль непреклонно требует своего воплощения. И в том, в чем я мыслил себя всемогущим, рок оказался сильнее меня. Увы! Этот рок овладел тобою и бросил тебя под ужасные колеса той машины, которую я коварно изготовил! Слушай. Я подхожу к концу.
Однажды — в такой же солнечный день — мимо меня проходит человек, он произносит твое имя и смеется, и в глазах его горит вожделение. Проклятие! Я последовал за ним. Что было дальше, ты знаешь.
Он умолк.
Молодая девушка могла лишь вымолвить:
— О мой Феб!
— Не произноси этого имени! — воскликнул священник, с силой сжав ее руку. — О несчастные! Это имя сгубило нас всех! Или, вернее, мы все погубили друг друга по необъяснимой игре рока! Ты страдаешь, не правда ли? Тебе холодно, мгла слепит тебя, тебя окружают стены темницы? Но, может быть, в глубине твоей души еще теплится свет, пусть даже то будет твоя ребяческая любовь к этому легкомысленному человеку, который забавлялся твоим сердцем! А я — я ношу тюрьму в себе. Зима, лед, отчаянье — внутри меня! Ночь в душе моей!
Знаешь ли ты все, что я выстрадал? Я был на суде. Я сидел на скамье с духовными судьями. Да, под одним из этих монашеских капюшонов извивался грешник. Когда тебя привели, я был там; когда тебя допрашивали, я был там. О волчье логово! То было мое преступление, уготованная для меня виселица; я видел, как ее очертания медленно возникали над твоей головой. При появлении каждого свидетеля, при каждой улике, при защите — я был там; я мог бы сосчитать каждый шаг на твоем скорбном пути; я был там, когда этот дикий зверь… О, я не предвидел пытки! Слушай. Я последовал за тобой в застенок. Я видел, как тебя раздели, как тебя, полуобнаженную, хватали гнусные руки палача. Я видел твою ножку — я б отдал царство, чтобы запечатлеть на ней поцелуй и умереть, — я видел, как эту ножку, которая, даже наступив на мою голову и раздавив ее, дала бы мне неизъяснимое наслаждение, зажали ужасные тиски «испанского сапога», превращающего ткани живого существа в кровавое месиво. О несчастный! В то время как я смотрел на это, я бороздил себе грудь кинжалом, спрятанным под сутаной! При первом твоем вопле я всадил его себе в тело, при втором — он пронзил бы мне сердце! Гляди! Мне кажется, что раны еще кровоточат.
Он распахнул сутану. Действительно, его грудь была вся истерзана, словно когтями тигра, а на боку зияла большая плохо затянувшаяся рана.
Узница отпрянула в ужасе.
— О девушка, сжалься надо мной! — продолжал священник. — Ты мнишь себя несчастной! Увы! Ты не знаешь, что такое несчастье! О! Любить женщину! Быть священником! Быть ненавистным! Любить ее со всем неистовством, чувствовать, что за тень ее улыбки ты отдал бы свою кровь, свою душу, свое доброе имя, свое спасение, бессмертие, вечность, жизнь земную и загробную; сожалеть, что ты не король, не гений, не император, не архангел, не Бог, чтобы повергнуть к ее стопам величайшего из рабов; денно и нощно лелеять ее в своих грезах, своих мыслях — и видеть, что она влюблена в солдатский мундир! И не иметь ничего взамен, кроме скверной священнической рясы, которая вызывает в ней лишь страх и отвращение! Изнемогая от ревности и ярости, быть свидетелем того, как она расточает дрянному, тупоголовому хвастуну сокровища своей любви и красоты. Видеть, как это тело, формы которого жгут, эта грудь, такая сладостная, эта кожа трепещут и розовеют под поцелуями другого! О Небо! Любить ее ножку, ее ручку, ее плечи; терзаясь ночи напролет на каменном полу своей кельи, мучительно грезить о ее голубых жилках, о ее смуглой коже — и видеть, что все ласки, которыми ты мечтал одарить ее, свелись к пытке, что тебе удалось лишь уложить ее на кожаную постель! О, это поистине клещи, раскаленные на адском пламени! Как счастлив тот, кого распиливают надвое или четвертуют лошадьми! Знаешь ли ты муку, которую испытывает человек долгими ночами, когда кипит кровь, когда сердце разрывается, голова раскалывается, зубы впиваются в руки, когда эти яростные палачи, словно на огненной решетке, без устали пытают его любовной грезой, ревностью, отчаянием! Девушка, сжалься! Дай мне минуту передохнуть! Немного пепла на этот пылающий уголь! Утри, заклинаю тебя, пот, который крупными каплями струится с моего лба! Дитя, терзай меня одной рукой, но ласкай другой! Сжалься, девушка! Сжалься надо мной!
Священник катался по каменному, залитому водою полу и бился головой об углы каменных ступеней. Девушка слушала его, смотрела на него.
Когда он умолк, опустошенный и задыхающийся, она проговорила вполголоса:
— О мой Феб!
Священник пополз к ней на коленях.
— Умоляю тебя, — закричал он, — если в тебе есть сердце, не отталкивай меня! О, я люблю тебя! Горе мне! Когда ты произносишь это имя, несчастная, ты словно дробишь своими зубами мою душу. Сжалься! Если ты исчадие ада, я последую за тобой. Я все для этого совершил. Тот ад, в котором будешь ты, — мой рай! Твой лик прекрасней Божьего лика! О, скажи, ты не хочешь меня? В тот день, когда женщина отвергнет такую любовь, как моя, горы должны содрогнуться. О, если бы ты пожелала! Как бы мы были счастливы! Бежим — я заставлю тебя бежать, — мы уедем куда-нибудь, мы отыщем на земле место, где солнце ярче, деревья зеленее и небо синее. Мы будем любить друг друга, мы воедино сольем наши души и будем пылать вечной жаждой друг друга, которую вместе и неустанно будем утолять из кубка неиссякаемой любви!
Она прервала его ужасным, резким смехом:
— Поглядите же, отец мой, у вас кровь под ногтями! Священник некоторое время стоял, словно окаменевший, устремив пристальный взгляд на свои руки.
— Ну хорошо, пусть так! — со странной кротостью ответил он. — Оскорбляй меня, насмехайся надо мной, обвиняй меня, но идем, идем, спешим! Это будет завтра, говорю тебе. Гревская виселица, ты знаешь? Она всегда наготове. Это ужасно! Видеть, как тебя повезут в этой повозке! О, сжалься! Только теперь я чувствую, как сильно люблю тебя. О, пойдем со мной! Ты еще успеешь меня полюбить после того, как я спасу тебя. Можешь ненавидеть меня сколько пожелаешь! Но бежим! Завтра! Завтра! Виселица! Твоя казнь! О, спаси себя! Пощади меня!
Он схватил ее за руку, он был вне себя, он хотел ее увести силой.
Она остановила на нем неподвижный взор:
— Что сталось с моим Фебом?
— А, — произнес священник, отпуская ее руку, — вы безжалостны!
— Что сталось с Фебом? — холодно повторила она.
— Он умер! — закричал священник.
— Умер? — так же безжизненно и холодно сказала она. — Так зачем вы говорите мне о жизни?
Он не слушал ее.
— О да, — бормотал он, как бы обращаясь к самому себе, — он наверное умер. Клинок вошел глубоко. Мне кажется, что острие коснулось его сердца. О, я сам жил на острие этого кинжала!
Бросившись на него, молодая девушка, как разъяренная тигрица, оттолкнула его с нечеловеческой силой на ступени лестницы.
— Уходи, чудовище! Уходи, убийца! Дай мне умереть! Пусть наша кровь вечным клеймом ляжет на твоем лбу! Принадлежать тебе, поп! Никогда! Никогда! Ничто не соединит нас, даже ад! Уйди, проклятый! Никогда!
Священник споткнулся о ступеньку. Он молча высвободил свои ноги, запутавшиеся в складках одежды, взял фонарь и медленно стал подниматься по лестнице к двери. Он открыл эту дверь и вышел.
Вдруг молодая девушка увидела, как его голова вновь появилась в отверстии люка. Лицо его было ужасно; хриплым от ярости и отчаяния голосом он крикнул:
— Говорю тебе, он умер!
Она упала ничком на землю, и ничего больше не было слышно в темнице, кроме вздохов водяных капель, зыбивших лужу во мраке.
Глава 5
Мать
Не думаю, чтобы во всей Вселенной было что-нибудь отраднее тех чувств, которые пробуждаются в сердце матери при виде крошечного башмачка ее ребенка. Особенно если это праздничный башмачок, воскресный, крестильный; башмачок, расшитый почти до самой подошвы, башмачок младенца, еще не ставшего на ножки. Этот башмачок так мал, так мил, он так явно не пригоден для ходьбы, что матери кажется, будто она видит свое дитя. Она улыбается ему, она целует его, она разговаривает с ним. Она спрашивает себя, возможно ли, чтобы ножка была столь мала; и если даже нет с ней ребенка, то ей достаточно взглянуть на хорошенький башмачок, чтобы перед ней уже возник образ нежного и хрупкого создания. Ей чудится, что она его видит, живого, смеющегося, его нежные ручки, круглую головку, ясные глазки с голубоватыми белками, его невинные уста. Если на дворе зима — то вот он, здесь, ползает по ковру, деловито карабкается на скамейку, и мать трепещет, боясь, как бы он не приблизился к огню. Если же лето — то он ковыляет по двору, по саду, рвет траву, растущую между булыжниками, простодушно, без страха, глядит на больших собак, на больших лошадей, забавляется ракушками, цветами и заставляет ворчать садовника, который находит на куртинах песок, а на дорожках землю. Все, как и он сам, улыбается, все играет, все сверкает вокруг него, даже ветерок и солнечный луч прыгают взапуски, путаясь в его кудряшках. Все это возникает перед матерью при взгляде на башмачок, и, как воск на огне, тает ее сердце.
Но когда дитя утрачено, эти тысячи радостных, очаровательных, нежных образов, которые обступают крошечный башмачок, превращаются в источник ужасных страданий. Хорошенький расшитый башмачок становится орудием пытки, которое непрестанно терзает материнское сердце. В этом сердце звучит все та же струна, струна самая затаенная, самая чувствительная; но вместо ангела, нежно прикасающегося к ней, ее дергает демон.
Однажды утром, когда майское солнце вставало на темно-синем небе — на таком фоне Гарофало любил писать свои многочисленные «Снятия с Креста», — затворница Роландовой башни услышала доносившийся с Гревской площади шум колес, топот копыт, лязг железа. Это ее не слишком поразило, и, закрыв уши волосами, чтобы заглушить шум, она снова, стоя на коленях, отдалась созерцанию того неодушевленного предмета, которому поклонялась вот уже пятнадцать лет. Этот маленький башмачок, как мы уже говорили, был для нее Вселенной. В нем была заточена ее мысль, и освободить ее от этого заключения могла одна лишь смерть. Сколько горьких упреков, трогательных жалоб, молитв и рыданий об этой очаровательной безделке розового шелка воссылала она к Небесам, об этом знала только мрачная келья Роландовой башни. Никогда еще подобное отчаяние не изливалось на такую прелестную и такую изящную вещицу.
В это утро, казалось, скорбь ее была еще надрывнее, чем всегда, и ее громкое монотонное причитание, долетавшее из склепа, щемило сердце.
— О дочь моя! — стонала она. — Мое бедное дорогое дитя! Никогда больше я не увижу тебя! Все кончено! А мне сдается, будто это произошло лишь вчера. Боже мой, Боже мой! Уж лучше бы ты не дарил ее мне, если хотел отнять так скоро! Разве тебе не ведомо, что ребенок врастает в нашу плоть и мать, потерявшая дитя, перестает верить в Бога? О несчастная, зачем я вышла из дому в этот день? Господи, Господи, если ты лишил меня дочери, то ты, наверное, никогда не видел меня вместе с нею, когда я отогревала ее, веселенькую, у моего очага; когда она, улыбаясь мне, сосала мою грудь; когда я заставляла ее перебирать ножонками по моей груди до самых моих губ! О, если бы ты взглянул на нас тогда, Господи, ты бы сжалился надо мной, над моим счастьем, ты не лишил бы меня единственной любви, которая еще жила в моем сердце! Неужели я была такой презренной тварью, Господи, что ты не пожелал даже взглянуть на меня, прежде чем осудить? О горе, горе! Вот башмачок, а ножка где? Где все ее тельце? Где дитя? Дочь моя! Дочь моя! Что они сделали с тобой? Господи, верни ее мне! За те пятнадцать лет, что я провела в моленьях перед тобой, о Господи, мои колени покрылись струпьями! Разве этого мало? Верни ее мне хоть на день, хоть на час, хоть на одну минуту, на одну минуту, Господи! А потом ввергни меня на веки вечные в преисподнюю! О, если бы я знала, где влачится край твоей ризы, я ухватилась бы за него обеими руками и умолила бы вернуть мое дитя! Вот ее хорошенький крохотный башмачок! Разве тебе его не жаль, Господи? Как ты мог обречь бедную мать на эту пятнадцатилетнюю муку? Пресвятая Дева, милостивая заступница, верни мне моего младенца Иисуса, у меня его отняли, у меня его украли, его пожрали на поляне, поросшей вереском, выпили его кровь, обглодали его косточки! Сжалься надо мной, Пресвятая Дева! Моя дочь! Я хочу видеть мою дочь! Что мне до того, что она в раю? Мне не нужны ваши ангелы, мне нужно мое дитя! Я — львица, мне нужен мой львенок! Я буду кататься по земле, я разобью камни моей головой, я загублю свою душу, я прокляну тебя, Господи, если ты не отдашь мне мое дитя! Ты же видишь, что мои руки все искусаны! Разве милосердный Бог может быть безжалостным? О, не давайте мне ничего, кроме соли и черного хлеба, лишь бы со мной была моя дочь, лишь бы она, как солнце, согревала меня! Увы, Господи, владыка мой, я всего лишь презренная грешница, но моя дочь меня делала благочестивой. Из любви к ней я была исполнена веры; в ее улыбке я видела тебя, словно предо мной разверзалось небо. О, если бы мне хоть раз, еще один только единственный раз обуть ее маленькую розовую ножку в этот башмачок — и я умру, милосердная Дева, благословляя твое имя! Пятнадцать лет! Она была бы теперь взрослой! Несчастное дитя! Как, неужели я никогда больше не увижу ее, даже на Небесах?! Ведь мне туда не попасть. О, какая мука думать — вот ее башмачок, и это все, что осталось!
Несчастная бросилась на башмачок, этот источник ее утехи и ее отчаяния в продолжение стольких лет, и грудь ее потрясли страшные рыдания, как и в день утраты. Ибо для матери, потерявшей ребенка, день этот длится вечно. Такая скорбь не стареет. Пусть траурное одеяние ветшает и белеет, но сердце остается облаченным в траур.
В эту минуту послышались радостные и звонкие голоса детей, проходивших мимо ее кельи. Всякий раз, когда она видела или слышала детей, бедная мать убегала в самый темный угол своего склепа и, казалось, хотела глубоко зарыться в камни, лишь бы не слышать их. Но на этот раз резким движением она очутилась на ногах и жадно стала прислушиваться. Один из маленьких мальчиков сказал:
— Это потому, что сегодня будут вешать цыганку.
Тем внезапным скачком, который мы наблюдаем у паука, когда он бросается на запутавшуюся в его паутине муху, она бросилась к оконцу, выходившему, как известно, на Гревскую площадь. Действительно, к постоянной виселице, воздвигнутой на площади, была приставлена лестница, и палач налаживал цепи, заржавевшие от дождя. Несколько зевак стояли вокруг.
Смеющиеся дети отбежали уже далеко. Вретишница искала глазами какого-нибудь прохожего, чтобы расспросить его. Наконец она заметила рядом со своим логовом священника. Он делал вид, будто читает общественный Требник, но в действительности был не столько занят «зарешеченным Священным писанием», сколько виселицей, на которую он по временам бросал мрачный и дикий взгляд. Затворница узнала в нем господина архидьякона Жозасского, святого человека.
— Отец мой, — обратилась она к нему, — кого это собираются повесить?
Священник взглянул на нее и промолчал. Она повторила вопрос. Тогда он ответил:
— Не знаю.
— Тут пробегали дети и говорили, что цыганку, — продолжала затворница.
— Возможно, — ответил священник.
Тогда Пакетта Шантфлери разразилась жестоким хохотом.
— Сестра моя, — сказал архидьякон, — вы, должно быть, сильно ненавидите цыганок?
— И как еще ненавижу! — воскликнула затворница. — Это оборотни, воровки детей! Они растерзали мою малютку, мою дочь, мое дитя, мое единственное дитя! У меня нет больше сердца, они сожрали его!
Она была страшна. Священник холодно глядел на нее.
— Есть между ними одна, которую я особенно ненавижу, которую я прокляла, — продолжала она. — Она молодая, ей столько же лет, сколько было бы теперь моей дочери, если бы ее мать не пожрала мое дитя. Всякий раз, когда эта молодая ехидна проходит мимо моей кельи, вся кровь у меня вскипает!
— Ну так радуйтесь, сестра моя, — сказал священник, бесстрастный, как надгробная статуя, — именно ее-то вы и увидите на виселице.
Голова его склонилась на грудь, и он медленной поступью удалился.
Затворница радостно всплеснула руками.
— Я ей это предсказывала! Спасибо, священник! — крикнула она.
И принялась большими шагами расхаживать перед решеткой оконца, всклокоченная, сверкая глазами, натыкаясь плечом на стены, с хищным видом голодной волчицы, которая мечется по клетке, чуя, что близок час кормежки.
Глава 6
Три мужских сердца, созданные различно
Феб не умер. Такие люди живучи. Когда мэтр Филипп Лелье, чрезвычайный королевский прокурор, заявил бедной Эсмеральде: «Он при последнем издыхании», то это сказано было либо по ошибке, либо в шутку. Когда архидьякон подтвердил узнице: «Он умер», то, в сущности, он ничего не знал об этом, но думал это, рассчитывал на это, не сомневался в этом и очень на это уповал. Ему было бы слишком тяжко сообщить женщине, которую он любил, добрые вести о своем сопернике. Каждый на его месте поступил бы так же.
Рана Феба хотя и была опасной, но не настолько, как на то надеялся архидьякон. Почтенный лекарь, к которому ночной дозор не мешкая отнес Феба, опасался восемь дней за его жизнь и даже высказал ему это по-латыни. Однако молодость взяла верх; как это нередко бывает, вопреки всем прогнозам и диагнозам, природа вздумала потешиться, и больной выздоровел, наставив нос врачу. Филипп Лелье и следователь духовного суда допрашивали его как раз тогда, когда он лежал на одре болезни у лекаря, и порядком ему наскучили. Поэтому в одно прекрасное утро, почувствовав себя уже несколько окрепшим, он оставил аптекарю в уплату за лекарства свои золотые шпоры и сбежал. Впрочем, это обстоятельство не внесло ни малейшего беспорядка в ход следствия. В то время правосудие очень мало заботилось о ясности и четкости уголовного судопроизводства. Лишь бы обвиняемый был повешен — это все, что требовалось суду. Кроме того, судьи имели достаточно улик против Эсмеральды. Они полагали, что Феб умер, и этого им было довольно.
Что же касается Феба, то он убежал недалеко. Он просто-напросто отправился в свой отряд, стоявший гарнизоном в Кеан-Бри, в Иль-де-Франс; на расстоянии нескольких почтовых станций от Парижа.
В конце концов, его нисколько не привлекала мысль предстать перед судом. Он смутно чувствовал, что будет смешон. В сущности, он и сам не знал, что думать обо всем этом деле. Он был не больше как солдат — неверующий, но суеверный. Поэтому, когда он пытался разобраться в своем приключении, его смущало все: и коза, и странные обстоятельства его встречи с Эсмеральдой, еще более странный способ, каким она дала угадать ему свою любовь, и то, что она цыганка, и, наконец, монах-привидение. Во всем этом он усматривал больше колдовства, чем любви. Возможно, что цыганка была действительно ведьмой или даже самим дьяволом. А может быть, все это просто комедия или, говоря языком того времени, пренеприятная мистерия, в которой он сыграл незавидную роль — роль побитого и осмеянного героя. Капитан был посрамлен, он ощущал тот род стыда, для которого наш Лафонтен нашел такое превосходное сравнение:
Пристыженный, как лис, наседкой взятый в плен.Он надеялся все же, что эта история не получит широкой огласки, что его имя, раз он отсутствует, будет там только упомянуто и, во всяком случае, не выйдет за пределы судебного зала Турнель. В этом он не ошибался. В то время не существовало еще «Судебных ведомостей», и так как не проходило недели, чтобы не сварили фальшивомонетчика, не повесили ведьму или не сожгли еретика на каком-нибудь из бесчисленных лобных мест Парижа, то народ до такой степени привык встречать на всех перекрестках дряхлую феодальную Фемиду[304] с обнаженными руками и засученными рукавами, делавшую свое дело у виселиц, плах и позорных столбов, что почти не обращал на это внимания. Высший свет не интересовался именами осужденных, которых вели по улице, а простонародье только смаковало это грубое яство. Казнь была обыденным явлением уличной жизни, таким же, как жаровня пирожника или бойня живодера. Палач был тот же мясник, только более искусный.
Итак, Феб довольно скоро перестал думать о чаровнице Эсмеральде, или Симиляр, как он ее называл, об ударе кинжалом, нанесенном ему не то цыганкой, не то монахом-привидением (его не интересовало, кем именно), и об исходе процесса. Как только сердце его стало свободным, образ Флёр-де-Лис вновь вселился туда. Сердце капитана Феба, как и физика того времени, не терпело пустоты.
К тому же пребывание в Ке-ан-Бри было прескучным. Эта деревушка, населенная кузнецами и коровницами с потрескавшимися руками, представляла собой всего лишь длинный ряд лачуг и хижин, тянувшихся на пол-лье по обе стороны дороги, — одним словом, настоящий «хвост»[305] провинции Бри.
Флёр-де-Лис, его предпоследняя страсть, была прелестной девушкой с очаровательным приданым. Итак, в одно великолепное утро, совершенно оправившись от болезни и полагая не без оснований, что за истекшие два месяца дело цыганки уже окончено и забыто, влюбленный кавалер, гарцуя, подскакал к дверям дома Гонделорье.
Он не обратил внимания на довольно густую толпу, собравшуюся на площади перед собором Богоматери. Был май месяц, и Феб решил, что это, вероятно, какая-нибудь процессия, Троицын день или другой праздник; он привязал лошадь к кольцу подъезда и весело взбежал наверх, к своей красавице невесте.
Он застал ее одну с матерью.
У Флёр-де-Лис все время камнем на сердце лежало воспоминание о сцене с колдуньей, с ее козой и ее проклятой азбукой; беспокоило ее и длительное отсутствие Феба. Но когда она увидела своего капитана, его лицо показалось ей таким привлекательным, его куртка — такой нарядной и новой, его портупея — такой блестящей и таким страстным его взгляд, что она покраснела от удовольствия. Благородная девица и сама казалась прелестнее, чем когда-либо. Ее чудесные белокурые волосы были восхитительно заплетены в косы, платье было небесно-голубого цвета, который так к лицу блондинкам, — этому ухищрению кокетства ее научила Коломба, — а глаза подернуты той поволокой неги, которая еще больше красит женщин.
Феб, уже давно не видевший красавиц, кроме разве доступных красоток Ке-ан-Бри, был опьянен Флёр-де-Лис, и это придало такую любезность и галантность манерам капитана, что мир был тотчас же заключен. Даже у самой г-жи Гонделорье, по-прежнему матерински взиравшей на них из глубины своего кресла, недостало духу бранить его. Что касается Флёр-де-Лис, то ее упреки совсем заглохли в нежном ворковании.
Молодая девушка сидела у окна, по-прежнему вышивая свой грот Нептуна. Капитан облокотился о спинку ее стула, и она вполголоса ласково журила его:
— Что же с вами приключилось в эти два долгих месяца, злодей?
— Клянусь вам, — отвечал несколько смущенный Феб, — вы так хороши, что можете вскружить голову даже архиепископу.
Она не могла сдержать улыбку.
— Хорошо, хорошо, сударь, но оставьте в покое мою красоту и отвечайте на вопрос.
— Извольте, дорогая кузина! Я был вызван в гарнизон.
— Куда это, будьте добры сказать? И отчего не зашли проститься?
— В Ке-ан-Бри.
Феб был в восторге, что первый вопрос давал ему возможность увильнуть от второго.
— Но ведь это очень близко, сударь! Как же вы ни разу не навестили меня?
Здесь Феб окончательно запутался.
— Дело в том… служба… Кроме того, прелестная кузина, я был болен.
— Болен? — повторила она в испуге.
— Да… ранен.
— Ранен?
Молодая девушка была совершенно потрясена.
— О, не тревожьтесь, — небрежно сказал Феб. — Пустяки. Ссора, удар шпаги. Что вам до этого!
— Что мне до этого? — воскликнула Флёр-де-Лис, поднимая на него свои прекрасные глаза, полные слез. — О, вы говорите не то, что думаете. Что это за удар шпаги? Я хочу знать все.
— Но, дорогая, видите ли… Я повздорил с Маэ Феди, лейтенантом из Сен-Жермен-ан-Ле, и мы чуть-чуть подпороли друг другу кожу. Вот и все.
Враль капитан отлично знал, что дело чести всегда возвышает мужчину в глазах женщины. И действительно, Флёр-де-Лис смотрела на него, трепеща от страха, удовольствия и восхищения. Однако она все еще не совсем успокоилась.
— Лишь бы вы были совсем здоровы, мой Феб! — проговорила она. — Я не знаю вашего Маэ Феди, но он гадкий человек. А из-за чего вы поссорились?
Тут Феб, воображение которого не отличалось особой изобретательностью, не знал, как и отделаться.
— Право, не знаю!.. Пустяк… Лошадь… Неосторожное слово!.. Прелестная кузина, — желая переменить разговор, воскликнул он, — что это за шум на площади?
Он подошел к окну.
— Боже, сколько там народу! Взгляните, прелестная кузина!
— Не знаю, — ответила Флёр-де-Лис, — кажется, какая-то колдунья должна сегодня утром публично каяться перед собором, после чего ее повесят.
Капитан настолько был уверен в окончании истории с Эсмеральдой, что слова Флёр-де-Лис нимало его не встревожили. Однако он все же задал ей два-три вопроса:
— А как зовут колдунью?
— Не знаю, — ответила кузина.
— А в чем ее обвиняют?
— Тоже не знаю.
Она снова пожала своими белыми плечами.
— О Господи Иисусе! — воскликнула г-жа Алоиза. — Теперь развелось столько колдунов, что, я полагаю, их сжигают, даже не зная их имени. С таким же успехом можно добиться имени каждого облака на небе. Но можете не беспокоиться, преблагий Господь ведет им счет. — Почтенная дама встала и подошла к окну. — Боже мой! — воскликнула она в испуге. — Вы правы, Феб, действительно, какая масса народу! Господи благослови, даже на крыши взобрались! Знаете, Феб, это напоминает мне молодость. Приезд короля Карла Седьмого; тогда собралось столько же народу. Не помню уж, в котором году это было. Когда я вам рассказываю об этом, то вам, не правда ли, кажется, что все это старина стародавняя, а передо мной воскресает моя юность. О, в те времена народ был красивее, чем теперь. Люди стояли даже на зубцах башни Сент-Антуанских ворот. А позади короля на его же лошади сидела королева, и за их величествами следовали все придворные дамы, также сидя за спинами придворных кавалеров. Я помню, как много смеялись тому, что рядом с Аманьоном де Гарландом, человеком очень низенького роста, ехал сир Матфелон, рыцарь-исполин, кучами убивавший англичан. Это было великолепное зрелище! Торжественное шествие всех дворян Франции с их пламеневшими стягами! У одних были значки на пике, у других — знамена. Всех-то я даже и не упомню. Сир де Калан — со значком; Жан де Шатоморан — со знаменем; сир де Куси — со знаменем, да таким богатым, какого не было ни у кого, кроме герцога Бурбонского. Увы, как грустно думать, что все это было и ничего от этого не осталось!
Влюбленные не слушали почтенную вдову. Феб вновь облокотился на спинку стула нареченной — очаровательное место, откуда взгляд повесы проникал во все отверстия корсажа Флёр-де-Лис. Ее косынка так кстати распахивалась, предлагая взору зрелище столь пленительное и давая такой простор воображению, что Феб, ослепленный блеском шелковистой кожи, говорил себе: «Можно ли любить кого-нибудь, кроме блондинок?»
Оба молчали. Иногда молодая девушка, бросая на Феба восхищенный и нежный взор, поднимала голову, и их волосы смешивались в лучах весеннего солнца.
— Феб, — шепотом сказала вдруг Флёр-де-Лис, — мы через три месяца обвенчаемся. Поклянитесь мне, что вы никого не любите, кроме меня.
— Клянусь вам, мой прелестный ангел! — ответил Феб, и страстность его взгляда усиливала убедительность его слов. Может быть, в эту минуту он и сам верил тому, что говорил.
Между тем добрая мать, восхищенная столь полным согласием влюбленных, вышла из комнаты позаботиться о каких-то хозяйственных мелочах. Феб заметил это, и уединение, в котором они очутились, так окрылило предприимчивого капитана, что его стали обуревать довольно странные мысли. Флёр-де-Лис любила его; он был с нею помолвлен, они были вдвоем; его былая склонность к ней снова пробудилась, если и не во всей свежести, то со всею страстностью; неужели же такое преступление, в конце концов, отведать хлеба с собственного поля до того, как он созреет? Я не уверен в том, что именно эти мысли проносились у него в голове, но достоверно то, что Флёр-де-Лис вдруг испугалась выражения его глаз. Она оглянулась и заметила, что матери в комнате не было.
— Боже мой, — сказала она, покраснев, охваченная беспокойством, — как мне жарко!
— Действительно, — ответил Феб, — скоро полдень. Солнце так и печет. Но можно опустить шторы.
— Нет! Нет! — воскликнула бедняжка. — Напротив, мне хочется подышать чистым воздухом!
И, подобно лани, чувствующей приближение своры гончих, она встала, подбежала к стеклянной двери, толкнула ее и выбежала на балкон.
Феб, весьма раздосадованный, последовал за ней.
Площадь перед собором Богоматери, на которую, как известно, выходил балкон, представляла в эту минуту зловещее и необычайное зрелище, уже по-иному испугавшее робкую Флёр-де-Лис.
Огромная толпа переполняла площадь, заливая все прилегающие улицы. Невысокая ограда паперти, в половину человеческого роста, не могла бы сдержать напор толпы, если бы перед ней не стояли сомкнутым двойным рядом сержанты городской стражи и стрелки с пищалями в руках. Благодаря этому частоколу пик и аркебуз паперть оставалась свободна. Вход туда охранялся множеством вооруженных алебардщиков в епископской ливрее. Широкие двери собора были закрыты, что представляло разительный контраст с бесчисленными выходящими на площадь окнами, распахнутыми настежь, вплоть до слуховых, где виднелись тысячи тесно скученных голов, напоминавших груды пушечных ядер в артиллерийском парке.
Поверхность этого моря людей была серого, грязного, землистого цвета. Ожидаемое зрелище относилось, по-видимому, к разряду тех, которые обычно привлекают к себе лишь подонки простонародья. Над этой кучей женских чепцов и омерзительно грязных шевелюр стоял отвратительный шум. Здесь было больше смеха, чем криков, больше женщин, нежели мужчин.
Время от времени чей-нибудь пронзительный и возбужденный голос прорезал общий шум.
.
— Эй, Майе Балифр! Разве ее здесь и повесят?
— Дура! Здесь она будет каяться в одной рубахе! Милостивый Господь начихает ей латынью в рожу! Это всегда проделывают тут, как раз в полдень. А хочешь полюбоваться виселицей, так ступай на Гревскую площадь.
— Пойду потом.
.
— Скажите, тетка Букамбри, правда ли, что она отказалась от духовника?
— Кажется, правда, тетка Бешень.
— Ишь ты, язычница!
.
— Таков уж обычай, сударь. Дворцовый судья обязан сдать преступника, если он мирянин, для совершения казни парижскому прево; если же он духовного звания — председателю духовного суда.
— Благодарю вас, сударь.
.
— О Боже мой! — воскликнула Флёр-де-Лис. — Несчастное создание!
Ее взгляд, скользнувший по толпе, был исполнен печали. Капитан, не обращая внимания на это скопище простого народа, был занят своей невестой и влюбленно теребил сзади пояс ее платья. Она с умоляющей улыбкой обернулась к нему:
— Прошу вас, Феб, не трогайте меня! Если войдет матушка, она заметит вашу руку.
В эту минуту на часах собора Богоматери медленно пробило двенадцать. Ропот удовлетворения пробежал в толпе. Едва затих последний удар, все головы задвигались, как волны от порыва ветра; на площади, в окнах, на крышах поднялся невообразимый вопль: «Вот она!»
Флёр-де-Лис закрыла лицо руками, чтобы ничего не видеть.
— Прелесть моя, хотите, вернемся в комнату? — спросил Феб.
— Нет, — ответила она, и глаза ее, закрывшиеся от страха, вновь раскрылись из любопытства.
Телега, запряженная сильной, нормандской породы лошадью и окруженная всадниками в лиловых ливреях с белыми крестами на груди, въехала на площадь со стороны улицы Сен-Пьер-о-Беф. Стража ночного дозора расчищала ей путь в толпе крепкими палочными ударами. Рядом с телегой ехало верхом несколько членов суда и полиции, которых нетрудно было узнать по их черному одеянию и неловкой посадке. Во главе их был мэтр Жак Шармолю.
В роковой повозке сидела молодая девушка со связанными за спиной руками, одна, без священника. Она была в рубашке; ее длинные черные волосы (по обычаю того времени их срезали лишь у подножия эшафота) в беспорядке рассыпались по ее полуобнаженным плечам и груди.
Сквозь эти волнистые пряди, черные и блестящие, точно вороново крыло, виднелась толстая серая шершавая веревка, натиравшая нежные ключицы и обвивавшаяся вокруг прелестной шейки несчастной девушки, словно земляной червь вокруг цветка. Из-под веревки блестела маленькая ладанка, украшенная зелеными бусинками, которую ей оставили, вероятно, потому, что обреченному на смерть уже не отказывают ни в чем. Зрители, смотревшие из окон, могли разглядеть в тележке ее обнаженные ноги, которые она старалась поджать под себя, словно движимая еще чувством женской стыдливости. Возле нее лежала связанная козочка. Девушка зубами поддерживала падавшую с плеч рубашку. Казалось, она в своем несчастье страдала и от того, что полунагая была выставлена напоказ толпе. Увы, не для подобных ощущений рождено целомудрие!
— Иисусе! — вдруг сказала капитану Флёр-де-Лис. — Посмотрите, кузен, ведь это та противная цыганка с козой!
Она обернулась к Фебу. Его глаза были прикованы к телеге. Он был очень бледен.
— Какая цыганка с козой? — заикаясь, спросил он.
— Как, — спросила Флёр-де-Лис, — разве вы не помните?..
Феб прервал ее:
— Не знаю, о чем вы говорите.
Он хотел было вернуться в комнату. Но Флёр-де-Лис, в которой вновь зашевелилось чувство ревности, с такой силой пробужденное в ней не так давно этой же самой цыганкой, — Флёр-де-Лис бросила на него проницательный и недоверчивый взгляд. Она в эту минуту смутно припомнила, что в связи с процессом этой колдуньи упоминали о каком-то капитане.
— Что с вами? — спросила она Феба. — Можно подумать, что вид этой женщины смутил вас.
Феб попытался отшутиться:
— Меня? Нисколько! С какой стати!
— Тогда останьтесь, — повелительно сказала она. — Посмотрим до конца.
Незадачливый капитан вынужден был остаться. Его, впрочем, немного успокаивало то, что несчастная не отрывала взора от дна телеги. Это, несомненно, была Эсмеральда. Даже на этой крайней ступени позора и несчастья она все еще была прекрасна. Ее большие черные глаза казались еще больше от опавших щек; ее мертвенно-бледный профиль был чист и светел. Она походила на прежнюю Эсмеральду так же, как мадонна Мазаччо походит на мадонну Рафаэля, — более слабая, более хрупкая, исхудавшая.
Впрочем, все в ней, если можно так выразиться, утеряло равновесие, все притупилось, кроме стыдливости, — так сильно была она разбита отчаянием, так крепко сковало ее оцепенение. Тело ее подскакивало от каждого толчка повозки, как безжизненный, сломанный предмет.
Взор ее был безумен и мрачен. В глазах стояли неподвижные, словно застывшие, слезы.
Тем временем зловещая процессия проследовала сквозь толпу среди радостных криков и проявлений живого любопытства. Однако же мы, в роли правдивого историка, должны сказать, что, видя ее столь прекрасной и столь подавленной горем, многие, даже самые черствые сердца были охвачены жалостью.
Повозка въехала на площадь.
Перед центральным порталом она остановилась. Конвой выстроился по обе стороны. Толпа притихла, и среди этой торжественной и напряженной тишины обе створки главных дверей как бы сами собой повернулись на своих завизжавших, словно флейты, петлях. И тут взорам толпы открылась во всю свою глубину внутренность мрачного храма, обтянутого траурными полотнищами, еле освещенного несколькими восковыми свечами, которые мерцали в главном алтаре. Будто огромный зев пещеры внезапно разверзся среди залитой солнцем площади. В глубине, в сумраке алтарной части, высился громадный серебряный крест, выделявшийся на фоне черного сукна, ниспадавшего от самого свода до пола. Церковь была пуста. Только на отдельных скамьях хоров кое-где смутно виднелись головы священников. Когда врата распахнулись, из церкви грянуло торжественное, громкое монотонное пенье, словно порывами ветра обрушивая на голову осужденной слова зловещих псалмов:
— «…Non timebo millia populi circumdantis me. Exsurge, Domine; salvum me fac, Deus!
…Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animan meam…
…Infixus sum in limo profundi; et non est substantia»[306].
Одновременно другой голос, отдельно от хора, со ступеней главного алтаря начинал печальную песнь дароприношения:
— «Qui verbum meum audit, et credit ei qui misit me, habet vitam aeternam et in judicium non venit; sed transit a morte in vitam»[307].
Это долетающее издали пенье сонма старцев, затерянных во мраке, было панихидой над дивным созданием, полным молодости, жизни, обласканным теплотой весеннего воздуха и солнечным светом.
Народ благоговейно внимал.
Несчастная девушка, охваченная страхом, словно затерялась взором и мыслью в темных глубинах храма. Ее бескровные губы шевелились, как бы шепча молитву, и когда помощник палача приблизился к ней, чтобы помочь ей сойти с телеги, то он услышал, как она тихо повторяла слово «Феб».
Ей развязали руки, заставили спуститься с повозки и пройти босиком по булыжникам мостовой до нижней ступени портала. Освобожденная козочка бежала вслед с радостным блеянием. Веревка, обвивавшая шею Эсмеральды, ползла за ней, словно змея.
И тогда пенье в храме замолкло. Большой золотой крест и вереница свечей заколыхались во мраке. Послышался стук алебард пестро одетой церковной стражи, и несколько мгновений спустя на глазах осужденной и всей толпы развернулась длинная процессия священников в нарамниках и дьяконов в стихарях, торжественно, с пением псалмов направлявшаяся прямо к ней. Но взор ее был прикован лишь к тому, кто шел во главе процессии, непосредственно за человеком, несшим крест.
— Это он, — вся задрожав, проговорила она еле слышно, — опять этот священник!
Действительно, то был архидьякон. По левую руку его следовал помощник соборного регента, по правую — регент, вооруженный своей палочкой. Архидьякон приближался к ней с откинутой назад головой, с неподвижным взглядом широко открытых глаз и пел сильным голосом:
— «De ventre inferi clamavi, et exaudisti vocem meam, et projecisti me in profundum, in corde maris, et flumen circumdedit me»[308].
В тот миг, когда он в сияющий полдень появился под высоким стрельчатым порталом в серебряной парчовой ризе с черным крестом, он был так бледен, что у многих в толпе мелькнула мысль, не поднялся ли с надгробного камня на хорах один из коленопреклоненных мраморных епископов, чтобы встретить у порога могилы ту, которая шла умирать.
Столь же бледная и столь же похожая на статую, Эсмеральда почти не заметила, как в руки ей дали тяжелую горящую свечу желтого воска; она не внимала визгливому голосу писца, читавшего роковую формулу публичного покаяния; когда ей велели произнести «аминь», она произнесла «аминь». И только увидев священника, который, сделав знак страже отойти, один направился к ней, она почувствовала прилив сил.
Вся кровь в ней закипела. В этой оцепеневшей, застывшей душе вспыхнула последняя искра возмущения.
Архидьякон медленно приблизился. Даже у этого предела она видела, что его взгляд, скользивший по ее обнаженному телу, горит сладострастьем, ревностью и желанием. Затем он громко проговорил:
— Девица, молила ли ты Бога простить тебе твои заблуждения и прегрешения?
И, наклонившись к ее уху (зрители думали, что он принимает ее исповедь), он прошептал:
— Хочешь быть моею? Я могу еще спасти тебя! Она пристально взглянула на него.
— Прочь, сатана, или я изобличу тебя! Он улыбнулся страшной улыбкой.
— Тебе не поверят. Ты только присоединишь к своему преступлению еще и позор. Скорей отвечай! Хочешь быть моею?
— Что ты сделал с моим Фебом?
— Он умер, — ответил священник.
В эту минуту архидьякон поднял голову и увидел на другом конце площади, на балконе дома Гонделорье, капитана, стоявшего рядом с Флёр-де-Лис. Он пошатнулся, провел рукой по глазам, взглянул еще раз и пробормотал проклятие. Черты его лица мучительно исказились.
— Так умри же ты! — сказал он сквозь зубы. — Никто не будет обладать тобой!
И, простерши над цыганкой руку, он возгласил суровым голосом, прозвучавшим, как погребальный звон:
— I nunc, anima anceps, et sit tibi Deus misericors![309] To была страшная формула, которою обычно заканчивались эти мрачные церемонии. То был условный знак священника палачу.
Народ упал на колени.
— Kyrie eleison![310] — запели священники под сводами портала.
— Kyrie eleison! — повторила толпа заглушённым рокотом, пробежавшим над ней, как зыбь всколыхнувшегося моря.
— Amen![311] — сказал архидьякон.
Повернувшись спиной к осужденной, он вновь опустил голову и, скрестив руки, присоединился к процессии священников. Мгновение спустя и он сам, и крест, и свечи, и ризы скрылись под сумрачными арками собора. Его звучный голос, постепенно замирая вместе с хором, пел скорбный стих:
— «…Omnes gurgites tui et fluctus tui super me transierunt»[312].
Перемежавшийся стук алебард церковной стражи, постепенно затихая в глубине храма, напоминал удары башенных часов, возвещавших смертный час осужденной.
Врата собора Богоматери оставались распахнутыми, дозволяя толпе видеть пустой, унылый, траурный, темный и безгласный храм.
Осужденная стояла на месте, ожидая, что с ней будет. Один из стражей-жезлоносцев обратил на нее внимание мэтра Жака Шармолю, который во время описанной сцены углубился в изучение барельефа главного портала, изображавшего, по мнению одних, жертвоприношение Авраама, а по толкованию других — алхимический процесс, где ангел символизирует солнце, вязанка хвороста — огонь, а Авраам — мастера.
Нелегко было оторвать его от этого занятия. Но наконец он обернулся, и по данному им знаку два человека в желтой одежде — помощники палача — подошли к цыганке, чтобы опять связать ей руки.
Быть может, перед тем, как подняться на роковую телегу и отправиться в свой последний путь, девушку охватило раздирающее душу сожаление о жизни. Сухим и воспаленным взором окинула она небо, солнце, серебристые облака, разорванные то там, то сям неправильными четырехугольниками и треугольниками синего неба, затем взглянула вниз, вокруг себя, на землю, на толпу, взглянула на дома… И вдруг, в то время как человек в желтом скручивал ей локти за спиной, она испустила потрясающий вопль, вопль счастья. На балконе, вон там, на углу площади, она увидела его, своего друга, своего властелина, Феба, видение другой ее жизни!
Судья солгал! Священник солгал! Это точно он, она не могла сомневаться. Он стоял там, прекрасный, живой, в своем ослепительном мундире, с пером на шляпе, со шпагой на боку!
— Феб! — закричала она. — Мой Феб!
В порыве любви и восторга она хотела протянуть к нему дрожащие от волнения руки, но они были уже связаны.
И тогда она увидела, как капитан нахмурил брови, как прекрасная девушка, опиравшаяся на его руку, взглянула на него презрительно и гневно, как затем Феб произнес несколько слов, которые она не могла расслышать, и как оба они поспешно исчезли за стеклянной дверью балкона, закрывшейся за ними.
— Феб! — вне себя закричала она. — Неужели ты этому поверил?
Чудовищная мысль пришла ей на ум. Она вспомнила, что приговорена к смерти за убийство Феба де Шатопера.
До сей поры она все выносила. Но этот последний удар был слишком жесток. Она без чувств упала на мостовую.
— Живее снесите ее в телегу, пора кончать! — сказал Шармолю.
Никто до сих пор не приметил на галерее среди королевских статуй, изваянных прямо над стрельчатой аркой портала, странного зрителя, который до этого мгновения пристально наблюдал за всем происходившим; он был так неподвижен, так далеко вперед вытянул шею, так безобразен, что если бы не его лилово-красное одеяние, то его можно было бы принять за одно из тех каменных чудовищ, через пасти которых вот уже шестьсот лет извергают воду длинные дождевые желоба собора. Зритель этот не пропустил ни одной подробности из всего того, что происходило перед порталом собора Богоматери. И с первой же минуты, никем не замеченный, он туго привязал к одной из колонок галереи толстую узловатую веревку, другой конец которой свесил на паперть. После этого он принялся спокойно глядеть на площадь, посвистывая по временам, когда мимо пролетал дрозд.
Внезапно, в тот самый миг, когда помощники палача собирались исполнить равнодушно отданный приказ мэтра Шармолю, этот человек перескочил через балюстраду галереи, ногами, коленями, руками обхватил узловатую веревку и, словно дождевая капля, скользящая по стеклу, скатился по фасаду собора; с быстротой падающей с кровли кошки он подбежал к двум помощникам палача, поверг их наземь ударом своих огромных кулаков, одной рукой схватил цыганку, как ребенок куклу, и, высоко вознеся ее над своей головой, бросился в храм, крича громовым голосом:
— Убежище!
Все это было проделано с такой быстротой, что, произойди это ночью, одной вспышки молнии было бы достаточно, чтобы все увидеть.
— Убежище! Убежище! — повторила толпа, и рукоплескания десяти тысяч рук заставили вспыхнуть счастьем и гордостью единственный глаз Квазимодо.
Эта неожиданность заставила осужденную прийти в себя. Она разомкнула веки, взглянула на Квазимодо и тотчас же вновь их смежила, словно испугавшись своего спасителя.
Шармолю, палачи, вся стража остолбенели на месте. Действительно, в стенах собора Богоматери приговоренная была неприкосновенна. Собор был надежным приютом. У его порога кончалось всякое человеческое правосудие.
Квазимодо остановился под сводом главного портала. Его широкие ступни, казалось, так же прочно вросли в каменные плиты пола, как тяжелые романские столбы. Его огромная косматая голова глубоко уходила в плечи, точно голова льва, под длинной гривой которого тоже не видно шеи. Он держал трепещущую девушку, повисшую на его грубых руках, словно белая ткань, держал так бережно, точно боялся ее разбить или измять. Казалось, он чувствовал, что это было нечто хрупкое, изысканное, драгоценное, созданное не для его рук. Минутами он не осмеливался коснуться ее даже дыханием. И вдруг сильно прижимал ее к своей угловатой груди как свою собственность, как свое сокровище. Так мать прижимает к груди своего ребенка. Взор этого циклопа, склоненной к девушке, то обволакивал ее нежностью, скорбью и жалостью, то вдруг поднимался вверх, полный огня. И тогда женщины смеялись и плакали, толпа неистовствовала от восторга, ибо в эти мгновения Квазимодо воистину был прекрасен. Он был прекрасен, этот сирота, подкидыш, это отребье; он чувствовал себя величественным и сильным, он глядел в лицо этому обществу, которое изгнало его, но в дела которого он так властно вмешался; глядел в лицо этому человеческому правосудию, у которого вырвал добычу, всем этим тиграм, которым лишь оставалось ляскать зубами, этим приставам, судьям и палачам, всему этому королевскому могуществу, которое он, ничтожный, сломил с помощью всемогущего Бога.
Это покровительство, оказанное существом столь уродливым, как Квазимодо, существу столь несчастному, как присужденная к смерти, вызвало в толпе чувство умиления. То были отверженцы природы и общества; стоя на одной ступени, они помогали друг другу.
Через несколько мгновений торжествующий Квазимодо вместе со своей ношей внезапно исчез в соборе. Толпа, всегда влюбленная в отвагу, отыскивала его глазами под сумрачными сводами церкви, сожалея о том, что предмет ее восхищения так быстро скрылся. Но он вновь показался в конце галереи французских королей. Как безумный, промчался он по галерее, высоко поднимая на руках свою добычу и крича: «Убежище!» Толпа вновь разразилась рукоплесканиями. Миновав галерею, он опять исчез в глубине храма. Минуту спустя он показался на верхней площадке, все так же стремительно мчась с цыганкой на руках и крича: «Убежище!» Толпа рукоплескала. Наконец в третий раз он появился на верхушке башни большого колокола и оттуда с гордостью показал всему Парижу ту, которую спас. Громовым голосом, который люди слышали редко и которого сам он никогда не слыхал, он трижды прокричал так исступленно, что звук его, казалось, достиг облаков:
— Убежище! Убежище! Убежище!
— Слава! Слава! — отозвалась толпа, и этот могучий возглас, докатившись до другого берега реки, поразил народ, собравшийся на Гревской площади, и затворницу, не отводившую глаз от виселицы.
Книга IX
Глава 1
Бред
Клода Фролло уже не было в соборе, когда его приемный сын так решительно рассек тот роковой узел, которым Клод стянул цыганку и в который попался сам. Войдя в ризницу, он сорвал с себя стихарь, ризу и епитрахиль, швырнул все это на руки изумленному причетнику, выбежал через потайную дверь монастыря, приказал лодочнику правого берега Сены перевезти себя на другую сторону и углубился в холмистые улицы университетского квартала, сам не зная, куда идет, и встречая на каждом шагу группы мужчин и женщин, весело спешивших к мосту Сен-Мишель в надежде «поспеть еще вовремя», чтобы увидеть, как будут вешать колдунью. Бледный, растерянный, потрясенный, слепой и дикий, подобно ночной птице, вспугнутой и преследуемой среди бела дня оравой ребят, он не понимал более, где он, что с ним, грезит он или видит все наяву. Он то шел, то бежал наугад, не выбирая направления, сворачивая то в одну, то в другую улицу, подстегиваемый лишь одной мыслью о Гревской площади, об ужасной Гревской площади, которую он все время смутно ощущал позади себя.
Так пробежал он вдоль холма Святой Женевьевы и вышел наконец из города через Сен-Викторские ворота. Он продолжал бежать до тех пор, пока, оглянувшись, мог еще видеть башни ограды Университета и разбросанные дома предместья; но когда наконец небольшое возвышение скрыло от него окончательно этот ненавистный Париж, когда он мог считать себя за сто лье от него, затерянным среди полей, в пустыне, он остановился; ему показалось, что здесь он может дышать свободно.
И тогда его обуяли страшные мысли. Он прозрел свою душу и содрогнулся. Он вспомнил об этой несчастной девушке, погубившей его и им погубленной. В смятении он оглянулся на тот двойной извилистый путь, которым рок предопределил пройти их судьбам до того перекрестка, где он безжалостно столкнул их и разбил друг о друга. Он думал о безумии вечных обетов, о тщете целомудрия, науки, веры, добродетели, о ненужности Бога. Он с упоением предался этим дурным мыслям и, все глубже погружаясь в них, чувствовал, что грудь его разрывает сатанинский хохот.
Исследуя таким образом свою душу, он понял, какое обширное место в ней было уготовано природой страстям, и усмехнулся с еще большей горечью. Он разворошил всю таившуюся в глубинах его сердца ненависть, всю злобу, и беспристрастным оком врача, который изучает больного, убедился в том, что эта ненависть и эта злоба были не чем иным, как искаженной любовью, что любовь, этот родник всех человеческих добродетелей, в душе священника оборачивается чем-то чудовищным и что человек, созданный так, как он, став священником, становится демоном. Тогда он разразился жутким смехом и вдруг побледнел: он вгляделся в самую мрачную сторону своей роковой страсти, этой разъедающей, ядовитой, полной ненависти, неукротимой страсти, приведшей цыганку к виселице, его — к аду; она осуждена, он проклят.
И вновь им овладел смех, когда он вспомнил, что Феб жив, что, наперекор всему, капитан жив, доволен и весел, что на нем мундир нарядней, чем когда-либо, и что у него новая возлюбленная, которой он показывал, как будут вешать прежнюю. Он посмеялся над собой еще громче, когда подумал, что из всех живущих на земле людей, которым он желал смерти, не избежала ее лишь цыганка — единственное существо, не вызывавшее в нем ненависти.
От капитана его мысль перенеслась к толпе, и тут его охватила неслыханная ревность. Он подумал о том, что вся эта толпа видела обожаемую им женщину в одной сорочке, почти обнаженную. Он ломал себе руки при мысли о том, что эта женщина, чье тело, приоткрывшись перед ним в полумраке, могло бы дать ему райское блаженство, сегодня, в сияющий полдень, одетая как для ночи сладострастия, была доступна взорам всей толпы. Он плакал от ярости над всеми этими тайнами поруганной, оскверненной, оголенной, навек опозоренной любви. Он плакал от ярости, представляя себе, сколько нечистых взглядов скользнуло под этот распахнутый ворот; эта прекрасная девушка, эта девственная лилия, эта чаша ненависти и восторгов, которую он лишь трепеща осмелился бы пригубить, была превращена в какой-то общественный котел, из которого все отребье Парижа — воры, нищие, бродяги — пришло черпать сообща бесстыдное, нечистое и извращенное наслаждение.
И когда он пытался вообразить себе то счастье, которое он мог найти на земле, если бы девушка не была цыганкой, а он священником, если бы она любила его, а Феб не существовал на свете; когда он думал о том, что и для него могла начаться жизнь, полная любви и безмятежности, что в этот самый миг на земле есть счастливые пары, забывшиеся в нескончаемых беседах под сенью апельсиновых дерев, на берегу ручья, осиянные заходящим солнцем или звездной ночью, что и он с ней, если бы того пожелал Господь, могли быть такой же благословенной парой, сердце его исходило нежностью и отчаянием. Она! Везде она! Эта неотвязная мысль возвращалась непрестанно, терзала его, жалила его мозг и раздирала его душу. Он ни о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался; все, что он сделал, он готов был сделать вновь; он предпочитал видеть ее в руках палача, нежели в объятиях капитана, но он страдал, — он страдал так неистово, что по временам вырывал у себя клочья волос, чтобы посмотреть, не поседел ли он.
Было мгновение, когда ему представилось, что, быть может, в эту самую минуту отвратительная цепь, которую он утром видел, сейчас железным узлом стянулась на ее нежной милой шейке. Эта мысль заставила его облиться холодным потом.
И была другая минута, когда, смеясь над собой язвительным смехом, он вспомнил Эсмеральду такой, какой видел ее в первый день: живой, беспечной, веселой, нарядной, пляшущей, окрыленной, гармоничной, и Эсмеральду последнего дня — в рубище, с веревкой на шее, медленной поступью босыми ногами всходящую по крутым ступеням виселицы. Он так явственно представил себе этот двойной образ, что у него вырвался ужасающий вопль.
В то время как этот смерч отчаяния ниспровергал, ломал, рвал, гнул и выкорчевывал все в душе его, он взглянул на окружавшую его природу. У ног его несколько кур, вороша мелкий кустарник, что-то клевали; блестящие жуки выползали на солнце; над головой его по синему небу скользили хлопья серебристых облаков; на горизонте шпиль аббатства Сен-Виктор шиферным своим обелиском перерезал округлую линию косогора; и мельник с холма Копо, посвистывая, глядел, как вертятся трудолюбивые крылья его мельницы. Вся эта жизнь, деятельная, налаженная, спокойная, воплощенная в тысячи форм, причиняла ему боль. Он вновь бросился бежать.
Так бежал он через поля до самого вечера. Это бегство от природы, от жизни, от самого себя, от человека, от Бога, от всего длилось весь день. Иногда он бросался ничком на землю и ногтями вырывал молодые колосья. Иногда он как вкопанный останавливался посреди улицы в какой-нибудь пустынной деревушке, и так тяжки были его мысли, что он хватался руками за голову, как бы пытаясь оторвать ее и размозжить о камни мостовой.
Когда солнце склонилось к закату, он снова заглянул в свою душу, и ему показалось, что он почти сошел с ума. Буря, бушевавшая в нем с тех пор, как он потерял и надежду и волю спасти цыганку, не оставила в его сознании ни одной здоровой мысли, ни одного уцелевшего понятия. Казалось, весь его разум был повержен во прах и лежал в обломках. Лишь два образа отчетливо стояли в его сознании: Эсмеральда и виселица. Все остальное было покрыто тьмой. Сближаясь, эти два образа являли ужасающее сочетание; и чем больше он сосредоточивал на них остаток своего внимания и мысли, тем больше в какой-то фантастической прогрессии они возрастали: один — в своем изяществе, в прелести, в красоте и лучезарности, другой — в своей чудовищности. И под конец Эсмеральда уже казалась ему звездой, а виселица — громадной костлявой рукой.
Замечательно то, что ни разу в продолжение всей этой муки мысль о смерти по-настоящему не пришла ему в голову. Так создан был этот несчастный. Он цеплялся за жизнь. Быть может, за ней он действительно видел ад.
Между тем день угасал. То живое существо, которое еще прозябало в нем, смутно помышляло о возвращении домой. Ему казалось, будто он далеко от Парижа, но, оглядевшись, он заметил, что всего только обошел кругом ограду университетской стороны. Направо от него вставали на горизонте шпиц Сен-Сюльпис и три высокие стрелы Сен-Жермен-де-Пре. Он направился в эту сторону. Когда у зубчатого вала, окружавшего Сен-Жермен, он услышал оклик стражи аббатства, то свернул на тропу, пролегавшую между мельницей аббатства и городской больницей для прокаженных, и через несколько минут оказался на окраине Пре-о-Клер. Этот луг славился происходившими на нем день и ночь буйствами; это была «страшная гидра» несчастных сен-жерменских монахов, quod monachis Sancti-Germani pratensis hydra fuit, clerisis nova semper dissidiorum capita suscitantibus[313]. Архидьякон боялся встретиться с кем-нибудь; вид всякого человеческого лица его страшил; он стороной обошел Университет и предместье Сен-Жермен, ему хотелось попасть на улицы города как можно позднее. Он направился вдоль Пре-о-Клер, свернул на глухую тропинку, отделявшую Пре-о-Клер от Дье-Неф, и наконец вышел к реке. Там Клод нашел лодочника, который за несколько парижских денье довез его вверх по Сене до конца Ситэ и высадил на той пустынной косе, которая тянулась за королевскими садами параллельно островку Коровий перевоз, где читатель однажды видел мечтающего Гренгуара.
Убаюкивающее покачивание лодки и плеск воды привели несчастного Клода в какое-то оцепенение. Когда лодочник удалился, он, с бессмысленным видом стоя на берегу, глядел перед собой, воспринимая все словно через какие-то волны, увеличивающие размеры и превращающие все, что его окружало, в какую-то фантасмагорию. Нередко утомление, вызванное великой скорбью, оказывает подобное действие на рассудок.
Солнце скрылось за высокой Нельской башней. Спустились сумерки. Побледнело небо, потеряла краски река; между этими двумя белесоватыми пятнами левый берег Сены, к которому был прикован его взор, выдавался темной массой и, все более и более сужаясь в перспективе, черной стрелой вонзался в туман далекого горизонта. Вся она была покрыта домами, но глаз различал лишь их темный силуэт, четко выступавший в сумерках на светлом фоне неба и воды. Там и сям вспыхивали светом окна, словно искры в груде тлеющих углей. Этот гигантский черный обелиск, одиноко тянущийся между белыми плоскостями неба и реки, очень широкий в этом месте, произвел на отца Клода странное впечатление, схожее с тем, которое испытывал бы человек, лежащий навзничь у подножия Страсбургского собора и глядящий, как вздымается над его головой огромный шпиль, вонзаясь в мглу сумерек. Только здесь Клод стоял, а обелиск лежал; но так как воды реки, отражая небеса, углубляли бездну под ним, огромный мыс, казалось, столь же дерзко устремлялся в пустоту, как и стрела собора; впечатление было тождественно. Оно было тем более странным и глубоким, что мыс действительно походил на шпиль Страсбургского собора, но шпиль вышиною в два лье — нечто неслыханное, огромное, неизмеримое; это было сооружение, на которое еще никогда не взирало человеческое око; это была Вавилонская башня. Дымовые трубы домов, зубцы оград, резные коньки кровель, стрела Августинцев, Нельская башня — все эти выступы и зазубрины на колоссальном профиле обелиска увеличивали иллюзию, представляясь глазам деталями пышной и причудливой скульптуры. Клод, поддавшись этому обману чувств, вообразил, что видит воочию колокольню ада. Тысячи огней, рассеянных на всех этажах чудовищной башни, казались ему тысячью отверстий огромной внутренней печи; голоса и шум, вырывавшиеся оттуда, — воплями и хриплыми стонами. Ему стало страшно, он заткнул уши, чтобы ничего не слышать, повернулся, чтобы ничего не видеть, и большими шагами устремился прочь от ужасающего видения.
Но видение было в нем самом.
Когда он очутился на улицах города, прохожие, толкавшиеся у освещенных лавочных витрин, казались ему непрерывно кружившимся около него хороводом призраков. Странный грохот стоял у него в ушах. Необычайные образы смущали его разум. Он не видел ни домов, ни мостовой, ни повозок, ни мужчин, ни женщин, перед ним был лишь хаос неопределенных предметов, сливавшихся между собой. На углу Бочарной улицы находилась бакалейная лавка, над входной дверью которой был навес, со всех сторон украшенный, по обычаю незапамятных времен, жестяными обручиками, с которых свисали деревянные свечи, раскачиваемые ветром и стучавшие, как кастаньеты. Ему показалось, что это в темноте стучат друг о друга скелеты повешенных на Монфоконе.
О, пробормотал он, — это ночной ветер бросает их друг на друга; стук их цепей смешивается со стуком костей! Быть может, она уже среди них!
Полный смятения, он сам не знал, куда шел. Пройдя несколько шагов, он очутился у моста Сен-Мишель. В нижнем этаже одного из домов светилось окно. Он приблизился к нему и сквозь треснувшие стекла увидел омерзительную комнату, пробудившую в нем какое-то смутное воспоминание. В этой комнате, скудно освещенной тусклой лампой, сидел белокурый здоровый и веселый юноша, который, громко смеясь, целовал молодую девушку в весьма нескромном наряде. А подле лампы сидела за прялкой старуха, певшая дрожащим голосом.
Когда юноша переставал смеяться, обрывки песни долетали до слуха священника. Это были какие-то непонятные и страшные слова.
Грев, лай, Грев, урчи! Прялка, пряди! Кудель, сучись! Ты, прялка, кудель для петли предназначь! Свистит, в ожиданье веревки, палач. Грев, лай, Грев, урчи! Хороша веревка из крепкой пеньки! Засевай не зерном — коноплей, мужики, От Исси до Ванвра свои поля, Поделом чтобы вору м́ука была. Хороша веревка из крепкой пеньки! Грев, лай, Грев, урчи! Чтобы видеть, как девка ногами сучит, И как будет потом в петле оползать, Станут окна домов как живые глаза. Грев, лай, Грев, урчи!А молодой человек хохотал и ласкал девицу. Старуха была Фалурдель, девица — уличная девка, юноша — его брат Жеан.
Архидьякон продолжал смотреть в окно. Не все ли равно, на что смотреть!
Жеан подошел к другому окну, в глубине комнаты, распахнул его, взглянул на набережную, где вдали сверкали тысячи огней, и сказал, закрывая окно:
— Клянусь душой, вот уже и ночь! Горожане зажигают свечи, а Господь Бог — звезды.
Затем Жеан вернулся вновь к потаскухе и, разбив стоявшую на столе бутылку, воскликнул:
— Уже пуста! Ах ты дьявол! А у меня больше нет денег! Изабо, милашка, я только тогда успокоюсь, когда Юпитер превратит твои белые груди в две черные бутыли, из которых я день и ночь буду сосать бонское вино.
Эта замечательная шутка рассмешила девку. Жеан вышел.
Клод едва успел броситься ничком на землю, чтобы брат не столкнулся с ним, не поглядел ему в лицо, не узнал его. По счастью, на улице было темно, а школяр был пьян. Однако он заметил лежавшего в уличной грязи архидьякона.
— Ого! — воскликнул он. — Вот у кого сегодня был веселый денек!
Он подтолкнул ногою Клода, который боялся дохнуть.
— Мертвецки пьян! — продолжал Жеан. — Ну и наклюкался! Настоящая пьявка, отвалившаяся от винной бочки. Ба, да он лысый! — сказал он, наклоняясь. — Совсем старик! Fortunate senex![314]
И затем Клод услышал, как он, удаляясь, рассуждал:
— А все же благоразумие — прекрасная вещь, и счастлив мой брат-архидьякон, обладая добродетелью и деньгами.
Архидьякон поднялся и во весь дух побежал к собору Богоматери, громадные башни которого выступали во мраке над кровлями домов.
Когда он, запыхавшись, достиг Соборной площади, то вдруг отступил, не смея поднять глаза на зловещее здание.
— О, неужели все это могло произойти здесь нынче, этим утром! — тихо проговорил он.
Наконец он осмелился взглянуть на храм. Фасад собора был темен. За ним мерцало ночное звездное небо. Серп луны, уже поднявшейся высоко над горизонтом, остановился в этот миг над верхушкой правой башни и казался лучезарной птицей, присевшей на край балюстрады, прорезанной черным рисунком трилистника.
Монастырские ворота были уже на запоре, но архидьякон всегда носил при себе ключ от башни, где помещалась его лаборатория. Он воспользовался им, чтобы проникнуть в храм.
В храме царили пещерный мрак и тишина. По большим теням, падавшим отовсюду широкими полосами, он понял, что траурные сукна утренней церемонии еще не были сняты. В сумрачной глубине церкви мерцал большой серебряный крест, усыпанный блистающими точками, словно Млечный Путь в ночи этой гробницы. Высокие окна хоров поднимали над черными драпировками свои стрельчатые верхушки, стекла которых, пронизанные лунным сиянием, были расцвечены теперь только неверными красками ночи: лиловатой, белой, голубой — эти оттенки можно найти только на лике усопшего. Увидев вокруг хоров эти озаренные мертвенным светом островерхие арки окон, архидьякон принял их за митры погубивших свою душу епископов. Он зажмурил глаза, и, когда открыл их вновь, ему показалось, будто он окружен кольцом бледных, глядевших на него лиц.
Он бросился бежать по церкви. Но тогда ему почудилось, что храм тоже заколебался, зашевелился, задвигался, ожил, что каждая толстая колонна превратилась в громадную лапу, которая топала по полу своей каменной ступней, что весь гигантский собор превратился в сказочного слона, который пыхтя переступал своими колоннами-ногами, с двумя башнями вместо хобота и с огромной черной драпировкой вместо попоны.
Его бред или безумие достигли того предела, когда внешний мир превращается в какой-то видимый, осязаемый и страшный Апокалипсис.
На одну минуту он почувствовал было облегчение. Углубившись в боковой придел, он заметил за чащей столбов красноватый свет. Он устремился к нему, как к звезде. Это была тусклая лампада, днем и ночью освещавшая общественный Требник собора Богоматери под проволочной сеткой. Он жадно припал к священной книге, надеясь найти в ней утешение или поддержку. Требник был раскрыт на книге Иова, и, скользнув по странице напряженным взглядом, он увидел слова:
«И некий дух пронесся пред лицом моим, и я почувствовал его легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».
Прочитав этот мрачный стих, он ощутил то, что ощущает слепец, уколовшийся о поднятую им с земли палку. Колени у него подкосились, и он рухнул на плиты пола, думая о той, которая скончалась в этот день. Он чувствовал, как через его мозг проходит, словно переполняя его, какой-то отвратительный дым, и ему показалось, что голова его превратилась в одну из дымовых труб преисподни.
Он, по-видимому, долго пролежал в таком состоянии, ни о чем не думая, сраженный и безвольный, во власти дьявола. Наконец силы вернулись к нему, и он решил искать убежища в башне, близ своего верного Квазимодо. Он встал, и так как ему было страшно, он взял лампаду, горевшую перед Требником. Это было кощунство, но для него уже не имела значения такая безделица.
Медленно взбирался он по башенной лестнице, проникнутый тайным ужасом, который сообщался, вероятно, и редким прохожим на Соборной площади, видевшим таинственный огонек, поднимавшийся в столь поздний час от бойницы к бойнице до самого верха колокольни.
Внезапно в лицо ему повеяло прохладой: он оказался у двери верхней галереи. Воздух был свеж; по небу неслись облака, широкие, белые валы которых, громоздясь друг на друга и обламывая свои угловатые края, напоминали зимний ледоход. Лунный серп среди облаков казался небесным кораблем, потерпевшим крушение и затертым этими воздушными льдами.
Некоторое время он всматривался через решетку из колонок, соединявшую обе башни, сквозь дымку тумана и испарений, в безмолвную толпу дальних парижских кровель, острых, неисчислимых, скученных и маленьких, словно волны спокойного моря в летнюю ночь.
Луна бросала бледный свет, придававший небу и земле пепельный отлив.
В эту минуту башенные часы подали свой высокий надтреснутый голос. Пробило полночь. Священнику вспомнился полдень. Вновь било двенадцать.
О, тихо прошептал он, — она теперь, должно быть, уже похолодела!
Вдруг порыв ветра задул лампаду, почти в то же мгновение он увидел у противоположного угла башни какую-то тень, белое пятно, какой-то образ, женщину. Он вздрогнул. Рядом с женщиной стояла маленькая козочка, блеяние которой сливалось с последним ударом часов.
Он нашел в себе силы взглянуть на нее. То была она.
Она была бледна и сурова. Ее волосы так же, как и поутру, спадали на плечи. Но ни веревки на шее, ни связанных рук. Она была свободна, она была мертва.
Она была в белой одежде, и белое покрывало спускалось с ее головы.
Медленной поступью подвигалась она к нему, глядя на небо. Колдовская коза следовала за нею. Бежать он не мог; он чувствовал, что превратился в камень, что собственная тяжесть непреодолима. Каждый раз, когда она делала шаг вперед, он делал шаг назад, не более. Так отступил он под темный лестничный свод. Он леденел при мысли, что, может быть, и она направится туда же; если бы это случилось, он умер бы от ужаса.
Она действительно приблизилась к двери, ведущей на лестницу, постояла несколько мгновений, пристально вглядываясь в темноту, но не различая в ней священника, и прошла мимо. Она показалась ему выше ростом, чем была при жизни; сквозь ее одежду просвечивала луна; он слышал ее дыхание.
Когда она удалилась, он столь же медленно, как и призрак, стал спускаться по лестнице, чувствуя себя самого призраком; его взгляд блуждал, волосы стояли дыбом. Все еще держа в руке потухшую лампаду и спускаясь по винтовой лестнице, он явственно слышал над своим ухом голос, который смеялся и повторял: «…И некий дух пронесся пред лицом моим, и я почувствовал его легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».
Глава 2
Горбатый, кривой, хромой
Каждый город Средневековья, каждый город Франции вплоть до царствования Людовика XII имел свои убежища. Эти убежища среди потопа карательных мер и варварских судебных установлений, наводнявших города, были своего рода островками вне пределов досягаемости человеческого правосудия. Всякий причаливший к ним преступник был спасен. В ином предместье было столько же убежищ, сколько и виселиц. Это было злоупотребление безнаказанностью рядом с злоупотреблением казнями — два вида зла, стремившихся обезвредить друг друга. Королевские дворцы, княжеские особняки, а главным образом храмы имели право убежища. Чтобы населить город, его целиком превращали на время в место убежища. Так Людовик XI в 1467 году объявил убежищем Париж.
Вступив в него, преступник был священен, пока не покидал города. Но один лишь шаг за пределы святилища — и он снова падал в пучину. Колесо, виселица, дыба неусыпной стражей окружали место убежища и непрерывно подстерегали свои жертвы, подобно акулам, снующим вокруг корабля. Бывали примеры, что приговоренные доживали до седых волос в каком-нибудь монастыре, на лестнице какого-нибудь дворца, в службах аббатства, под порталом храма; таким образом, убежище было той же тюрьмой.
Случалось иногда, что, по особому постановлению судебной палаты, неприкосновенность убежища нарушалась, и преступника отдавали в руки палача; но это бывало редко. Судьи боялись епископов, и когда оба эти сословия задевали друг друга, то судейской мантии нелегко было справиться с сутаной. Все же порой, как в деле убийц Малыша Жана — парижского палача, или в деле Эмери Руссо, убийцы Жана Валере, правосудие действовало через голову церкви и приводило в исполнение свой приговор. Но без постановления судебной палаты горе тому, кто посягнул бы с оружием в руках на право убежища! Всем известно, какой смертью погибли Робер Клермонский — маршал Франции и Жеан де Шалон — маршал Шампаньи; между тем дело шло всего лишь о Перрене Марке, слуге менялы, презренном убийце. Но маршалы взломали врата церкви Сен-Мери. Вот в этом-то и заключалась неслыханность их проступка.
Убежища были окружены таким уважением, что, как гласит предание, оно иногда распространялось даже и на животных. Эмуан рассказывает, что, когда загнанный Дагобером олень укрылся близ гробницы святого Дени, свора гончих остановилась как вкопанная, заливаясь лаем.
В церкви обычно имелась келья, предназначенная для ищущих убежища. В 1407 году Никол́а Фламель выстроил для них на сводах церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри комнату, стоившую ему четыре ливра шесть солей и шестнадцать парижских денье.
В соборе Богоматери такая келья была устроена над одним из боковых приделов, под наружными упорными арками, напротив монастыря, там именно, где теперь жена башенного привратника развела садик, который так же походит на висячие сады Вавилона, как латук на пальму, а сторожиха на Семирамиду.
Сюда-то, в эту келью, и принес Квазимодо Эсмеральду после своего бешеного триумфального бега через башни и галереи. Пока длился этот бег, молодая девушка была почти в забытьи: то приходя в себя, то снова теряя сознание, она чувствовала лишь, что поднимается в воздух, парит в нем, летит, что какая-то сила несет ее над землей. Время от времени она слышала оглушительный смех и громовой голос Квазимодо; приоткрывая глаза, она глубоко внизу смутно различала Париж, пестревший тысячами своих шиферных и черепичных кровель, словно сине-красной мозаикой, а над своей головой — страшное, ликующее лицо Квазимодо. Тогда ее веки снова смыкались; она думала, что все кончено, что во время обморока ее казнили и что безобразный дух, управлявший ее судьбой, завладел ею и куда-то ее уносит. Она не осмеливалась взглянуть на него и не сопротивлялась.
Но когда всклокоченный и задыхающийся звонарь принес ее в келью, служившую убежищем, когда она почувствовала, как он огромными своими лапами осторожно развязывает веревку, изранившую ее руки, она ощутила сотрясение, подобное тому, которое внезапно среди ночи пробуждает пассажира судна, причалившего к берегу. Так пробудились и ее воспоминания, начиная всплывать перед ней одно за другим. Она поняла, что находится в соборе Богоматери; она вспомнила, что была вырвана из рук палача, что ее Феб жив, что Феб разлюбил ее. Когда эти две мысли, из которых одна омрачала другую, одновременно представились несчастной, она повернулась к стоявшему перед ней страшному Квазимодо и сказала:
— Зачем вы спасли меня?
Он напряженно смотрел на нее, как бы пытаясь угадать смысл ее слов. Она повторила вопрос. Тогда он с глубокой печалью взглянул на нее и исчез.
Она была удивлена.
Мгновение спустя он вернулся, неся в руках сверток, который положил к ее ногам. Это была одежда, оставленная для нее на пороге церкви сердобольными женщинами. Тут она взглянула на себя, увидела свою наготу и покраснела. Жизнь снова вступила в свои права.
По-видимому, Квазимодо почувствовал этот стыд. Он широкой ладонью закрыл глаза и вновь удалился, но уже медленными шагами.
Она поспешила одеться. Это было белое платье и белое покрывало — одежда послушниц Отель-Дье[315].
Едва она успела одеться, как Квазимодо вернулся. В одной руке он нес корзину, а в другой тюфяк. В корзине была бутылка, хлеб и кое-какая снедь. Он поставил корзину на землю и сказал:
— Кушайте.
Затем разостлал тюфяк на каменном полу и сказал:
— Спите.
То был его собственный обед и его собственная постель.
Цыганка, желая поблагодарить его, взглянула на него, но не могла вымолвить ни слова. Бедняга был действительно ужасен. Вздрогнув от страха, она опустила голову.
Тогда он проговорил:
— Я вас пугаю? Я очень уродлив, не правда ли? Но вы не глядите на меня. Только слушайте. Днем оставайтесь здесь; ночью можете гулять по всему храму. Но ни днем, ни ночью не покидайте собора. Вы погибнете. Вас убьют, а я умру!
Тронутая его словами, она подняла голову, чтобы ответить ему. Но он исчез. Она осталась одна, размышляя о странных речах этого чудовищного существа, пораженная звуком его голоса, такого грубого и вместе с тем такого нежного.
Потом она осмотрела келью. Это была комната около шести квадратных футов с маленьким слуховым оконцем и дверью, выходившей на отлогий скат кровли, выложенной плоскими плитками. Несколько водосточных труб наподобие звериных морд наклонялись над нею со всех сторон и вытягивали шеи, чтобы заглянуть в оконце. За краем крыши виднелись верхушки тысячи труб, из которых поднимался дым всех очагов. Грустное зрелище для бедной цыганки, найденыша, смертницы, жалкого создания, лишенного отчизны, семьи, крова!
В эту минуту, когда она особенно остро почувствовала свое одиночество, чья-то мохнатая и бородатая голова прижалась к ее рукам и коленям. Она вздрогнула, ибо все ее теперь пугало. Но это была ее бедная козочка, проворная Джали, убежавшая за нею, когда Квазимодо разогнал стражу Шармолю, и уже целый час ластившаяся к ней, тщетно добиваясь внимания хозяйки. Цыганка осыпала ее поцелуями.
— О Джали! — говорила она. — Как я могла забыть о тебе! А ты все еще меня помнишь! О, ты умеешь быть благодарной!
Словно какая-то невидимая рука приподняла тяжесть, давившую ей на сердце, и долго сдерживаемые слезы заструились из ее глаз. Чем дальше, тем больше чувствовала она, как вместе со слезами уходит и жгучая горечь ее скорби. Когда стемнело, ночь показалась ей такой прекрасной, сияние луны таким кротким, что она вышла на верхнюю галерею, опоясывавшую собор. Внизу под нею безмятежно покоилась земля, и мир осенил душу Эсмеральды.
Глава 3
Глухой
Проснувшись на следующее утро, она почувствовала, что выспалась. Это удивило ее. Она давно уже отвыкла от сна. Веселый луч восходившего солнца глянул в окошечко и ударил ей прямо в лицо. Одновременно с солнцем в окошке показалось нечто испугавшее ее: то было лицо злосчастного Квазимодо. Невольно она снова закрыла глаза. Но напрасно! Ей казалось, что даже сквозь свои розовые веки она видит эту маску урода, одноглазую и клыкастую. Не открывая глаз, она услышала грубый голос, кротко говоривший ей:
— Не пугайтесь, я вам друг. Я пришел взглянуть, как вы спите. Ведь правда, это не причинит вам зла, если я приду посмотреть, как вы спите? Что вам до того, буду ли я около вас, когда глаза ваши закрыты? Теперь я уйду. Вот я уже за стеной. Вы можете открыть глаза.
И еще жалобнее, нежели слова, было то выражение, с которым он произнес их. Тронутая ими, цыганка раскрыла глаза. В оконце никого не было. Она подошла к нему и увидела бедного горбуна, скорчившегося в покорной и грустной позе у выступа стены. С трудом преодолевая отвращение, которое он ей внушал, она тихо проговорила:
— Подойдите.
По движению ее губ Квазимодо вообразил, что она гонит его; он поднялся и, хромая, медленно пошел с опущенной головой, не смея даже поднять на молодую девушку свой взгляд, полный отчаяния.
— Подойдите же! — крикнула она.
Но он продолжал удаляться. Тогда она выбежала из своей кельи, догнала его и схватила за руку. Почувствовав ее прикосновение, Квазимодо весь задрожал. Он умоляюще взглянул на нее своим единственным глазом и, видя, что она удерживает его, весь просиял от радости и нежности. Она хотела заставить его войти в свою келью, но он заупрямился и остановился у порога.
— Нет-нет, — проговорил он, — филину не место в гнезде жаворонка.
Тогда она грациозно уселась на своем ложе с уснувшей козочкой в ногах. Оба некоторое время хранили неподвижность и молчание: он — любуясь ее красотой, она — удивляясь его безобразию. Она открывала в Квазимодо все новые и новые уродства. От его кривых колен ее взгляд перебегал к горбатой спине, от горбатой спины — к единственному глазу. Она не могла понять, как существует такое уродливое создание. Но на всем этом уродстве лежал отпечаток такой грусти и нежности, что она мало-помалу стала привыкать к нему.
Горбун первый нарушил молчание:
— Вы приказали мне вернуться?
— Да, — сказала она, утвердительно кивнув головой. Он понял ее кивок.
— Увы! — продолжал он нерешительно. — Ведь я… глухой.
— Бедный! — воскликнула она с выражением доброты и сострадания.
Он скорбно улыбнулся.
— Не находите ли вы, что мне только этого и недоставало? Да, я глухой. Такой уж я есть. Это ужасно, не правда ли? А вы, вы так прекрасны!
В голосе бедняги звучало такое глубокое сознание своего несчастья, что она не нашла в себе силы ответить ему. Да к тому же он и не услышал бы ее. Он продолжал:
— Я никогда так не чувствовал своего уродства, как теперь. Когда я сравниваю себя с вами, мне так жаль себя, несчастного урода! Я кажусь вам зверем, скажите? А вы, вы — солнечный луч, вы — капля росы, вы — песня птички. Я же — нечто ужасное, ни человек, ни зверь; я грубее, безобразнее, презреннее, чем булыжник.
Он засмеялся, и ничто на свете не могло сравниться с этим раздирающим сердце смехом. Потом продолжал:
— Я глухой, но вы можете разговаривать со мной жестами, знаками. У меня есть господин, который всегда так разговаривает со мной. К тому же я скоро научусь угадывать ваше желание по движениям ваших губ, по вашему взгляду.
— Так скажите, — улыбаясь, спросила она, — почему вы спасли меня?
Он внимательно глядел на нее, пока она говорила.
— Я понял, — ответил он. — Вы спрашиваете, зачем я вас спас? Вы позабыли того несчастного, который однажды ночью пытался похитить вас, того несчастного, к которому вы назавтра же пришли на помощь, когда он стоял у гнусного позорного столба. За эту каплю воды, за эту каплю жалости я могу заплатить лишь всей своей жизнью. Вы позабыли этого беднягу, но он помнит вас!
Она слушала его, глубоко растроганная. Слеза блеснула в глазу звонаря, но не скатилась. Очевидно, он считал делом чести сдержать ее.
— Слушайте, — продолжал он, справившись со своим волнением, — у собора высокие башни; человек, упавший с одной из них, умрет раньше, чем коснется мостовой. Когда вам будет угодно, чтобы я спрыгнул вниз, вам не надо будет произнести даже слова, достаточно одного взгляда.
Он встал. Как ни страдала сама цыганка, все же это причудливое существо пробуждало в ней сострадание. Она знаком приказала ему остаться.
— Нет-нет, — ответил он, — мне нельзя здесь долго оставаться. Мне не по себе, когда вы на меня смотрите. Вы только из жалости не закрываете глаз. Я уйду в такое место, откуда мне будет вас видно, но вы не будете видеть меня. Так будет лучше.
Он вынул из кармана маленький металлический свисток.
— Возьмите, — сказал он. — Когда я вам понадоблюсь, когда вы захотите, чтобы я пришел, когда вам не будет слишком противно глядеть на меня, свистните в него. Этот звук я услышу.
Он положил на землю свисток и скрылся.
Глава 4
Глина и хрусталь
Дни сменялись днями.
Спокойствие постепенно возвращалось в душу Эсмеральды. Избыток страдания, как и избыток счастья, вызывает бурные чувства, которые не бывают длительны. Человеческое сердце не в силах долго выдерживать их чрезмерную остроту. Цыганка столько выстрадала, что теперь от всего пережитого в ней осталось изумление.
Вместе с безопасностью к ней возвратилась и надежда. Она была вне общества, вне жизни, но смутно чувствовала, что возврат туда еще не исключен, словно покойница, припасшая ключ от своего склепа.
Она чувствовала, как постепенно отходят вдаль странные, так долго обступавшие ее образы. Все эти омерзительные призраки Пьер́а Тортерю, Жака Шармолю стирались в ее памяти, стиралось все, даже образ священника.
Ведь Феб был жив, она была уверена в этом, она сама видела его.
Жизнь Феба — это было все. После ряда роковых потрясений, все в ней сокрушивших, в душе ее уцелело лишь одно чувство — ее любовь к капитану. Ибо любовь подобна дереву: она растет сама собой, глубоко запуская в нас свои корни, и нередко продолжает зеленеть даже в опустошенном сердце.
И что необъяснимо, слепая страсть — самая упорная. Она всего сильнее, когда она безрассудна.
Правда, Эсмеральда не без горечи вспоминала о капитане. Правда, ее приводило в ужас, что даже он вдался в обман, что он поверил такой невероятной вещи, что и он приписал удар кинжалом той, которая отдала бы за него тысячу жизней. Но все же не следовало винить его слишком строго. Ведь она созналась в своем «преступлении»! Ведь она не устояла перед пыткой! Вся вина лежала на ней. Пусть бы она лучше дала вырвать себе ногти, чем вымучить такое признание. Но только бы ей один раз увидеть Феба, хотя бы на минуту! Достаточно будет слова, взгляда, чтобы разуверить его, чтобы вернуть его. В этом она не сомневалась. Она старалась заглушить в себе воспоминание о многих необъяснимых странностях, о случайном присутствии Феба в тот день, когда она приносила публичное покаяние, о молодой девушке, с которой он стоял рядом, — без сомнения, то была его сестра. Такое толкование было опрометчивым, но она им довольствовалась, ей необходимо было верить, что Феб продолжает любить ее, и только ее. Разве он не поклялся ей в этом? Что могло быть убедительней для простодушного, доверчивого создания? Да и все улики в этом деле были скорее против нее, чем против него! Итак, она ждала. Она надеялась.
Вдобавок самый собор, этот обширный собор, который, укрывая ее со всех сторон, хранил и оберегал ее жизнь, был могучим успокаивающим средством. Величавые линии его архитектуры, религиозный характер всех окружающих молодую девушку предметов, благочестивые и светлые мысли, как бы источавшиеся всеми порами этого камня, благотворно на нее действовали помимо ее воли. Раздававшиеся в храме звуки дышали такой благодатью, были так торжественны, что убаюкивали ее больную душу. Монотонные возгласы священнослужителей, ответы молящихся священнику — то еле слышные, то громовые, гармоничная вибрация стекол, раскаты органа, звучавшего, как тысяча труб, три колокольни, жужжавшие, как переполненные огромными пчелами ульи, — весь этот оркестр, над которым непрерывно проносилась взлетавшая от толпы к колокольне и от колокольни нисходившая к толпе необъятная гамма звуков, усыплял ее память, ее воображение, ее скорбь. Особенно сильно действовали на нее колокола. Словно какой-то могучий магнетизм широкими волнами проливался на нее из этих огромных воронок.
И с каждой утренней зарей она становилась все спокойнее, дышала все свободнее, казалась менее бледной. По мере того как зарубцовывались ее душевные раны, лицо ее вновь расцветало прелестью и красотой, но более строгой, более спокойной, чем раньше. К ней возвращались и прежние особенности ее характера, даже кое-что от ее прежней веселости: ее прелестная гримаска, ее любовь к козочке, ее потребность петь, ее стыдливость. По утрам она старалась одеваться в каком-нибудь укромном уголке своей келейки из опасения, чтобы ее не увидел через оконце кто-либо из обитателей соседних чердаков.
В те минуты, когда она не мечтала о Фебе, она порой думала о Квазимодо. Он был единственным звеном, единственной оставшейся у нее связью, единственным средством общения с людьми, со всем живым. Бедняжка! Она еще более, чем Квазимодо, была отчуждена от мира. Она не понимала странного друга, которого подарила ей судьба. Часто она упрекала себя в том, что не испытывает к нему той благодарности, которая заставила бы ее взглянуть на него другими глазами, но она решительно не могла привыкнуть к бедному звонарю. Он был слишком уродлив.
Она так и не подняла с пола свисток, который он ей дал. Это не помешало Квазимодо время от времени ее посещать. Она прилагала все усилия, чтобы не слишком проявлять свое отвращение, когда он приносил ей корзинку со снедью или кружку воды, но он всегда замечал, чего ей это стоит, и грустно уходил.
Однажды он пришел в ту минуту, когда она ласкала Джали. Он некоторое время задумчиво глядел на эту очаровательную группу. Наконец, покачав своей тяжелой нескладной головой, сказал:
— Все мое несчастье в том, что я еще слишком похож на человека. Мне бы хотелось просто быть животным, вот как эта козочка.
Она удивленно взглянула на него. На этот взгляд он ответил:
— О, я-то знаю почему, — и ушел.
В другой раз он появился на пороге ее комнаты (внутрь он не входил никогда) в ту минуту, когда Эсмеральда пела старинную испанскую балладу, слов которой она не понимала, но запечатлевшуюся у нее в памяти, потому что цыганки убаюкивали ее этой песней, когда она была малюткой. При виде страшной фигуры, так неожиданно представшей перед нею во время пения, молодая девушка остановилась, невольно сделав испуганное движение. Несчастный звонарь упал на колени у порога и умоляюще сложил свои огромные грубые руки.
— О, умоляю вас, — жалобно проговорил он, — продолжайте, не гоните меня!
Боясь его огорчить, еще вся дрожа, она продолжала свою песню. Понемногу испуг ее прошел, и она вся отдалась той печальной и протяжной мелодии, которую пела. А он остался на коленях со сложенными, как для молитвы, руками, внимательно вслушиваясь, еле дыша, не отрывая взгляда от блестящих глаз Эсмеральды. Казалось, он в них улавливал ее песню.
И еще раз он подошел к ней, смущенный и робкий.
— Послушайте-ка, — с усилием проговорил он, — мне надо вам кое-что сказать.
Она сделала знак, что слушает его. Он вздохнул, полуоткрыл губы, приготовился говорить и, закрыв лицо руками, медленно удалился, оставив цыганку в крайнем изумлении.
Между причудливыми фигурами, высеченными на стене собора, была одна, к которой он питал особенное расположение и с которой нередко обменивался братским взглядом. Однажды цыганка слышала, как он говорил ей: «О, почему я не каменный, как ты?»
Как-то поутру Эсмеральда, приблизившись к краю кровли, глядела на площадь поверх остроконечной крыши Сен-Жан-ле-Рон. Квазимодо стоял позади нее. Он по собственному побуждению всегда становился так, чтобы избавить, насколько возможно, молодую девушку от необходимости видеть его. Вдруг цыганка вздрогнула, ее глаза одновременно затуманились восторгом и слезами, она опустилась на колени у самого края крыши и, с тоской простирая руки к площади, воскликнула:
— Феб! Феб! Приди! Приди! Одно слово, одно только слово, во имя Неба! Феб! Феб!
Ее голос, ее лицо, ее умоляющий жест, весь ее облик выражали мучительную тревогу человека, потерпевшего крушение, который взывает о помощи к плывущему вдали, на солнечном горизонте, лучезарному кораблю.
Квазимодо, наклонившись, взглянул на площадь и увидел, что предметом этой нежной и страстной мольбы был молодой человек, капитан, блестящий кавалер в ослепительном мундире и доспехах, который, гарцуя, проезжал в глубине площади, приветствуя своей украшенной султаном шляпой красивую даму, улыбавшуюся ему с балкона. Но офицер не слышал призыва несчастной: он был слишком далеко.
Зато бедный глухой слышал. Тяжелый вздох вырвался из его груди. Он отвернулся. Сдерживаемые рыдания душили его; судорожно сжатые кулаки его вскинулись над головой, а когда он опустил руки, то в каждой горсти было по клоку рыжих волос.
Цыганка не обращала на него никакого внимания. Заскрежетав зубами, он прошептал:
— Проклятье! Так вот каким надо быть! Красивым снаружи!
А она, стоя на коленях, продолжала в неописуемом возбуждении:
— О, вот он соскочил с лошади! Он сейчас войдет в дом! Феб! Он меня не слышит! Феб! О, какая злая женщина, она нарочно разговаривает с ним, чтобы он меня не слышал! Феб! Феб.
Глухой смотрел на нее. Эта пантомима была ему понятна. Глаз злосчастного звонаря налился слезами, но ни одна из них не скатилась. Он осторожно потянул Эсмеральду за рукав. Она обернулась. Его лицо уже было спокойно. Он сказал ей:
— Хотите, я схожу за ним? Она радостно воскликнула:
— О, иди! Спеши! Беги! Скорее! Капитана! Капитана! Приведи его ко мне! Я буду любить тебя!
Она обнимала его колени. Он горестно покачал головой.
— Я сейчас приведу его, — сказал он слабым голосом и, отвернувшись, стал быстро спускаться по лестнице, задыхаясь от рыданий.
Когда он прибежал на площадь, он увидел лишь великолепную лошадь капитана, привязанную к дверям дома Гонделорье. Сам капитан уже вошел в дом.
Он поднял глаза на крышу собора. Эсмеральда стояла все на том же месте, в той же позе. Он печально кивнул ей головой, затем прислонился к одной из тумб у крыльца дома Гонделорье, решив дождаться выхода капитана.
В доме Гонделорье справляли одно из тех празднеств, которое предшествует свадьбе. Квазимодо видел, как туда прошло множество людей, но не заметил, чтобы кто-нибудь выходил оттуда. По временам он глядел в сторону собора. Цыганка стояла неподвижно, как и он. Конюх отвязал лошадь и увел ее в конюшню.
Так провели они весь день: Квазимодо — около тумбы, Эсмеральда — на крыше собора, Феб, по всей вероятности, — у ног Флёр-де-Лис.
Наконец наступила ночь, безлунная, темная ночь. Тщетно Квазимодо пытался разглядеть Эсмеральду. Вскоре она уже казалась лишь белеющим в сумерках пятном, но и оно исчезло. Все стушевалось, все было окутано мраком.
Квазимодо видел, как зажглись окна по всему фасаду дома Гонделорье. Он видел, как одно за другим засветились окна и в других домах на площади; видел и то, как они погасли все до одного, ибо весь вечер простоял он на своем посту. Офицер все еще не выходил. Когда последний прохожий возвратился домой, когда окна всех других домов погасли, Квазимодо остался совсем один, в полном мраке: в те времена паперть собора Богоматери еще не освещалась.
А между тем окна дома Гонделорье оставались освещенными далеко за полночь. Неподвижный и внимательный, Квазимодо видел толпу движущихся и танцующих теней, мелькавших на тысячецветных оконных стеклах. Если бы он не был глухим, то он, по мере того как утихал шум засыпающего Парижа, все отчетливей слышал бы шум празднества, смех и музыку в доме Гонделорье.
Около часу пополуночи приглашенные стали разъезжаться. Квазимодо, скрытый тьмой, видел их всех, когда они выходили из освещенного факелами подъезда. Но капитана среди них не было. Грустные мысли обуревали Квазимодо. Иногда он, словно соскучившись, глядел ввысь. Громадные черные облака тяжелыми разорванными, дырявыми полотнищами, словно гамаки из траурного крепа, висели под звездным куполом ночи. Они казались паутиной, вытканной на небесном своде.
Вдруг он увидел, как осторожно распахнулась стеклянная дверь балкона, каменная балюстрада которого выдавалась над его головой. Хрупкая стеклянная дверь пропустила две фигуры и бесшумно закрылась. Это были мужчина и женщина. Квазимодо с трудом узнал в мужчине красавца офицера, а в женщине — молодую даму, которая утром с этого самого балкона приветствовала капитана. На площади было совсем темно, а двойная красная портьера, сомкнувшаяся за ними, едва только дверь захлопнулась, не пропускала на балкон ни единого луча света.
Молодой человек и молодая девушка, насколько мог понять глухой, не слышавший их слов, были поглощены весьма нежным разговором. Молодая девушка, по-видимому, позволила офицеру обвить рукой ее стан, но мягко противилась поцелую.
Квазимодо снизу мог наблюдать эту сцену, тем более очаровательную, что она не предназначалась для посторонних глаз. Он с горечью наблюдал это счастье, эту красоту. Несмотря ни на что, голос природы жил в бедняге, и его позвоночник, хотя и жестоко искривленный, был не менее чувствителен, чем у всякого другого. Он размышлял о той горькой участи, которую уготовило ему провидение; он думал о том, что женщина, любовь, страсть будут всегда представляться его глазам, а сам он обречен навеки быть лишь свидетелем чужого счастья. Но что всего сильнее его терзало, что примешивало к боли еще и возмущение, это мысль о том, как страдала бы цыганка, увидев эту сцену. Правда, ночь была темная, и Эсмеральда, если она все еще не покинула своего места (а он в этом не сомневался), была слишком далеко, чтобы разглядеть на балконе влюбленных; он сам едва мог различить их. Это утешало его.
Между тем их беседа становилась все оживленней. Дама, казалось, умоляла офицера не требовать от нее большего. Квазимодо видел лишь молитвенно сложенные руки, улыбку сквозь слезы, поднятые к звездам глаза молодой девушки и страстный, устремленный на нее взгляд офицера.
К счастью, ибо сопротивление молодой девушки ослабевало, балконная дверь внезапно распахнулась, и на пороге показалась пожилая дама. Красавица, видимо, была смущена, офицер раздосадован, и все трое вернулись в комнату.
Минуту спустя около крыльца зафыркала лошадь, и блестящий офицер, закутанный в плащ, быстро проскакал мимо Квазимодо.
Звонарь дал ему повернуть за угол, затем с обезьяньим проворством побежал за ним, крича:
— Эй, капитан! Капитан остановился.
— Что тебе от меня надо, бездельник? — спросил он, различив в темноте странную фигуру, бежавшую к нему, прихрамывая и раскачиваясь из стороны в сторону.
Квазимодо догнал офицера и смело взял под уздцы его лощадь.
— Следуйте за мной, капитан; тут неподалеку есть кто-то, кто желает с вами поговорить.
— Клянусь Магометом, — проговорил Феб, — я где-то видел эту взъерошенную зловещую птицу! А ну-ка отпусти повод!
— Капитан, — продолжал глухой, — вы не желаете знать, кто вас хочет видеть?
— Говорят тебе, отпусти повод! — повторил нетерпеливо капитан. — Ты чего повис на морде моего скакуна? Думаешь, это виселица, что ли?
Но Квазимодо, не собираясь отпускать повод, пытался повернуть лошадь обратно. Не понимая, чем объяснить сопротивление капитана, он поспешно сказал:
— Идемте, капитан, вас ждет женщина. — И с усилием добавил: — Женщина, которая вас любит.
— Вот шут гороховый! — воскликнул капитан. — Он воображает, что я должен бегать ко всем женщинам, которые любят меня или говорят, что любят! А вдруг эта женщина похожа на тебя, совиная ты рожа? Скажи той, кто тебя послал, что я женюсь и чтобы она убиралась к черту!
— Послушайте, — воскликнул Квазимодо, уверенный, что этим словом он победит всякое сомнение капитана, — идемте, господин! Ведь вас зовет цыганка, которую вы знаете!
Это слово действительно произвело сильное впечатление на Феба, но отнюдь не то, которого ожидал глухой. Вспомним, что наш галантный офицер удалился вместе с Флёр-де-Лис за несколько минут до того, как Квазимодо вырвал приговоренную из рук Шармолю. С тех пор он при всех посещениях дома Гонделорье тщательно остерегался заговаривать об этой женщине, воспоминание о которой все же тяготило его; а Флёр-де-Лис, со своей стороны, считала недипломатичным сообщать ему, что цыганка жива. И Феб был уверен, что несчастная Симиляр мертва и что со дня ее смерти уже прошел месяц, а может быть, и два. Добавим, что капитан подумал в эту минуту о глубоком ночном мраке, о сверхъестественном уродстве и замогильном голосе необыкновенного посланца, о том, что было уже далеко за полночь, что улица была столь же пустынна, как и в тот вечер, когда с ним заговорил монах-привидение. Да и конь его храпел, косясь на Квазимодо.
— Цыганка! — воскликнул он в испуге. — Значит, ты послан с того света?
И он схватился за эфес шпаги.
— Скорее, скорее! — говорил глухой, стараясь увлечь его коня за собой. — Вот сюда!
Феб ударил его сапогом в грудь. Глаз Квазимодо засверкал. Он сделал движение, чтобы броситься на капитана. Затем, сдержав себя, сказал:
— О, счастье ваше, что кто-то вас любит!
Он сделал ударение на слове «кто-то». Отпустив уздечку, он крикнул:
— Ступайте прочь!
Феб, ругаясь, пришпорил коня. Квазимодо глядел ему вслед, пока тот не пропал в ночном тумане.
О, прошептал бедный глухой, — отказаться от этого!
Он возвратился в собор, зажег свою лампу и поднялся на башню. Как он и предполагал, цыганка оставалась все на том же месте.
Завидев его издали, она побежала ему навстречу.
— Один! — воскликнула она, горестно всплеснув руками.
— Я не мог его найти, — холодно сказал Квазимодо.
— Надо было ждать всю ночь! — с запальчивостью возразила она.
Он видел ее гневный жест и понял упрек.
— Я постараюсь не пропустить его в другой раз, — проговорил он, понурив голову.
— Уйди! — сказала она.
Он оставил ее. Она была им недовольна. Но он предпочел вынести ее дурное обращение, нежели огорчить ее. Всю скорбь он оставил на свою долю.
С этого дня цыганка его более не видела. Он перестал приходить к ее келье. Лишь изредка замечала она на вершине одной из башен печально глядевшего на нее звонаря. Но едва он ловил на себе ее взгляд, как тут же исчезал.
Мы должны сказать, что ее мало огорчало это добровольное отсутствие бедного горбуна. В глубине души она даже была ему благодарна. Впрочем, Квазимодо и не заблуждался на этот счет.
Она его больше не видела, но чувствовала близ себя присутствие доброго гения. Невидимая рука во время ее сна доставляла ей свежую пищу. Однажды утром она нашла на своем окне клетку с птицами. Над ее кельей находилось изваяние, которое пугало ее. Она не раз выражала свой страх перед ним в присутствии Квазимодо. Как-то утром (ибо все это делалось по ночам) этого изображения не оказалось. Его кто-то разбил. Тот, кто вскарабкался к нему, должен был рисковать жизнью. Иногда по вечерам до нее доносился из-под навеса колокольни голос, напевавший, словно убаюкивая ее, странную и печальную песню. То были стихи без рифм, какие только и мог сложить глухой.
Не гляди на лицо, девушка, А заглядывай в сердце. Сердце прекрасного юноши часто бывает уродливо. Есть сердца, где любовь не живет. Девушка, сосна не красива, Не так хороша, как тополь, Но сосна и зимой зеленеет. Увы! Зачем тебе петь про это? То, что уродливо, пусть погибает; Красота к красоте лишь влечется, И апрель не глядит на январь. Красота совершенна, Красота всемогуща, Полной жизнью живет одна красота. Ворон только днем летает, Совы лишь летают ночью, Лебедь день и ночь летает.Однажды утром, проснувшись, она нашла у себя на окне два сосуда, наполненные цветами. Один из них — красивая хрустальная ваза, но с трещиной. Налитая в вазу вода вытекла, и цветы увяли. Другой же — глиняный, грубый горшок, но полный воды, и цветы в нем были свежи и ярки.
Не знаю, было ли то намеренно, но Эсмеральда взяла увядший букет и весь день носила его на груди.
В этот день голос на башне не пел.
Это весьма мало обеспокоило ее. Она проводила свои дни в том, что ласкала Джали, следила за подъездом дома Гонделорье, тихонько разговаривала сама с собой о Фебе и крошила ласточкам хлеб.
Она совершенно перестала видеть и слышать Квазимодо. Казалось, бедняга звонарь исчез из собора. Но однажды ночью, когда она не спала и мечтала о своем красавце капитане, она услышала чей-то вздох около своей кельи. Испугавшись, она встала и при свете луны увидела бесформенную массу, лежавшую поперек ее двери. То был Квазимодо, спавший на голом камне.
Глава 5
Ключ от Красных врат
Между тем молва о чудесном спасении цыганки дошла до архидьякона. Узнав об этом, он сам не мог понять своих чувств. Он примирился со смертью Эсмеральды и был спокоен, ибо дошел до предельной глубины страдания. Человеческое сердце (отец Клод размышлял об этом) может вместить лишь определенную меру отчаяния. Когда губка насыщена, пусть море спокойно катит над ней свои волны — она не впитает больше ни капли.
Если Эсмеральда мертва — губка насыщена: в этом мире все было кончено для отца Клода. Но знать, что она жива, что жив Феб, это значило снова отдаться пыткам, потрясениям, сомнениям — жизни. А Клод устал от пыток.
Когда он услышал эту новость, он заперся в своей монастырской келье. Он не показывался ни на собраниях капитула, ни на богослужениях. Он запер свою дверь для всех, даже для епископа. В таком заточении провел он несколько недель. Предполагали, что он болен. И это была правда.
Но что же делал он взаперти? С какими мыслями боролся этот злосчастный? Вступил ли он в последний бой со своей пагубной страстью? Замышлял ли последний план смерти для нее и гибели для себя?
Его Жеан, его любимый брат, его балованное дитя, однажды пришел к дверям его кельи, стучал, заклинал, умолял, десятки раз называл себя. Клод не впустил его.
Целые дни проводил он, прижавшись лицом к оконному стеклу. Из этого монастырского окна ему видна была келья Эсмеральды; он часто видел ее с козочкой, а иногда с Квазимодо. Он замечал знаки внимания, оказываемые ей жалким глухим, его повиновение, его нежность и покорность цыганке. Он вспомнил — ибо он обладал прекрасной памятью, а память — это палач ревнивцев, — как странно звонарь однажды вечером глядел на плясунью. Он вопрошал себя, что могло побудить Квазимодо спасти ее. Он был свидетелем тысячи коротких сцен между цыганкой и глухим, и издали их движения, истолкованные его страстью, казались ему весьма нежными. Он не доверял причудливому характеру женщин. И тогда он смутно почувствовал, как в его сердце закралась ревность, на которую он никогда не считал себя способным, ревность, заставлявшая его краснеть от стыда и унижения. «Пусть бы еще капитан, но он!..» Мысль эта потрясла его.
Ночи его были ужасны. С тех пор как он узнал, что цыганка жива, леденящие мысли о призраке и могиле, которые обступали его в первый день, исчезли, и его снова стала жечь плотская страсть. Он корчился на своем ложе, чувствуя так близко от себя молодую смуглянку.
Еженощно его неистовое воображение рисовало ему Эсмеральду в позах, заставлявших кипеть его кровь. Он видел ее распростертой на коленях раненого капитана, с закрытыми глазами, с обнаженной прелестной грудью, залитой кровью Феба, в тот блаженный миг, когда он запечатлел на ее бледных губах поцелуй, пламя которого несчастная полумертвая девушка все же ощутила. И вот снова она, полураздетая, в жестоких руках заплечных мастеров, которые обнажают и заключают в «испанский сапог» с железным винтом ее маленькую округлую ножку, ее гибкое белое колено. Он видел это словно выточенное из слоновой кости колено, выглядывавшее из страшного орудия Тортерю. Наконец, вот она в рубахе, с веревкой на шее, с обнаженными плечами, босыми ногами, почти нагая, какою он видел ее в последний день. Эти сладострастные образы заставляли судорожно сжиматься его кулаки, и дрожь пробегала у него по спине.
В одну из ночей эти образы так жестоко распалили кровь девственника священника, что он впился зубами в подушку, затем, вскочив с постели и накинув подрясник поверх сорочки, выбежал из кельи со светильником в руке, полураздетый, безумный, с горящим взором.
Он знал, где найти ключ от Красных врат, соединявших монастырь с собором, а ключ от башенной лестницы, как известно, всегда был при нем.
Глава 6
Продолжение рассказа о ключе от Красных врат
В эту ночь Эсмеральда уснула в своей келье, забыв о прошлом, полная надежд и сладостных мыслей. Она спала уже несколько времени, грезя, как всегда, о Фебе, как вдруг ей послышался какой-то шум. Сон ее был чуток и беспокоен, как у птицы. Ее будил малейший шорох. Она открыла глаза. Ночь была очень темная. Однако она увидела, что кто-то смотрит на нее в слуховое оконце. Лампада освещала это видение. Как только призрак заметил, что Эсмеральда смотрит на него, он задул светильник. Но молодая девушка успела разглядеть его. Ее веки сомкнулись от ужаса.
— О! — упавшим голосом сказала она. — Священник!
Точно при вспышке молнии, вновь встало перед ней минувшее несчастие, и она, похолодев, упала на постель.
Минуту спустя она ощутила прикосновение к своему телу, заставившее ее содрогнуться. Совсем очнувшись, она привстала, разъяренная.
Священник скользнул к ней в постель и сжал ее в объятиях.
Она хотела крикнуть, но не могла.
— Уйди прочь, чудовище! Уйди, убийца! — говорила она дрожащим и низким от гнева и ужаса голосом.
— Сжалься, сжалься! — шептал священник, целуя ее плечи.
Она обеими руками схватила его плешивую голову за остатки волос и старалась отдалить от себя его поцелуи, словно то были ядовитые укусы.
— Сжалься! — повторял несчастный. — Если бы ты знала, что такое моя любовь к тебе! Это пламя, расплавленный свинец, тысяча ножей в сердце!
И он с нечеловеческой силой стиснул ее руки.
— Пусти меня, — вне себя крикнула она, — или я плюну тебе в лицо!
Он выпустил ее.
— Унижай меня, бей меня, будь жестока! Делай что хочешь! Но сжалься! Люби меня!
Тогда она с детской яростью стала бить его. Она напрягала всю силу прекрасных своих рук, чтобы размозжить ему лицо.
— Уйди, демон!
— Люби меня! Люби меня! Сжалься! — кричал несчастный, припадая к ней и отвечая ласками на удары.
Внезапно она почувствовала, что он сильнее ее.
— Пора с этим покончить! — сказал он, скрипнув зубами.
Побежденная, дрожащая, разбитая, она лежала в его объятиях, в его власти. Она чувствовала, как по телу ее похотливо блуждали его руки. Она сделала последнее усилие и принялась кричать:
— На помощь! Ко мне! Вампир! Вампир!
Никто не являлся. Одна лишь Джали проснулась и жалобно блеяла.
— Молчи! — задыхаясь, шептал священник.
Вдруг рука ее, отбиваясь от него и коснувшись пола, натолкнулась на что-то холодное, металлическое. То был свисток Квазимодо. С проблеском надежды схватила она его, поднесла к губам и из последних сил дунула. Свисток издал чистый, резкий, пронзительный звук.
— Что это? — спросил священник.
И почти в ту же минуту он почувствовал, как его приподняла с пола могучая рука. В келье было темно, он не мог ясно разглядеть того, кто схватил его, но слышал бешеный скрежет зубов и увидел тускло блеснувшее над своей головой широкое лезвие тесака.
Священнику показалось, что это был Квазимодо. По его предположению, это мог быть только он. Он припомнил, что, входя сюда, он споткнулся о какую-то массу, растянувшуюся поперек двери. Но так как новоприбывший не произносил ни слова, Клод не знал, что и думать. Он схватил руку, державшую тесак, и крикнул: «Квазимодо!» В это страшное мгновение он забыл, что Квазимодо глух.
В мгновение ока священник был повергнут наземь и почувствовал на своей груди тяжелое колено. По этому угловатому колену он узнал Квазимодо. Но как быть, что сделать, чтобы Квазимодо узнал его? Ночь превращала глухого в слепца.
Он погибал. Молодая девушка, безжалостная, как раздраженная тигрица, не пыталась спасти его. Нож навис над его головой; то была опасная минута. Внезапно его противник заколебался.
— Кровь не должна брызнуть на нее, — пробормотал он глухо.
Действительно, это был голос Квазимодо.
И тут священник почувствовал, как сильная рука тащит его за ногу из кельи. Так вот где было ему суждено умереть! К счастью для него, несколько мгновений тому назад взошла луна.
Когда они очутились за порогом кельи, бледный луч месяца осветил лицо священника. Квазимодо взглянул на него, задрожал и, выпустив его, отшатнулся.
Цыганка, вышедшая на порог своей кельи, с изумлением увидела, что роли изменились. Теперь угрожал священник, а Квазимодо умолял.
Священник, выражавший жестами гнев и упрек, резко приказал ему удалиться.
Глухой поник головой, затем опустился на колени у порога кельи.
— Господин, — сказал он покорно и серьезно, — потом вы можете делать что вам угодно, но прежде убейте меня.
С этими словами он протянул священнику свой тесак. Обезумевший священник хотел было схватить его, но молодая девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и зло расхохоталась.
— Подойди только! — сказала она священнику.
Она занесла нож. Священник стоял в нерешительности. Он не сомневался, что она ударит его.
— Ты не осмелишься, трус! — крикнула она. И затем, зная, что это пронзит тысячью раскаленных игл его сердце, безжалостно добавила: — Я знаю, что Феб не умер!
Священник отшвырнул ногой Квазимодо и, дрожа от бешенства, скрылся под лестничным сводом.
Когда он ушел, Квазимодо поднял спасший цыганку свисток.
— Он чуть было не заржавел, — проговорил он, возвращая его цыганке, и удалился, оставив ее одну.
Молодая девушка, потрясенная этой бурной сценой, в изнеможении упала на постель и разразилась рыданиями. Горизонт ее вновь заволокло зловещими тучами.
Священник ощупью вернулся в свою келью.
Свершилось. Клод ревновал к Квазимодо.
И он задумчиво повторил роковые слова: «Она не достанется никому».
Книга X
Глава 1
На улице Бернардинцев у Гренгуара одна за другой рождается несколько блестящих идей
С той самой минуты, как Гренгуар понял, какой оборот приняло все дело, и убедился, что для главных действующих лиц этой драмы оно, несомненно, пахнет веревкой, виселицей и прочими неприятностями, он решил ни во что не вмешиваться. Бродяги же, среди которых он остался, рассудив, что в конечном счете это самое приятное общество в Париже, продолжали интересоваться судьбой цыганки. Поэт находил это вполне естественным со стороны людей, у которых, как и у нее, не было впереди ничего, кроме Шармолю либо Тортерю, и которые не уносились, подобно ему, в заоблачные выси на крыльях Пегаса. Из их разговоров он узнал, что его супруга, обвенчанная с ним по обряду разбитой кружки, нашла убежище в соборе Парижской Богоматери, и был этому весьма рад. Но он даже и не помышлял ее там проведать. Порой он вспоминал о маленькой козочке, но этим все и ограничивалось. Днем он давал акробатические представления, чтобы прокормить себя, а по ночам корпел над запиской, направленной против парижского епископа, ибо не забыл, как колеса епископских мельниц когда-то окатили его водой, и хранил на него за это в своей душе обиду. Одновременно он составлял комментарий к великолепному произведению Бодри-ле-Ружа, епископа Нойонского и Турнейского, «De cupa petrarum»[316] что породило в нем сильнейшее влечение к архитектуре. Эта склонность вытеснила в его сердце страсть к герметике, естественным завершением которой и являлось зодчество, ибо между герметикой и зодчеством есть внутренняя связь. Гренгуар, ранее любивший идею, ныне любил внешнюю форму этой идеи.
Однажды он остановился около церкви Сен-Жермен-л´Оксеруа, у самого угла здания, которое называлось Епископской тюрьмой и стояло напротив другого, которое именовалось Королевской тюрьмой. В Епископской тюрьме была очаровательная часовня XIV столетия, заалтарная часть которой выходила на улицу. Гренгуар благоговейно рассматривал наружную скульптуру этой часовни. Он находился в состоянии того эгоистического, всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник во всем мире видит лишь одно искусство и весь мир — в искусстве. Вдруг он почувствовал, как чья-то рука тяжело легла ему на плечо. Он обернулся. То был его бывший друг, его бывший учитель — господин архидьякон.
Он замер от изумления. Он уже давно не видел архидьякона, а отец Клод был одной из тех значительных и страстных натур, встреча с которыми всегда нарушает душевное равновесие философа-скептика.
Архидьякон в продолжение нескольких минут молчал, и Гренгуар мог не спеша разглядеть его. Он нашел отца Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро, с глубоко запавшими глазами и почти седыми волосами. Первым нарушил молчание священник, сказав спокойным, но ледяным тоном:
— Как ваше здоровье, мэтр Пьер?
— Мое здоровье? — ответил Гренгуар. — Э! Да ни то ни се, а впрочем, недурно! Я знаю меру всему. Помните, учитель? По словам Гиппократа, секрет вечного здоровья id est: cibi, potus, somni, venus, omnia moderata sint[317].
— Значит, вас ничто не тревожит, мэтр Пьер? — снова заговорил священник, пристально глядя на Гренгуара.
— Ей-богу, нет!
— А что вы теперь делаете?
— Вы это видите, учитель. Рассматриваю, как вытесаны эти каменные плиты и как вырезан барельеф.
Священник улыбнулся горькой, кривой улыбкой.
— И это вас забавляет?
— Это рай! — воскликнул Гренгуар. И, наклонившись над изваяниями с восторженным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал: — Разве вы не находите, что изображение на этом барельефе выполнено с необычайным мастерством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонку. Где вы найдете листья капители, над которыми тоньше и любовнее поработал бы резец? Вот три выпуклых медальона Жана Майльвена. Это еще не лучшее произведение его великого гения. Тем не менее наивность, нежность лиц, изящество поз и драпировок и то необъяснимое очарование, которым проникнуты самые его недостатки, придают этим фигуркам, быть может, даже излишнюю живость и изысканность. Вы не находите, что это очень занимательно?
— Конечно! — ответил священник.
— А если бы вы побывали внутри часовни! — продолжал поэт со свойственным ему болтливым воодушевлением. — Всюду изваяния! Их так много, точно капустных листьев в кочане! А от хоров веет таким благочестием и своеобразием, что я никогда нигде ничего подобного не видал!
Клод прервал его:
— Значит, вы счастливы?
И Гренгуар ответил с жаром:
— Клянусь честью, да! Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни. Они столь же забавны, как женщины и животные, но менее вероломны.
Священник приложил руку ко лбу. Это был его привычный жест.
— Разве?
— Еще бы! — сказал Гренгуар. — Это дает наслаждение!
Взяв священника за руку, чему тот не противился, он повел его в лестничную башенку Епископской тюрьмы.
— Ну, вот вам лестница! Каждый раз, когда я вижу ее, я счастлив. Это одна из самых простых и редкостных лестниц Парижа. Все ее ступеньки скошены снизу. Ее красота и простота заключены именно в плитах этих ступенек, имеющих около фута в ширину, вплетенных, вбитых, вогнанных, вправленных, втесанных одна в другую и как бы впившихся друг в друга поистине крепкой и изящной хваткой.
— И вы ничего не желаете?
— Нет.
— И ни о чем не сожалеете?
— Ни сожалений, ни желаний. Я устроил свою жизнь.
— То, что устраивают люди, — сказал Клод, — расстраивают обстоятельства.
— Я философ школы Пиррона, — ответил Гренгуар, — и во всем стараюсь соблюдать равновесие.
— А как вы зарабатываете на жизнь?
— Время от времени я еще сочиняю эпопеи и трагедии, но всего прибыльнее мое ремесло, которое вам известно, учитель, — я ношу в зубах пирамиды из стульев.
— Грубое ремесло для философа.
— В нем опять-таки все построено на равновесии, — ответил Гренгуар. — Когда человеком владеет одна мысль, он находит ее во всем.
— Мне это знакомо, — ответил архидьякон. Помолчав немного, священник продолжал:
— Тем не менее у вас довольно жалкий вид.
— Жалкий — да, но не несчастный!
В эту минуту послышался звонкий цокот копыт о мостовую. Собеседники увидели в конце улицы королевских стрелков с офицером во главе, проскакавших с поднятыми вверх пиками.
— Что вы так пристально глядите на этого офицера? — спросил Гренгуар архидьякона.
— Мне кажется, я его знаю.
— А как его зовут?
— Мне думается, — ответил Клод, — его зовут Феб де Шатопер.
— Феб! Редкое имя! Есть еще другой Феб, граф де Фуа. Я знавал одну девушку, которая клялась всегда именем Феба.
— Пойдемте, — сказал священник. — Мне надо вам кое-что сказать.
Со временем появления отряда в священнике, под его маской ледяного спокойствия, стало чувствоваться какое-то возбуждение.
Он двинулся вперед. Гренгуар последовал за ним по привычке повиноваться ему, как, впрочем, и все те, кто приходил в соприкосновение с этим властным человеком. Они молча дошли до улицы Бернардинцев, довольно безлюдной. Тут отец Клод остановился.
— Что вы хотели мне сказать, учитель? — спросил Гренгуар.
— Не находите ли вы, — с видом глубокого раздумья заговорил архидьякон, — что одежда всадников, которых мы только что видели, гораздо красивее и вашей и моей?
Гренгуар отрицательно покачал головой.
— Ей-богу, я предпочитаю мой желто-красный кафтан этой чешуе из железа и стали! Нечего сказать, удовольствие — производить на ходу такой шум, словно скобяные ряды во время землетрясения.
— И вы, Гренгуар, никогда не завидовали этим красивым молодцам в военных доспехах?
— Завидовать! Но чему же, господин архидьякон? Их силе, их вооружению, их дисциплине? Философия и независимость в рубище стоят большего. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва!
— Странно, — промолвил задумчиво священник. — А все же нарядный мундир — очень красивая вещь.
Гренгуар, видя, что архидьякон задумался, покинул его, чтобы полюбоваться порталом одного из соседних домов. Он возвратился и, всплеснув руками, сказал:
— Ежели бы вы не были так поглощены красивыми мундирами военных, господин архидьякон, то я попросил бы вас пойти взглянуть на эту дверь. Я всегда утверждал, что входная дверь дома сьёра Обри самая великолепная на свете.
— Пьер Гренгуар, куда вы девали маленькую цыганскую плясунью? — спросил архидьякон.
— Эсмеральду! Как вы круто меняете тему беседы!
— Кажется, она была вашей женой?
— Да, нас повенчали разбитой кружкой на четыре года. Кстати, — добавил Гренгуар, не без лукавства глядя на архидьякона, — вы все еще помните о ней?
— А вы о ней больше не думаете?
— Изредка. У меня так много дел!.. Боже мой, как хороша была маленькая козочка!
— Кажется, цыганка спасла вам жизнь?
— Да, черт возьми, это правда!
— Что же с ней сталось? Что вы с ней сделали?
— Право, не знаю. Кажется, ее повесили.
— Вы думаете?
— Я в этом уверен. Когда я увидел, что дело пахнет виселицей, я вышел из игры.
— И это все, что вы знаете?
— Постойте! Мне говорили, что она укрылась в соборе Парижской Богоматери и что там она в безопасности. Я очень этому рад, но до сих пор не могу узнать, спаслась ли с ней козочка. Вот все, что я знаю.
— Я сообщу вам больше! — воскликнул Клод, и его голос, до сей поры тихий, медленный, почти глухой, вдруг сделался громовым. — Она действительно нашла убежище в соборе Богоматери, но через три дня правосудие заберет ее оттуда, и она будет повешена на Гревской площади. Есть уже постановление судебной палаты.
— Как это досадно! — сказал Гренгуар.
В мгновение ока к священнику вернулось его холодное спокойствие.
— А какому дьяволу, — заговорил поэт, — вздумалось добиваться ее вторичного ареста? Разве нельзя было оставить в покое суд? Кому какой ущерб от того, что несчастная девушка приютилась под арками собора Богоматери, рядом с гнездами ласточек?
— Есть на свете такие демоны, — ответил архидьякон.
— Это чертовски неприятно, — заметил Гренгуар. Архидьякон, помолчав, продолжал:
— Итак, она спасла вам жизнь?
— Да, у моих друзей-бродяг. Еще немножко — и меня бы повесили. Теперь они жалели бы об этом.
— Вы ничего не хотите сделать для нее?
— Очень охотно, отец Клод. Ну а вдруг я впутаюсь в скверную историю?
— Что за важность!
— Как что за важность! Хорошо вам так рассуждать, учитель, а у меня начаты два больших сочинения.
Священник ударил себя по лбу. Несмотря на его напускное спокойствие, время от времени резкий жест выдавал его внутреннее волнение.
— Как ее спасти? Гренгуар ответил:
— Учитель, я скажу вам: «Il padelt», что по-турецки означает: «Бог — наша надежда».
— Как спасти ее? — повторил задумчиво Клод. Гренгуар в свою очередь хлопнул себя по лбу:
— Послушайте, учитель! Я одарен воображением. Я найду выход… Что, если попросить короля о помиловании?
— Людовика-то Одиннадцатого? О помиловании?
— А почему бы и нет?
— Поди отними кость у тигра!
Гренгуар принялся измышлять новые способы.
— Хорошо, извольте! Угодно вам, я обращусь с заявлением к повитухам о том, что девушка беременна?
Это заставило вспыхнуть впалые глаза священника.
— Беременна? Негодяй! Разве тебе что-нибудь известно? Вид его испугал Гренгуара. Он поспешил ответить:
— О нет, уж никак не мне! Наш брак был настоящим foris maritagium[318]. Я тут ни при чем. Но таким образом можно добиться отсрочки.
— Безумие! Позор! Замолчи!
— Вы зря горячитесь, — проворчал Гренгуар. — Добились бы отсрочки, вреда это никому не принесло бы, а повитухи, бедные женщины, заработали бы сорок парижских денье.
Священник не слушал его.
— А между тем необходимо, чтобы она вышла оттуда! — бормотал он. — Постановление вступит в силу через три дня! Но не будь даже постановления, то… Квазимодо! У женщин такой извращенный вкус! — Он повысил голос: — Мэтр Пьер, я все хорошо обдумал, есть только одно средство спасения.
— Какое же? Я больше не вижу ни одного.
— Слушайте, мэтр Пьер, вспомните, что вы обязаны ей жизнью. Я откровенно изложу вам мой план. Церковь день и ночь охраняют. Оттуда выпускают лишь тех, кого видели входящими. Вы придете. Я провожу вас к ней. Вы обменяетесь с ней платьем. Она наденет ваш плащ, а вы — ее юбку.
— До сих пор все идет гладко, — заметил философ. — А дальше?
— А дальше? Она выйдет, вы останетесь. Вас, может быть, повесят, но зато она будет спасена.
Гренгуар с весьма серьезным видом почесал у себя за ухом.
— Гляди-ка, — сказал он, — вот мысль, которая мне самому не пришла бы в голову!
При неожиданном предложении отца Клода открытое и добродушное лицо поэта внезапно омрачилось, словно веселый итальянский пейзаж, когда неожиданно набежавший порыв злого ветра нагоняет облака на солнце.
— Итак, Гренгуар, что вы скажете об этом плане?
— Я скажу, учитель, что меня повесят не «может быть», а вне сомнения.
— Это нас не касается.
— Черт возьми! — сказал Гренгуар.
— Она спасла вам жизнь. Вы уплатите лишь свой долг.
— У меня много других долгов, которых я не плачу.
— Мэтр Пьер, это необходимо. Архидьякон говорил повелительно.
— Послушайте, отец Клод, — ответил окончательно оторопевший поэт, — вы настаиваете, но вы не правы. Я не вижу, почему я должен дать себя повесить за другого.
— Да что вас так привязывает к жизни?
— О! Тысяча причин!
— Какие, не угодно ли сказать?
— Какие? Воздух, небо, утро, вечер, сияние луны, мои добрые приятели-бродяги, веселые перебранки с девками, изучение дивных архитектурных памятников Парижа, три объемистых сочинения, которые я должен написать, — одно из них направлено против епископа и его мельниц. Да мало ли что! Анаксагор говорил, что он живет на свете, чтоб любоваться солнцем. И потом, я имею счастье проводить время с утра и до вечера в обществе гениального человека, то есть с самим собой, а это очень приятно.
— Пустозвон! — пробурчал архидьякон. — Однако скажи: кто тебе сохранил эту жизнь, которую ты находишь очень приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь воздухом, что любуешься небом, что еще имеешь возможность тешить свой птичий ум всякими бреднями и дурачествами? Где бы ты был без Эсмеральды? И ты хочешь, чтобы она умерла! Она, благодаря которой ты жив! Ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, пленительного создания, без которого померкнет дневной свет! Более божественного, чем сам Господь Бог! А ты, полумудрец-полубезумец, ты, черновой набросок чего-то, своего рода растение, воображающее, что оно движется и мыслит, ты будешь пользоваться той жизнью, которую украл у нее, — жизнью, столь же бесполезной, как свеча, зажженная в полдень! Прояви немного жалости, Гренгуар! Будь в свою очередь великодушен. Она показала тебе пример.
Священник говорил пылко. Гренгуар слушал его сначала безучастно, потом растрогался, и наконец мертвенно-бледное лицо его исказилось гримасой, придавшей ему сходство с новорожденным, которого схватила резь в животе.
— Вы красноречивы! — проговорил он, отирая слезу. — Хорошо! Я подумаю об этом. Ну и странная же мысль пришла вам в голову. Впрочем, — помолчав, продолжал он, — кто знает? Может быть, они меня и не повесят. Не всегда тот женится, кто обручился. Когда они меня найдут в этом убежище столь нелепо выряженным, в юбке и чепчике, быть может, они расхохочутся. А потом, если они меня даже и вздернут, ну так что же! Смерть от веревки — такая же смерть, как и всякая другая, или, вернее, не похожа на всякую другую. Это смерть, достойная мудреца, который всю свою жизнь колебался; она — ни рыба ни мясо, подобно уму истинного скептика; это смерть, носящая на себе отпечаток пирронизма и нерешительности, занимающая середину между небом и землею и оставляющая вас висеть в воздухе. Это смерть философа, для которой я, быть может, был предназначен. Великолепно умереть так, как жил! Священник перебил его:
— Итак, решено?
— Да и что такое смерть, в конце концов? — с увлечением продолжал Гренгуар. — Неприятное мгновение, дорожная пошлина, переход из ничтожества в небытие. Некто спросил Керкидаса-мегалополийца, желает ли он умереть. «Почему бы и нет? — ответил тот. — Ибо в загробной жизни я увижу великих людей: Пифагора — среди философов, Гекатея — среди историков, Гомера — среди поэтов, Олимпия — среди музыкантов».
Архидьякон протянул ему руку:
— Итак, решено? Вы придете завтра.
Этот жест вернул Гренгуара к действительности.
— Э, нет! — ответил он тоном человека, пробудившегося от сна. — Быть повешенным — это слишком нелепо! Я не хочу.
— В таком случае прощайте! — И архидьякон, уходя, пробормотал сквозь зубы: «Я разыщу тебя!»
«Я не хочу, чтобы этот проклятый человек меня разыскал», — подумал Гренгуар и побежал вслед за Клодом.
— Послушайте, господин архидьякон, что за распри между старыми друзьями! Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене, хотел я сказать, — хорошо! Вы придумали хитрый способ, чтобы вывести ее невредимой из собора, но ваше средство чрезвычайно неприятно мне, Гренгуару. А что, если мне пришел в голову другой способ? Предупреждаю вас, что меня сейчас осенила блестящая мысль. Если я предложу вам отчаянный план, как вызволить ее из беды, не подвергая мою шею ни малейшей опасности знакомства с петлей, что вы на это скажете? Устроит это вас? Так ли уж необходимо мне быть повешенным, чтобы вы остались довольны?
Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны.
— Болтун! Какой же у тебя план?
«Да, — продолжал Гренгуар, разговаривая сам с собой и приложив с глубокомысленным видом указательный палец к кончику своего носа, — именно так! Бродяги — молодцы. Цыганское племя ее любит. Они поднимутся по первому же слову. Нет ничего легче. Напасть врасплох. Среди сумятицы ее легко будет похитить. Завтра же вечером… Они будут рады».
— Твой способ! Говори же! — встряхивая его, сказал священник.
Гренгуар величественно обернулся к нему:
— Да оставьте меня в покое! Неужели вы не видите, что я соображаю!
Он подумал еще несколько минут и затем принялся аплодировать своей мысли, восклицая:
— Великолепно! Верная удача!
— Способ! — гневно крикнул Клод. Гренгуар сиял.
— Подойдите-ка ближе, чтобы я мог вам сказать об этом на ухо. Это поистине забавный контрудар, который выпутает всех нас из затруднения. Черт возьми! Согласитесь, я не дурак! — Вдруг он спохватился: — Постойте! А козочка с нею?
— Да. Черт тебя подери!
— А ее тоже повесили бы?
— Ну и что ж?
— Да, они ее повесили бы. В прошлом месяце они повесили свинью. Палачу это на руку. Потом он съедает мясо. Повесить мою хорошенькую Джали! Бедный маленький ягненочек!
— Проклятие! — воскликнул Клод. — Ты сам настоящий палач! Ну что ты изобрел, пройдоха? Щипцами, что ли, надо из тебя вытащить твой способ?
— Успокойтесь, учитель! Слушайте!
Гренгуар, наклонившись к уху архидьякона, принялся что-то шептать ему, с беспокойством озирая из конца в конец улицу, где, впрочем, не видно было ни души. Когда он закончил, Клод пожал ему руку и холодно проговорил:
— Хорошо. До завтра.
— До завтра, — проговорил Гренгуар. И в то время как архидьякон удалялся в одну сторону, он направился в другую, бормоча вполголоса: — Это смелая затея, мэтр Пьер Гренгуар. Ну, ничего. Если мы люди маленькие, отсюда еще не следует, что мы боимся больших дел. Ведь притащил же Битон на своих плечах целого быка! А трясогузки, славки и каменки перелетают через океан.
Глава 2
Становись бродягой
Вернувшись в монастырь, архидьякон нашел у двери своей кельи младшего брата, Жеана Мельника, который дожидался его и разгонял скуку ожидания, рисуя углем на стене профиль старшего брата с огромным носом.
Отец Клод едва взглянул на брата. Он был занят иными мыслями. Веселое лицо повесы, улыбки которого столько раз проясняли мрачную физиономию священника, ныне было бессильно рассеять туман, с каждым днем все более и более сгущавшийся в этой порочной, зловонной и загнившей душе.
— Братец, — робко сказал Жеан, — я пришел повидать вас.
Архидьякон даже не взглянул на него.
— Дальше что?
— Братец, — продолжал лицемер, — вы так добры ко мне и даете такие благие советы, что я постоянно возвращаюсь к вам.
— Еще что?
— Увы, братец, вы были совершенно правы, когда говорили мне: «Жеан! Жеан! Cessat doctorum doctrina, discipulorum disciplina[319]. Жеан, будь благоразумен, Жеан, учись, Жеан, не отлучайся на ночь из коллежа без уважительных причин и без разрешения наставника. Не дерись, Жеан, с пикардийцами, noli, Joannes, verberare Picardos. He залеживайся, подобно безграмотному ослу, quasi asinus illiterates, на школьной подстилке. Жеан, не противься наказанию, которое угодно будет наложить на тебя учителю. Жеан, посещай каждый вечер часовню и пой там псалмы, стихи и молитвы Пречистой Деве Марии». Увы! Какие это были превосходные наставления!
— Ну и что же?
— Брат мой, перед вами преступник, грешник, негодяй, развратник, чудовище! Мой дорогой брат. Жеан все ваши советы превратил в солому и навоз, он попрал их ногами. Я жестоко за это наказан, и Господь Бог совершенно прав. Пока у меня были деньги, я кутил, безумствовал, вел разгульную жизнь! О, сколь пленителен разврат с виду и сколь отвратительна и скучна его изнанка! Теперь у меня нет ни единого беляка; я продал свою простыню, свою сорочку и полотенце. Прощай, веселая жизнь! Чудесная свеча потухла, и у меня остался лишь сальный огарок, чадящий мне в нос. Девчонки меня высмеивают. Я пью одну воду. Меня терзают угрызения совести и кредиторы.
— Вывод? — спросил архидьякон.
— Увы, дражайший братец, я очень желал бы вернуться к праведной жизни! Я пришел к вам с сокрушенным сердцем. Я грешник. Я каюсь. Я бью себя в грудь обоими кулаками. Как вы были правы, когда хотели, чтобы я получил степень лиценциата и сделался помощником наставника в коллеже Торши! Теперь я и сам чувствую, что в этом мое настоящее призвание. Но мои чернила высохли — мне не на что их купить; у меня нет перьев — мне не на что их купить; у меня нет бумаги, у меня нет книг — мне не на что их купить. Мне крайне нужно немного денег, и я обращаюсь к вам, братец, с сердцем, полным раскаяния.
— И это все?
— Да, — ответил школяр, — немного денег.
— У меня их нет.
Тогда школяр с серьезным и вместе решительным видом ответил:
— В таком случае, братец, хоть мне и очень прискорбно, но я должен вам сказать, что другие мне делают выгодные предложения. Вы не желаете дать мне денег? Нет? В таком случае я становлюсь бродягой.
Произнося это ужасное слово, он принял позу Аякса, ожидающего, что его поразит молния.
Архидьякон холодно ответил:
— Становись бродягой.
Жеан отвесил ему низкий поклон и, насвистывая, спустился с монастырской лестницы.
В ту минуту, когда он проходил по монастырскому двору под окном кельи брата, он услышал, как это окно распахнулось. Он поднял голову и увидел в окне строгое лицо архидьякона.
— Убирайся к дьяволу! — крикнул Клод. — Вот тебе последние деньги, которые ты получаешь от меня!
С этими словами священник бросил Жеану кошелек, который набил школяру на лбу большую шишку. Жеан подобрал его и удалился, раздосадованный и в то же время довольный, точно собака, которую забросали мозговыми костями.
Глава 3
Да здравствует веселье!
Читатель, быть может, не забыл, что часть Двора чудес была ограждена древней стеной, опоясывающей город, добрая часть башен которой в ту пору уже начала разрушаться. Одну из этих башен бродяги приспособили для своих увеселений. В нижней зале помещался кабачок, а все прочее размещалось в верхних этажах. Эта башня представляла собой самый оживленный, а следовательно, и самый отвратительный уголок царства бродяг. То был какой-то чудовищный, денно и нощно гудевший улей. По ночам, когда большинство нищей братии спало, когда на грязных фасадах домов, выходивших на площадь, не оставалось ни одного освещенного окна, когда ни малейшего звука не доносилось из этих бесчисленных лачуг, из этих муравейников, кишевших ворами, девками, крадеными или незаконнорожденными детьми, веселую башню можно было узнать по неумолкавшему в ней шуму, по багровому свету, струившемуся одновременно из отдушин, из окон, из расщелин потрескавшихся стен — словом, из всех ее пор.
Итак, подвальный этаж башни служил кабаком. В него спускались через низкую дверь по крутой, словно александрийский стих, лестнице. Вывеску на двери заменяла неописуемая мазня, изображавшая новые монеты и зарезанных цыплят, с шутливой надписью: «Кабачок звонарей по усопшим».
Однажды вечером, когда со всех колоколен Парижа прозвучал сигнал тушения огней, ночная стража, ежели бы ей дана была возможность проникнуть в страшный Двор чудес, заметила бы, что в таверне бродяг шумнее, чем всегда, больше пьют и крепче сквернословят. Перед входной дверью, на площади, всюду виднелись кучки людей, разговаривавших между собой шепотом, как бывает всегда, когда затевается какое-нибудь важное дело. Там и сям, сидя на корточках, оборванцы точили о камни мостовой дрянные железные ножи.
Между тем в самой таверне вино и игра до такой степени отвлекали бродяг от тех мыслей, которые в этот вечер занимали все умы, что из их разговора трудно было понять, о чем, собственно, идет речь. Заметно было лишь, что все они казались веселее обычного и что у каждого из них между колен сверкало какое-нибудь оружие: кривой нож, топор, тяжелый палаш или приклад от старинной пищали.
Круглая зала башни была просторна, но столы были так тесно сдвинуты, а гуляк за ними так много, что все находившееся в этой таверне: мужчины, женщины, скамьи, пивные кружки, все то, что пило, спало, играло, здоровые и калеки — казалось перемешанным между собой как попало, в том же порядке и с соблюдением той же симметрии, как сваленные в кучу устричные раковины. На столах кое-где стояли зажженные сальные свечи, но главным источником света, игравшим в этом кабаке роль люстры в оперном зале, был очаг. Подвал настолько пропитывала сырость, что в камине постоянно, даже летом, не угасая горел огонь. И сейчас в этом громадном, покрытом лепными украшениями камине с тяжелыми железными решетками и кухонной утварью пылало то сильное пламя, питаемое дровами вперемешку с торфом, которое в деревнях, вырываясь ночью из окон кузницы, бросает свой кроваво-красный отсвет на стены противоположных домов. Большая собака, важно восседавшая на куче золы, вращала перед горящими углями вертел с мясом.
Однако, несмотря на беспорядок, оглядевшись, можно было отличить в этой толпе три главные группы людей, теснившихся вокруг трех уже известных читателю особ. Одна из этих особ, нелепо наряженная в пестрые восточные лохмотья, был Матиас Хунгади Спикали, герцог египетский и цыганский. Этот мошенник сидел на столе, поджав под себя ноги, и, подняв кверху палец, громким голосом посвящал в тайны черной и белой магии окружавших его многочисленных слушателей, которые внимали ему с разинутыми от удивления ртами.
Другая кучка сгрудилась около нашего старого приятеля, вооруженного до зубов славного владыки королевства Арго. Клопен Труйльфу с весьма серьезным видом тихим голосом руководил опустошением огромной, зиявшей перед ним и наполненной оружием бочки с выбитым дном, откуда, словно яблоки и виноград из рога изобилия, грудой сыпались топоры, шпаги, шлемы, кольчужные рубахи, отдельные части брони, наконечники пик и копий, стрелы, простые и нарезные. Всякий брал из кучи что хотел: кто каску, кто шпагу, кто кинжал с крестообразной рукояткой. Даже дети вооружались, даже безногие, облекшись в броню и латы, ползали между ног пирующих, словно огромные блестящие жуки.
Наконец, наиболее шумное, наиболее веселое и многочисленное скопище людей заполняло скамьи и столы, где ораторствовал и сквернословил чей-то пронзительный голос, который вырывался из-под тяжелого воинского вооружения, громыхавшего от шлема до шпор. Человек, который был сплошь увешан этими рыцарскими доспехами, исчезал под своим снаряжением, виднелся лишь его нахальный покрасневший вздернутый нос, белокурый локон, розовые губы да дерзкие глаза. За поясом у него было заткнуто несколько ножей и кинжалов, на боку висела большая шпага, слева лежал заржавевший самострел, перед ним стояла объемистая кружка вина, а по правую руку сидела плотная, небрежно одетая девица. Все вокруг хохотали, ругались и пили.
Прибавьте к этому еще двадцать более мелких групп, пробегавших с кувшинами на голове, слуг и служанок, игроков, склонившихся над шарами, шашками, костями, рейками, над азартной игрой в кольца, ссоры в одном углу, поцелуи — в другом, и вы будете иметь некоторое понятие об общем характере этой картины, освещенной колеблющимся светом ярко полыхавшего пламени, заставлявшего плясать на стенах кабака тысячу огромных причудливых теней.
Все кругом гудело, точно внутри колокола во время большого благовеста. Противень под вертелом, куда стекал дождь шипящего сала, наполнял своим неумолчным треском паузы между тысячью диалогов, которые, скрещиваясь между собой, доносились со всех концов залы.
Среди всего этого гвалта в глубине таверны, на скамье, вплотную к очагу, сидел, протянув ноги в золу и уставившись на горящие головни, философ, погруженный в размышления. То был Пьер Гренгуар.
— Ну, живее! Поворачивайтесь! Вооружайтесь! Через час мы выступаем! — говорил Клопен Труйльфу арготинцам.
А одна из девиц напевала:
Доброй ночи, отец мой и мать! Уж последние гаснут огни!Двое картежников ссорились.
— Ты подлец! — орал, весь раскрасневшись, один из них, показывая другому кулак. — Я тебя так разукрашу трефами, что в королевской колоде карт ты сможешь заменить валета крестей!
— Уф! Тут набито столько народу, сколько булыжников в мостовой! — ворчал какой-то нормандец, которого можно было узнать по его гнусавому произношению.
— Детки, — говорил фальцетом герцог египетский, обращаясь к своим слушателям, — французские колдуньи летают на шабаш без помела, без мази, без козла, а только при помощи нескольких волшебных слов. Итальянских ведьм у дверей всегда ждет козел. Но все они непременно вылетают через дымовую трубу.
Голос молодого повесы, вооруженного с головы до пят, покрывал весь этот галдеж.
— Слава! Слава! — орал он. — Сегодня я в первый раз выйду на поле брани! Бродяга! Я бродяга, клянусь Христовым пузом! Налейте-ка мне вина! Друзья, мое имя Жеан Фролло Мельник, я дворянин. Я уверен, что если бы Бог был молодцом, он сделался бы грабителем. Братья, мы предпринимаем славную вылазку. Мы храбрецы. Осадить собор, выломать двери, похитить красотку, спасти ее от судей, спасти от попов, разнести монастырь, сжечь епископа в его доме — да все это мы сварганим быстрее, чем какой-нибудь бургомистр успеет проглотить ложку супа! Наше дело правое! Мы ограбим собор Богоматери — и дело с концом! Мы повесим Квазимодо. Известен вам, сударыни, Квазимодо? Вам не случалось видеть, как он, запыхавшись, летает верхом на большом колоколе в Троицын день? Рога сатаны! Это великолепно! Словно дьявол, оседлавший медную пасть! Друзья, выслушайте меня. Нутром своим я бродяга, в душе я арготинец, я от природы вор. Я был очень богат, но я слопал свое богатство. Моя матушка прочила меня в офицеры, мой батюшка — в дьяконы, тетка — в советники суда, бабушка — в королевские протонотариусы, двоюродная бабка — в казначеи военного ведомства, а я стал бродягой. Я сказал об этом моему батюшке, который швырнул мне в лицо свои проклятия, моей матушке — почтенной женщине, которая принялась хныкать и распустила нюни, как вот это сырое полено на каминной решетке. Да здравствует веселье! Я прямо схожу с ума! Кабатчица, милашка, дай-ка другого вина! У меня есть еще чем заплатить. Не надо больше сюренского, оно дерет горло — с таким же успехом я могу прополоскать горло плетеной корзинкой!
Весь сброд, хохоча, рукоплескал ему; заметив, что шум вокруг него усилился, школяр воскликнул:
— Что за чудный гвалт! Populi debacchantis populosa debacchatio?[320] — И принялся петь, закатив при этом восторженно глаза, тоном каноника, начинающего вечерню: — Quae cantica! Quae organa! Quae cantilenae! Quae melodiae hie sine fine decantantur! Sonant melliflua hymnorum organa, suavissima angelorum melodia, cantica canticorum mira!..[321]
Вдруг он прервал пенье:
— Чертова трактирщица, тащи-ка мне поужинать! Наступила минута почти полного затишья, когда в свою очередь зазвучал пронзительный голос герцога египетского, поучавшего окружавших его цыган:
— …Ласку зовут Адуиной, лисицу — Синей ножкой или Лесным бродягой, волка — Сероногим или Золотоногим, медведя — Стариком или Дедушкой. Колпачок гнома делает человека невидимкой и позволяет видеть невидимое. Всякую жабу, которую желают окрестить, наряжают в красный или черный бархат и привязывают ей одну погремушку на шею, а другую — к ногам; кум держит ей голову, кума — зад. Демон Сидрагазум один властен заставить девушек плясать нагими.
— Клянусь обедней! — прервал его Жеан. — Я желал бы быть демоном Сидрагазумом.
Тем временем бродяги продолжали вооружаться, перешептываясь в другом углу кабака.
— Бедняжка Эсмеральда! — говорил один цыган. — Ведь она наша сестра. Надо ее вытащить оттуда.
— Разве она все еще в соборе Богоматери? — спросил какой-то лжебанкрот.
— Да, черт возьми!
— Так что ж, друзья! — воскликнул лжебанкрот. — В поход на собор Богоматери! Тем более что там в часовне Святого Фереоля и Ферюсьона имеются две статуи, изображающие одна святого Иоанна Крестителя, а другая — святого Антония, обе из чистого золота, весом в семь золотых марок пятнадцать эстерлинов, а подножие у них из позолоченного серебра, весом в семнадцать марок и пять унций. Я знаю это доподлинно, я золотых дел мастер.
Тут Жеану принесли его ужин, и, положив голову на грудь сидевшей с ним рядом девицы, он воскликнул:
— Клянусь святым Фультом Люкским, которого народ называет святой Спесивец, я вполне счастлив. Вон там, против меня, сидит болван с голым, как у эрцгерцога, лицом и глазеет на меня. А вон налево — другой, у которого такие длинные зубы, что закрывают весь его подбородок. А сам я ни дать ни взять маршал Жиэ при осаде Понтуаза — мой правый фланг упирается в холм. Пуп Магомета! Приятель, ты похож на продавца мячей для лапты, а сел рядом со мной! Я дворянин, мой друг. Торговля несовместима с дворянством. Убирайся-ка отсюда. Эй! Эй, вы там! Не драться! Как, Батист Птицеед, у тебя такой великолепный нос, а ты подставляешь его под кулак этого олуха? Вот дуралей! Non cuiquam datum est habere nasum[322]. Ты поистине божественна, Жакелина Грызи Ухо, жаль только, что ты лысая. Эй! Меня зовут Жеан Фролло, и у меня брат архидьякон! Черт бы его побрал! Все, что я вам говорю, сущая правда. Став бродягой, я с легким сердцем отказался от той половины дома в раю, которую сулил мне брат. Dimidiam domum in paradiso. Я цитирую подлинный текст. У меня ленное владение на улице Тиршап, и все женщины влюблены в меня. Это так же верно, как то, что святой Элуа был отличным золотых дел мастером и что в городе Париже пять ремесленных цехов: дубильщиков, сыромятников, кожевников, кошелечников и парильщиков кож, а святого Лаврентия сожгли на костре из яичной скорлупы. Клянусь вам, друзья,
Год не буду пить перцовки, Если вам сейчас солгал!Милашка моя, сегодня лунная ночь, погляди-ка в отдушину, как ветер мнет облака! Точь-в-точь как я твою косынку! Девки, утрите сопли ребятам и свечам! Христос и Магомет! Что это я ем, Юпитер? Эй, сводня! У твоих потаскух потому на голове нет волос, что все они в твоей яичнице. Старуха, я люблю лысую яичницу! Чтоб дьявол тебя сделал курносой! Нечего сказать, хороша Вельзевулова харчевня, где шлюхи причесываются вилками!
Выпалив все это, он разбил свою тарелку об пол и загорланил:
Клянуся Божьей кровью: Законов, короля, Ни очага, ни крова Нет больше у меня! И с верою Христовой Давно простился я!Тем временем Клопен Труйльфу успел закончить раздачу оружия. Он подошел к Гренгуару, который сидел в глубокой задумчивости, положив ноги на каминную решетку.
— Дружище Пьер, о чем это ты, черт возьми, так задумался? — спросил король Алтынный.
Гренгуар, грустно улыбаясь, повернулся к нему:
— Я люблю огонь, мой дорогой повелитель. Но не по той низменной причине, что он согревает наши ноги или варит наш суп, а за его искры. Порой я провожу целые часы, глядя на них. Я открываю тысячу вещей в этих звездочках, усеивающих черную глубину очага. Эти звезды — тоже целые миры.
— Гром и молния, если я что-либо понял! — сказал бродяга. — Не знаешь ли, который час?
— Не знаю, — ответил Гренгуар.
Тогда Клопен подошел к египетскому герцогу:
— Дружище Матиас, мы выбрали неподходящее время. Говорят, будто Людовик Одиннадцатый в Париже.
— Еще лишняя причина вырвать из его когтей нашу сестру, — ответил старый цыган.
— Ты рассуждаешь, как подобает мужчине, Матиас, — сказал владыка королевства Арго. — К тому же мы быстро управимся с этим делом. В соборе нам нечего опасаться сопротивления. Каноники — просто зайцы, кроме того, сила за нами! Чины судебной палаты попадут впросак, когда завтра придут за ней! Клянусь папскими кишками, я не хочу, чтобы они повесили эту хорошенькую девушку!
Клопен вышел из кабака.
Жеан тем временем орал хриплым голосом:
— Я пью, я ем, я пьян, я сам Юпитер! Эй, Пьер Душегуб! Если ты еще раз посмотришь на меня такими глазами, то я собью тебе щелчками пыль с носа!
Что касается Гренгуара, то, потревоженный в своих размышлениях, он стал наблюдать окружавшую буйную и крикливую толпу, бормоча сквозь зубы: «Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebrietas»[323]. Как хорошо, что я не пью, и как отлично выразился святой Бенедикт: «Vinum apostatare facit etiam sapientes»![324]
В это время вернулся Клопен и крикнул громовым голосом:
— Полночь!
Это слово произвело такое же действие, как сигнал садиться на коней, поданный полку во время привала, — все бродяги — мужчины, женщины, дети — гурьбой повалили из таверны, грохоча оружием и старым железом.
Луну закрыло облако. Двор чудес погрузился в полный мрак. Нигде ни единого огонька. А между тем площадь далеко не была безлюдна. Там можно было разглядеть толпу мужчин и женщин, которые переговаривались тихими голосами. Слышно было, как они гудели, и видно было, как в темноте отсвечивало оружие. Клопен взгромоздился на огромный камень.
— Стройся, Арго! — крикнул он. — Стройся, Египет! Стройся, Галилея!
В темноте началось движение. Казалось, несметная толпа вытягивалась в колонну. Спустя несколько минут король Алтынный вновь возвысил голос:
— Теперь молчать, пока будем идти по Парижу. Пароль: «Короткие клинки звенят!» Факелы зажигать лишь перед собором! Вперед!
Через десять минут всадники ночного дозора бежали в испуге перед длинной процессией каких-то черных молчаливых людей, направлявшихся к мосту Менял по извилистым улицам, прорезавшим во всех направлениях огромный Рыночный квартал.
Глава 4
Медвежья услуга
В эту ночь Квазимодо не спалось. Он только что обошел в последний раз собор. Запирая церковные врата, он не заметил, как мимо него прошел архидьякон, выразивший некоторое недовольство при виде того, как тщательно Квазимодо задвигал и замыкал огромные железные засовы, придававшие широким створам дверей прочность каменной стены. Клод казался еще более озабоченным, чем обычно. После ночного происшествия в келье он очень дурно обращался с Квазимодо, был груб с ним и даже порой бил его, но ничто не могло поколебать покорность, терпение и безропотную преданность звонаря. Без упрека, без жалобы он все сносил от архидьякона: угрозы, брань, побои. Он только с беспокойством глядел ему вслед, когда Клод поднимался на башню, но архидьякон и сам остерегался попадаться на глаза цыганке.
Итак, в эту ночь Квазимодо, скользнув взглядом по своим бедным заброшенным колоколам — по Жакелине, Марии, Тибо, — взобрался на вышку верхней башни и там, поставив на крышу потайной, закрытый наглухо фонарь, принялся глядеть на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж в ту эпоху почти никак не освещался и являл глазу смутное нагромождение каких-то черных массивов, пересекаемых там и сям белесоватыми излучинами Сены. Квазимодо не видел света нигде, кроме окна отдаленного здания, смутный и сумрачный профиль которого обрисовывался высоко над кровлями со стороны Сент-Антуанских ворот. Там, очевидно, тоже кто-то бодрствовал.
Окидывая внимательным взглядом этот туманный ночной горизонт, Квазимодо ощущал в душе какую-то необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был настороже. Он заметил, что вокруг собора непрерывно сновали люди зловещего вида, не спускавшие глаз с убежища молодой девушки. И он подумал, не затевается ли какой-либо заговор против несчастной затворницы. Он воображал, что народ ненавидел ее так же, как его, и что надо ожидать в ближайшее время каких-нибудь событий. Поэтому-то он и дежурил на своей звоннице, «мечтая в своей мечтальне», как говорит Рабле; неся сторожевую службу, как верный пес, он поочередно посматривал то на Париж, то на келью, обуреваемый тысячью подозрений.
Пристально всматриваясь в город своим единственным глазом, который благодаря необыкновенной зоркости, как бы в вознаграждение подаренной ему природой, почти возмещал другие недостающие Квазимодо органы чувств, он вдруг заметил, что очертания Старой Скорняжной набережной имеют несколько необычный вид; там чувствовалось какое-то движение; линия парапета, черневшая над белизной воды, не была прямой и неподвижной, как на других набережных, но колыхалась, подобно речной зыби или головам движущейся толпы.
Это ему показалось странным. Он удвоил внимание. Казалось, движение шло в сторону Ситэ. Нигде ни малейшего огонька. Некоторое время движение это происходило на набережной, затем постепенно оно схлынуло, словно вошло внутрь острова, потом совершенно прекратилось, и линия набережной снова стала прямой и неподвижной.
Пока Квазимодо терялся в догадках, ему вдруг показалось, что это движение вновь возникло на Папертной улице, врезавшейся в Ситэ перпендикулярно фасаду собора Богоматери. Наконец, невзирая на кромешную тьму, он увидел, как из этой улицы показалась голова колонны, как в одно мгновение всю площадь запрудила толпа, в которой ничего нельзя было разглядеть в потемках, кроме того, что это была толпа.
В этом зрелище таилось что-то страшное. Странная процессия, словно старавшаяся укрыться в глубокой тьме, вероятно, хранила такое же глубокое молчание. И все же она должна была производить какой-нибудь шум, хотя бы топот ног. Но этот шум не доходил до нашего глухого, и сборище людей, которое он еле различал и которое совсем не слышал, хотя оно волновалось и двигалось близко от него, производило на него впечатление сонма мертвецов, безмолвных, неосязаемых, затерянных во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман с утонувшими в нем людьми, что в этом тумане шевелятся тени.
Тогда все его сомнения воскресли, и мысль о нападении на цыганку вновь возникла в его мозгу. Он смутно ощутил, что надвигается опасность. Трудно было ожидать от столь неповоротливого ума, чтобы в это решительное мгновение он мог так разумно и быстро все рассудить. Что было ему делать? Разбудить цыганку? Заставить ее бежать? Каким образом? Улицы были наводнены толпой, задняя стена церкви выходила к реке. Нет ни лодки, ни выхода. Оставалось одно: не нарушая сна Эсмеральды, пасть мертвым на пороге собора Богоматери, сопротивляться хотя бы до тех пор, пока не подоспеет помощь, если только она придет. Ведь несчастная всегда успеет проснуться для того, чтобы умереть. Остановившись на этом решении, он более спокойно принялся изучать «врага».
Толпа возрастала с каждой минутой. Но, по-видимому, она производила мало шума, так как окна, выходившие на улицы и на площадь, оставались закрытыми. Вдруг блеснул свет, и вмиг шесть или семь зажженных факелов заколыхались над толпой, колебля в темноте свои огненные пучки. И тут-то Квазимодо отчетливо разглядел бурлившее на площади ужасное скопище оборванных мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, резаками и копьями, острия которых горели тысячью огней. Там и сям над этими отвратительными рожами торчали, словно рога, черные вилы. Он смутно припомнил, что уже где-то видел этот народ; ему показалось, что он узнает те самые лица, которые несколько месяцев тому назад приветствовали в нем папу шутов. Какой-то человек, державший в одной руке зажженный факел, а в другой — дубинку, взобрался на тумбу и стал, по-видимому, держать речь. И вслед за этим диковинная армия несколько перестроилась, словно окружая собор. Квазимодо взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы присмотреться поближе и изобрести средство обороны.
Действительно, Клопен Труйльфу, дойдя до главного портала собора Богоматери, построил свое войско в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, но, как осторожный полководец, хотел сохранить строй, который позволил бы ему достойно встретить внезапную атаку ночного дозора или патрулей. И вот он расположил свои отряды таким образом, что, глядя на толпу сверху и издали, вы приняли бы ее за римский треугольник в Экномской битве[325], за «свинью» Александра Македонского или за знаменитый клин Густава-Адольфа[326]. Основание этого треугольника уходило в глубь площади, загораживая Папертную улицу; одна из сторон была обращена к Отель-Дье, а другая — к улице Сен-Пьер-о-Беф. Клопен Труйльфу поместился у вершины треугольника вместе с герцогом египетским, нашим другом Жеаном и наиболее отважными молодцами.
Нападения, подобные тому, какое бродяги намеревались совершить на собор Богоматери, не являлись особой редкостью в городах Средневековья. Того, что ныне мы именуем «полицией», встарь не существовало вовсе. В наиболее многолюдных городах, особенно в столицах, не было единой, центральной, устанавливающей порядок власти. Феодализм созидал эти большие города-общины самым причудливым образом. Город был собранием тысячи отдельных феодальных владений, разделявших его на части всевозможной формы и величины. Отсюда множество самых противоречивых распорядков, иначе говоря, отсутствие порядка. Так, например, в Париже, независимо от ста сорока одного ленного владельца, пользовавшегося правом взимания земельной подати, было еще двадцать пять владельцев, пользовавшихся, кроме этого, правом судебной власти, — от епископа Парижского, которому принадлежало сто пять улиц, до настоятеля церкви Нотр-Дам-де-Шан, у которого их было четыре. Все эти феодальные законники лишь номинально признавали своего сюзерена — короля. Все имели право собирать дорожные пошлины. Все чувствовали себя хозяевами. Людовик XI, этот неутомимый труженик, в таких обширных размерах предпринявший разрушение здания феодализма, продолженное Ришелье и Людовиком XIV в интересах королевской власти и законченное Мирабо в интересах народа, пытался прорвать эту сеть поместных владений, покрывавших Париж, издав наперекор всем два или три жестоких указа, устанавливавших обязательные для всех правила. Так, в 1465 году всем горожанам было приказано, под страхом виселицы, при наступлении ночи зажигать на своих окнах свечи и запирать своих собак; в том же году второй указ предписывал запирать вечером улицы железными цепями и запрещал иметь при себе, находясь вне дома, кинжал или другое оружие. Но вскоре все эти попытки установить общегородское законодательство были преданы забвению. Горожане позволяли ветру задувать свечи на окнах, а собакам — бродить; цепи протягивались поперек улицы лишь во время осадного положения, а запрет носить оружие привел только к тому, что улицу Перерезанных глоток переименовали в улицу Перерезанного горла, что все же явно указывало на значительный прогресс. Старинное сооружение феодального законодательства осталось незыблемым; поместные и окружные судебные управления смешивались, сталкивались, перепутывались, наслаивались вкривь и вкось одно на другое, как бы врезаясь друг в друга; густая сеть ночных постов, дозоров, караулов была бесполезна, ибо сквозь нее во всеоружии пробирались грабеж, разбой и бунт. Среди подобного беспорядка внезапное нападение черни на какой-нибудь дворец, особняк или простой дом, даже в самых населенных частях города, отнюдь не могло считаться неслыханным происшествием. В большинстве случаев соседи только тогда вмешивались в это дело, когда разбой стучался в их двери. Заслышав выстрелы из мушкетов, они затыкали себе уши, закрывали ставни, задвигали дверные засовы, предоставляя распре кончаться при содействии ночного дозора или без оного. На следующее утро парижане толковали: «Прошлой ночью ворвались к Этьену Барбету», «Напали на маршала Клермонского» и прочее. Поэтому не только королевские резиденции — Лувр, дворец, Бастилия, Турнель, — но и просто обиталища вельмож — Малый Бурбонский дворец, особняк Сане, особняк Ангулем и прочие — обнесены были зубчатыми стенами и имели над воротами бойницы. Церковь охраняла их святость. Однако некоторые из них — собор Богоматери к их числу не принадлежал — были укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено зубчатой оградой, точно владение какого-нибудь барона, а на пушки оно израсходовало значительно больше меди, чем на колокола. Следы его укреплений заметны были еще в 1610 году; ныне от него сохранилась лишь церковь.
Но возвратимся к собору Богоматери.
Когда первые распоряжения были закончены, — а отдавая должное дисциплине этой армии бродяг, следует заметить, что приказания Клопена исполнялись в полном молчании и с величайшей точностью, — почтенный предводитель шайки взобрался на ограду паперти и, обратясь лицом к собору, возвысил свой хриплый и грубый голос, размахивая при этом факелом, пламя которого, колеблемое ветром, то выхватывало из мрака красноватый фасад храма, то, застилаясь собственным дымом, вновь погружало его во тьму:
— Тебе, Луи де Бомон, епископ Парижский, советник королевской судебной палаты, я, Клопен Труйльфу, король Алтынный, великий кесарь, князь арготинцев, епископ шутов, говорю: «Наша сестра, облыжно осужденная за колдовство, укрылась в твоем соборе; ты обязан предоставить ей убежище и защиту; но суд хочет извлечь ее оттуда, и ты дал на то свое согласие; ее повесили бы завтра на Гревской площади, когда бы не Бог да бродяги. Вот почему мы и пришли к тебе, епископ. Ежели твоя церковь неприкосновенна, то неприкосновенна и сестра наша; если же наша сестра не является неприкосновенной, то и храм твой не будет неприкосновенным. Поэтому мы требуем, чтобы ты выдал нам девушку, если хочешь спасти свой собор, или же мы отнимем девушку и разграбим храм, что будет справедливо. А в подтверждение этого я водружаю здесь мое знамя, и да хранит тебя Бог, епископ Парижский!»
К несчастью, Квазимодо не мог слышать этих слов, произнесенных с выражением мрачного и дикого величия. Один из бродяг подал Клопену стяг, который тот торжественно водрузил в расщелине между двумя плитами. Это были большие вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали.
Сделав это, король Алтынный обернулся и оглядел свою армию — свирепое сборище людей, взгляды которых сверкали почти так же, как пики. После небольшой паузы он крикнул:
— Вперед, ребята! За дело, взломщики!
Тридцать здоровенных плечистых молодцов, похожих на слесарей, выступили из рядов с молотками, клещами и железными ломами на плечах. Они двинулись к главному порталу собора, взошли на паперть, и видно было, как они, очутившись под стрельчатым сводом, принялись взламывать двери при помощи клещей и рычагов. Бродяги повалили вслед, чтобы помочь им или чтобы поглазеть на них. Все одиннадцать ступеней паперти были запружены толпой.
Однако дверь не подавалась.
— Черт возьми! Какая крепкая и упрямая! — сказал один.
— От старости у нее окостенели хрящи, — сказал другой.
— Смелее, приятели! — поощрял их Клопен. — Ставлю свою голову против старого башмака, что вы успеете открыть дверь, похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один дьячок! Стойте! Да, никак, запор уже трещит!
Страшный грохот, раздавшийся за спиной Клопена, прервал его речь. Он обернулся. Огромная, точно свалившаяся с неба балка, придавив собою около дюжины бродяг на ступенях паперти, с шумом пушечного выстрела отскочила на мостовую, перешибая по пути там и сям ноги оборванцев в толпе, бросившейся во все стороны с криками ужаса. В мгновение ока прилегавшая к паперти часть площади опустела. Взломщики, хотя и защищаемые глубокими сводами портала, бросили дверь, и даже сам Клопен отступил на почтительное расстояние от собора.
— Ну и счастливо же я отделался! — воскликнул Жеан. — Я слышал, как она просвистела, клянусь чертовой башкой! Зато она погубила душу Пьера Душегуба!
Невозможно описать, в какое изумление и ужас повергло бродяг это бревно. Некоторое время они стояли, вглядываясь в небо, приведенные в большее замешательство этим куском дерева, нежели двадцатью тысячами королевских стрелков.
— Сатана! — пробурчал герцог египетский. — Тут пахнет колдовством!
— Наверное, луна сбросила на нас это полено, — сказал Андри Рыжий.
— К тому же, говорят, луна в дружбе с Пречистой Девой! — сказал Франсуа Шантепрюн.
— Тысяча пап! — воскликнул Клопен. — Все вы дураки! — Но как объяснить падение бревна, он и сам не знал.
На высоком фасаде церкви, до верха которого не достигал свет факелов, ничего нельзя было разглядеть. Увесистая дубовая балка валялась на мостовой, и слышались стоны несчастных, которые, первыми попав под ее удар, распороли себе животы об острые углы каменных ступеней. Наконец, когда улеглось первое волнение, король Алтынный нашел толкование, показавшееся его товарищам вполне допустимым:
— Чертова пасть! Неужели же попы вздумали обороняться? Тогда грабить! Грабить их!
— Грабить! — повторила с яростным ревом толпа. Вслед за этим по фасаду собора раздался залп из мушкетов и самострелов.
При звуке этого залпа мирные обитатели соседних домов проснулись. Распахнулось несколько окон, и из них высунулись головы в ночных колпаках и руки, державшие зажженные свечи.
— Стреляйте по окнам! — скомандовал Клопен.
Все окна тотчас же захлопнулись, и бедные горожане, еле успев бросить испуганный взгляд на эту бурную сцену, освещенную мерцающим пламенем факелов, обливаясь холодным потом, возвратились к своим супругам, вопрошая себя, не справляют ли ведьмы нынче на Соборной площади шабаш, или же это нападение бургундцев, как в 64-м году. Мужчинам уже чудился разбой, женщинам — насилие. Те и другие дрожали от страха.
— Грабить! — повторяли арготинцы.
Но приблизиться они не решались. Они глядели то на церковь, то на дубовую балку. Бревно лежало неподвижно. Здание сохраняло свой спокойный и нежилой вид, но что-то непонятное сковывало бродяг.
— За работу, взломщики! — крикнул Труйльфу. — Высаживайте дверь!
Никто не шевельнулся.
— Чертовы борода и пузо! — возмутился Клопен. — Ну и мужчины! Испугались балки!
Взломщик постарше обратился к нему:
— Командир, нас задерживает не балка, а дверь, вся прошитая железными полосами. Клещами с ней ничего не сделаешь.
— Что же вам нужно, чтобы ее высадить? — спросил Клопен.
— Да надо бы таран.
Король Алтынный смело подбежал к страшному бревну и поставил на него ногу.
— Вот вам таран! — воскликнул он. — Вам посылают его сами каноники! — И, насмешливо поклонившись в сторону церкви, он сказал: — Спасибо, отцы каноники!
Эта выходка произвела хорошее впечатление. Чары дубовой балки были разрушены. Бродяги воспрянули духом; вскоре тяжелая балка, подхваченная, как перышко, двумя сотнями сильных рук, с яростью ринулась на массивную дверь. При тусклом свете, который отбрасывали на площадь факелы, это длинное бревно, поддерживаемое толпой мужчин, бегом устремившихся к собору, казалось чудовищным тысяченогим зверем, который, пригнув голову, бросается на каменного великана.
Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла, зазвенела, как огромный барабан; но она не подалась, хотя весь собор содрогался, и было слышно, как глухо гудело в глубоких недрах здания.
В ту же минуту дождь огромных камней посыпался сверху на осаждавших.
— Дьявол! — воскликнул Жеан. — Неужто башни вздумали стряхнуть на наши головы свои балюстрады?
Но, начав первый, король Алтынный поплатился за поданный пример. Несомненно, это защищался епископ. И в дверь били с еще большим ожесточением, невзирая на камни, крошившие черепа направо и налево.
Замечательно, что эти камни падали поодиночке, один за другим, но очень часто. Арготинцы чувствовали сразу два удара: один — по голове, другой — по ногам. Редкий камень не попадал в цель, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и билась в судорогах под ногами людей, в бешенстве шедших на приступ, непрерывно пополняя свои редеющие ряды. Длинное бревно мерными ударами продолжало бить в дверь, точно язык колокола, камни продолжали сыпаться, дверь — стонать.
Читатель, конечно, уже догадался, что это неожиданное сопротивление, столь ожесточившее бродяг, было делом рук Квазимодо.
К несчастью, случай помог мужественному горбуну.
Когда он спустился на площадку между башнями, в мыслях его царило смятение. Увидев с высоты сплошную массу бродяг, готовых ринуться на собор, он в продолжение нескольких минут бегал взад и вперед по галерее как сумасшедший, умоляя дьявола или Бога спасти цыганку. Ему пришло было на ум взобраться на южную колокольню и ударить в набат; но прежде чем он раскачает колокол и раздастся гулкий голос Марии, церковные двери успеют десять раз рухнуть. Это было как раз в ту минуту, когда взломщики направились к ним со своими орудиями. Что предпринять?
Вдруг он вспомнил, что целый день каменщики работали над починкой стены, стропил и кровли южной башни. Это было для него лучом света. Стена башни была каменная, кровля свинцовая, а стропила деревянные. Эту удивительную стропильную связь собора называли «лесом» — так она была часта.
Квазимодо бросился к этой башне. Действительно, наружные помещения ее были завалены строительным материалом, здесь лежали груды мелкого камня, скатанные в трубки свинцовые листы, связки дранки, массивные балки с выпиленными уже пазами, кучи щебня — словом, целый арсенал.
Каждая минута была дорога. Внизу вовсю работали клещи и молотки. С удесятерившейся от сознания опасности силой он приподнял самую тяжелую, самую длинную балку, просунул ее в одно из слуховых окон башни, затем, перехватив ее снаружи и заставив скользить по углу балюстрады, окаймлявшей площадку, спустил ее в бездну. Громадная балка, падая с высоты ста шестидесяти футов, царапая стену и ломая изваяния, несколько раз перевернулась в воздухе, точно оторвавшееся мельничное крыло, улетевшее в пространство. Наконец она коснулась земли. Раздался страшный вопль. Грохнувшись о мостовую, черная балка подпрыгнула, точно взметнувшаяся в воздухе змея.
Квазимодо видел, как при падении бревна бродяги рассыпались во все стороны, словно пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их смятением, и пока они с суеверным ужасом разглядывали обрушившуюся на них с небес дубину и осыпали градом стрел и крупной дроби каменные статуи портала, он бесшумно свалил груды щебня, мелкого и крупного камня, даже мешки с инструментами каменщиков на край балюстрады, с которой была сброшена балка.
И как только они начали выбивать большие двери собора, на осаждавших посыпался град камней. Им показалось, что сама церковь рушится на их головы.
Тот, кто в этот миг взглянул бы на Квазимодо, наверное, ужаснулся бы. Кроме тех метательных снарядов, которые он нагромоздил на балюстраде, он навалил еще кучу камней на самой площадке. Лишь только запас камней на выступе балюстрады иссяк, он взялся за эту кучу. Он нагибался, выпрямлялся, вновь нагибался и выпрямлялся с непостижимой быстротой. Его непомерно большая голова, похожая на голову гнома, свешивалась над балюстрадой, и вслед за этим летел громадный камень, другой, третий. По временам он следил за падением какого-нибудь увесистого камня и, когда тот попадал в цель, издавал рычание.
И все же оборванцы не отчаивались. Уже более двадцати раз крепкая дверь, на которую они набрасывались, содрогалась под ударами дубового тарана, тяжесть которого удваивали усилия сотен рук. Дверные створы трещали, чеканные украшения разлетались вдребезги, дверные петли при каждом ударе подпрыгивали на своих винтах, брусья выходили из пазов, дерево, раздробленное между железными ребрами створ, рассыпалось в порошок. К счастью для Квазимодо, в двери было больше железа, чем дерева.
Однако он чувствовал, что главные врата подаются. Хотя он не слышал ударов тарана, но каждый из них отзывался одинаково как в недрах собора, так и в нем самом. Сверху ему было видно, как бродяги, полные ярости и торжества, грозили кулаками сумрачному фасаду церкви; думая о себе и цыганке, он завидовал крыльям сов, стаями взлетавших над его головой и уносившихся вдаль.
Града его камней оказалось недостаточно, чтобы отразить нападающих.
Испытывая мучительную тревогу, он заметил в эту минуту чуть пониже балюстрады, с которой он громил бродяг, две длинные водосточные каменные трубы, оканчивавшиеся как раз над главными вратами. Верхние же отверстия этих желобов примыкали к площадке. У него мелькнула одна мысль. Он побежал в свою конуру за вязанкой хвороста, навалил на этот хворост сколько мог охапок дранки и трубок свинца — этими боевыми припасами он до сих пор еще не воспользовался — и, расположив, как должно, этот костер перед отверстиями двух сточных желобов, он запалил его при помощи фонаря.
В это время каменный дождь прекратился, и бродяги перестали смотреть вверх. Запыхавшись, словно стая гончих, берущая с бою кабана в его логове, разбойники беспорядочно теснились около главных врат, изуродованных тараном, но еще державшихся. С трепетом ждали они решительного удара — того удара, который высадит дверь. Каждый старался быть поближе к ней, чтобы, когда она откроется, первому вбежать в этот роскошный собор, в это громадное хранилище, где скопились богатства трех столетий. Рыча от восторга и жадности, напоминали они друг другу о великолепных серебряных распятиях, великолепных парчовых ризах, великолепных надгробных плитах золоченого серебра, о пышной роскоши хоров, об ослепительных празднествах — о Рождестве, сверкающем факелами, о Пасхе, залитой солнечным сиянием, о всех этих блестящих торжествах, когда раки с мощами, подсвечники, дароносицы, дарохранительницы, ковчежцы, словно броней из золота и алмазов, покрывали алтари. Несомненно, в эту прекрасную минуту все эти домушники и хиляки, все эти мазурики и лжепогорельцы гораздо меньше были озабочены освобождением цыганки, чем разграблением собора Богоматери. Мы даже охотно поверим, что для доброй половины из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только ворам вообще нужен какой-нибудь предлог.
Внезапно, в тот миг, когда они сгрудились вокруг тарана в последнем усилии, сдерживая дыхание и напрягая мускулы для решительного удара, раздался вой, еще более ужасный, чем тот, который, разразившись среди них, замер под упавшим бревном. Те, кто не кричал, кто еще был жив, взглянули вверх. Два потока расплавленного свинца лились с верхушки здания в самую гущу толпы. Море людей как бы осело под кипящим металлом, образовавшим в толпе, куда он низвергался, две черные дымящиеся дыры, какие остались бы в снегу от кипятка. В толпе корчились умирающие, вопившие от муки, наполовину обугленные. От двух главных струй разлетались брызги этого ужасного дождя, осыпая осаждавших, огненными буравами впиваясь в их черепа. Несчастные были изрешечены тысячами этих тяжелых огненных градин.
Слышались раздирающие душу вопли. Смельчаки и трусы — все побежали кто куда, бросив таран на трупы, и паперть опустела вторично.
Все глаза устремились на верхушку собора. То, что предстало перед ними, было необычайно. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, — огромное, беспорядочное и яростное, пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. Под этим пламенем, под темной балюстрадой с пламенеющими трилистниками две водосточные трубы, словно пасти чудовищ, изрыгали жгучий дождь, серебристые струи которого сверкали на темной нижней части фасада. По мере приближения к земле оба потока жидкого свинца расходились снопами, точно вода, брызжущая сквозь тысячу отверстий лейки. И над этим пламенем громадные башни, стороны которых — одна багровая, другая совершенно черная — резко отделялись друг от друга, казалось, стали еще выше на всю безмерную величину отбрасываемых ими теней, достигавших самого неба.
Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и драконов приобрели зловещий вид. Чудилось, они оживают на глазах в колеблющихся отблесках пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку, рыльца водосточных труб словно заливались лаем, саламандры раздували огонь, драконы чихали, задыхаясь в дыму. И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим пламенем и шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне костра, точно летучая мышь, проносящаяся перед свечой.
Без сомнения, этот невиданный маяк должен был разбудить дровосеков на дальних холмах Бисетра и испугать их гигантскими тенями башен собора, пляшущими на поросших вереском склонах.
Среди бродяг, пораженных ужасом, воцарилась тишина; слышались лишь тревожные крики каноников, запершихся в монастыре и объятых большей паникой, чем лошади в горящей конюшне, приглушенный стук быстро открываемых и еще быстрее закрываемых окон, переполох в жилищах и в Отель-Дье, стенание ветра в пламени, предсмертный хрип умирающих да непрерывное потрескивание свинцового дождя, падавшего на мостовую.
Между тем главари бродяг удалились под портик особняка Гонделорье, где стали держать совет. Герцог египетский, присев на тумбу, с каким-то суеверным страхом всматривался в фантастический костер, пылавший на двухсотфутовой высоте. Клопен Труйльфу в бешенстве кусал свои кулаки.
— Войти невозможно! — бормотал он сквозь зубы.
— Старая колдовка, а не церковь! — ворчал старый цыган Матиас Хунгади Спикали.
— Клянусь усами Папы, — сказал седой пройдоха, бывший военный, — эти церковные желоба плюются расплавленным свинцом не хуже Лектурских бойниц[327]!
— А вы видите этого дьявола, который мелькает перед огнем? — воскликнул герцог египетский.
— Черт возьми, — сказал Клопен, — да ведь это проклятый звонарь! Это Квазимодо!
Цыган покачал головой:
— Говорю вам, что это дух Сабнак, великий маркиз, демон укреплений. Он похож на вооруженного воина с львиной головой. Иногда он показывается верхом на безобразном коне. Он превращает людей в камни, из которых потом строит башни. У него под командой пятьдесят легионов. Это, конечно, он. Я узнаю его. Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье, сшитое вроде как у турок.
— Где Бельвинь Этуаль? — спросил Клопен.
— Он убит, — ответила одна из воровок. Андри Рыжий захохотал идиотским смехом.
— Собор Богоматери задал-таки работу госпиталю! — сказал он.
— Неужели нет никакой возможности выломать эту дверь? — спросил король Алтынный, топнув ногой.
Но герцог египетский печальным жестом указал ему на два потока кипящего свинца, не перестававших бороздить черный фасад, словно два длинных фосфорических веретена.
— Бывали и прежде примеры, что церкви защищались сами, — заметил он, вздыхая. — Сорок лет тому назад собор Святой Софии в Константинополе три раза кряду повергал на землю полумесяц Магомета, потрясая куполами, точно головой. Гильом Парижский, строивший этот храм, был колдун.
— Неужели мы так и уйдем с пустыми руками, точно какая-нибудь мразь с большой дороги? — сказал Клопен. — Неужели оставим там нашу сестру, которую эти волки в клобуках[328] завтра повесят?
— И ризницу, где целые возы золота! — добавил один бродяга, имя которого, к сожалению, до нас не дошло.
— Борода Магомета! — воскликнул Труйльфу.
— Попытаемся еще раз, — предложил бродяга. Матиас Хунгади покачал головой.
— Через дверь нам не войти. Надо отыскать изъян в броне старой ведьмы. Какую-нибудь дыру, потайной выход, какую-нибудь щель.
— Кто за это? — сказал Клопен. — Я возвращаюсь туда. А кстати, где же этот маленький школяр Жеан, который был так обвешан железом?
— Он, вероятно, убит, — ответил кто-то. — Не слышно, чтобы он смеялся.
Король Алтынный нахмурил брови.
— Тем хуже. Под этим железным хламом билось мужественное сердце. А мэтр Пьер Гренгуар?
— Капитан Клопен, — сказал Андри Рыжий, — тот удрал, когда мы были еще на мосту Менял.
Клопен топнул ногой.
— Рыло Господне! Сам втравил нас в это дело, а потом бросил в самое горячее время! Трусливый болтун! Стоптанный башмак!
— Капитан Клопен, — крикнул Андри Рыжий, глядевший на Папертную улицу, — вон маленький школяр!
— Хвала Плутону! — воскликнул Клопен. — Но какого черта тащит он за собой?
Действительно, это был Жеан, бежавший так скоро, как только ему позволяли его тяжелые рыцарские доспехи и длинная лестница, которую он отважно волочил по мостовой, надсаживаясь, как муравей, ухватившийся за стебель в двадцать раз длиннее самого себя.
— Победа! Те Deum![329]— орал школяр. — Вот лестница грузчиков с пристани Сен-Ландри.
Клопен подошел к нему.
— Что это ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта лестница?
— Я достал-таки ее, — задыхаясь, ответил Жеан. — Я знал, где она находится. В сарае заместителя верховного судьи. Там живет одна моя знакомая девчонка, которая находит, что я красив, как купидон. Я воспользовался этим, чтобы добыть лестницу, и достал ее. Клянусь Магометом! А девчоночка вышла отворить мне в одной сорочке.
— Так, — ответил Клопен, — но на что тебе лестница?
Жеан лукаво и самоуверенно взглянул на него и прищелкнул пальцами, как кастаньетами. Он был великолепен в эту минуту. Его голову украшал один из тех тяжелых шлемов пятнадцатого века, фантастические гребни которых устрашали врагов. Шлем этот топорщился целым десятком клювов, так что Жеан вполне мог бы оспаривать грозный эпитет δεεεμβολοε[330], данный Гомером кораблю Нестора.
— На что она мне понадобилась, августейший король Алтынный? А вы видите ряд статуй с глупыми рожами вон там, над тремя порталами?
— Вижу. А дальше что?
— Это галерея французских королей.
— А мне какое дело? — сказал Клопен.
— Да постойте! В конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Я взберусь по этой лестнице — и вот я уже в церкви.
— Дай мне взобраться первому, мальчуган!
— Ну нет, приятель, лестница-то ведь моя! Идемте, вы будете вторым.
— Чтобы тебя Вельзевул удавил! — проворчал Клопен. — Я не желаю быть вторым.
— Ну тогда, Клопен, поищи себе лестницу!
И Жеан пустился бежать по площади, волоча за собой свою добычу и крича: «За мной, ребята!»
В одно мгновение лестницу подняли и приставили к балюстраде нижней галереи над одним из боковых порталов. Толпа бродяг, испуская громкие крики, толпилась у ее подножия, чтобы взобраться по ней. Но Жеан отстоял свое право и первым ступил на лестницу. Подъем был довольно продолжительным. Галерея французских королей ныне находится на высоте около шестидесяти футов над мостовой. А в те времена одиннадцать ступеней крыльца поднимали ее еще выше. Жеан взбирался медленно, сильно стесненный своим тяжелым вооружением, одной рукой держась за ступеньку, другой сжимая самострел. Добравшись до середины лестницы, он бросил меланхолический взгляд вниз, на тела бедных арготинцев, устилавших паперть.
— Увы, — сказал он, — вот груда трупов, достойная пятой песни «Илиады»!
И он продолжал подниматься. Бродяги следовали за ним. На каждой ступеньке было по человеку. Эту извивавшуюся в темноте линию покрытых латами спин можно было принять за змею со стальной чешуей, ползущую по стене собора. Жеан, поднимавшийся первым, свистом дополнял иллюзию.
Наконец школяр добрался до выступа галереи и довольно ловко вскочил на нее при одобрительных криках воровской братии. Овладев таким образом цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же, словно окаменев, умолк. Он заметил позади одной из королевских статуй Квазимодо, притаившегося в потемках. Глаз Квазимодо сверкал.
Прежде чем второй осаждающий успел ступить на галерею, чудовищный горбун прыгнул к лестнице, молча схватил ее за концы своими могучими ручищами, сдвинул ее, отделил от стены, раскачал среди криков ужаса эту длинную, пружинившую под телами лестницу, унизанную сверху донизу бродягами, и внезапно с нечеловеческой силой толкнул эту живую гроздь на площадь. Наступила минута, когда даже у самых отважных забилось сердце. Отброшенная назад лестница одно мгновение стояла прямо, как бы колеблясь, затем качнулась и вдруг, описав страшную дугу, радиус которой составлял восемьдесят футов, быстрее, чем подъемный мост, у которого оборвались цепи, обрушилась со всем своим человеческим грузом на мостовую. Раздались ужасающие проклятия, затем все смолкло, и несколько несчастных, искалеченных бродяг выползло из-под груды убитых.
Только что звучавшие победные крики сменились воплями скорби и гнева. Квазимодо стоял неподвижно, опершись о балюстраду локтями, и глядел вниз. Он был похож на древнего меровингского короля, смотрящего из своего окна.
Жеан Фролло оказался в затруднительном положении. Он очутился на галерее один на один с грозным звонарем, отделенный от своих товарищей отвесной стеной в восемьдесят футов. Пока Квазимодо возился с лестницей, школяр подбежал к дверце потайного хода, думая, что она открыта. Увы! Глухой, выйдя на галерею, запер ее за собой. Тогда Жеан спрятался за одним из каменных королей, боясь вздохнуть и устремив на страшного горбуна растерянный взгляд, подобно человеку, который, ухаживая за женой сторожа при зверинце и отправившись однажды на любовное свидание, ошибся местом, когда перелезал через стену, и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем.
В первую минуту глухой не обратил на него внимания; наконец он повернул голову и вдруг выпрямился. Он заметил школяра.
Жеан приготовился к жестокому нападению, но глухой стоял неподвижно; он лишь повернулся к школяру и смотрел на него.
— Хо! Хо! Что ты так печально смотришь на меня своим кривым глазом? — спросил Жеан.
Молодой повеса исподтишка готовил свой самострел.
— Квазимодо! — крикнул он. — Я хочу заменить твою кличку. Отныне тебя будут называть Слепцом!
Он выстрелил. Оперенная стрела просвистела в воздухе и вонзилась в левую руку горбуна. Квазимодо обратил на это столько же внимания, как если бы она оцарапала статую короля Фарамонда. Он вытащил стрелу и спокойно переломил ее о свое толстое колено. Затем он бросил, вернее, уронил ее обломки. Но Жеан не успел выстрелить вторично. Квазимодо, шумно вздохнув, прыгнул, словно кузнечик, и обрушился на школяра, латы которого сплющились от удара о стену.
И тогда в этом полумраке при колеблющемся свете факелов произошло нечто ужасное.
Квазимодо схватил левой рукой обе руки Жеана, который уже не сопротивлялся, чувствуя, что погиб. Правой рукой горбун молча, со зловещей медлительностью стал снимать с него один за другим все его доспехи — шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручни, — словно обезьяна, шелушащая орех. Кусок за куском бросал Квазимодо к своим ногам железную скорлупу школяра.
Когда Жеан увидел себя обезоруженным, раздетым, слабым и беспомощным во власти этих страшных рук, он даже не попытался говорить с глухим, но дерзко расхохотался ему в лицо и с неустрашимой беззаботностью шестнадцатилетнего мальчишки запел популярную в то время песенку:
В пышном наряде, весь раздобрел Прекрасный город Камбре. Его догола Марафен раздел…Он не закончил. Квазимодо, вскочив на парапет галереи, одной рукой схватил школяра за обе ноги и принялся вращать им над бездной, словно пращой. Затем раздался звук, похожий на тот, который издает разбившаяся о стену костяная шкатулка; сверху что-то полетело и остановилось, зацепившись на трети пути за какой-то архитектурный выступ. То был уже бездыханный труп, повисший там, согнувшись пополам, с переломанным хребтом и размозженным черепом.
Крик ужаса пронесся среди бродяг.
— Месть! — рычал Клопен.
— Грабить! — подхватила толпа. — На приступ! На приступ!
И затем раздался неистовый рев, в котором слились все языки, все наречия, все произношения. Смерть несчастного школяра вдохнула в толпу пламя ярости. Ею овладели стыд и гнев при мысли, что какой-то горбун мог так долго держать ее в бездействии перед собором. Бешеная злоба помогла отыскать лестницы, новые факелы, и спустя несколько минут растерявшийся Квазимодо увидел, как этот ужасный муравейник полез на приступ собора Богоматери. Те, у кого не было лестницы, запаслись узловатыми веревками; те, у кого не было веревок, карабкались, хватаясь за скульптурные украшения. Одни цеплялись за рубище других. Не было никакой возможности противостоять все возраставшему приливу этих ужасных физиономий. Свирепые лица пылали от ярости, землистые лбы заливал пот, глаза сверкали. Все эти уроды, все эти рожи обступили Квазимодо; можно было подумать, что какой-то другой храм выслал на штурм собора Богоматери своих горгон, псов, свои маски, своих демонов, свои самые фантастические изваяния. Они казались слоем живых чудовищ на каменных чудовищах фасада.
Тем временем площадь зажглась тысячью факелов. Беспорядочная картина боя, до сей поры погруженная во мрак, внезапно озарилась светом. Соборная площадь сверкала огнями, бросая их отблеск в небо. Костер, разложенный на верхней площадке, продолжал полыхать, далеко освещая город. Огромный силуэт башен четко выступал над крышами Парижа, образуя издали на этом светлом фоне широкий черный выем. Город, казалось, всколыхнулся. Со всех сторон доносился стонущий звон набата. Бродяги, рыча, задыхаясь, богохульствуя, взбирались наверх, а Квазимодо, бессильный против такого количества врагов, дрожа за жизнь цыганки и видя, как все ближе и ближе подвигаются к его галерее разъяренные лица, в отчаянии ломая руки, молил Небо о чуде.
Глава 5
Келья, в которой Людовик Французский читает Часослов
Читатель, быть может, помнит, что за минуту перед тем, как Квазимодо заметил в ночном мраке шайку бродяг, он, обозревая с высоты своей башни Париж, увидел только один огонек, светившийся в окне самого верхнего этажа высокого и мрачного здания рядом с Сент-Антуанскими воротами. Этим зданием была Бастилия. Этой мерцавшей звездочкой была свеча Людовика XI.
Король Людовик XI действительно уже два дня был в Париже. Через день он предполагал вновь отбыть в свой укрепленный замок Монтиль-ле-Тур. Он вообще лишь редкими и короткими наездами появлялся в своем добром городе Париже, находя, что в нем недостаточно потайных ходов, виселиц и шотландских стрелков.
Эту ночь он решил провести в Бастилии. Огромный его покой в Лувре, в пять квадратных туазов[331] с большим камином, украшенным изображениями двенадцати огромных животных и тринадцати великих пророков, с просторным ложем одиннадцати футов в ширину и двенадцати в длину, мало привлекал его. Он терялся среди всего этого величия. Этот король, обладавший вкусами скромного горожанина, предпочитал каморку с узкой постелью в Бастилии. К тому же Бастилия была лучше укреплена, чем Лувр.
«Каморка», которую король отвел себе в знаменитой государственной тюрьме, была все же достаточно обширна и занимала самый верхний этаж башенки, возведенной на главной замковой башне. Это была уединенная комната круглой формы, обитая блестящими соломенными циновками, с цветным потолком, который перерезали балки, увитые лилиями из позолоченного олова, с деревянными панелями, окрашенными красивой ярко-зеленой краской, составленной из реальгара[332] и индиго[333], и усеянными розетками из белой оловянной глазури.
В ней было лишь одно высокое стрельчатое окно, забранное решеткой из медной проволоки и железных прутьев и затемненное помимо этого великолепными цветными, с изображением гербов короля и королевы, стеклами, каждое из которых стоило по двадцать два су.
В ней был лишь один вход, одна дверь с низкой аркой, во вкусе того времени, обитая изнутри вышитым ковром и снабженная снаружи портиком из ирландской сосны — хрупким сооружением тонкой и искусной столярной работы, которое часто можно было видеть в старинных домах еще лет полтораста тому назад. «Хотя они обезображивают и загромождают жилища, — говорит с отчаянием Соваль, — тем не менее наши старики не желают расставаться с ними и сохраняют их наперекор всему».
Но в этой комнате нельзя было найти обычного для того времени убранства: никаких скамей — ни длинных, с мягкими сиденьями, ни в форме ларей, ни табуретов на трех ножках, ни прелестных скамеечек на резных подставках, стоивших по четыре су каждая. В ней стояло лишь одно, роскошное складное кресло; его деревянные части были разрисованы розами на красном фоне, а сиденье алой кордовской кожи украшено длинной шелковой бахромой и усеяно тысячей золотых гвоздиков. Это одинокое кресло указывало на то, что лишь одна особа имела право сидеть в этой комнате. Рядом с креслом, возле самого окна, стоял стол, покрытый ковром с изображениями птиц. На столе — письменный прибор в чернильных пятнах, несколько свитков пергамента, несколько перьев и серебряный чеканный кубок. Чуть подальше — переносная печь, аналой, обитый темно-красным бархатом и украшенный золотыми шишечками. Наконец, в глубине стояла простая кровать, накрытая покрывалом желто-красного штофа, без мишуры и позументов, со скромной бахромой. Эту самую кровать, знаменитую тем, что она навевала сон или бессонницу на Людовика XI, можно было лицезреть еще двести лет спустя в доме одного государственного советника, где ее видела на старости лет госпожа Пилу, прославленная в романе «Кир» под именем Аррицидии, или «Олицетворенной нравственности».
Такова была комната, называвшаяся «кельей, в которой Людовик Французский читает Часослов».
В ту минуту, когда мы ввели в нее читателя, комната тонула во мраке. Сигнал к тушению огней был подан уже час тому назад, наступила ночь, на столе мерцала только одна жалкая восковая свеча, озарявшая пять человек, собравшихся в этой комнате.
Первый, на которого падал свет, был вельможа в роскошном костюме, состоявшем из широких коротких штанов, пунцового камзола в серебряных полосах и плаща с парчовыми в черных разводах широкими рукавами. Этот великолепный наряд, на котором переливался свет, казалось, излучал пламя каждой своей складкой. На груди у него был вышит яркими шелками герб: две полоски, составляющие угол вершиною вверх, а под ним — бегущая лань. С правой стороны гербового щита — масличная ветвь, с левой — олений рог. На поясе висел богатый кинжал, золоченая рукоятка которого была похожа на гребень шлема с графской короной наверху. У этого человека было злое лицо, высокомерный вид, горделиво поднятая голова. Прежде всего бросалась в глаза его надменность, затем хитрость.
Держа в руках длинный свиток, он с непокрытой головой стоял за креслом, в котором, неуклюже согнувшись, закинув ногу на ногу и облокотившись о стол, сидела весьма убого одетая фигура. Вообразите себе в этом пышном, обитом кордовской кожей кресле угловатые колени, тощие ляжки в поношенном трико из черной шерсти, туловище, облаченное в фланелевый кафтан, отороченный облезлым мехом, и в качестве головного убора — старую засаленную шляпу из самого скверного черного сукна с прикрепленными вокруг всей тульи свинцовыми фигурками. Прибавьте к этому грязную ермолку, почти скрывавшую волосы, — вот и все, что можно было разглядеть в этой сидевшей фигуре. Голова этого человека так низко склонилась на грудь, что лицо тонуло в тени и виднелся лишь кончик длинного носа, на который падал луч света. По его иссохшим, морщинистым рукам нетрудно было догадаться, что он старик. Это был Людовик XI.
Несколько поодаль, за их спинами, беседовали вполголоса двое мужчин, одетых в платье фламандского покроя. Оба они были хорошо освещены, и те, кто присутствовал на представлении мистерии Гренгуара, тотчас распознали бы в них двух главных послов Фландрии: Гильома Рима, проницательного сановника из города Гента, и любимого народом чулочника Жака Копеноля. Читатель припомнит, что эти два человека были причастны к тайной политике Людовика XI.
Наконец, в самой глубине комнаты, возле двери, неподвижно, как статуя, стоял в полутьме крепкий, коренастый человек в военных доспехах, в кафтане, вышитом гербами. Его квадратное лицо с низким лбом, глазами навыкате, с огромной щелью рта и широкими прядями прилизанных волос, закрывавшими уши, напоминало одновременно и пса, и тигра.
У всех, кроме короля, были обнажены головы.
Вельможа, стоявший подле короля, читал ему что-то вроде длинной докладной записки, которую тот, казалось, слушал очень внимательно. Оба фламандца перешептывались.
— Крест Господень! — ворчал Копеноль. — Я устал стоять. Неужели здесь нет ни одного стула?
Рим, сдержанно улыбаясь, ответил отрицательным жестом.
— Крест Господень! — опять заговорил Копеноль, чувствуя себя несчастным от необходимости понижать голос. — Меня так и подмывает усесться на пол, поджав под себя ноги, по обычаю чулочников, как я это делаю у себя в лавке.
— Ни в коем случае, мэтр Жак!
— Неужто, мэтр Гильом! Значит, здесь дозволяется только стоять на ногах?
— Или на коленях, — отрезал Рим.
В эту минуту король повысил голос. Они умолкли.
— Пятьдесят су за ливреи наших слуг и двенадцать ливров за плащи для нашей королевской свиты! Так! Так! Рассыпайте золото бочками! Вы с ума сошли, Оливье?
Старик поднял голову. На его шее блеснули золотые раковины цепи ордена Святого Михаила. Свет упал на его сухой и угрюмый профиль. Он вырвал бумагу из рук Оливье.
— Вы нас разоряете! — крикнул он, пробегая записку своими ввалившимися глазами. — Что это такое? На что нам такой придворный штат? Два капеллана[334] по десять ливров в месяц каждый и служка в часовне по сто су! Камер-лакей по девяносто ливров в год! Четыре стольника по сто двадцать ливров в год каждый! Надсмотрщик за рабочими, огородник, помощник повара, главный повар, хранитель оружия, два писца для ведения счетов по десять ливров в месяц каждый! Двое поварят по восьми ливров! Конюх и его два помощника по двадцать четыре ливра в месяц! Рассыльный, пирожник, хлебопек, два возчика по шестьдесят ливров в год каждый! Старший кузнец — сто двадцать ливров! А казначей — тысяча двести ливров, а контролер — пятьсот! Нет, это безумие! Содержание наших слуг разоряет Францию! Все богатство Лувра растает на огне такой расточительности! Этак нам придется распродать нашу посуду! И в будущем году, если Бог и Пречистая Богоматерь (тут он приподнял свою шляпу) продлят нашу жизнь, нам придется пить лекарство из оловянной кружки!
При этом он бросил взгляд на серебряный кубок, сверкавший на столе. Откашлявшись, он продолжал:
— Мэтр Оливье, правители, поставленные во главе больших владений, например короли и императоры, не должны допускать роскошь при своих дворах, ибо отсюда этот огонь перебрасывается в провинцию. Итак, мэтр Оливье, запомните это раз и навсегда! Наши расходы возрастают ежегодно. Это нам не нравится. Как же так? Клянусь Пасхой! До семьдесят девятого года они не превышали тридцати шести тысяч ливров. В восьмидесятом они достигли сорока трех тысяч шестисот девятнадцати ливров. Я отлично помню эти цифры! В восемьдесят первом году — шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят ливров, а в нынешнем году — клянусь душой! — дойдет до восьмидесяти тысяч. В четыре года они выросли вдвое! Чудовищно!
Он замолчал, тяжело дыша, затем с запальчивостью продолжал:
— Я вижу вокруг только людей, жиреющих за счет моей худобы! Вы высасываете экю из всех моих пор!
Все молчали. Это был один из тех припадков гнева, которые следовало переждать. Он продолжал:
— Это напоминает то прошение на латинском языке, с которым обратилось к нам французское дворянство, чтобы мы снова возложили на него «бремя» так называемой почетной придворной службы! Это действительно бремя! Бремя, от которого хребет трещит! Вы, государи мои, уверяете, что мы не настоящий король, ибо царствуем dapifero nullo, buticulario nullo[335]! Мы вам покажем, клянусь Пасхой, король мы или нет!
Тут он улыбнулся в сознании своего могущества, его раздражение улеглось, и он обратился к фламандцам:
— Видите ли, кум Гильом, все эти главные кравчие, главные виночерпии, главные камергеры и главные дворецкие не стоят последнего лакея. Запомните это, кум Копеноль, от них нет никакого проку. Они без всякой пользы торчат возле короля вроде четырех статуй евангелистов, окружающих циферблат больших дворовых часов, только что подновленных Филиппом де Брилем. На этих статуях много позолоты, но времени они не указывают, и часовая стрелка обошлась бы и без них.
Он на минуту задумался и затем добавил, покачивая седой головой:
— Хо, хо, клянусь Пресвятой Девой, я не Филипп де Бриль и не буду подновлять позолоту на знатных вассалах! Продолжайте, Оливье!
Человек, которого он называл этим именем, взял у него из рук тетрадь и снова стал читать вслух:
— «…Адаму Тенону, состоящему при хранителе печатей парижского превотства, за серебро, работу и чеканку оных печатей, кои пришлось сделать заново, ибо прежние ввиду их ветхости и изношенности стали не пригодны к употреблению, — двенадцать парижских ливров.
Гильому Фреру — четыре ливра четыре парижских су за его труды и расходы на прокорм и содержание голубей в двух голубятнях особняка Турнель в течение января, февраля и марта месяца сего года; на тот же предмет ему отпущено было семь мер ячменя.
Францисканскому монаху за то, что исповедал преступника, — четыре парижских су».
Король слушал молча. Иногда он покашливал. Тогда он подносил кубок к губам и, морщась, отпивал глоток.
— «В истекшем году, по распоряжению суда, было сделано при звуках труб на перекрестках Парижа пятьдесят шесть оповещений. Счет подлежит оплате.
На поиски и раскопки, произведенные как в самом Париже, так и в других местностях с целью отыскать клады, которые, по слухам, там были зарыты, хотя ничего и не было найдено, — сорок пять парижских ливров».
— Это значит зарыть экю, чтобы вырыть су! — заметил король.
— «…За доделку шести панно из белого стекла в помещении, где находится железная клетка, в особняке Турнель, — тринадцать су. За изготовление и доставку, по повелению короля, в день праздника уродов четырех щитов с королевскими гербами, окруженными гирляндами из роз, — шесть ливров. За два новых рукава к старому камзолу короля — двадцать су. За коробку жира для смазки сапог короля — пятнадцать денье. За постройку нового хлева для черных поросят короля — тридцать парижских ливров. За несколько перегородок, помостов и подъемных дверей, кои были сделаны в помещении для львов при дворе Сен-Поль, — двадцать два ливра».
— Дорогонько обходятся эти звери, — заметил Людовик XI. — Ну да ладно, это чисто королевская затея! Там есть огромный рыжий лев, которого я люблю за его ужимки. Вы видели его, мэтр Гильом? Правителям следует иметь этаких диковинных зверей. Нам, королям, собаками должны служить львы, а кошками — тигры. Величие под стать венценосцам. Встарь, во время поклонения Юпитеру, когда народ в своих храмах приносил в жертву сто быков и столько же баранов, императоры дарили сто львов и сто орлов. В этом было что-то грозное и прекрасное. Короли Франции всегда слышали рычание этих зверей близ своего трона. Однако следует отдать справедливость, что я расходую на это все же меньше денег, чем мои предшественники, и что количество львов, медведей, слонов и леопардов у меня много скромнее. Продолжайте, мэтр Оливье. Мы только это и желали сказать нашим друзьям-фламандцам.
Гильом Рим низко поклонился, тогда как Копеноль стоял насупившись, напоминая одного из тех медведей, о которых говорил его величество. Король не обратил на это внимания. Он только что вновь отхлебнул из своего кубка и, отплевываясь, проговорил:
— Фу, что за противное зелье! Читавший продолжал:
— «За прокорм бездельника-бродяги, находящегося шесть месяцев под замком в камере для грабителей впредь до распоряжения, — шесть ливров четыре су».
— Что такое? — прервал король. — Кормить того, кого следует повесить? Клянусь Пасхой! Я больше не дам на это ни гроша! Оливье, поговорите с господином Эстутвилем и нынче же вечером приготовьте все, чтобы обвенчать этого молодца с виселицей. Дальше.
Оливье ногтем сделал пометку против статьи о «бездельнике-бродяге» и продолжал:
— «…Анрие Кузену — главному палачу города Парижа, по определению и распоряжению монсеньора парижского прево, выдано шестьдесят парижских су на покупку им, согласно приказу вышеупомянутого сьёра прево, большого широкого меча для обезглавливания и казни лиц, приговоренных к этому правосудием за их провинности, а также на покупку ножен и всех полагающихся к нему принадлежностей; а равным образом и на починку и подновление старого меча, треснувшего и зазубрившегося при совершении казни над мессиром Людовиком Люксембургским, из чего со всей очевидностью следует…»
— Довольно, — перебил его король. — Очень охотно утверждаю эту сумму. На такого рода расходы я не скуплюсь. На это я никогда не жалел денег. Продолжайте!
— «…На сооружение новой большой деревянной клетки…»
— Ага! — воскликнул король, взявшись обеими руками за ручки кресла. — Я знал, что недаром приехал в Бастилию. Погодите, мэтр Оливье! Я хочу сам взглянуть на эту клетку. Вы читайте мне счет издержек, пока я ее буду осматривать. Господа фламандцы, пойдемте взглянуть. Это любопытно.
Он встал, оперся на руку своего собеседника и, приказав знаком безмолвной личности, стоявшей у дверей, идти вперед, а двум фламандцам — следовать за собою, вышел из комнаты.
За дверьми кельи свита короля пополнилась закованными в железо воинами и маленькими пажами, несшими факелы. Некоторое время все они шествовали по внутренним ходам мрачной башни, прорезанной лестницами и коридорами, местами даже в самой толще стены. Комендант Бастилии шел во главе, приказывая отворять низкие узкие двери перед старым, больным, сгорбленным и кашлявшим во время пути королем.
Перед каждой дверкой все вынуждены были нагибаться, кроме уже согбенного летами короля.
— Гм! — бормотал он сквозь десны, ибо зубов у него не было. — Мы уже вполне готовы переступить порог могильного склепа. Согбенному путнику низенькая дверка.
Наконец, оставив за собой последнюю дверку, снабженную таким количеством замков, что понадобилось четверть часа, чтобы отпереть ее, они вошли в высокий обширный зал со стрельчатым сводом, посредине которого при свете факелов можно было разглядеть большой массивный куб из камня, железа и дерева. Внутри он был полый. То была одна из тех знаменитых клеток, предназначавшихся для государственных преступников, которые назывались «дочурками короля». В стенах этого куба были два или три оконца, забранных такой частой и толстой решеткой, что стекол не было видно. Дверью служила большая гладкая каменная плита наподобие могильной. Такая дверь отворяется лишь однажды, чтобы пропустить внутрь. Но здесь мертвецом был живой человек.
Король медленно обошел вокруг этого сооружения, тщательно его осматривая, в то время как мэтр Оливье, следовавший за ним по пятам, громко читал ему:
— «…На сооружение новой большой деревянной клетки из толстых бревен с рамами и лежнями, имеющей девять футов длины, восемь ширины и семь вышины от пола до потолка, отполированной и окованной толстыми железными полосами, которая была построена в помещении одной из башен Сент-Антуанской крепости и в которой заключен и содержится, по повелению нашего всемилостивейшего короля, узник, помещавшийся прежде в старой, ветхой, полуразвалившейся клетке. На означенную новую клетку израсходовано девяносто шесть бревен в ширину, пятьдесят два в вышину, десять лежней длиной в три туаза каждый; а для обтесывания, нарезки и пригонки на дворе Бастилии перечисленного леса наняты были девятнадцать плотников на двадцать дней…»
— Недурной дуб, — заметил король, постукивая по бревнам.
— «…На эту клетку пошло, — продолжал читающий, — двести двадцать толстых железных брусьев длиною в девять и восемь футов, не считая некоторого количества менее длинных, с добавлением к ним обручей, шарниров и скреп для упомянутых выше брусьев. Всего весу в этом железе три тысячи семьсот тридцать пять фунтов, кроме восьми толстых железных колец для прикрепления означенной клетки к полу, весящих вместе с гвоздями и скобами двести восемнадцать фунтов, да еще не считая веса оконных решеток в той комнате, где поставлена клетка, дверных железных засовов и прочего…»
— Только подумать, сколько железа потребовалось, чтобы обуздать легкомысленный ум! — сказал король.
— «…А стоимость всего — триста семнадцать ливров пять су и семь денье».
— Клянусь Пасхой! — воскликнул король.
При этой любимой поговорке Людовика XI внутри клетки что-то зашевелилось, раздался лязг цепей, ударявшихся об пол, и послышался слабый голос, выходивший, казалось, из могилы:
— Государь! Государь! Смилуйтесь! Человека, говорившего эти слова, не было видно.
— Триста семнадцать ливров пять су и семь денье! — повторил Людовик XI.
От жалобного голоса, раздавшегося из клетки, у всех захолонуло сердце, даже у самого мэтра Оливье. Лишь один король, казалось, не слышал его. По его приказанию мэтр Оливье возобновил чтение, и его величество хладнокровно продолжал осмотр клетки.
— «…Сверх того, заплачено каменщику, просверлившему дыры, чтобы вставить оконные решетки, и переложившему пол в помещении, где находится клетка, ибо иначе пол не выдержал бы тяжести клетки, — двадцать семь ливров четырнадцать парижских су…»
Снова послышался стенающий голос:
— Пощадите, государь! Клянусь вам, это не я учинил вам измену, а господин кардинал Анжерский!
— Дорогонько обошелся каменщик! — заметил король. — Продолжайте, Оливье.
Оливье продолжал:
— «…Столяру за наличники на окнах, за нары, стульчак и прочее — двадцать ливров два парижских су…»
— Увы, государь, — продолжал голос, — неужели вы не выслушаете меня? Заверяю вас: это не я написал монсеньору Гиенскому, а господин кардинал Балю!
— Дорого обходится нам и плотник, — сказал король. — Ну, все?
— Нет еще, государь. «…Стекольщику за стекло в окнах вышеупомянутой комнаты — сорок су восемь парижских денье».
— Смилуйтесь, государь! Неужто недостаточно того, что все мое имущество отдали судьям, мою утварь — господину Торси, мою библиотеку — мэтру Пьеру Дориолю, мои ковры — наместнику в Русильоне? Я не виновен. Вот уже четырнадцать лет, как я дрожу от холода в железной клетке. Смилуйтесь, государь! Небо воздаст вам за это!
— Мэтр Оливье, — спросил король, — какова же общая сумма?
— Триста шестьдесят семь ливров восемь су и три парижских денье.
— Матерь Божья! — воскликнул король. — Эта клетка — настоящее разорение!
Он вырвал тетрадь из рук мэтра Оливье и принялся сам пересчитывать по пальцам, глядя то в тетрадь, то на клетку. Оттуда доносились рыдания узника. В темноте они звучали такой скорбью, что все присутствующие, бледнея, переглядывались.
— Четырнадцать лет, государь! Вот уже четырнадцать лет с апреля тысяча четыреста шестьдесят девятого года! Именем Пресвятой Богородицы, государь, выслушайте меня! Вы все это время наслаждались солнечным теплом. Неужели же я, горемычный, никогда больше не увижу дневного света? Пощадите, государь! Будьте милосердны! Милосердие — это высокая добродетель монарха, побеждающая его гнев. Неужели ваше величество полагает, что для короля в его смертный час послужит великим утешением то, что ни одной обиды он не оставил без наказания? К тому же, государь, я не изменил вашему величеству, а изменил кардинал Анжерский. И все же к моей ноге прикована цепь с тяжелым железным ядром на конце; оно гораздо тяжелее, чем я того заслужил! О государь, сжальтесь надо мной!
— Оливье, — произнес король, покачивая головой, — я вижу, что мне посчитали известь по двадцать су за бочку, тогда как она стоит всего лишь двенадцать су. Выправьте этот счет.
Он повернулся спиной к клетке и направился к выходу. По тускнеющему свету факелов и звуку удаляющихся шагов несчастный узник заключил, что король уходит.
— Государь! Государь! — закричал он в отчаянии. Но дверь захлопнулась. Он больше никого не видел; он слышал только хриплый голос тюремщика, который над самым его ухом напевал:
Жан Балю, наш кардинал, Счет епархиям потерял, Он ведь прыткий. А его Верденский друг Растерял, как видно, вдруг Все до нитки!Король молча поднимался в свою келью, а его свита следовала за ним, приведенная в ужас стенаниями узника. Внезапно его величество повернулся к коменданту Бастилии:
— А кстати! Кажется, в этой клетке кто-то был?
— Да, государь! — ответил комендант, пораженный этим вопросом.
— А кто именно?
— Господин епископ Верденский.
Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было, но таковы были причуды его характера.
— А! — сказал он с самым простодушным видом, как будто только что вспомнил об этом. — Гильом де Аранкур, друг господина кардинала Балю. Добрый малый был епископ!
Через несколько минут дверь комнаты снова распахнулась и затем вновь затворилась за пятью лицами, которых читатель видел в начале этой главы и которые, заняв свои прежние места, приняли прежние позы и продолжали по-прежнему беседовать вполголоса.
В отсутствие короля на его стол положили несколько писем, которые он сам распечатал. Затем он быстро, одно за другим, прочел их и дал знак мэтру Оливье, по-видимому исполнявшему при нем должность первого министра, чтобы тот взял перо. Не сообщая ему содержания бумаг, король тихим голосом стал диктовать ответы, которые тот записывал в довольно неудобной позе, опустившись на колени у стола.
Господин Рим внимательно наблюдал за ним.
Но король говорил так тихо, что до фламандцев долетали лишь обрывки малопонятных фраз, как, например:
«…Поддерживать торговлею плодородные местности и мануфактурами — местности бесплодные… Показать господам английским вельможам наши четыре бомбарды: «Лондон», «Брабант», «Бург-ан-Брес» и «Сент-Омер»… Артиллерия является причиной того, что война ведется ныне более осмотрительно… Нашему другу господину де Бресюиру… Армию нельзя содержать, не взимая дани» и т. д.
Впрочем, один раз он возвысил голос:
— Клянусь Пасхой! Его величество король сицилийский запечатывает свои грамоты желтым воском, точно король Франции. Мы, пожалуй, напрасно дозволили ему это. Мой любезный кузен, герцог Бургундский, никому не давал герба с червленым полем. Величие царственных домов зиждется на неприкосновенности привилегий. Запишите это, Оливье.
В другой раз он воскликнул:
— О-о! Какое пространное послание! Чего хочет от нас наш брат император? — И он пробежал письмо, прерывая свое чтение восклицаниями: — Оно точно! Немцы так многочисленны и так сильны, что едва веришь этому! Но мы не забываем старую поговорку: «Нет графства прекрасней Фландрии; нет герцогства прекраснее Милана; нет королевства прекраснее Франции!» Не так ли, господа фламандцы?
На этот раз Копеноль поклонился одновременно с Гильомом Римом. Патриотическое чувство чулочника было приятно задето.
Последнее письмо заставило Людовика XI нахмуриться.
— Это еще что такое? Челобитные и жалобы на наши пикардийские гарнизоны? Оливье, пишите побыстрее господину маршалу Руо. Пишите, что дисциплина ослабла, что вестовые, призванные в войска дворяне, вольные стрелки и швейцарцы наносят бесчисленные обиды селянам… Что воины, не довольствуясь тем добром, которое находят в доме земледельцев, принуждают их с помощью палочных ударов или копий ехать в город за вином, рыбой, пряностями и прочим, что является излишеством. Напишите, что его величеству королю известно об этом… Что мы желаем оградить наш народ от неприятностей, грабежей и вымогательств… Что такова наша воля, клянусь Царицей Небесной!.. Кроме того, нам не угодно, чтобы какие-нибудь гудочники, цирюльники или другая войсковая челядь наряжались, точно князья, в бархат, шелковое сукно и золотые перстни. Что подобное тщеславие не угодно Господу Богу… Что и мы сами, хотя и дворянин, довольствуемся камзолом из сукна по шестнадцать су за парижский локоть… Что, следовательно, и господа обозные служители тоже могут снизойти до этого. Отпишите и предпишите… Господину Руо, нашему другу… Хорошо!
Он продиктовал это послание громко, твердо, отрывисто. В ту минуту, когда он заканчивал его, дверь распахнулась и пропустила новую фигуру, которая стремглав вбежала в комнату, растерянно крича:
— Государь! Государь! Парижская чернь бунтует! Строгое лицо Людовика XI исказилось, но волнение это промелькнуло на его лице, как молния. Он сдержал себя и со спокойной строгостью сказал:
— Кум Жак, вы слишком неожиданно врываетесь сюда!
— Государь! Государь! Мятеж! — задыхаясь, повторил кум Жак.
Король, вставший со своего кресла, грубо схватил его за плечо и со сдержанным гневом, искоса поглядывая на фламандцев, шепнул ему на ухо так, чтобы слышал лишь он один:
— Замолчи или говори тише! Новоприбывший понял и начал шепотом сбивчивый рассказ. Король слушал спокойно. Гильом Рим обратил внимание Копеноля на лицо и на одежду новоприбывшего, на его меховую шапку — caputia forrata, короткую епанчу — epitogia curta, и длинную нижнюю одежду из черного бархата, которая изобличала в нем председателя счетной палаты.
Едва этот человек начал свои объяснения, Людовик XI, расхохотавшись, воскликнул:
— Да неужели? Говори же громче, кум Куактье! Что ты там шепчешь? Божья Матерь знает, что у нас нет никаких тайн от наших друзей-фламандцев.
— Но, государь…
— Говори громче!
Кум Куактье молчал, онемев от изумления.
— Итак, — вновь заговорил король, — рассказывайте же, сударь. В нашем добром городе Париже произошло возмущение черни?
— Да, государь.
— Которое направлено, по вашим словам, против господина главного судьи Дворца правосудия?
— По-видимому, так, — бормотал кум, все еще ошеломленный резким необъяснимым поворотом в образе мыслей короля.
Людовик XI спросил:
— А где же ночной дозор встретил толпу?
— На пути от Большой Бродяжной к мосту Менял. Да я и сам их там встретил, когда направился сюда за распоряжениями вашего величества. Я слышал, как некоторые из толпы орали: «Долой главного дворцового судью!»
— А что они имеют против судьи?
— Да ведь он их ленный владыка!
— В самом деле?
— Да, государь. Это ведь канальи из Двора чудес. Они уже сколько времени жалуются на судью, вассалами которого состоят. Они не желают признавать его ни как судью, ни как сборщика дорожных пошлин.
— Вот как! — воскликнул король, тщетно стараясь скрыть довольную улыбку.
— Во всех своих челобитных, которыми они засыпают высшую судебную палату, — продолжал кум Жак, — они утверждают, что у них только два властелина: ваше величество и их бог, который, я полагаю, сам дьявол.
— Эге! — сказал король.
Он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, который заставляет сиять все лицо. Он не мог скрыть своей радости, хотя временами и силился придать своему лицу приличествующее случаю выражение.
Никто ничего не понимал, даже мэтр Оливье. Король несколько мгновений молчал с задумчивым, но довольным видом.
— А много их? — спросил он внезапно.
— Да, государь, немало, — ответил кум Жак.
— Сколько?
— По крайней мере тысяч шесть. Король не мог удержаться и воскликнул:
— Отлично! А они вооружены? — продолжал он.
— Косами, пиками, пищалями, мотыгами. Множество самого опасного оружия.
Но король, по-видимому, нимало не был обеспокоен этим перечислением.
Кум Жак счел нужным добавить:
— Если вы, ваше величество, не прикажете сейчас же послать помощь судье, он погиб.
— Мы пошлем, — ответил король с напускной серьезностью. — Хорошо. Конечно, пошлем. Господин судья — наш друг. Шесть тысяч! Вот так отчаянные головы! Их дерзость неслыханна, и мы на них очень гневаемся. Но в эту ночь у нас под рукой мало людей… Мы успеем послать и завтра утром.
— Немедленно, государь! — вскричал кум Жак. — Иначе здание суда будет двадцать раз разгромлено, права сюзерена попраны, а судья повешен. Ради Бога, государь, пошлите, не дожидаясь завтрашнего утра!
Король взглянул на него в упор.
— Я сказал — завтра утром.
Это был взгляд, не допускающий возражения. Помолчав, Людовик XI снова возвысил голос:
— Кум Жак, вы как будто должны знать об этом. Каковы были… — Он поправился: — Каковы феодальные права судьи Дворца правосудия?
— Государь, дворцовому судье принадлежит Прокатная улица вплоть до Зеленого рынка, площадь Сен-Мишель и строения, в просторечии именуемые Трубой, расположенные близ собора Нотр-Дам-де-Шан (тут Людовик XI слегка приподнял свою шляпу), каковых всего насчитывается тринадцать, кроме того, Двор чудес, затем больница для прокаженных, именуемая Пригородом, и вся дорога от этой больницы до ворот Сен-Жак. Во всех этих частях города он смотритель дорог, олицетворение судебной власти — высшей, средней и низшей, полновластный владыка.
— Вон оно что! — произнес король, почесывая правой рукой за левым ухом. — Это порядочный ломоть моего города! Ага! Значит, господин судья был над всем этим властелин?
На этот раз он не поправился и продолжал в раздумье, как бы рассуждая сам с собой:
— Прекрасно, господин судья! Недурной кусочек нашего Парижа был в ваших зубах! — Вдруг он разразился: — Клянусь Пасхой! Что это за господа такие, которые присвоили себе у нас права смотрителей дорог, судей, ленных владык и хозяев? На каждом поле у них своя застава, на каждом перекрестке — свой суд и свои палачи. Таким образом, подобно греку, у которого было столько же богов, сколько источников в его стране, или персу, у которого было столько же богов, сколько он видел звезд на небе, француз насчитывает столько же королей, сколько замечает виселиц! Черт возьми! Это вредно, и мне такой беспорядок не нравится. Я бы хотел знать, есть ли на то воля Всевышнего, чтобы в Париже имелся другой смотритель дорог, кроме короля, другое судилище, поимо нашей судебной палаты, и другой государь в нашем государстве, кроме меня! Клянусь душой, пора уже прийти тому дню, когда во Франции будет один король, один владыка, один судья и один палач, подобно тому как в раю есть только один Бог!
Он еще раз приподнял свою шляпу и, все так же погруженный в свои мысли, тоном охотника, науськивающего и спускающего свору, продолжал:
— Хорошо, мой народ! Отлично! Истребляй этих лжевладык! Делай свое дело! Ату, ату их! Грабь их, вешай их, громи их!.. А-а, вы захотели быть королями, монсеньоры? Бери их, народ, бери!
Здесь он внезапно умолк и, закусив губу, словно желая удержать наполовину высказанную мысль, поочередно окинул каждую из пяти окружающих его особ своими проницательными глазами. Вдруг, сорвав обеими руками шляпу с головы и глядя на нее, он произнес:
— О, я бы сжег тебя, если бы тебе было известно, что таится в моей голове! — И, снова обведя присутствовавших зорким и настороженным взглядом лисицы, тайком прокрадывающейся в свою нору, он сказал: — Как бы то ни было, мы окажем помощь господину судье! К несчастью, у нас сейчас под рукой очень мало войска, чтобы справиться с такой толпой. Придется подождать до утра. В Ситэ восстановят порядок и не мешкая вздернут на виселицу всех, кто будет пойман.
— Кстати, государь, — сказал кум Куактье, — я об этом позабыл в первую минуту тревоги. Ночной дозор захватил двух людей, отставших от банды. Ежели вашему величеству угодно будет их видеть, то они здесь.
— Угодно ли мне их видеть! — воскликнул король, — Как же, клянусь Пасхой, ты мог забыть такую вещь! Поспешите, Оливье, бегите за ними!
Мэтр Оливье вышел и минуту спустя возвратился в сопровождении двух пленников, окруженных стрелками королевской стражи. У одного из них была одутловатая глупая рожа, пьяная и изумленная. Одет он был в лохмотья и шел, прихрамывая и волоча одну ногу. У второго было мертвенно-бледное и улыбающееся лицо, уже знакомое читателю.
Король с минуту молча рассматривал их, затем вдруг обратился к первому:
— Как тебя зовут?
— Жьефруа Брехун.
— Твое ремесло?
— Бродяга.
— Ты зачем ввязался в этот проклятый мятеж?
Бродяга глядел на короля с дурацким видом, болтая руками. Это была одна из тех неладно скроенных голов, где разуму так же привольно, как пламени под гасильником.
— Не знаю, — ответил он. — Все пошли, пошел и я.
— Вы намеревались дерзко напасть на вашего господина — дворцового судью и разграбить его дом?
— Я знаю только, что люди шли что-то у кого-то брать. Вот и все.
Один из стрелков показал королю кривой нож, отобранный у бродяги.
— Ты узнаешь это оружие? — спросил король.
— Да, это мой нож. Я виноградарь.
— А этот человек — твой сообщник? — продолжал Людовик XI, указывая на другого пленника.
— Нет, я его вовсе не знаю.
— Довольно, — сказал король и сделал знак молчаливой фигуре, неподвижно стоявшей возле дверей, на которую мы уже обращали внимание нашего читателя: — Кум Тристан, бери этого человека, он твой.
Тристан Отшельник[336] поклонился. Он шепотом отдал приказание двум стрелкам, и те увели несчастного бродягу.
Тем временем король приблизился ко второму пленнику, с которого градом катился пот.
— Твое имя?
— Пьер Гренгуар, государь.
— Твое ремесло?
— Философ, государь.
— Как ты смеешь, негодяй, идти на нашего друга, господина дворцового судью? И что ты можешь сказать об этом бунте?
— Государь, я не участвовал в нем.
— Как так, распутник? Ведь тебя захватила ночная стража среди этой преступной банды!
— Нет, государь, тут произошло недоразумение. Это моя злая доля. Я сочиняю трагедии. Государь, я умоляю ваше величество выслушать меня. Я поэт. Присущая людям моей профессии мечтательность гонит нас по ночам на улицу. Я был охвачен ею нынче вечером. Это совершенная случайность. Меня понапрасну задержали. Я не виноват в этом взрыве народных страстей. Ваше величество изволили слышать, что бродяга даже не признал меня. Заклинаю ваше величество…
— Замолчи! — проговорил король между двумя глотками своей настойки. — От твоей болтовни голова трещит.
Тристан Отшельник приблизился к королю и, указывая на Гренгуара, сказал:
— Государь, и этого тоже можно вздернуть? Это были первые слова, произнесенные им.
— Ха! — небрежно ответил король. — Возражений не имею.
— Зато у меня их много! — сказал Гренгуар.
Философ в эту минуту был зеленее оливки. По холодному и безучастному лицу короля он понял, что спасти его может только какое-нибудь высокопатетическое действие. Он бросился к ногам Людовика XI, восклицая с отчаянной жестикуляцией:
— Государь! Ваше величество! Окажите милость, выслушайте меня! Государь, не гневайтесь на такое ничтожество, как я! Громы небесные не поражают латука. Государь, вы венценосный, могущественный монарх! Сжальтесь над несчастным, но честным человеком, который так же мало способен подстрекать к бунту, как лед — давать искру. Всемилостивейший государь, милосердие — добродетель льва и монарха. Увы, суровость лишь запугивает умы. Неистовым порывам северного ветра не сорвать плаща с путника, между тем как солнце, изливая на него свои лучи, мало-помалу так пригревает его, что заставляет остаться в одной рубашке. Государь, вы — то же солнце. Заверяю вас, мой высокий повелитель и господин, что я не товарищ бродяг, не вор, не распутник. Бунт и разбой не пристали слугам Аполлона. Не такой я человек, чтобы бросаться в эти грозовые тучи, которые разражаются мятежом. Я верный подданный вашего величества. Подобно тому как муж дорожит честью своей жены, как сын дорожит любовью отца, так и добрый подданный дорожит славой своего короля. Он должен живот свой положить за дом своего монарха, служа ему со всем усердием. Все иные страсти, которые увлекли бы его, лишь заблуждение. Таковы, государь, мои политические убеждения. Поэтому не считайте меня бунтовщиком и грабителем при виде моих потертых локтей. Если вы помилуете меня, государь, то я протру мое платье и на коленях, денно и нощно моля за вас Создателя! Увы, я не очень богат. Я даже, пожалуй, беден. Но это не сделало меня порочным. Бедность — не моя вина. Всем известно, что литературным трудом не накопишь больших богатств, и у тех, кто наиболее искусен в сочинении прекрасных книг, не всегда зимой пылает яркий огонь в очаге. Одни только стряпчие собирают зерно, а другим научным профессиям остается лишь солома. Существует сорок великолепных пословиц о дырявых плащах философов. О государь, милосердие — единственный светоч, который в силах озарить глубины великой души! Милосердие освещает путь всем другим добродетелям. Без него они шли бы ощупью, как слепцы, в поисках Бога. Милосердие, тождественное великодушию, рождает в подданных ту любовь, которая составляет надежнейшую охрану короля. Что вам до того — вам, вашему величеству, блеск которого всех ослепляет, — если на земле будет больше одним человеком, убогим, безобидным философом, бредущим во мраке бедствий с пустым желудком и с пустым карманом! К тому же государь, я ученый. Те великие государи, которые покровительствовали ученым, вплетали лишнюю жемчужину в свой венец. Геркулес не пренебрегал титулом покровителя муз. Матвей Корвин[337] благоволил к Жану Монруаялю, красе математиков. Что же это будет за покровительство наукам, если ученых будут вешать? Какой позор пал бы на Александра, если бы он приказал повесить Аристотеля! Это была бы не мушка, украшающая лицо его славы, а злокачественная безобразная язва. Государь, я сочинил весьма недурную эпиталаму в честь Маргариты Фландрской и августейшего дофина! На это поджигатель мятежа не способен. Ваше величество может убедиться, что я не какой-нибудь жалкий писака, что я отлично учился и обладаю большим природным красноречием. Смилуйтесь надо мной, государь! Вы этим сделаете угодное Богоматери. Клянусь вам, что меня очень страшит мысль быть повешенным!
И несчастный Гренгуар стал лобызать туфли короля.
Гильом Рим шепнул Копенолю:
— Он хорошо делает, что валяется у его ног. Короли подобны Юпитеру Критскому — у них уши только в ногах.
А чулочник, нимало не думая о Юпитере Критском и не спуская глаз с Гренгуара, с грубоватой усмешкой сказал:
— О, как это приятно! Мне кажется, что я снова слышу канцлера Гугоне, который молит меня о пощаде.
Когда Гренгуар, совсем запыхавшись, наконец умолк, он, дрожа, поднял взгляд на короля, который ногтем отчищал пятно на коленях своих панталон. Затем его величество стал пить из кубка свою настойку. Он не произносил ни звука, и молчание это терзало Гренгуара. Наконец король взглянул на него.
— Что за невероятный болтун! — сказал он. И, обернувшись к Тристану Отшельнику, проговорил: — Эй, отпусти-ка его!
Гренгуар, не помня себя от радости, так и присел.
— Отпустить? — заворчал Тристан. — А не подержать ли его немножко в клетке, ваше величество?
— Кум, — возразил Людовик XI, — неужели ты полагаешь, что мы строим эти клетки стоимостью в триста шестьдесят семь ливров восемь су и три денье для таких вот птах? Немедленно отпусти этого распутника (Людовик XI очень любил это слово, которое вместе с поговоркой «клянусь Пасхой» исчерпывало весь запас его шуток) и выставь его за дверь пинком.
— Уф! — воскликнул Гренгуар. — Вот великий король! И, опасаясь, как бы король не раздумал, он бросился к двери, которую Тристан довольно угрюмо открыл ему. Вслед за ним вышла и стража, подталкивая его сзади кулаками, что Гренгуар перенес терпеливо, как и подобает истинному философу-стоику.
Благодушное настроение, овладевшее королем с той минуты, как его известили о бунте против дворцового судьи, сквозило во всем. Проявленное им необычайное милосердие служило тому немаловажным признаком. Тристан Отшельник хмуро поглядывал из своего угла, точно пес, которому кость показали, а дать не дали.
Король между тем весело выбивал пальцами на ручке кресла понтодемерский марш. Хотя он и знал науку притворства, но умел лучше скрывать свои заботы, чем радости. Порою эти внешние проявления удовольствия при всякой доброй вести заходили очень далеко: так, например, узнав о смерти Карла Смелого, он дал обет пожертвовать серебряные решетки в храм Святого Мартина Турского, а при восшествии на престол забыл распорядиться похоронами своего отца.
— Да, государь, — спохватился внезапно Жак Куактье, — что же ваш острый приступ болезни, ради которого вы меня сюда вызвали?
— Ой! — простонал король. — Я и в самом деле очень страдаю, куманек. У меня страшно шумит в ушах, а грудь словно раздирают огненные зубья.
Куактье взял руку короля и с ученым видом стал щупать пульс.
— Взгляните, Копеноль, — сказал, понизив голос, Рим. — Вот он сидит между Куактье и Тристаном. Это весь его двор. Врач — для него, палач — для других.
Считая пульс короля, Куактье выказывал все большую и большую тревогу. Людовик XI смотрел на него с некоторым беспокойством. Куактье мрачнел с каждой минутой. У бедного малого не было иного источника доходов, кроме плохого здоровья короля. Он извлекал из этого все, что мог.
— О-о! — пробормотал он наконец. — Это действительно серьезно.
— Правда? — спросил обеспокоенный король.
— Pulsus creber, anhelans, crepitans, irregularis[338], — продолжал лекарь.
— Клянусь Пасхой!
— При таком пульсе через три дня может не стать человека.
— Пресвятая Дева! — воскликнул король. — Какое же лекарство, кум?
— Об этом-то я и думаю, государь.
Он заставил Людовика XI показать язык, покачал головой, скорчил гримасу и посреди всех этих кривляний неожиданно сказал:
— К слову, государь, я должен вам сообщить, что освободилось место сборщика королевских налогов с епархий и монастырей, а у меня есть племянник.
— Даю это место твоему племяннику, кум Жак, — ответил король, — только избавь меня от огня в груди.
— Если вы, ваше величество, столь милостивы, — вновь заговорил врач, — то вы не откажете мне в небольшой помощи, чтобы я мог закончить постройку моего дома на улице Сент-Андре-дез-Арк.
— Гм! — сказал король.
— У меня деньги на исходе, — продолжал врач, — а было бы очень жаль оставить такой дом без крыши. Дело не в самом доме — это скромный, обычный дом горожанина, — но в росписи Жеана Фурбо, украшающей панели. Там есть летящая по воздуху Диана[339], столь превосходная, столь нежная, столь изящная, столь простодушно оживленная, с такой прелестной прической, увенчанной полумесяцем, с такой белоснежной кожей, что введет в соблазн каждого, кто слишком пристально на нее посмотрит. Там есть еще и Церера[340]. Тоже прелестная богиня. Она сидит на снопах в изящном венке из колосьев, перевитых лютиками и другими полевыми цветами. Ничего нет обольстительнее ее глаз, ее округлых ножек, благородней ее осанки и изящней складок ее одежды. Это одна из самых совершенных и непорочных красавиц, какие когда-либо породила кисть художника.
— Палач! — проворчал Людовик XI. — Говори, куда ты клонишь?
— Мне необходима крыша над всей этой росписью, государь. Хоть это пустяки, но у меня нет больше денег.
— Сколько же надо на твою крышу?
— Полагаю… медная крыша с украшениями и позолотой — не больше двух тысяч ливров.
— Ах, разбойник! — воскликнул король. — За каждый вырванный зуб ему приходится платить бриллиантом.
— Будет у меня крыша? — спросил Куактье.
— Да! Черт с тобой, только вылечи меня. Жак Куактье низко поклонился и сказал:
— Государь, вас спасет рассасывающее средство. Мы положим вам на поясницу большой пластырь из вощаной мази, армянского болюса, яичного белка, оливкового масла и уксуса. Вы будете продолжать пить вашу настойку, и мы ручаемся за здоровье вашего величества.
Горящая свеча притягивает к себе не одну мошку. Мэтр Оливье, видя такую щедрость короля и считая минуту благоприятной, также приблизился к нему.
— Государь…
— Ну что там еще? — спросил Людовик XI.
— Государь, вашему величеству известно, что мэтр Симон Раден умер?
— Ну и что?
— Он состоял королевским советником по судебным делам казначейства.
— Дальше что?
— Государь, теперь его место освободилось.
И при этих словах на высокомерном лице мэтра Оливье надменное выражение сменилось угодливым. Только эти два выражения и свойственны лицу царедворца.
Король взглянул на него в упор и сказал сухим тоном:
— Понимаю. Затем продолжал:
— Мэтр Оливье, маршал Бусико говаривал: «Только и ждать подарка что от короля, только и хорош улов что в море». Я вижу, что вы придерживаетесь мнения господина Бусико. Теперь выслушайте меня. У меня хорошая память. В шестьдесят восьмом году мы назначили вас своим спальником; в шестьдесят девятом — комендантом замка у моста Сен-Клу с жалованьем в сто турских ливров (вы просили считать парижскими). В ноябре семьдесят третьего года приказом нашим, данным в Жержоле, мы назначили вас смотрителем Венсенских лесов вместо дворянина Жильбера Акля; в семьдесят пятом году — лесничим в Рувре-ле-Сен-Клу на место Жака ле Мэра; в семьдесят восьмом году мы всемилостивейшей королевской грамотой за двойными печатями зеленого воска дали вам и жене вашей право взимать налог в десять парижских ливров ежегодно с торговцев на рынке близ Сен-Жерменской школы. В семьдесят девятом году мы назначили вас лесничим Сенарского леса на место этого бедняги Жеана Деза; затем — комендантом замка Лош; затем — правителем Сен-Кентена; затем — комендантом Мёланского моста, и вы с этой поры стали именоваться графом Мёлан. Из пяти су штрафа, которые платит каждый цирюльник, бреющий бороды в праздничный день, на вашу долю приходится три су, а на нашу поступает только остаток. Мы милостиво изъявили согласие на то, чтобы вы переменили ваше прежнее имя ле Мове[341], столь подходящее к вашей физиономии, на другое. В семьдесят четвертом году, к великому неудовольствию нашего дворянства, мы пожаловали вам разноцветный герб, который делает вашу грудь похожей на грудь павлина. Клянусь Пасхой! Вы все еще не объелись? Разве не хорош ваш улов? Разве вы не боитесь, что еще один лишний лосось — и ваша ладья может перевернуться? Тщеславие погубит вас, куманек. За тщеславием всегда по пятам следует разорение и позор. Поразмыслите-ка над этим и помолчите.
Эти сурово произнесенные слова заставили лицо мэтра Оливье вновь принять присущее ему нахальное выражение.
— Ладно, — пробормотал он почти вслух, — сейчас видно, что король нынче болен. Все отдает врачу.
Людовик XI не только не рассердился на эту выходку, но сказал довольно кротко:
— Постойте! Я и забыл, что назначил вас своим послом в Генте при особе герцогини. Да, господа, — проговорил король, обернувшись к фламандцам, — он был послом. Ну, куманек, — продолжал он, обращаясь к мэтру Оливье, — довольно сердиться, ведь мы старые друзья. Теперь уж очень поздно. Мы кончили наши занятия. Побрейте-ка нас.
Читатель, несомненно, давно узнал в «мэтре Оливье» того ужасного Фигаро, которого провидение — этот великий создатель драм — столь искусно вплело в длительную и кровавую комедию, разыгранную Людовиком XI. Мы не намерены заниматься здесь подробной характеристикой сей своеобразной личности. Этот королевский брадобрей имел три имени. При дворе его учтиво именовали Оливье ле Ден, народ — Оливье Дьявол. Настоящее имя его было Оливье ле Мове.
Итак, Оливье ле Мове стоял неподвижно, дуясь на короля и косо поглядывая на Жака Куактье.
— Да, да! Все для врача! — бормотал он сквозь зубы.
— Ну да, для врача! — подтвердил с необычайным добродушием Людовик XI. — Врач пользуется у нас большим кредитом, чем ты. И это понятно: в его руках вся наша особа, а в твоих — один лишь подбородок. Ну, не горюй, мой бедный брадобрей, перепадет и тебе. Что бы ты сказал и что бы ты стал делать, если бы я был похож на короля Хильперикэ, имевшего привычку держаться рукой за свою бороду? Ну же, куманек, займись своими обязанностями, побрей меня. Пойди принеси все, что тебе нужно.
Оливье, видя, что король все обращает в шутку и даже невозможно рассердить его, вышел, ворча, чтобы исполнить его приказание.
Король встал, подошел к окну и, внезапно распахнув его, в необычайном возбуждении воскликнул, хлопая в ладоши:
— О, правда! Зарево над Ситэ! Это горит дом судьи. Сомнений быть не может! О мой добрый народ! Вот и ты наконец помогаешь мне расправляться с дворянством! — Потом, обернувшись к фламандцам, сказал: — Господа, подойдите взглянуть. Ведь это отблеск пожара, не правда ли?
Оба жителя Гента подошли к нему.
— Сильный огонь, — сказал Гильом Рим.
— О! Это мне напоминает сожжение дома господина Эмберкура, — прибавил Копеноль, и глаза его внезапно сверкнули. — По-видимому, восстание разыгралось не на шутку.
— Вы так полагаете, мэтр Копеноль? — Взгляд короля был почти так же весел, как и взгляд чулочника. — Его трудно будет подавить?
— Клянусь Крестом Христовым, государь, вашему величеству придется бросить туда не один отряд воинов!
— Ах, мне! Это другое дело! Если бы я только пожелал… Чулочник смело возразил:
— Если это восстание действительно таково, как я полагаю, то тут мало только ваших пожеланий.
— Кум! — ответил Людовик XL — Двух отрядов моей стражи и одного залпа из кулеврины достаточно, чтобы разделаться со всей этой оравой мужичья.
Но чулочник, невзирая на знаки, делаемые Гильомом Римом, решился, по-видимому, не уступать королю.
— Государь, швейцарцы были тоже мужичье, а герцог Бургундский был знатный вельможа и плевать хотел на этот сброд. Во время битвы при Грансоне, государь, он кричал: «Канониры, огонь по холопам!» — и клялся святым Георгием. Но городской старшина Шарнахталь ринулся на великолепного герцога со своей палицей и своим народом, и от натиска мужланов в куртках из буйволовой кожи блестящая бургундская армия разлетелась вдребезги, точно стекло от удара камнем. Там было немало рыцарей, перебитых мужиками; и господина Шато-Гийона, самого знатного вельможу Бургундии, нашли мертвым вместе с его большим серым конем на лужайке среди болота.
— Друг мой, — ответил король, — вы толкуете о битве. А тут всего-навсего мятеж. И мне стоит лишь бровью повести, чтобы покончить с этим.
Фламандец невозмутимо ответил:
— Возможно, государь. Но это говорит лишь о том, что час народа еще не пробил.
Гильом Рим счел нужным вмешаться:
— Мэтр Копеноль, вы говорите с могущественным королем.
— Я это знаю, — с важностью ответил чулочник.
— Пусть он говорит, господин Рим, друг мой, — сказал король. — Я люблю такую прямоту. Мой отец Карл Седьмой говаривал, что истина занемогла. Я же думал, что она уже умерла, так и не найдя себе духовника. Мэтр Копеноль доказывает мне, что я ошибался. — И, запросто положив руку на плечо Копеноля, сказал: — Итак, вы говорите, мэтр Жак…
— Я говорю, государь, что, быть может, вы и правы, но час вашего народа еще не пробил.
Людовик XI пронзительно взглянул на него:
— А когда же, мэтр, пробьет этот час?
— Вы услышите бой часов.
— Каких часов?
Копеноль все с тем же невозмутимым и простоватым видом подвел короля к окну.
— Слушайте, государь! Вот башня, вот дозорная вышка, вот пушки, вот горожане и солдаты. Когда с этой вышки понесутся звуки набата, когда загрохочут пушки, когда с адским гулом рухнет башня, когда солдаты и горожане с рычаньем бросятся друг на друга в смертельной схватке, вот тогда-то и пробьет этот час.
Лицо Людовика XI стало задумчивым и мрачным. Одно мгновение он стоял молча, затем легонько, точно оглаживая круп скакуна, похлопал рукой по толстой стене башни.
— Ну нет! — сказал он. — Ведь ты не так-то легко падешь, моя добрая Бастилия? — И, круто обернувшись к смелому фламандцу, он спросил: — Вам когда-нибудь случалось видеть восстание, мэтр Жак?
— Я сам поднимал его, — ответил чулочник.
— А что же вы делали, чтобы поднять восстание?
— Ба, это не так уж трудно! — ответил Копеноль. — Это можно делать на сто ладов. Во-первых, необходимо, чтобы в городе существовало недовольство. Это вещь не редкая. Потом — характер жителей. Гентцы очень склонны к восстаниям. Они всегда любят наследника, а государя — никогда. Ну хорошо! Допустим, в одно прекрасное утро придут ко мне в лавку и скажут: «Дядюшка Копеноль, происходит то-то и то-то, герцогиня Фландрская желает спасти своих министров, верховный судья удвоил налог на яблоневые и грушевые дички» — или что-нибудь в этом роде. Что угодно. Я тотчас же бросаю работу, выхожу из лавки на улицу и кричу: «Грабь!» В городе всегда найдется какая-нибудь бочка с выбитым дном. Я взбираюсь на нее и громко говорю все, что придет на ум, все, что лежит на сердце. А когда ты из народа, государь, у тебя всегда что-нибудь да лежит на сердце. Ну, тут собирается народ. Кричат, бьют в набат, отобранным у солдат оружием вооружают селян, рыночные торговцы присоединяются к нам — и бунт готов! И так будет всегда, пока в поместьях будут господа, в городах — горожане, а в селениях — селяне.
— И против кого же вы бунтуете? — спросил король. — Против ваших судей? Против ваших господ?
— Бывает. Это как когда случится. Иногда и против нашего герцога.
Людовик XI снова сел в кресло и, улыбаясь, сказал:
— Вот как? Ну а у нас пока еще они дошли только до судей!
В эту минуту вошел Оливье ле Ден. За ним следовали два пажа, несшие туалетные принадлежности короля. Но Людовика XI поразило то, что Оливье сопровождали, кроме того, парижский прево и начальник ночной стражи, по-видимому совершенно растерявшиеся. Злопамятный брадобрей тоже казался ошеломленным, но вместе с тем в нем проглядывало внутреннее удовольствие. Он заговорил первый:
— Государь, прошу ваше величество простить меня за ту прискорбную весть, которую я несу!
Король живо обернулся, прорвав ножкой своего кресла циновку, покрывавшую пол.
— Что это значит?
— Государь, — продолжал Оливье ле Ден с злобным видом человека, радующегося, что может нанести жестокий удар, — народ бунтует вовсе не против дворцового судьи.
— А против кого же?
— Против вас, государь.
Старый король вскочил и выпрямился во весь рост, словно юноша.
— Объяснись, Оливье! Объяснись! Да проверь, крепко ли у тебя держится голова на плечах, куманек, ибо, клянусь тебе крестом святого Лоо[342] если ты нам лжешь, то меч, отсекший голову герцогу Люксембургскому, не настолько еще зазубрился, чтобы не снести прочь и твоей!
Клятва была ужасна. Только дважды в своей жизни Людовик XI клялся крестом святого Лоо. Оливье собрался было ответить:
— Государь…
— На колени! — резко прервал его король. — Тристан, стереги этого человека!
Оливье опустился на колени и холодно произнес:
— Государь, ваш королевский суд приговорил к смерти какую-то колдунью. Она нашла убежище в соборе Богоматери. Народ хочет силой ее оттуда взять. Господин прево и господин начальник ночной стражи, прибывшие оттуда, здесь перед вами и могут уличить меня, если я говорю неправду. Народ осаждает собор Богоматери.
— Вот как! — проговорил тихим голосом король, весь побледнев и дрожа от гнева. — Собор Богоматери! Они осаждают Пресвятую Деву, милостивую мою владычицу, в собственном ее соборе! Встань, Оливье. Ты прав. Место Симона Радена за тобой. Ты прав. Это против меня они поднялись. Колдунья находится под защитой собора, а собор — под моей. А я-то думал, что взбунтовались против судьи! Оказывается, против меня!
И, словно помолодев от ярости, он стал расхаживать большими шагами по комнате. Он не смеялся более. Он был страшен. Лисица превратилась в гиену. Видимо, он так задыхался, что не мог произнести ни слова, губы его шевелились, а костлявые кулаки судорожно сжимались. Внезапно он поднял голову, впалые глаза вспыхнули пламенем, и голос загремел, как труба:
— Хватай их, Тристан! Хватай этих мерзавцев! Беги, друг мой Тристан! Бей их! Бей!
После этой вспышки он снова уселся и с холодным, сосредоточенным бешенством сказал:
— Сюда, Тристан! Здесь, в Бастилии, у нас пятьдесят рыцарей виконта Жифа, что вместе с их оруженосцами составляет триста конных воинов, — возьмите их. Здесь находится также рота стрелков королевской охраны под командой господина де Шатопера — возьмите и их. Вы — старшина цеха кузнецов, в вашем распоряжении все люди вашего цеха — возьмите их. Во дворце Сен-Поль вы найдете сорок стрелков из новой гвардии дофина — возьмите их; и со всеми этими силами скорей к собору. А-а, парижская голь, ты, значит, идешь против короны Франции, против святыни собора Богоматери, ты посягаешь на мир нашего государства! Истребляй их, Тристан! Уничтожай их! А кто останется жив, того на Монфокон.
Тристан поклонился:
— Хорошо, государь! — И, помолчав, добавил: — А что мне сделать с колдуньей?
Этот вопрос заставил короля призадуматься.
— С колдуньей? — спросил он. — Господин Эстутвиль, а что хотел с ней сделать народ?
— Государь, я полагаю, что если народ пытается вытащить ее из собора Богоматери, где она нашла убежище, то потому, вероятно, что ее безнаказанность его оскорбляет и он хочет ее повесить, — ответил парижский прево.
Король, казалось, погрузился в глубокое размышление и затем, обратившись к Тристану Отшельнику, сказал:
— Ну что же, куманек, в таком случае народ перебей, а колдунью вздерни.
— Так, так, — тихо шепнул Рим Копенолю, — наказать народ за его желание, а потом сделать то, чего желал этот народ.
— Слушаю, государь, — ответил Тристан. — А если ведьма все еще в соборе Богоматери, то взять ее оттуда, несмотря на право убежища?
— Клянусь Пасхой! Действительно… убежище! — вымолвил король, почесывая себя за ухом. — Однако эта женщина должна быть повешена.
И тут, словно озаренный какой-то внезапно пришедшей мыслью, он бросился на колени перед своим креслом, снял шляпу, положил ее на сиденье и, благоговейно глядя на одну из свинцовых фигурок, ее украшавших, произнес, молитвенно сложив на груди руки:
— О Парижская Богоматерь! Моя милостивая покровительница, простите мне! Я сделаю это только единственный раз! Эту преступницу надо покарать. Уверяю вас, Пречистая Дева, моя всемилостивейшая госпожа, что эта колдунья недостойна вашей благосклонной защиты. Ведь вам известно, Владычица, что многие очень набожные государи нарушали привилегии Церкви во славу Божию и по государственной необходимости. Святой Гюг, епископ английский, дозволил королю Эдуарду схватить колдуна в своей церкви. Святой Людовик Французский, мой покровитель, с той же целью нарушил неприкосновенность храма Святого Павла, а Альфонс, сын короля иерусалимского, — даже неприкосновенность церкви Гроба Господня. Простите же меня на этот раз, Богоматерь Парижская! Я этого больше не буду делать и принесу вам в дар прекрасную серебряную статую, подобную той, которую я в прошлом году пожертвовал церкви Богоматери в Экуи. Аминь.
И, осенив себя крестом, он поднялся с колен, снова надел свою шляпу и сказал Тристану:
— Поспешите, куманек. Возьмите с собой господина де Шатопера. Прикажите ударить в набат. Раздавите чернь. Повесьте колдунью. Я так сказал. И я желаю, чтобы казнь была совершена вами. Вы отдадите мне в этом отчет. Идемте, Оливье, я нынче не лягу спать. Побрейте-ка меня.
Тристан Отшельник поклонился и вышел. Затем король жестом отпустил Рима и Копеноля.
— Да хранит вас Господь, добрые мои друзья, господа фламандцы. Ступайте отдохните немного. Ночь бежит, и время близится уже к утру.
Фламандцы удалились, и когда они в сопровождении коменданта Бастилии дошли до своих комнат, Копеноль сказал Риму:
— Гм! Я сыт по горло этим кашляющим королем! Мне довелось видеть пьяным Карла Бургундского, но он не был так зол, как этот больной Людовик Одиннадцатый.
— Мэтр Жак, — ответил Рим, — это потому, что королевское вино слаще, чем лекарство.
Глава 6
«Короткие клинки звенят!»
Выйдя из Бастилии, Гренгуар с быстротой сорвавшейся с привязи лошади пустился бежать вниз по улице Сент-Антуан. Добежав до ворот Бодуайе, он прямо направился к возвышавшемуся среди площади каменному Распятию, словно мог различить во мраке человека в черном плаще с капюшоном, сидевшего на ступеньках у подножия Креста.
— Это вы, мэтр? — спросил Гренгуар. Черная фигура встала.
— Страсти Господни! Я киплю от нетерпения, Гренгуар. Сторож на башне Сен-Жерве уже прокричал половину второго пополуночи.
— О! В этом виноват не я, а ночная стража и король, — ответил Гренгуар. — Я еще благополучно от них отделался. Я всегда упускаю случай быть повешенным. Такова моя судьба.
— Ты всегда все упускаешь, — ответил второй. — Но поспешим. Знаешь ли ты пароль?
— Представьте, учитель, я видел короля. Я только что от него. На нем фланелевые штаны. Это целое приключение.
— Что за пустомеля! Какое мне дело до твоих приключений! Известен тебе пароль бродяг?
— Да. Не беспокойтесь. Вот он, пароль: «Короткие клинки звенят!»
— Хорошо. Без него нам не добраться до церкви. Бродяги загородили все улицы. К счастью, они как будто натолкнулись на сопротивление. Может быть, мы поспеем еще вовремя.
— Конечно, учитель. Но как мы проберемся в собор Богоматери?
— У меня ключи от башен.
— А как мы оттуда выйдем?
— Позади монастыря есть потайная дверца, выходящая на Террен, а оттуда к реке. Я захватил ключ от нее и еще с утра припас лодку.
— Однако я счастливо избег виселицы! — опять заговорил Гренгуар.
— Ну скорее! Бежим! — торопил его другой. И оба поспешным шагом направились в Ситэ.
Глава 7
«Шатопер, выручай!»
Быть может, читатель припомнит, в каком опасном положении мы оставили Квазимодо. Отважный звонарь, окруженный со всех сторон, утратил если не всякое мужество, то по крайней мере всякую надежду спасти — не себя, о себе он и не помышлял, — но цыганку. Он метался по галерее потеряв голову. Еще немного — и собор Богоматери будет взят бродягами. Внезапно оглушительный конский топот раздался на соседних улицах, показалась длинная вереница факелов и густая колонна всадников с отпущенными поводьями и пиками наперевес. На площадь как ураган обрушились неистовый шум и крики: «За Францию! За Францию! Крошите мужичье! Шатопер, выручай! За прево! За прево!»
Приведенные в замешательство бродяги повернулись лицом к неприятелю.
Квазимодо, не слышавший ничего, вдруг увидел обнаженные шпаги, факелы, острия пик, всю эту конницу, во главе которой узнал Феба. Он видел смятение бродяг, ужас одних, растерянность других, и в этой неожиданной помощи почерпнул такую силу, что отбросил от церкви уже вступивших было на галерею первых смельчаков.
Действительно, то прискакали отряды королевских стрелков.
Однако бродяги действовали отважно. Они оборонялись как бешеные. Будучи атакованы с фланга через улицу Сен-Пьер-о-Беф, а с тыла через Папертную улицу, подавшись к самому собору Богоматери, который они продолжали еще осаждать, а Квазимодо защищать, они оказались осаждающими и осажденными одновременно. Они находились в том же странном положении, в котором позже, в 1640 году, во время пресловутой осады Турина, очутился граф Анри д´Аркур, осаждавший принца Тома Савойского и сам обложенный войсками маркиза Леганеза, Taurinum obsessor idem est obsessus[343], как гласила его надгробная надпись.
Схватка была ужасная. «Волчьей шкуре — собачьи клыки», — как говорит Пьер Матье. Королевские конники, среди которых выделялся отвагой Феб де Шатопер, не щадили никого. Острием меча они доставали тех, кто увернулся от лезвия. Плохо вооруженные бродяги кусались, беснуясь от ярости. Мужчины, женщины, дети, кидаясь на крупы и на груди лошадей, вцеплялись в них зубами и ногтями, как кошки. Другие совали факелы в лицо стрелкам.
Третьи забрасывали железные крючья на шеи всадников, стаскивали их с седла и рвали на части упавших.
Особенно выделялся один из бродяг, долгое время подсекавший широкой блестящей косой ноги лошадей. Он был ужасен. Гнусаво распевая песню, он безостановочно то поднимал, то опускал косу. При каждом взмахе вокруг него ложился широкий круг раненых. Так спокойно и медлительно, покачивая головой и шумно дыша, подвигался он к самому сердцу конницы равномерным шагом косца, пожинающего свою ниву. Это был Клопен Труйльфу. Выстрел из пищали уложил его на месте.
Между тем окна домов вновь распахнулись. Жители, услышав воинственный клич королевских конников, вмешались в дело, и из всех этажей на бродяг посыпались пули. Площадь затянуло густым дымом, который пронизывали вспышки мушкетных выстрелов. В этом дыму смутно вырисовывался фасад собора Богоматери и ветхий Отель-Дье, из слуховых окон которого, выходивших на кровлю, глядели на площадь изможденные лица больных.
Наконец бродяги дрогнули. Усталость, недостаток хорошего оружия, испуг, вызванный неожиданностью нападения, пальба из окон, бурный натиск королевских конников — все это сломило их силы. Они прорвали цепь нападавших и разбежались по всем направлениям, оставив на площади груды мертвецов.
Когда Квазимодо, ни на мгновение не перестававший сражаться, увидел это бегство, он упал на колени и простер руки к небесам. Потом, опьяненный радостью, он с быстротою птицы понесся к келейке, подступ к которой он так отважно защищал. Теперь им владела лишь одна мысль: преклонить колени перед той, которую он только что вторично спас.
Когда он вошел в келью, она была пуста.
Книга XI
Глава 1
Башмачок
В то время как бродяги начали осаду собора, Эсмеральда спала.
Вскоре все возраставший шум вокруг храма и беспокойное блеяние козочки, проснувшейся раньше, чем она, пробудили ее от сна. Она привстала на постели, прислушалась, огляделась; потом, испуганная шумом и светом, бросилась вон из кельи, чтобы узнать, что случилось. Вид самой площади, мечущиеся по ней привидения, беспорядок этого ночного штурма, отвратительная толпа, еле различимая в темноте и подпрыгивающая, словно полчище лягушек, ее хриплое кваканье, несколько красных факелов, мелькавших и сталкивавшихся во мраке, словно блуждающие огоньки, бороздящие туманную поверхность болота, — все это зрелище произвело на нее впечатление какой-то таинственной битвы, завязавшейся между призраками шабаша и каменными чудовищами храма. Проникнутая с детства суевериями цыганского племени, она прежде всего предположила, что случайно присутствует при каком-то колдовском обряде, который совершают таинственные ночные существа. Испугавшись, она бросилась назад и притаилась в своей келье, моля свое убогое ложе не посылать ей таких страшных кошмаров.
Постепенно ее первые страхи рассеялись. По непрерывно возраставшему шуму и многим другим проявлениям реальной жизни она почувствовала, что ее обступают не призраки, а живые существа. И она подумала, что, быть может, народ восстал, чтобы силой взять ее из убежища. Тогда вновь ею овладел ужас, но теперь он принял другую форму. Мысль о том, что ей вторично предстоит проститься с жизнью, надеждой, Фебом, который неизменно присутствовал во всех ее грезах о будущем, глубокая беспомощность, невозможность бегства, отсутствие всякой поддержки, заброшенность, одиночество — все эти мысли и еще тысячи других придавили ее тяжелым гнетом. Она упала на колени, лицом в постель, обхватив руками голову, объятая тоской и страхом. Цыганка, идолопоклонница, язычница, она стала, рыдая, просить о помощи христианского Бога и молиться Пресвятой Богородице, оказавшей ей гостеприимство. Бывают в жизни минуты, когда даже неверующий готов исповедовать религию того храма, который окажется близ него.
Так лежала она довольно долго, повергшись наземь, не столько молясь, если говорить правду, сколько дрожа и леденея, обвеваемая дыханием все ближе и ближе подступавшей к ней разъяренной толпы, ничего не понимая во всем этом неистовстве, не ведая, что затевается, что творится вокруг нее, чего добиваются, но смутно предчувствуя страшную развязку.
Вдруг среди этих терзаний она услышала возле себя шаги. Она обернулась. Два человека, из которых один нес фонарь, вошли в ее келью. Она слабо вскрикнула.
— Не пугайтесь, — произнес голос, показавшийся ей знакомым, — это я.
— Кто вы? — спросила она.
— Пьер Гренгуар.
Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и узнала поэта.
Но рядом с ним стояла какая-то темная фигура, закутанная с головы до ног и поразившая ее своим безмолвием.
— А ведь Джали узнала меня раньше, чем вы! — произнес Гренгуар с упреком.
И действительно, козочка не стала дожидаться, пока Гренгуар назовет ее по имени. Лишь только он вошел, она принялась ласково тереться об его колени, осыпая поэта нежностями и белой шерстью, ибо она в ту пору линяла. Гренгуар столь же нежно отвечал на ее ласки.
— Кто это с вами? — понизив голос, спросила цыганка.
— Не беспокойтесь, — ответил Гренгуар, — это один из моих друзей.
Затем философ, поставив фонарь на пол, присел на корточки и, обнимая Джали, восторженно воскликнул:
— Что за прелестное животное! Правда, она отличается больше своей чистоплотностью, чем величиной, но смышленое, ловкое и ученое, словно какой-нибудь грамматик! Ну-ка, Джали, посмотрим, не запамятовала ли ты что-нибудь из твоих забавных штучек? Как делает мэтр Жак Шармолю?..
Человек в черном не дал ему договорить. Он подошел к Гренгуару и грубо тряхнул его за плечо. Гренгуар вскочил.
— Правда, — сказал он, — я и забыл, что нам надо торопиться. Но, учитель, это все же еще не основание, чтобы так обращаться с людьми! Мое дорогое, прелестное дитя, ваша жизнь в опасности, и жизнь Джали также. Вас опять хотят повесить. Мы — ваши друзья и пришли спасти вас. Следуйте за нами.
— Неужели это правда? — воскликнула она, потрясенная.
— Истинная правда. Бежим скорей!
— Охотно, — пролепетала она. — Но отчего ваш друг молчит?
— Да потому что его родители были чудаки и оставили ему в наследство молчаливый характер, — ответил Гренгуар.
Эсмеральде пришлось удовлетвориться этим объяснением. Гренгуар взял ее за руку, его спутник поднял фонарь и пошел впереди них. Оцепенев от ужаса, молодая девушка позволила увести себя. Коза вприпрыжку побежала за ними; она так радовалась встрече с Гренгуаром, что поминутно тыкалась рожками ему в колени, заставляя поэта то и дело терять равновесие.
— Вот она, жизнь! — говорил философ всякий раз, как спотыкался. — Зачастую именно лучшие друзья подставляют нам ножку!
Они быстро спустились с башенной лестницы, пересекли собор, безлюдный и сумрачный, но весь звучащий отголосками сражения, что составляло ужасающий контраст с его безмолвием, и вышли через Красные врата на монастырский двор. Монастырь опустел. Монахи укрылись в епископском дворце, где творили соборную молитву; двор тоже опустел, лишь несколько перепуганных слуг прятались по темным его уголкам. Беглецы направились к калитке, выходившей на Террен. Человек в черном отомкнул эту калитку имевшимся у него ключом. Нашему читателю уже известно, что Терреном назывался мыс, обнесенный со стороны Ситэ оградой; он принадлежал капитулу собора Парижской Богоматери и представлял собой восточный конец острова за монастырем. Здесь не было ни души. Шум осады стих, смягченный расстоянием. Крики шедших на приступ бродяг казались здесь смешанным, отдаленным гулом. Свежий ветер с реки шумел в листве единственного дерева, росшего на самой оконечности Террена, и можно было ясно расслышать шелест листьев. Но беглецы еще не ушли от опасности. Ближайшими к ним зданиями были епископский дворец и собор. По-видимому, в епископском дворце царил страшный переполох. Сумрачный фасад здания бороздили перебегавшие от окна к окну огоньки, словно яркие искры, проносящиеся в причудливом беге по темной кучке пепла от сгоревшей бумаги. Рядом — две необъятные башни собора Богоматери, покоившиеся на главном корпусе здания, вырисовывались черными силуэтами на огромном багровом фоне площади, напоминая два гигантских тагана в очаге циклопов.
Все то, что было видно от раскинувшегося окрест Парижа, представлялось глазу смесью колеблющихся темных и светлых тонов. Подобное освещение заднего плана можно видеть на полотнах Рембрандта.
Человек, несший фонарь, направился к оконечности мыса Террен. Там у самой воды шел оплетенный дранкой полусгнивший частокол, за который цеплялось несколько чахлых лоз дикого винограда, словно вытянутые пальцы. Позади, в тени, отбрасываемой этим плетнем, был привязан челнок. Человек жестом приказал Гренгуару и его спутнице сойти в него. Козочка прыгнула вслед за ними. Незнакомец вошел последним.
Затем, перерезав веревку, которой был привязан челнок, он оттолкнулся длинным багром от берега, схватил весла, сел на носу и изо всех сил принялся грести к середине реки. Течение Сены в этом месте было очень быстрое, и ему стоило немалого труда отчалить от острова.
Первой заботой Гренгуара, когда он вошел в лодку, было взять козочку к себе на колени. Он уселся на корме, а молодая девушка, которой незнакомец внушал безотчетный страх, села рядом с поэтом, прижавшись к нему.
Когда наш философ почувствовал, что лодка поплыла, он захлопал в ладоши и поцеловал Джали в темя между рожками.
— Ох, — воскликнул он, — наконец-то мы все четверо спасены! — И с глубокомысленным видом добавил: — Порой мы обязаны счастливым исходом великого предприятия удаче, порой — хитрости.
Лодка медленно плыла к правому берегу. Молодая девушка с тайным страхом наблюдала за незнакомцем. Он заботливо заслонил свет потайного фонаря и, точно призрак, вырисовывался в темноте на носу лодки. Его опущенный на лицо капюшон казался маской, и при каждом взмахе весел его руки, с которых свисали широкие черные рукава, походили на большие крылья летучей мыши. За все это время он не произнес ни единого слова, не издал ни единого звука. В лодке слышался лишь равномерный плеск весел да журчание тысячи струй за бортом челнока.
— Клянусь душой! — воскликнул вдруг Гренгуар. — Мы здесь все бодры и веселы, как сычи! Молчим, как пифагорийцы или рыбы! Клянусь Пасхой, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил! Звук человеческого голоса — это музыка для человеческого слуха. Слова эти принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, — блестящее изречение!.. Несомненно, Дидим Александрийский — весьма незаурядный философ… Скажите мне хоть одно слово, прелестное дитя, умоляю вас, хоть одно слово!.. Кстати, вы делали когда-то такую забавную гримаску! Скажите, вы не позабыли ее? Известно ли вам, моя милочка, что все места убежищ входят в круг ведения высшей судебной палаты и вы подвергались большой опасности в вашей келейке в соборе Богоматери? Увы, колибри вьет гнездышко в пасти крокодила!.. Учитель, а вот и луна выплывает… Только бы нас не приметили!.. Мы совершаем похвальный поступок, спасая девушку, и тем не менее, если нас поймают, то повесят именем короля. Увы! Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят одного, за то другого венчают лаврами. Кто благоговеет перед Цезарем, тот порицает Катилину[344]. Не так ли, учитель? Что вы скажете о такой философии? Я ведь знаю философию по инстинкту, как пчелы геометрию, lit apes geometriam. Ну что? Никто мне не хочет отвечать? Вы оба, я вижу, не в духе! Приходится болтать одному. В трагедиях это именуется монологом. Клянусь Пасхой!.. Надо вам сказать, что я только что видел короля Людовика Одиннадцатого и от него перенял эту божбу… Итак, клянусь Пасхой, они все еще продолжают здорово рычать там, в Ситэ!.. Противный злюка этот старый король! Он весь запеленат в меха. Он все еще не уплатил мне за эпиталаму и чуть было не приказал повесить меня сегодня вечером, а это было бы очень некстати… Он скряга и скупится на награды достойным людям. Ему следовало бы прочесть четыре тома «Adversus avaritiam»[345] Сальвиана Кельнского. Право, у него весьма узкий взгляд на литераторов, и он позволяет себе варварскую жестокость. Это какая-то губка для высасывания денег из народа. Его казна — это больная селезенка, распухающая за счет всех других органов тела. Поэтому-то жалобы на плохие времена превращаются в ропот против короля. Под властью этого благочестивого тихони виселицы так и трещат от тысяч повешенных, плахи загнивают от проливаемой крови, тюрьмы лопаются, как переполненные утробы! Одной рукой он грабит, другой вешает. Это прокурор господина Налога и государыни Виселицы. У знатных отнимают их сан, а бедняков без конца обременяют новыми поборами. Это король, ни в чем не знающий меры! Не люблю этого монарха. А вы, учитель?
Человек в черном не мешал говорливому поэту болтать. Он боролся с сильным течением узкого рукава реки, отделяющего округлый берег Ситэ от мыса острова Богоматери, ныне именуемого островом Людовика.
— Кстати, учитель! — вдруг спохватился Гренгуар. — Заметили ли вы, ваше преподобие, когда мы пробивались сквозь эту толпу взбесившихся бродяг, бедного чертенка, которому ваш глухарь собирался размозжить голову о перила галереи королей? Я близорук и не мог его распознать. Не знаете ли вы, кто бы это мог быть?
Незнакомец не ответил ни слова, но внезапно выпустил весла, руки его повисли, словно надломленные, голова поникла на грудь, и Эсмеральда услышала судорожный вздох. Она затрепетала. Она уже слыхала эти вздохи.
Лодка, предоставленная самой себе, несколько минут плыла по течению. Но человек в черном выпрямился, вновь взялся за весла и стал грести вверх по реке. Он обогнул мыс острова Богоматери и направился к Сенной пристани.
— А вот и особняк Барбо! — сказал Гренгуар. — Глядите-ка, учитель, видите вы эту группу черных крыш, образующих такие причудливые углы, — вон там, под низко нависшими, волокнистыми, мутными и грязными облаками, между которыми лежит эта раздавленная, расплывшаяся луна, точно желток, пролитый из разбитого яйца? Это прекрасное здание. В нем имеется часовня, увенчанная небольшим сводом, сплошь покрытым отличной резьбой. Над ней вы можете разглядеть колокольню с весьма изящно вырезанными просветами. При доме есть занятный сад: в нем и пруд, и птичник, и «эхо», площадка для игры в мяч, лабиринт, домик для диких зверей и множество тенистых аллей, весьма любезных богине Венере. Есть там и любопытное дерево, которое именуют Сластолюбец, ибо оно своею сенью прикрывало любовные утехи одной знатной принцессы и галантного остроумного коннетабля Франции. Увы, что значим мы, жалкие философы, перед каким-нибудь коннетаблем? То же, что грядка капусты и редиски по сравнению с садами Лувра. Впрочем, это не имеет значения! Жизнь человеческая как для нас, так и для сильных мира сего исполнена добра и зла. Страдание всегда сопутствует наслаждению, как спондей чередуется с дактилем. Учитель, я должен рассказать вам историю особняка Барбо. Она кончается трагическим образом. Дело происходило в тысяча триста девятнадцатом году, в царствование Филиппа, самого долговязого из всех французских королей. Мораль всего этого повествования заключается в том, что искушения плоти всегда гибельны и коварны. Не надо заглядываться на жену ближнего своего, как бы ни были наши чувства восприимчивы к ее прелестям. Мысль о прелюбодеянии непристойна. Измена супружеской верности — это удовлетворенное любопытство к наслаждению, которое испытывает другой… Ого! А шум-то там все усиливается!
Действительно, суматоха вокруг собора возрастала. Они прислушались. До них явственно долетели победные крики. Внезапно сотни факелов, при свете которых засверкали каски воинов, замелькали по всему храму, по всем ярусам башен, на галереях, под упорными арками. Очевидно, кого-то искали, и вскоре до беглецов отчетливо донеслись отдаленные возгласы: «Цыганка! Ведьма! Смерть цыганке!»
Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец яростно принялся грести к берегу. Тем временем наш философ предался размышлениям. Он прижимал к себе козочку и осторожно отодвигался от цыганки, которая все теснее и теснее льнула к нему, словно это было единственное, последнее ее прибежище.
Гренгуара явно терзала нерешительность. Он думал о том, что, «согласно существующим законам», маленькая козочка, если ее схватят, тоже должна быть повешена, что будет очень жалко бедняжку Джали; что двух жертв, ухватившихся за него, многовато для одного человека, что его спутник, наконец, ничего лучшего и не желает, как взять цыганку на свое попечение. Он переживал жестокую борьбу, в которой, как Юпитер в «Илиаде» поочередно взвешивал судьбу цыганки и козы и смотрел то на одну, то на другую влажными от слез глазами, бормоча сквозь зубы: «Но я ведь не могу спасти вас обеих».
Резкий толчок дал им знать, что лодка наконец причалила к берегу. Зловещий гул все еще стоял над Ситэ. Незнакомец встал, приблизился к цыганке и хотел протянуть ей руку, чтобы помочь выйти из лодки. Она оттолкнула его и ухватилась за рукав Гренгуара, а тот, весь отдавшись заботам о козочке, сам почти оттолкнул ее. Тогда она одна выпрыгнула из лодки. Она была так взволнована, что не понимала ни того, что делает, ни того, куда идет. С минуту она простояла, растерянно глядя на струившиеся воды реки. Когда же она несколько пришла в себя, то увидела, что осталась на берегу одна с незнакомцем. По-видимому, Гренгуар воспользовался моментом высадки на берег и скрылся вместе с козочкой среди теснившихся друг к другу домов Складской улицы.
Бедная цыганка затрепетала, увидев себя наедине с этим человеком. Она хотела говорить, кричать, звать Гренгуара, но язык не повиновался ей, и ни один звук не вырвался из ее уст. Вдруг она почувствовала, как ее руку схватила сильная и холодная рука незнакомца. Ее зубы застучали, лицо стало бледнее лунного луча, который озарял его. Человек не проронил ни слова. Быстрыми шагами он направился к Гревской площади, держа ее за руку. Она смутно почувствовала, что сила рока непреодолима. Ее охватила слабость, она больше не сопротивлялась и бежала рядом, поспевая за его быстрыми шагами. В этом месте набережная шла в гору. А ей казалось, что она спускается по крутому откосу.
Она огляделась вокруг. Ни одного прохожего. Набережная была совершенно безлюдна. Шум и движение толпы слышались только со стороны буйного, пламеневшего заревом Ситэ, от которого ее отделял рукав Сены. Оттуда доносилось ее имя вперемежку с угрозами смерти. Париж лежал вокруг нее огромными глыбами мрака.
Незнакомец продолжал все так же безмолвно и так же быстро увлекать ее вперед. Она не узнавала ни одного из тех мест, по которым они шли. Проходя мимо освещенного окна, она сделала усилие, отшатнулась от священника и крикнула:
— Помогите!
Какой-то горожанин открыл окно, выглянул из него в одной рубашке, с лампой в руках, тупо оглядел набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и вновь захлопнул ставень. Это был последний луч надежды, и он угас.
Человек в черном не произнес ни звука и, крепко держа ее за руку, зашагал еще быстрее. Измученная, она уже более не сопротивлялась и покорно следовала за ним.
Время от времени она собирала последние силы и голосом, прерывавшимся от стремительного бега по неровной мостовой, задыхаясь, спрашивала:
— Кто вы? Кто же вы? Он не отвечал.
Так шли они все время вдоль набережной и дошли до какой-то довольно обширной площади, тускло освещенной луной. То была Гревская площадь. Посреди площади возвышалось что-то похожее на черный крест. То была виселица. Цыганка узнала ее и поняла, где находится.
Человек остановился, обернулся к ней и приподнял капюшон.
О, пролепетала она, окаменев на месте, — я так и знала, что это опять он.
То был священник. Он казался собственной тенью. Это была игра лунного света, когда все предметы кажутся призраками.
— Слушай, — сказал он, и она задрожала при звуке этого рокового голоса, которого давно уже не слышала. Он продолжал отрывисто и задыхаясь, что говорило о его глубоком внутреннем волнении: — Слушай. Мы пришли. Я хочу с тобой говорить. Это Гревская площадь. Дальше пути нет. Судьба предала нас друг другу. В моих руках твоя жизнь, в твоих — моя душа. Вот ночь и вот площадь, за их пределами пустота. Так слушай же меня. Я хочу сказать тебе… Но только не упоминай о твоем Фебе! (Говоря с ней, он, не выпуская ее руки, ходил взад и вперед, точно человек, который не в силах стоять на месте.) Не упоминай о нем! Видишь ли, если ты произнесешь это имя, я не знаю, что я сделаю, но это будет ужасно!
Выговорив эти слова, он, словно тело, нашедшее центр тяжести, вновь стал неподвижен, но речь его выдавала все то же волнение, а голос становился все глуше:
— Не отворачивайся от меня. Слушай! Это очень серьезная вещь. Во-первых, вот что произошло… Это вовсе не шутка, клянусь тебе… Что такое я говорил? Помоги мне вспомнить! Ах да. Есть постановление высшей судебной палаты, вновь отдающее тебя виселице. Я вырвал тебя из их рук. Но они преследуют тебя. Гляди!
Он протянул руку к Ситэ. Там действительно продолжались поиски. Шум все приближался. Башня дома, принадлежавшего заместителю верховного судьи, против Гревской площади, была полна шума и света. На противоположном берегу видны были солдаты, бежавшие с факелами, и слышались крики: «Цыганка! Где цыганка? Смерть ей! Смерть!»
— Ты сама видишь, что они ищут тебя и что я не лгу. Я люблю тебя. Молчи! Лучше не говори со мной, если хочешь сказать, что ненавидишь меня. Я не хочу больше этого слышать!.. Я только что спас тебя… Подожди, дай мне прежде договорить… Я могу совсем спасти тебя. Я все приготовил. Дело за тобой. Если ты захочешь, я могу… — Он резко оборвал свою речь: — Нет, нет, я говорю не то.
И быстрыми шагами, не выпуская ее руки, так что она должна была бежать, он направился прямо к виселице и, указав на нее пальцем, холодно произнес:
— Выбирай между нами.
Она вырвалась из его рук и упала к подножию виселицы, обнимая эту зловещую последнюю опору. Затем, слегка повернув прелестную головку, она через плечо взглянула на священника. Она походила на Божью Матерь у подножия креста. Священник стоял недвижно, с поднятой рукой, указывающей на виселицу, застывший, словно статуя.
Наконец цыганка проговорила:
— Я боюсь ее меньше, чем вас!
Тогда рука его медленно опустилась, и, устремив полный глубокой безнадежности взгляд на камни мостовой, он прошептал:
— Если бы эти камни могли говорить, они сказали бы: вот человек, который поистине несчастен.
И снова он заговорил. Молодая девушка, коленопреклоненная у подножия виселицы и вся окутанная длинными своими волосами, не прерывала его. Теперь в его голосе звучали горестные и нежные ноты, мучительно противоречившие надменной суровости его лица.
— Я люблю вас! О! Это правда! Значит, от пламени, что сжигает мое сердце, не вырывается ни одна искра наружу? Увы, девушка, денно и нощно, денно и нощно пылает оно! Неужели это не вызывает жалости? Днем и ночью горит любовь — это пытка. О! Я слишком страдаю, мое бедное дитя! Это, поверь мне, заслуживает сострадания. Вы видите, что я говорю с вами кротко. Мне так хочется, чтобы вы больше не чувствовали ко мне отвращения. Разве виноват мужчина, когда он любит женщину? О Боже мой! Как! Вы, значит, никогда не простите мне? Вы вечно будете ненавидеть меня? Значит, все кончено? Вот это и делает меня таким злобным и страшным самому себе. Вы даже не глядите на меня! Быть может, вы думаете о чем-то другом в тот миг, когда, трепеща, я стою пред вами на пороге вечности, готовой поглотить нас обоих! Только не говорите со мною об офицере! О! Пусть я паду к вашим ногам, пусть я буду лобзать — не стопы ваши, нет, этого вы не позволите, — но землю, попираемую ими; пусть я, словно ребенок, захлебнусь от рыданий, пусть вырву из груди — нет, не слова любви, а мое сердце, мою душу, — и все будет напрасно, все! А между тем вы полны нежности и милосердия, вы сияете благостной кротостью, вы так пленительны, добры, сострадательны и прелестны. Увы! В вашем сердце живет жестокость лишь ко мне одному! О! Какая судьба!
Он закрыл лицо руками. Молодая девушка услышала, что он плачет. Это было в первый раз. Стоя перед нею и сотрясаясь от рыданий, он был более жалок, чем если бы пал перед ней с мольбой на колени. Так плакал он некоторое время.
— Нет, — заговорил он снова, несколько успокоившись, — я не нахожу нужных слов. Однако я хорошо обдумал то, что должен был сказать вам. А сейчас я дрожу, трепещу, я слабею, в решительную минуту я чувствую какую-то высшую силу над нами, и у меня заплетается язык. О, я сейчас упаду наземь, если вы не сжалитесь надо мною, над собой! Не губите себя и меня! Если бы вы знали, как я люблю вас! Какое сердце отдаю вам! О, какое отречение от всякой добродетели! Какое неслыханное небрежение к себе! Ученый — я надругался над наукой; дворянин — я опозорил свое имя; священнослужитель — я превратил Требник в подушку для похотливых грез; я плюнул в лицо своему Богу! Все для тебя, чаровница! Чтобы быть достойным твоего ада! А ты отвергаешь грешника! О, я должен сказать тебе все! Еще более… нечто еще более ужасное! О, да, еще более ужасное!.. При этих словах его лицо приняло совершенно безумное выражение. Он замолк на секунду и снова заговорил громким голосом, словно обращаясь к самому себе:
— Каин, что сделал ты с братом своим? Он опять замолк, потом продолжал:
— Что сделал я с ним, Господи? Я призрел его, я вырастил его, вскормил, я любил его, боготворил, и я его убил! Да, Господи, вот только что, на моих глазах, ему размозжили голову о плиты твоего дома, и это по моей вине, по вине этой женщины, по ее вине…
Его взор был дик. Его голос угасал, он еще несколько раз, через долгие промежутки, машинально, словно колокол, длящий последний звук, повторил:
— По ее вине… По ее вине…
Потом язык его уж не мог выговорить ни одного внятного слова, а между тем губы еще шевелились. Вдруг ноги его подкосились, он рухнул на землю и остался недвижен, уронив голову на колени.
Движение девушки, высвободившей из-под него свою ногу, заставило его очнуться. Он медленно провел рукою по впалым щекам и некоторое время с изумлением глядел на свои мокрые пальцы.
— Что это? — прошептал он. — Я плакал! — И, внезапно повернувшись к девушке, он с несказанной мукой произнес: — И вы равнодушно глядели на мои слезы! Увы! Дитя, знаешь ли ты, что эти слезы — кипящая лава? Так это правда! Ничто не трогает нас в том, кого мы ненавидим. Если бы я умирал на твоих глазах, ты смеялась бы. О нет! Я не хочу тебя видеть умирающей! Одно слово! Одно лишь слово прощения! Не говори мне, что ты любишь меня, скажи лишь, что ты согласна, и этого будет достаточно. Я спасу тебя. Если же нет… О! Время бежит. Всем святым умоляю тебя, не жди, чтобы я снова превратился в камень, как эта виселица, которая тоже зовет тебя! Подумай о том, что в моих руках наши судьбы. Я безумен, я могу все погубить! Под нами бездонная пропасть, куда я низвергнусь вслед за тобой, несчастная, чтобы преследовать тебя вечно! Одно-единственное доброе слово! Скажи слово, только одно слово!
Она разомкнула губы, чтобы ответить ему. Он упал перед ней на колени, готовясь с благоговением внять слову сострадания, которое, быть может, сорвется наконец с ее губ.
— Вы убийца! — проговорила она.
Священник яростно схватил ее в объятия и разразился отвратительным хохотом.
— Ну хорошо! Убийца! — ответил он. — Но ты будешь принадлежать мне. Ты не пожелала, чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим господином. Ты будешь моей! У меня есть берлога, куда я утащу тебя. Ты пойдешь за мной! Тебе придется пойти за мной, иначе я выдам тебя! Надо либо умереть, красавица, либо принадлежать мне! Принадлежать священнику, вероотступнику, убийце! И сегодня, этой же ночью, слышишь ли ты? Идем! Веселей! Идем! Поцелуй меня, глупенькая! Могила или мое ложе!
Его взор сверкал вожделением и яростью. Его губы похотливо впивались в шею молодой девушки. Она билась в его руках. Он осыпал ее бешеными поцелуями.
— Не смей меня кусать, чудовище! — кричала она. — О гнусный, грязный монах! Оставь меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и швырну их тебе в лицо!
Он покраснел, потом побледнел, наконец выпустил ее и мрачно взглянул на нее. Думая, что победа осталась за нею, она продолжала:
— Говорю тебе, что я принадлежу моему Фебу, что люблю Феба, что Феб прекрасен! А ты, поп, стар! Ты уродлив! Уйди!
Он испустил дикий вопль, словно преступник, которого прижгли каленым железом.
— Так умри же! — вскричал он, заскрипев зубами. Она увидела его страшный взгляд и хотела бежать.
Он поймал ее, встряхнул, поверг на землю и быстрыми шагами направился к Роландовой башне, волоча ее за руки по мостовой. Дойдя до башни, он обернулся.
— Спрашиваю тебя в последний раз: согласна ты быть моею?
Она ответила твердо:
— Нет.
Тогда он громко крикнул:
— Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти ей! Девушка почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть.
Она оглянулась и увидела костлявую руку, высунувшуюся из оконца, проделанного в стене; эта рука схватила ее, словно железными клещами.
— Держи ее крепко! — сказал священник. — Это беглая цыганка. Не выпускай ее. Я пойду за стражей. Ты увидишь, как ее повесят.
— Ха-ха-ха-ха! — послышался гортанный смех в ответ на эти жестокие слова.
Цыганка увидела, что священник бегом бросился по направлению к мосту Богоматери. Как раз с этой стороны доносился топот скачущих лошадей.
Молодая девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попыталась вырваться. Она вся извивалась в судорожных усилиях освободиться, полная смертельного страха и отчаяния, но та держала ее с неслыханной силой. Худые и костлявые пальцы, терзавшие ее руку, впились в нее, крепко сомкнувшись вокруг. Казалось, эта рука была припаяна к ее кисти. Это было хуже, чем цепь, хуже, чем железный ошейник, чем железное кольцо, — то были сознательные, одушевленные клещи, выступавшие из камня.
Обессилев, Эсмеральда прислонилась к стене, и тогда ею овладел страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о синем небе, о красоте природы, о любви Феба — обо всем, что ускользало от нее, и обо всем, что приближалось к ней, — о священнике, ее предавшем, о палаче, который придет, о виселице, стоявшей на площади. И тогда она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы на голове. Она услышала зловещий хохот затворницы и ее шепот: «Ага, ага! Ты будешь повешена!»
Помертвев, она обернулась к оконцу и увидела сквозь решетку свирепое лицо вретишницы.
— Что я вам сделала? — спросила она, почти теряя сознание.
Затворница не ответила, а принялась нараспев, возбужденно и насмешливо бормотать: «Цыганка, цыганка, цыганка!»
Несчастная Эсмеральда горестно поникла головой, поняв, что имеет дело с существом, в котором не осталось ничего человеческого.
Внезапно затворница, словно вопрос цыганки только сейчас дошел до ее сознания, воскликнула:
— Что ты мне сделала, хочешь ты знать? А! Ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Ну так слушай! У меня был ребенок! Понимаешь? Ребенок был у меня! Ребенок, говорю я тебе!.. Прелестная маленькая девочка! Моя Агнесса, — продолжала она взволнованно, целуя какой-то предмет в темноте. — И вот, видишь ли, цыганка, у меня отняли моего ребенка, у меня украли мое дитя. Мое дитя пожрали! Вот что ты мне сделала.
Молодая девушка робко ответила:
— Увы! Быть может, меня тогда еще не было на свете!
— О нет! — ответила затворница. — Ты уже жила. Она была бы тебе ровесницей! Вот уже пятнадцать лет, как я нахожусь здесь, пятнадцать лет, как я страдаю, пятнадцать лет я молюсь, пятнадцать лет я бьюсь головой о стены… Я говорю тебе, что моего ребенка украли цыгане, слышишь ты? И они своими зубами растерзали его… Есть у тебя сердце? Так представь себе, что такое дитя, которое играет, сосет грудь, которое спит. Это сама невинность! Так вот! Его у меня отняли и убили! Про это знает Господь Бог!.. Ныне пробил мой час, и я сожру цыганку! Я бы искусала тебя, если бы не прутья решетки! Моя голова через них не пролезет… Бедная малютка! Ее украли сонную! А если они разбудили ее, когда схватили, то она кричала напрасно: меня не было возле!.. Ага, цыганские матери, вы пожрали мое дитя! Теперь идите поглядеть, как умрет ваше!
И она начала не то хохотать, не то лязгать зубами: нельзя было отличить одно от другого у этого разъяренного существа. День только занимался. Словно пепельной пеленой была подернута вся эта сцена, и все яснее и яснее вырисовывалась на площади виселица. С противоположного берега, от моста Богоматери, все явственнее доносился до слуха несчастной осужденной конский топот.
— Сударыня! — воскликнула она, ломая руки и падая на колени, растрепанная, отчаявшаяся, обезумевшая от ужаса. — Сударыня, сжальтесь надо мной! Они приближаются! Я ничего вам не сделала! Неужели вы хотите видеть, как я умру на ваших глазах такой лютой смертью? Я уверена, в вашем сердце есть жалость! Это слишком страшно! Дайте мне убежать! Отпустите меня! Сжальтесь! Я не хочу умирать!
— Отдай моего ребенка! — ответила затворница.
— Сжальтесь! Сжальтесь!
— Отдай ребенка!
— Отпустите меня, ради Бога!
— Отдай ребенка!
Молодая девушка вновь упала, обессилевшая, сломленная, глаза ее казались уже стеклянными, как у мертвой.
— Увы! — пролепетала она. — Вы ищете свою дочь, а я своих родителей.
— Отдай мою крошку Агнессу! — продолжала Гудула. — Ты не знаешь, где она? Так умри! Я объясню тебе. Послушай, я была гулящей девкой, у меня был ребенок, и его у меня отняли! Это сделали цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть? Когда твоя мать-цыганка придет за тобою, я скажу ей: «Мать, погляди на эту виселицу!» А может, ты вернешь мне дитя? Может, ты знаешь, где она, моя маленькая дочка? Иди, я покажу тебе. Вот ее башмачок — все, что мне от нее осталось. Не знаешь ли ты, где другой? Ежели знаешь, скажи, и если это даже на другом конце света, я поползу за ним на коленях.
Произнося эти слова, она другой рукой показывала цыганке из-за решетки маленький вышитый башмачок. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть его форму и цвет.
— Покажите мне башмачок! — сказала, трепеща, цыганка. — Боже мой! Боже!
Своей свободной рукой она поспешно раскрыла маленькую ладанку, украшенную зелеными бусами, которая висела у нее на шее.
— Ладно! Ладно! — ворчала про себя Гудула. — Хватайся за свой дьявольский амулет!
Вдруг ее голос оборвался, и, задрожав всем телом, она испустила вопль, вырвавшийся из самых глубин ее души:
— Дочь моя!
Цыганка вынула из ладанки башмачок, как две капли воды похожий на первый. К башмачку был привязан кусочек пергамента, на котором было написано следующее заклятие:
Еще один такой найди, И мать прижмет тебя к груди.Сличив мгновенно оба башмачка и прочтя надпись на пергаменте, затворница припала к оконной решетке лицом, сияющим небесной радостью, крича:
— Дочь моя! Дочь моя!
— Мать моя! — ответила цыганка. Перо бессильно описать эту встречу.
Стена и железные прутья решетки разделяли их.
— О, эта стена! — воскликнула затворница. — Видеть тебя и не обнять! Дай руку! Твою руку!
Молодая девушка просунула в оконце свою руку, затворница припала к ней, прильнула к ней губами и замерла в этом поцелуе, не подавая иных признаков жизни, кроме судорожного рыдания, по временам потрясавшего все ее тело. Слезы ее струились ручьями в молчании, во тьме, подобно ночному дождю. Бедная мать потоками изливала на эту обожаемую руку тот темный, бездонный, таившийся в ее душе источник слез, где капля за каплей пятнадцать лет копилась вся ее мука.
Вдруг она вскочила, отбросила со лба длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, принялась обеими руками, более яростно, чем львица, раскачивать решетку своего логова. Прутья не подавались. Тогда она бросилась в угол своей кельи, схватила тяжелый камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой швырнула его в решетку, что один из прутьев, брызнув искрами, сломался. Второй удар окончательно надломил старую крестообразную перекладину, которой было загорожено окно. Тогда она голыми руками сломала оставшиеся прутья и отогнула их ржавые концы. В иные мгновения руки женщины обладают нечеловеческой силой.
Расчистив таким образом путь, на что ей понадобилось не более одной минуты, она схватила свою дочь за талию и втащила в свою нору.
— Сюда! Я спасу тебя от гибели! — бормотала она. Тихонько опустив свою дочь на землю, затворница тут же вновь подняла ее и стала носить на руках, словно та все еще была ее малюткой Агнессой. Она ходила взад и вперед по узкой келье, опьяненная, неистовая, радостная. Она кричала, пела, целовала свою дочь, что-то говорила ей, разражалась хохотом, исходила слезами, и все это одновременно, словно в каком-то неистовстве.
— Дочь моя! Дочь моя! — говорила она. — Моя дочь со мной! Вот она! Милосердный Господь вернул мне ее. Эй, вы! Идите все сюда! Есть там кто-нибудь? Пусть взглянет, моя дочь со мной! Иисусе сладчайший, как она прекрасна! Пятнадцать лет ты заставил меня ждать, милостивый Боже, все для того, чтобы вернуть ее мне красавицей. Так, значит, цыганки не сожрали ее! Кто же это выдумал? Доченька! Доченька, поцелуй меня! Добрые цыганки! Я люблю цыганок… Да, это ты! Так вот почему мое сердце всегда трепетало, когда ты проходила мимо! А я-то думала, что это от ненависти! Прости меня, моя Агнесса, прости меня! Я казалась тебе очень злой, не правда ли? Я люблю тебя… Где твоя крошечная родинка на шейке, где она? Покажи! Вот она! О, как ты прекрасна! Это я вам подарила ваши огромные глаза, сударыня. Поцелуй меня. Я люблю тебя! Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети, теперь мне до этого нет дела. Пусть они придут сюда. Вот она, моя дочь. Вот ее шейка, ее глазки, ее волосы, ее ручка. Видали вы кого-нибудь прекраснее, чем она? О, я ручаюсь вам, что у нее-то уж будут поклонники! Пятнадцать лет я плакала. Вся красота моя истаяла — и вот вновь расцвела в ней. Поцелуй меня!
Она нашептывала ей тысячу безумных слов, все очарование которых таилось в их выразительности. Она привела в такой беспорядок одежду молодой девушки, что та покраснела; она гладила ее шелковистые волосы, целовала ее ноги, колени, лоб, глаза и всем восхищалась. Молодая девушка подчинялась всему и лишь изредка тихонько, с бесконечной нежностью повторяла:
— Матушка!
— Видишь ли, моя доченька, — говорила затворница, прерывая свою речь поцелуями, — я буду очень любить тебя. Мы уедем отсюда. Мы будем счастливы! Я получила кое-какое наследство в Реймсе, на нашей родине. Ты помнишь Реймс? Ах, нет, ты не можешь его помнить: ты была еще крошкой! Если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! У тебя были такие крошечные ножки, что любоваться ими приходили даже из Эперне, а ведь это за семь лье от Реймса! У нас будет свое поле, свой домик. Ты будешь спать в моей постели. Боже мой! Боже мой! Кто бы мог этому поверить? Моя дочь со мной!
— Матушка, — продолжала молодая девушка, справившись наконец со своим волнением, — цыганка все это мне предсказывала. Среди них была одна добрая цыганка, которая всегда заботилась обо мне как кормилица, — она умерла в прошлом году. Это она надела мне на шею ладанку. Она постоянно твердила: «Малютка, береги эту безделушку. Это сокровище. Она тебе поможет найти мать. Ты носишь мать свою на груди». Она это предсказала, цыганка!
Вретишница вновь сжала дочь в объятиях.
— Дай я тебя поцелую! Ты так мило все это рассказываешь. Когда мы приедем на родину, то пойдем в церковь и обуем в эти башмачки статую младенца Иисуса. Мы должны это сделать для милосердной Пречистой Девы. Боже мой! Какой у тебя прелестный голосок! Когда ты сейчас говорила со мною, это звучало как музыка! О Боже всемогущий! Я нашла своего ребенка! Возможно ли этому поверить? Нет, если я не умерла от такого счастья, от чего же тогда можно умереть!
И она вновь принялась хлопать в ладоши, смеяться и восклицать: «Мы будем счастливы!»
В эту минуту со стороны моста Богоматери и с набережной донеслось бряцание оружия и все приближавшийся конский топот. Цыганка с отчаяньем бросилась в объятия вретишницы:
— Матушка! Спаси меня! Они идут! Затворница побледнела.
— О Небо! Что ты говоришь! Я совсем забыла. За тобой гонятся! Что же ты сделала?
— Не знаю, — ответила несчастная девушка, — но меня приговорили к смерти.
— К смерти! — воскликнула Гудула, пошатнувшись, словно сраженная молнией. — К смерти! — медленно повторила она, пристально глядя на дочь.
— Да, матушка, — растерянно продолжала девушка. — Они хотят меня убить. Вот они идут за мной. Эта виселица — для меня! Спаси меня! Спаси меня! Они уже близко! Спаси меня!
Затворница несколько мгновений стояла, словно каменное изваяние, затем, с сомнением покачав головой, разразилась хохотом, своим ужасным прежним хохотом:
— О! О! Нет, да ты просто бредишь! Как бы не так! Потерять ее — и чтобы это длилось пятнадцать лет, а потом найти — и только на одну минуту! И ее отберут у меня! Теперь отнимут, когда она прекрасна, когда она уже выросла, когда она говорит со мной, когда она любит меня! Они придут сожрать ее на моих глазах, на глазах матери! О нет! Это невозможно! Милосердный Господь не допустит этого.
Конный отряд, видимо, остановился, и чей-то голос крикнул издали:
— Сюда, господин Тристан! Священник сказал, что мы найдем ее возле Крысиной норы.
Вновь послышался конский топот. Затворница вскочила с отчаянным воплем:
— Беги! Беги, дитя мое! Я вспомнила все! Ты права. Это идет твоя смерть! О ужас! Проклятье! Беги!
Она просунула голову в оконце и быстро отшатнулась назад.
— Стой, — тихо, отрывисто и мрачно сказала она, судорожно сжимая руку цыганки, помертвевшей от ужаса. — Стой! Не дыши! Везде солдаты. Тебе не убежать. Слишком светло.
Сухие ее глаза горели. Она умолкла. Крупными шагами ходила она по келье. Время от времени останавливалась и, вырывая у себя клок седых волос, рвала их зубами.
Вдруг она сказала:
— Они приближаются. Я с ними поговорю. Спрячься сюда, в этот угол. Они не заметят тебя. Я скажу, что ты убежала, что я тебя не удержала, клянусь Богом!
Она отнесла свою дочь, которую все время держала на руках, в самый дальний угол кельи, куда снаружи нельзя было заглянуть. Там она усадила ее, позаботившись о том, чтобы руки и ноги ее не выступали из тени, распустила ее черные волосы и, прикрыв ими ее белое платье, поставила перед ней свою кружку и камень — единственное ее имущество, — уверенная в том, что эта кружка и этот камень помогут ей скрыть дочь. Покончив со всем этим, она, немного успокоившись, упала на колени и принялась молиться. День только занимался, и Крысиная нора еще тонула во мраке.
В это мгновение возле самой кельи послышался зловещий голос священника.
— Сюда! — кричал он. — Сюда, капитан Феб де Шатопер!
При звуке этого имени, этого голоса Эсмеральда, притаившаяся в своем углу, зашевелилась.
— Не двигайся! — прошептала Гудула.
В ту же секунду у кельи раздался шум голосов, конский топот и бряцанье оружия. Тогда мать быстро вскочила и встала перед оконцем, чтобы загородить его. Она увидела большой вооруженный отряд пешей и конной стражи, выстроившийся на Гревской площади. Начальник спрыгнул с лошади и подошел к ней.
— Старуха, — сказал этот человек свирепого вида, — мы ищем ведьму, чтобы ее повесить. Нам сказали, что она у тебя.
Несчастная мать постаралась принять самый равнодушный вид и ответила:
— Не понимаю, что вы такое говорите. Человек продолжал:
— Черт возьми! Что же он нам напел, этот сумасшедший архидьякон? Где он?
— Господин, — ответил один из стрелков, — он исчез.
— Ну, старая дура, — продолжал начальник, — гляди у меня, не врать! Тебе поручили стеречь колдунью. Ты куда ее девала?
Затворница, боясь отнекиваться, чтобы не возбудить этим подозрений, угрюмо и с показным простодушием ответила:
— Если вы говорите об этой высокой девчонке, которую мне час тому назад навязали, так она, скажу вам, укусила меня, и я ее выпустила. Ну вот! А теперь оставьте меня в покое.
Начальник отряда скорчил недовольную гримасу.
— Смотри не вздумай врать мне, старая карга! — повторил он. — Я Тристан Отшельник, кум короля. Тристан Отшельник, понимаешь? — Оглядывая Гревскую площадь, он добавил: — Здесь на это имя отзывается эхо.
— Будь вы хоть Сатана Отшельник, больше того, что я сказала, я не скажу, и бояться вас мне нечего, — сказала Гудула, к которой снова вернулась надежда.
— Вот так баба, черт возьми! — воскликнул Тристан. — Так, значит, проклятая девка улизнула! Ну а в какую сторону она побежала?
Гудула с равнодушным видом ответила:
— Кажется, по Овечьей улице.
Тристан обернулся и подал своему отряду знак двинуться в путь. Затворница перевела дыхание.
— Господин, — вдруг вмешался один стрелок, — спросите-ка старую ведьму, почему у нее сломаны прутья оконной решетки?
Этот вопрос наполнил сердце несчастной матери мучительной тревогой. Однако она не окончательно потеряла присутствие духа.
— Они всегда были такие, — запинаясь, ответила она.
— Будто! — возразил стрелок. — Еще вчера они стояли тут красивым черным крестом, который призывал к благочестию!
Тристан исподлобья взглянул на затворницу:
— Ты что-то, кумушка, путаешь.
Несчастная сообразила, что все зависит от ее выдержки, и, тая в душе смертельную тревогу, она рассмеялась. На это способна лишь мать.
— Вот тебе раз! — сказала она. — Да этот человек пьян, что ли? Еще год тому назад тележка, груженная камнями, задела решетку оконца и погнула прутья! Уж как я проклинала возчика!
— Это верно, — поддержал ее другой стрелок, — я сам это видел.
Всегда и всюду найдутся люди, которые все видели. Это неожиданное свидетельство стрелка ободрило затворницу, которую этот допрос заставил пережить чувства человека, переходящего пропасть по лезвию ножа.
Но ей суждено было непрестанно переходить от надежды к отчаянию.
— Если бы решетку сломала тележка, то прутья вдавились бы внутрь, а они выгнуты наружу, — заметил первый стрелок.
— Эге! — обратился Тристан к стрелку. — Нюх-то у тебя словно у следователя Шатле. Ну, что ты на это скажешь, старуха?
— Боже мой! — воскликнула дрожащим от слез голосом доведенная до отчаяния Гудула. — Клянусь вам, господин, что эти прутья поломала тележка. Вы ведь слыхали, вон тот человек сам это видел. А потом, какое все это имеет отношение к вашей цыганке?
— Гм!.. — проворчал Тристан.
— Черт возьми! — воскликнул стрелок, польщенный похвалою начальника. — А надлом-то на прутьях совсем свежий!
Тристан покачал головой. Гудула побледнела.
— Когда, говорите вы, проезжала здесь тележка?
— Да вроде как месяц тому назад или недели две, монсеньор. Хорошо-то я не упомнила!
— А сначала она говорила, что год, — сказал стрелок.
— Вот это уже подозрительно! — сказал Тристан.
— Монсеньор! — закричала она, продолжая прижиматься к оконцу и трепеща при мысли, что подозрение может заставить их заглянуть в келью. — Господин, клянусь, эту решетку сломала тележка. Клянусь вам всеми небесными ангелами. А если я вру, то пусть я буду проклята навеки, пусть буду вероотступницей!
— Уж очень ты горячо клянешься! — сказал Тристан, окидывая ее инквизиторским взглядом.
Бедная женщина чувствовала, что все больше теряет самообладание. Она стала делать промахи, с ужасом сознавая, что говорит совсем не то, что надо.
Как раз в эту минуту прибежал стрелок и крикнул:
— Господин, старая ведьма все врет! Колдунья не могла бежать через Овечью улицу. Заградительную цепь не снимали всю ночь, и сторож говорит, что никто не проходил.
Тристан, лицо которого с каждой минутой становилось все мрачнее, обратился к затворнице:
— Ну а теперь что скажешь?
Она попыталась преодолеть и это новое затруднение.
— Откуда я знаю, господин, может быть, я и ошиблась. Мне думается, она переправилась через реку.
— Но это же в обратную сторону, — сказал Тристан. — Да и маловероятно, чтобы она захотела вернуться в Ситэ, где ее ищут. Ты врешь, старуха!
— И кроме того, — вставил первый стрелок, — ни с той, ни с другой стороны нет никаких лодок.
— Она могла броситься вплавь, — сказала затворница, отстаивая пядь за пядью свои позиции.
— Разве женщины умеют плавать? — заметил стрелок.
— Черт возьми! Старуха, ты врешь! Ты врешь! — гневно крикнул Тристан. — Меня так и подмывает плюнуть на эту колдунью и схватить тебя вместо нее. Четверть часика в застенке вырвут правду из твоей глотки! Идем-ка, следуй за нами.
Она с жадностью ухватилась за эти слова:
— Как вам угодно, господин. Пусть будет по-вашему! Пытка? Я готова! Ведите меня. Скорей, скорей! Идемте тотчас же!
«А тем временем, — думала она, — моя дочь успеет скрыться».
— Черт возьми! — сказал Тристан. — Она так и рвется на дыбу! Не пойму я этой сумасшедшей!
Из отряда выступил седой сержант ночного дозора и, обратившись к нему, сказал:
— Она действительно сумасшедшая, господин. И если она упустила цыганку, то не по своей вине. Она их ненавидит. Пятнадцать лет я в ночном дозоре и каждый вечер слышу, как она проклинает цыганок на все лады. Если та, которую мы ищем, маленькая плясунья с козой, то эту она особенно ненавидит.
Гудула сделала над собой усилие и сказала:
— Да, эту особенно.
Остальные стрелки единодушно подтвердили слова старого сержанта. Это убедило Тристана Отшельника. Потеряв надежду что-либо вытянуть из затворницы, он повернулся к ней спиной, и она с невыразимым волнением глядела, как он медленно направлялся к своей лошади.
— Ну, трогай! — проговорил он сквозь зубы. — Вперед! Надо продолжать поиски. Я не усну, пока цыганка не будет повешена.
Однако он еще помедлил, прежде чем вскочить на лошадь. Гудула ни жива ни мертва следила за тем, как он беспокойно оглядывал площадь, словно охотничья собака, чующая дичь и не решающаяся уйти. Наконец он тряхнул головой и вскочил в седло. Подавленное ужасом, сердце Гудулы снова забилось, и она прошептала, обернувшись к дочери, на которую до сей поры ни разу не решалась взглянуть:
— Спасена!
Бедняжка все это время просидела в своем углу, боясь вздохнуть, боясь пошевельнуться, с одной лишь мыслью о предстоящей смерти. Она не упустила ни единого слова из всего разговора матери с Тристаном, и все муки матери находили отклик и в ее сердце. Она чувствовала, как трещала нить, которая держала ее над бездной, двадцать раз ей казалось, что вот-вот нить эта порвется, и только сейчас она вздохнула наконец свободнее, ощутив под ногами опору. В эту минуту до нее донесся голос, говоривший Тристану.
— Рога дьявола! Господин начальник, я человек военный, и не мое дело вешать колдуний. С чернью мы покончили. Остальным займетесь сами. Если вы позволите, я вернусь к отряду, который остался без капитана.
Это был голос Феба де Шатопера. Нет слов передать, что произошло в душе цыганки. Так, значит, он здесь, ее друг, ее защитник, ее опора, ее убежище, ее Феб! Она вскочила и, прежде чем мать успела удержать ее, бросилась к окошку, крича:
— Феб! Ко мне, мой Феб!
Но Феба уже не было. Он галопом огибал угол улицы Ножевщиков. Зато Тристан был еще здесь.
Затворница с диким рычаньем бросилась на дочь. Она быстро оттащила ее назад, вонзив ей в шею свои ногти, — ведь матери-тигрицы не отличаются особой осторожностью. Но было уже поздно. Тристан ее увидел.
— Эге! — воскликнул он со смехом, обнажившим до корней его зубы, что придало его физиономии сходство с волчьей мордой. — В мышеловке-то оказались две мыши!
— Я так и думал, — сказал стрелок. Тристан потрепал его по плечу и сказал:
— У тебя нюх как у кошки. А ну-ка, где тут Анрие Кузен?
Человек с гладкими волосами, не похожий ни по виду, ни по одежде на стрелка, выступил из их рядов. Платье на нем было наполовину коричневое, наполовину серое, с кожаными рукавами; в сильной руке он держал связку веревок. Этот человек всегда сопровождал Тристана, как тот — Людовика XI.
— Послушай, дружище, — обратился к нему Тристан Отшельник, — я полагаю, что это та самая колдунья, которую мы ищем. Вздерни-ка ее! Лестница при тебе?
— Лестница там, под навесом Дома с колоннами, — ответил человек. — Ее как, на этой вот перекладине вздернуть, что ли? — спросил он, указывая на каменную виселицу.
— Да.
— Хо-хо! — еще более грубо и зверски, чем начальник, захохотал палач. — Ходить далеко не придется!
— Ну поживей! Потом нахохочешься! — крикнул Тристан.
С той самой минуты, как Тристан заметил ее дочь и всякая надежда на спасенье была утрачена, затворница не произнесла больше ни слова. Она бросила бедную полумертвую цыганку в угол склепа и снова встала перед оконцем, вцепившись обеими руками, как когтями, в угол подоконника. В этой позе она бесстрашно ожидала стрелков. Ее глаза приняли прежнее дикое и безумное выражение. Когда Анрие Кузен подошел к келье, лицо Гудулы стало таким свирепым, что он попятился.
— Господин, — спросил он, подойдя к Тристану, — которую же из них взять?
— Молодую.
— Тем лучше! Со старухой, кажись, трудненько было бы справиться.
— Бедная маленькая плясунья с козочкой! — заметил старый сержант ночного дозора.
Анрие Кузен снова подошел к оконцу. Взгляд несчастной матери заставил его отвести глаза. С некоторой робостью он проговорил:
— Сударыня…
Она прервала его еле слышным яростным шепотом:
— Кого тебе нужно?
— Не вас, — ответил он, — ту, другую.
— Какую другую?
— Ту, что помоложе.
Она принялась трясти головой, крича:
— Здесь нет никого! Нет никого! Нет никого!
— Есть! — возразил ей палач. — Вы сами это прекрасно знаете. Дозвольте мне взять молодую. А вам я никакого зла не причиню.
Она возразила со странной усмешкой:
— Вот как! Мне ты не хочешь причинить зла!
— Отдайте мне только ту, другую, сударыня. Господин начальник так приказывает.
Она повторила с безумным видом:
— Здесь нет никого.
— А я вам повторяю, что есть! — воскликнул палач. — Мы все видели, что вас было двое.
— Погляди сам! — сказала затворница. — Сунь-ка голову в окошко!
Палач взглянул на ее ногти и не решился.
— Поторапливайся! — закричал Тристан, который, успев выстроить свой отряд полукругом перед Крысиной норой, сам подъехал к виселице.
Анрие Кузен в сильнейшем замешательстве еще раз подошел к начальнику. Он положил веревки на землю и с неуклюжим видом стал мять в руках шапку.
— Господин, как же войти туда? — спросил он.
— Через дверь.
— Двери нет.
— Через окно.
— Оно слишком узко.
— Так расширь его! — гневно ответил Тристан. — Разве нет у тебя кирки?
Мать, по-прежнему настороженная, наблюдала за ними из глубины своей норы. Она уже больше ни на что не надеялась, она уже больше не знала, что делать, она только не хотела, чтобы у нее отняли дочь.
Анрие Кузен пошел за своими инструментами, которые лежали в ящике под навесом Дома с колоннами. Заодно он вытащил оттуда и лестницу-стремянку, которую тут же приставил к виселице. Пять или шесть человек из отряда вооружились кирками и ломами. Тристан направился вместе с ними к оконцу.
— Старуха, — строго сказал ей начальник, — отдай нам девчонку добром.
Она взглянула на него, словно не понимая.
— Черт возьми! — продолжал Тристан. — Почему ты не хочешь, чтобы мы повесили эту колдунью, как то угодно королю?
Несчастная разразилась диким хохотом.
— Почему я не хочу? Она моя дочь!
Выражение, с которым она произнесла эти слова, заставило вздрогнуть даже самого Анрие Кузена.
— Мне очень жаль, — ответил Тристан, — но такова воля короля.
А затворница, еще громче расхохотавшись своим жутким смехом, крикнула:
— Что мне за дело до твоего короля! Говорю тебе, что это моя дочь!
— Пробивайте стену! — приказал Тристан.
Для того чтобы расширить отверстие, достаточно было вынуть под оконцем один ряд каменной кладки. Когда мать услышала удары кирок и ломов, пробивавших ее крепость, она испустила ужасающий вопль и стала с невероятной быстротой кружить по келье — эту повадку дикого зверя приобрела она, сидя в своей клетке. Она молчала, но глаза ее горели. У стрелков захолонуло сердце.
Внезапно она схватила свой камень и, захохотав, с размаху швырнула его в стрелков. Камень, брошенный неловко, ибо руки ее дрожали, пал к ногам лошади Тристана, никого не задев. Затворница заскрежетала зубами.
Хотя солнце еще не совсем взошло, но было уже светло, и чудесный розоватый отблеск лег на старые полуразрушенные трубы Дома с колоннами. Это был тот час, когда обитатели чердаков, просыпающиеся раньше всех, весело отворяют свои оконца, выходящие на крышу. Несколько поселян, несколько торговцев фруктами, верхом на осликах, потянулись на рынки через Гревскую площадь. Задерживаясь на мгновение возле отряда стрелков, собравшихся вокруг Крысиной норы, они удивленно глядели на них и затем продолжали путь.
Затворница села возле дочери, заслонив ее и прикрыв своим телом, с остановившимся взглядом, прислушиваясь к тому, как лежавшее без движения несчастное дитя шепотом непрестанно повторяло: «Феб! Феб!»
По мере того как работа стражи, ломавшей стену, подвигалась вперед, мать невольно откидывалась назад и все сильнее прижимала молодую девушку к стене. Вдруг она заметила (ибо не спускала с него глаз), что камень подался, и услышала голос Тристана, подбодрявшего солдат. Тогда она очнулась от своего недолгого оцепенения и закричала. Голос ее то резал слух, как скрежет пилы, то захлебывался, словно все проклятия мира теснились в ее устах, чтобы разом вырваться наружу.
— О-о-о! Это ужасно! Разбойники! Неужели вы в самом деле хотите отнять у меня дочь? Я же вам говорю, что это моя дочь! О подлые! О низкие палачи! Гнусные, грязные убийцы! Помогите! Помогите! Пожар! Неужто они так и отнимут у меня мое дитя? Кого же тогда называют милосердным Господом Богом? — И, обратись к Тристану, с пеной у рта, с блуждающим взором, стоя на четвереньках и ощетинясь, словно пантера, она заговорила:
— Ну-ка подойди, попробуй взять у меня мою дочь! Ты что, не понимаешь? Женщина говорит тебе, что это ее дочь! Знаешь ли ты, что значит дочь? Эй, ты, волк! Разве ты никогда не спал со своей волчицей? Разве у тебя никогда не было волчонка? А если у тебя есть детеныши, то, когда они воют, разве у тебя не переворачивается нутро?
— Вынимайте камень, — приказал Тристан, — он чуть держится.
Рычаги приподняли тяжелую плиту. Как мы уже упоминали, это был последний оплот несчастной матери. Она бросилась на нее, она хотела ее удержать, она царапала камень ногтями. Но массивная глыба, сдвинутая с места шестью мужчинами, вырвалась у нее из рук и медленно, по железным рычагам, соскользнула на землю.
Мать, увидя, что вход готов, упала поперек отверстия, загораживая пролом своим телом, колотясь головою о камень, ломая руки, крича охрипшим от усталости, еле слышным голосом: «Помогите! Пожар! Горим!»
— Теперь берите девчонку! — все так же невозмутимо приказал Тристан.
Мать окинула стрелков таким грозным взглядом, что они охотнее бы попятились, чем пошли на приступ.
— Ну же, — продолжал Тристан, — Анрие Кузен, вперед!
Никто не тронулся с места.
— Клянусь башкой Христовой! — выругался Тристан. — Струсили перед бабой! А еще солдаты!
— Господин, — заметил Анрие Кузен, — да разве это женщина?
— У нее львиная грива! — заметил другой.
— Вперед! — приказал начальник. — Отверстие уже широкое. Пролезайте в него по трое в ряд, как в брешь при осаде Понтуаза. Пора с этим кончать, клянусь Магометом! И первого, кто повернет назад, я разрублю надвое!
Очутившись между двумя опасностями — матерью и начальником, — стрелки после некоторого колебания решили направиться к Крысиной норе. Увидев это, затворница привстала на коленях, отбросила с лица волосы и беспомощно уронила худые исцарапанные руки. Крупные слезы выступили у нее на глазах и одна за другой побежали по бороздившим ее лицо морщинам, словно ручей по проложенному руслу. Она заговорила таким молящим, нежным, кротким и таким хватающим за душу голосом, что вокруг Тристана не один старый вояка с сердцем людоеда утирал себе глаза.
— Милостивые господа! Господа стражники, одно лишь слово. Я должна вам кое-что рассказать! Это моя дочь, видите ли? Моя дорогая малютка дочь, которую я когда-то утратила. Послушайте, это целая история. Представьте себе, я очень хорошо знаю господ стражников. Они всегда были добры ко мне, еще в ту пору, когда мальчишки бросали в меня камнями за мою распутную жизнь. Послушайте! Вы оставите мне дочь, когда узнаете все! Я несчастная уличная девка. Ее украли у меня цыганки. И это так же верно, как то, что пятнадцать лет я храню у себя ее башмачок. Вот он, глядите! Вот какая у нее была ножка. В Реймсе! Шантфлери! Улица Великой скорби! Может, слышали? То была я в дни вашей юности. Хорошее было времечко! Неплохо было провести со мной часок. Вы ведь сжалитесь надо мной, господа, не правда ли? Ее украли у меня цыганки, и пятнадцать лет они прятали ее от меня. Я считала ее умершей. Подумайте, друзья мои, — умершей! Пятнадцать лет я провела здесь, в этом погребе, без огня зимой. Тяжко это было. Бедный дорогой башмачок! Я так стенала, что милостивый Господь услышал меня. Нынче ночью он возвратил мне дочь. Это чудо Господне. Она не умерла. Вы ее не отнимете у меня, я знаю. Если бы вы хотели взять меня, тогда дело другое, но она дитя, ей шестнадцать лет! Дайте же ей насмотреться на солнце! Что она вам сделала? Ничего. Да и я тоже. Ежели бы вы только знали! Она — все, что у меня есть на свете! И глядите, какая я старая. Ведь это Божья Матерь ниспослала мне свое благословенье! А вы все такие добрые! Ведь вы же не знали, что это моя дочь, ну а теперь вы это знаете! О! Я так люблю ее! Господин главный начальник, лучше мне распороть себе живот, чем увидеть хоть маленькую царапинку на ее пальчике! У вас такое доброе лицо, господин! Теперь, когда я вам все рассказала, вам все понятно, не правда ли? О, у вас тоже была мать, господин! Ведь вы оставите мне мое дитя! Взгляните, я на коленях умоляю вас об этом, как молят самого Иисуса Христа! Я ни у кого ничего не прошу. Я из Реймса, милостивые господа, у меня там есть клочок земли, доставшийся мне от моего дяди Майе Прадона. Я не нищенка. Мне ничего не надо — только мое дитя! О! Я хочу сохранить мое дитя! Господь, владыка наш, вернул мне его не напрасно! Король! Вы говорите — король! Но разве для него такое уж удовольствие, если убьют мою малютку? И потом, король добрый. Это моя дочь! Моя, моя дочь! А не короля! Не ваша! Я хочу уехать! Мы хотим уехать! Вот идут две женщины, из которых одна мать, а другая дочь, ну и пускай себе идут! Дайте же нам уйти! Мы обе из Реймса. О! Вы все очень добрые, господа стражники. Я всех вас так люблю… Вы не возьмете у меня мою дорогую крошку, это совершенно невозможно! Не правда ли, это невозможно? Мое дитя! Дитя мое!
Мы не в силах описать ни ее жесты, ни ее голос, ни слезы, которыми она захлебывалась, ни руки, которые она то складывала с мольбою, то ломала, ни ее раздирающую улыбку, молящий взор, вопли, вздохи и жалобные, захватывающие рыдания, которыми она сопровождала свою отрывистую, бессвязную, безумную речь.
Наконец, когда она умолкла, Тристан Отшельник нахмурил брови, чтобы скрыть слезу, навернувшуюся на эти глаза тигра. Однако он преодолел свою слабость и коротко ответил ей:
— Такова воля короля! — Потом, наклонившись к Анрие Кузену, прошептал: — Кончай скорей! — Быть может, грозный Тристан почувствовал, что и у него может не выдержать сердце.
Палач и стража вошли в келью. Мать не препятствовала им, она лишь подползла к дочери и, без памяти обхватив ее, закрыла своим телом.
Цыганка увидела приближавшихся к ней солдат. Ужас смерти вернул ее к жизни.
— Мать моя! — с выражением невыразимого отчаяния крикнула она. — Матушка, они идут! Защити меня!
— Да, любовь моя, да, я защищаю тебя! — угасшим голосом ответила мать, и, крепко сжимая ее в своих объятиях, она покрыла ее поцелуями. Обе — и мать и дочь, простершиеся на земле, — являли собою зрелище, достойное сострадания.
Анрие Кузен схватил молодую девушку поперек туловища. Когда она почувствовала прикосновение его руки, она лишь слабо вскрикнула и потеряла сознание. Палач, из глаз которого капля за каплей падали крупные слезы, хотел было взять девушку на руки. Он попытался оттолкнуть мать, руки которой словно узлом стянулись вокруг стана дочери, но она так крепко обняла свое дитя, что ее невозможно было оторвать. Тогда Анрие Кузен поволок из кельи молодую девушку, а с нею вместе и мать. У матери глаза были тоже закрыты.
К этому времени солнце взошло, и на площади уже собралась довольно многочисленная толпа зевак, наблюдавших издали, как что-то тащат к виселице по мостовой. Таков был обычай Тристана при совершении казней. Он не любил близко подпускать любопытных.
В окнах не было видно ни души. И только на верхушке той башни собора Богоматери, с которой видна Гревская площадь, на ясном утреннем небе вырисовывались черные силуэты двух мужчин, казалось глядевших вниз на площадь.
Анрие Кузен остановился вместе со своим грузом у подножия роковой лестницы и, с трудом переводя дыхание — до того он был растроган, — накинул петлю на прелестную шейку молодой девушки. Несчастная почувствовала страшное прикосновение пеньковой веревки. Она подняла веки и над самой своей головой увидела простертую руку каменной виселицы. Тогда она вздрогнула и громким, раздирающим голосом закричала:
— Нет! Нет! Не хочу!
Мать, голова которой зарылась в одежды дочери, не промолвила ни слова; только видно было, как дрожало все ее тело, как жадно и торопливо целовала она свою дочь. Палач воспользовался этой минутой, чтобы быстро разомкнуть ее руки, которыми она сжимала осужденную. То ли обессилев, то ли отчаявшись, она не сопротивлялась. Палач взвалил молодую девушку на плечо, и тело прелестного создания, грациозно изогнувшись, запрокинулось за его большую голову. Потом он вступил на лестницу, собираясь подняться.
В эту минуту мать, лежавшая скорчившись на мостовой, широко раскрыла глаза. Она поднялась, лицо ее было страшно; молча, как зверь на добычу, она бросилась на палача и вцепилась зубами в его руку. Это произошло молниеносно. Палач взвыл от боли. К нему подбежали. С трудом высвободили его окровавленную руку из зубов матери. Она хранила глубокое молчание. Ее грубо оттолкнули. Голова ее тяжело ударилась о мостовую. Ее приподняли. Она упала снова. Она была мертва.
Палач, не выпустивший девушку из рук, стал вновь взбираться по лестнице.
Глава 2
La creatura bella bianco vestita (Dante)[346]
Когда Квазимодо увидел, что келья опустела, что цыганки там нет, что, пока он защищал ее, она была похищена, он вцепился себе в волосы и затопал ногами от неожиданности и горя. Затем принялся бегать по всей церкви, разыскивая цыганку, испуская нечеловеческие вопли, усеивая плиты собора своими рыжими волосами. Это было как раз в то мгновенье, когда королевские стрелки победно вступили в собор и тоже принялись за поиски цыганки. Бедняга глухой помогал им, не подозревая их намерений; он полагал, что врагами цыганки были бродяги. Он сам повел Тристана Отшельника по всем уголкам собора, он отворил ему все потайные двери, проводил его за алтарь и во внутренние помещения ризниц. Если бы несчастная еще находилась в храме, он предал бы ее.
Когда утомленный бесплодными поисками Тристан наконец отступился, — а отступался он не так-то легко, — Квазимодо продолжал искать один. Он двадцать раз, сто раз обежал собор вдоль и поперек, сверху и донизу, то взбираясь, то сбегая по лестницам, зовя, крича, обнюхивая, обшаривая, обыскивая, просовывая голову во все щели, освещая факелом каждый свод, отчаявшийся, безумный. Самец, потерявший самку, не мог бы рычать громче и свирепей. Наконец, когда он убедился, и убедился окончательно, что Эсмеральды нет, что все кончено, что ее украли у него, он медленно стал подниматься по башенной лестнице, той самой лестнице, по которой он с таким торжеством, с таким восторгом взбежал в тот день, когда спас ее. Он прошел по тем же местам, поникнув головой, молча, без слез, почти не дыша. Церковь вновь опустела и погрузилась в тишину. Стрелки ее покинули, чтобы устроить на колдунью облаву в Ситэ. Оставшись один в этом огромном соборе Богоматери, еще несколько минут тому назад наполненном шумом осады, Квазимодо направился к той келье, в которой цыганка столько недель спала под его охраной.
Приближаясь к келье, он вдруг подумал, что, может быть, найдет ее там. Когда, огибая галерею, выходившую на крышу боковых приделов, он увидел узенькую келью с маленьким окошком и маленькой дверью, притаившуюся под упорной аркой, словно птичье гнездышко под веткой, у бедняги замерло сердце, и он прислонился к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что, может быть, она вернулась, что какой-нибудь добрый гений привел ее туда, что эта келья была слишком мирной, надежной и уютной, чтобы она могла покинуть ее. Он не смел двинуться с места, боясь спугнуть свою мечту. «Да, — говорил он себе, — да, она, вероятно, спит или молится. Не надо ее беспокоить».
Но наконец, собравшись с духом, он на цыпочках приблизился к двери, заглянул и вошел. Никого! Келья была по-прежнему пуста. Несчастный глухой медленно обошел ее, приподнял постель, заглянул под нее, словно цыганка могла спрятаться между каменной плитой и тюфяком, затем покачал головой и застыл в оцепенении. Вдруг он яростно затоптал ногою факел и, не вымолвив ни слова, не издав ни единого вздоха, с разбега ударился головою о стену и упал без сознания наземь.
Когда он пришел в себя, то бросился на постель и, катаясь по ней, принялся страстно целовать это ложе, где только что спала молодая девушка и, казалось, еще дышавшее теплом; некоторое время он лежал неподвижно, как мертвый, потом встал и, обливаясь потом, задыхаясь, обезумев, принялся снова биться головой о стену с жуткой равномерностью раскачиваемого колокола и упорством человека, решившего умереть. Обессилев, он вновь упал; потом на коленях выполз из кельи и сел против двери в позе, исполненной изумления.
Больше часу, не пошевельнувшись, просидел он так, пристально глядя на опустевшую келью, мрачнее и задумчивее матери, сидящей между опустевшей колыбелью и гробиком своего дитяти. Он не произносил ни слова; лишь изредка бурное рыданье сотрясало его тело, но то было рыданье без слез, подобное бесшумно вспыхивающим летним зарницам.
По-видимому, именно тогда, доискиваясь в горестной своей задумчивости, кто мог быть неожиданным похитителем цыганки, он остановился на архидьяконе. Он припомнил, что у одного лишь Клода был ключ от лестницы, ведущей в келью, он припомнил его ночные покушения на девушку — первое, в котором он, Квазимодо, помогал ему, и второе, когда он, Квазимодо, помешал ему. Он припомнил тысячу подробностей и вскоре уже не сомневался более в том, что цыганку у него отнял архидьякон. Однако его уважение к священнику было так велико, его благодарность, преданность и любовь к этому человеку пустили такие глубокие корни в его сердце, что даже и теперь чувства эти противились острым когтям ревности и отчаяния.
Он думал, что это сделал архидьякон, но кровожадная, смертельная ненависть, которою он проникся бы к любому иному, тут, когда это касалось Клода Фролло, обернулась у несчастного глухого глубочайшей скорбью.
В ту минуту, когда его мысль сосредоточилась на священнике, упорные арки собора осветились утренней зарей, и он вдруг увидел на верхней галерее собора Богоматери, на повороте наружной балюстрады, опоясывавшей свод над хорами, какую-то движущуюся фигуру. Она направлялась в его сторону. Он узнал ее. То был архидьякон.
Клод шел тяжелой и медленной поступью, не глядя перед собой; он шел к северной башне, но лицо его было обращено в сторону правого берега Сены. Он держал голову высоко, точно силясь разглядеть что-то поверх крыш. Такой косой взгляд часто бывает у совы, когда она летит вперед, а глядит в сторону. Архидьякон прошел над самым Квазимодо, не заметив его.
Глухой, окаменев при его неожиданном появлении, увидел, как священник вошел в лестничную дверку северной башни. Читателю известно, что именно из этой башни можно было видеть городскую ратушу. Квазимодо встал и пошел за архидьяконом.
Звонарь поднялся по башенной лестнице, чтобы узнать, зачем поднимался по ней священник. Бедняга не ведал, что он сделает, что скажет, чего он хочет. Он был полон ярости и страха. В его сердце столкнулись архидьякон и цыганка.
Дойдя до верхушки башни, он, прежде чем выступить из мрака лестницы на площадку, осторожно осмотрелся, ища взглядом священника. Тот стоял к нему спиной.
Площадку колокольни окружает сквозная балюстрада. Священник, устремив взгляд на город, стоял, опираясь грудью на ту из четырех сторон балюстрады, которая выходит к мосту Богоматери.
Бесшумно подкравшись сзади, Квазимодо старался разглядеть, на что так пристально смотрел он.
Внимание священника было настолько поглощено, что он даже не услышал шагов Квазимодо.
Великолепное, пленительное зрелище представляет собой Париж — особенно же Париж того времени — с высоты башен собора Богоматери в летнее раннее утро, веющее прохладой. Стоял июль месяц. Небо было совершенно ясное. Несколько запоздавших звездочек угасали то там, то тут, и лишь одна, очень яркая, искрилась на востоке, где небо казалось всего светлее. Вот-вот должно было показаться солнце. Париж начинал просыпаться. В этом чистом, бледном свете резко выступали обращенные к востоку стены домов. Исполинская тень колоколен ползла с крыши на крышу, протягиваясь от одного конца города до другого. В некоторых кварталах уже слышался шум и говор. Тут раздавался колокольный звон, там — удары молота или дребезжание проезжавшей тележки. Кое-где на поверхности кровель уже возникали дымки, словно вырываясь из трещин огромной курящейся сопки. Река, дробившая свои волны о быки стольких мостов, о мысы стольких островов, вся переливалась серебристой рябью. Вокруг города, за каменной его оградой, глаз тонул в широком полукруге клубящихся испарений, сквозь которые можно было смутно различить бесконечную линию равнин и изящную округлость холмов. Самые разнородные звуки реяли над этим полупроснувшимся городом. На востоке утренний ветерок гнал по небу белые пушистые хлопья, вырванные из гривы тумана, застилавшего холмы.
На паперти несколько кумушек с кувшинами для молока удивленно указывали друг другу на невиданное разрушение главных дверей собора Богоматери и на два потока расплавленного свинца, застывшие в расщелинах камня. Это было все, что осталось от ночного смятения. Костер, зажженный Квазимодо между двух башен, потух. Тристан уже очистил площадь и приказал бросить трупы в Сену. Короли, подобные Людовику XI, заботятся о том, чтобы кровопролитие не оставляло следов на мостовой.
С внешней стороны балюстрады, непосредственно под тем местом, где стоял священник, находился один из причудливо обтесанных каменных желобов, которыми щетинятся готические здания. В расщелине этого желоба два расцветших прелестных левкоя, колеблемые ветерком, шаловливо раскланивались друг с другом, точно живые. Над башнями, высоко в небе, слышалось щебетание птиц.
Но священник ничего этого не слышал, ни на что не глядел. Он был из тех людей, для которых не существует ни утра, ни птиц, ни цветов. Среди этого необъятного простора, предлагавшего такое многообразие взору, его внимание было сосредоточено лишь на одном.
Квазимодо сгорал желанием спросить у него, что он сделал с цыганкой, но архидьякон в этот миг, казалось, унесся в иной мир. Он, видимо, переживал одно из тех острейших мгновений в жизни, когда человек даже не почувствовал бы, как под ним разверзается бездна. Вперив взгляд в одну точку, он стоял безмолвный, недвижимый, и в этом безмолвии, в этой неподвижности было нечто столь устрашающее, что свирепый звонарь задрожал и не осмелился их нарушить. У него был другой способ спросить священника: он стал следить за направлением его взгляда, и взор его упал на Гревскую площадь.
Он увидел то, на что глядел архидьякон. Возле постоянной виселицы стояла лестница. На площади виднелись кучки людей и множество солдат. Какой-то мужчина тащил по мостовой что-то белое, за которым волочилось что-то черное. Этот человек остановился у подножия виселицы.
Тут произошло нечто, чего Квазимодо не мог хорошо разглядеть. Не потому, что его единственный глаз утратил свою зоркость, но потому, что скопление стражи у виселицы мешало ему видеть происходившее. Кроме того, в эту минуту взошло солнце, и такой поток света хлынул с горизонта, что все высокие точки Парижа — шпили, трубы и вышки — запылали одновременно.
Тем временем человек стал взбираться по лестнице. Теперь Квазимодо отчетливо разглядел его. На плече он нес женщину — молодую девушку в белой одежде; на шею девушки была накинута петля. Квазимодо узнал ее.
То была она.
Человек добрался до верхушки лестницы. Там он поправил петлю. Тут священник, чтобы видеть лучше, встал на колени на самой балюстраде.
Внезапно человек резким движением каблука оттолкнул лестницу, и Квазимодо, который уже несколько мгновений сдерживал дыхание, увидел, как на конце веревки, на высоте двух туазов над мостовой, закачалось тело несчастной девушки с человеком, вскочившим ей на плечи. Веревка перекрутилась в воздухе, и Квазимодо увидел, как по телу цыганки пробежали страшные судороги. Вытянув шею, с выкатившимися из орбит глазами священник тоже глядел на эту ужасную группу, на мужчину и девушку — на паука и муху.
Вдруг в самое страшное мгновение сатанинский смех, смех, в котором не было ничего человеческого, исказил мертвенно-бледное лицо священника. Квазимодо не слышал этого смеха, но он увидел его.
Звонарь отступил на несколько шагов за спиной архидьякона и внезапно, с яростью кинувшись на него, своими могучими руками столкнул его сзади в бездну, над которой наклонился Клод.
— Проклятье! — крикнул священник и упал вниз.
Водосточный желоб, над которым он стоял, задержал его падение. Он двумя руками отчаянно уцепился за него, и в тот миг, когда он открыл рот, чтобы крикнуть вторично, он увидел над краем балюстрады, над своей головой, наклонившееся страшное, дышащее местью лицо Квазимодо.
Тогда он умолк.
Под ним зияла бездна. До мостовой было более двухсот футов.
В этом страшном положении архидьякон не вымолвил ни слова, не издал ни единого стона. Он лишь извивался, делая нечеловеческие усилия взобраться по желобу до балюстрады. Но его руки скользили по граниту, его ноги, царапая почерневшую стену, тщетно искали опоры. Тем, кому приходилось взбираться на башни собора Богоматери, известно, что под балюстрадой непосредственно находится каменный карниз. На ребре этого скошенного карниза и бился несчастный архидьякон. Под ним была не отвесная, а ускользающая от него вглубь стена.
Чтобы вытащить его из бездны, Квазимодо достаточно было протянуть руку, но он даже не смотрел на Клода. Он смотрел на Гревскую площадь. Он смотрел на виселицу. Он смотрел на цыганку.
Глухой облокотился о балюстраду в том месте, где до него стоял архидьякон. Он не отрывал взгляда от того единственного, что в этот миг существовало для него на свете, он был неподвижен и нем, как человек, пораженный молнией, и слезы непрерывным потоком тихо струились из его глаза, который до сей поры пролил лишь единственную слезу.
Архидьякон изнемогал. По его лысому лбу катился пот, из-под ногтей на камни сочилась кровь, колени были в ссадинах.
Он слышал, как при каждом усилии, которое он делал, его сутана, зацепившаяся за желоб, трещала и рвалась. В довершение несчастья желоб оканчивался свинцовой трубой, гнувшейся под тяжестью его тела. Архидьякон чувствовал, что труба медленно подается. Несчастный сознавал, что, когда усталость сломит его руки, когда его сутана разорвется, когда свинцовая труба сдаст, падение неминуемо, и ужас леденил его сердце. Порой он устремлял блуждающий взгляд на тесную площадку, футах в десяти пониже, образуемую каким-то архитектурным украшением, и молил Небо из глубины своей отчаявшейся души послать ему милость окончить свой век на этом пространстве в два квадратных фута, даже если ему суждено прожить сто лет. Один раз он взглянул вниз на площадь, в бездну; когда он вновь поднял голову, то веки его были сомкнуты, а волосы стояли дыбом.
Было что-то страшное в молчании этих двух людей. В то время как архидьякон в нескольких футах от Квазимодо погибал такой лютой смертью, Квазимодо плакал и смотрел на Гревскую площадь.
Архидьякон, видя, что все его попытки только расшатывают его последнюю хрупкую опору, решил больше не шевелиться. Охватив желоб, он висел, едва дыша, недвижимо, чувствуя лишь судорожное сокращение мускулов живота, подобное тому, какое испытывает человек во сне, когда ему кажется, что он падает. Его остановившиеся глаза были болезненно и изумленно расширены. Но почва постепенно уходила из-под него, его пальцы скользили по желобу, его руки слабели, тело становилось тяжелее. Поддерживавшая его свинцовая труба все ниже и ниже склонялась над бездной.
Он видел под собой — и это было ужасно — кровлю Сен-Жан-ле-Рон, казавшуюся маленькой, точно перегнутая пополам карта. Он поочередно глядел на бесстрастные изваяния башни, повисшие, как и он, над пропастью, но без страха за себя, без сожаления к нему. Все вокруг было каменным: прямо перед ним — раскрытые пасти чудовищ, под ним, в глубине площади, — мостовая, над его головой — плакавший Квазимодо.
На Соборной площади стояли кучки добродушных зевак, которые спокойно обсуждали, кем мог быть этот безумец, который забавлялся таким странным образом. Священник слышал, как они говорили, ибо их высокие и ясные голоса долетали до него:
— Да ведь он сломит себе шею!
Квазимодо плакал.
Наконец архидьякон, с пеной бешенства и ужаса на губах, понял, что его старания бесполезны. Все же он собрал остаток сил для последней попытки. Он подтянулся на желобе, коленями оттолкнулся от стены, уцепился руками за расщелину в камне, и ему удалось подняться приблизительно на один фут. Но от этого толчка конец поддерживавшей его свинцовой трубы сразу погнулся. Одновременно прорвалась и его сутана. Тогда, чувствуя, что он потерял всякую опору, что только его онемевшие слабые руки еще за что-то цепляются, несчастный закрыл глаза и выпустил желоб. Он упал.
Квазимодо глядел, как он падал.
Падение с такой высоты редко бывает отвесным. Архидьякон, полетевший в пространство, сначала падал вниз головою, вытянув руки, затем несколько раз перевернулся в воздухе. Ветер отнес его на кровлю одного из соседних домов, о которую несчастный ударился. Однако, когда он долетел до нее, он еще был жив. Звонарь видел, как он цеплялся пальцами, пытаясь удержаться на ней. Но поверхность была слишком поката, а он уже обессилел. Он быстро скользнул вниз по крыше, как оторвавшаяся черепица, и грохнулся на мостовую. Там он остался лежать недвижим.
Тогда Квазимодо поднял свой взор на цыганку, тело которой, вздернутое на виселицу, билось в последних предсмертных судорогах под ее белой одеждой, потом взглянул вниз на архидьякона, распростертого у подножия башни, потерявшего всякий человеческий облик, и с рыданием, всколыхнувшим его уродливую грудь, произнес:
— Вот все, что я любил!
Глава 3
Брак Феба
Под вечер того же дня, когда судебные приставы епископа подняли на Соборной площади изувеченный труп архидьякона, Квазимодо исчез из собора Богоматери.
По поводу этого происшествия ходило множество слухов. Никто не сомневался в том, что пробил час, когда, в силу их договора, Квазимодо, то есть дьявол, должен был унести с собой Клода Фролло, то есть колдуна. Утверждали, будто Квазимодо, чтобы взять душу Фролло, разбил его тело, подобно тому как обезьяна разбивает скорлупу ореха, чтобы съесть ядро.
Вот почему архидьякон не был погребен в освященной земле.
Людовик XI опочил год спустя, в августе месяце 1483 года.
Что же касается Пьера Гренгуара, то ему удалось спасти козочку и добиться успеха как драматургу. По-видимому, отдав дань множеству безрассудных увлечений — астрологии, философии, архитектуре, герметике, — он вновь вернулся к драматургии, самому безрассудному из всех. Это он называл своим «трагическим концом». Вот что можно прочесть по поводу его успехов как драматурга в счетах епархии за 1483 год:
«Жеану Маршану, плотнику, и Пьеру Гренгуару, сочинителю, которые поставили и сочинили мистерию, сыгранную в парижском Шатле в день приезда господина папского посла, на вознаграждение лицедеев, одетых и обряженных, как то требовалось для оной мистерии, а равно и на устройство ими необходимых для сего подмостков; за все — сто ливров».
Феб де Шатопер тоже закончил трагически. Он женился.
Глава 4
Брак Квазимодо
Мы только что упоминали о том, что Квазимодо исчез из собора Богоматери в самый день смерти цыганки и архидьякона. И действительно, его уже более никто не видел, никто не знал, что с ним сталось.
В ночь после казни Эсмеральды помощники палача сняли ее труп с виселицы и отнесли его, согласно обычаю, в склеп Монфокона.
Монфокон, по словам Соваля, был «самой древней и самой великолепной виселицей королевства». Между предместьями Тампль и Сен-Мартен, приблизительно в ста шестидесяти саженях от крепостной стены Парижа, на расстоянии нескольких выстрелов от деревни Кутиль, на макушке пологого пригорка, однако достаточно высокого, чтобы быть заметным издалека, возвышалось, слегка напоминая кельтский кромлех, сооружение своеобразной формы, где также приносились человеческие жертвы.
Представьте себе на вершине мелового холма большой каменный параллелепипед высотою в пятнадцать футов, шириною в тридцать и длиною в сорок, с дверью, наружной лестницей и площадкой. На этой площадке — шестнадцать громадных столбов из необтесанного камня, высотою в тридцать футов, расположенных колоннадой по трем сторонам массивного основания и соединенных между собою наверху крепкими балками, с которых, через правильные промежутки, свисали цепи; на каждой цепи — скелет. Неподалеку на равнине — каменное распятие и две второстепенные виселицы, которые словно отпочковались от главной. Над всем этим, высоко в небе, непрерывное кружение воронья. Вот Монфокон.
В конце XV столетия страшная виселица, воздвигнутая в 1328 году, была уже сильно разрушена. Брусья источили черви, цепи заржавели, столбы позеленели от плесени. Кладка из тесаного камня расселась в своих швах, и площадка, по которой не ступала нога человека, поросла травой. Жутким силуэтом вырисовывалось это сооружение на небе, особенно ночью, когда на белых черепах мерцали лунные блики и ночной ветер, задевая цепи и скелеты, шевелил их во мраке. Одной этой виселицы было достаточно, чтобы наложить зловещую тень на всю окрестность.
Каменная кладка, служившая фундаментом этому отвратительному сооружению, была полой. В ней находился обширный подвал, прикрытый сверху старой железной, уже погнувшейся решеткой, куда сваливали не только человеческие трупы, падавшие с цепей Монфокона, но и тела всех несчастных, которых казнили на других постоянных виселицах Парижа. В этой глубокой свалке, где превратилось в прах столько человеческих останков и столько преступлений, сложили свои кости многие из великих мира сего и многие невиновные, начиная от невинно осужденного Ангеррана де Мариньи[347] обновившего Монфокон, и кончая адмиралом Колиньи[348], замкнувшим круг Монфокона, — тоже невинно осужденным.
Что же касается таинственного исчезновения Квазимодо, то вот все, что нам удалось разузнать.
Спустя полтора или два года после событий, завершивших эту историю, когда в склеп Монфокона пришли за трупом повешенного два дня назад Оливье ле Дена, которому Карл VIII даровал милость быть погребенным в Сен-Лоране, в более достойном обществе, то среди отвратительных человеческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Один скелет был женский, сохранивший на себе еще кое-какие обрывки некогда белой одежды и ожерелье вокруг шеи из зерен лавра, с небольшой шелковой ладанкой, украшенной зелеными бусинками, открытой и пустой. Эти предметы представляли, по-видимому, такую незначительную ценность, что даже палач не польстился на них. Другой скелет, крепко обнимавший первый, был скелет мужчины. Заметили, что спинной хребет его был искривлен, голова глубоко сидела между лопаток и одна нога была короче другой. Но его шейные позвонки оказались целыми, из чего явствовало, что он не был повешен. Следовательно, человек этот пришел сюда сам и здесь умер. Когда его захотели отделить от того скелета, который он обнимал, он рассыпался прахом.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ
В Англии все величественно, даже дурное, даже олигархия. Английский патрициат — патрициат в полном смысле этого слова. Нигде не было феодального строя более блестящего, более жестокого и более живучего, чем в Англии. Правда, в свое время он оказался полезен. Именно в Англии надо изучать феодальное право, подобно тому как королевскую власть надо изучать во Франции.
Книгу эту собственно следовало бы озаглавить «Аристократия». Другую, которая явится ее продолжением, можно будет назвать «Монархия». Обе они, если только автору суждено завершить этот труд, будут предшествовать третьей, которая замкнет собою весь цикл и будет озаглавлена «Девяносто третий год».
Отвиль-Хауз. 1869.
Пролог
Глава 1
Урсус
Урсус и Гомо были связаны узами тесной дружбы. Урсус[349] был человек, Гомо[350] — волк. Нравом они очень подходили друг к другу. Имя «Гомо» дал волку человек. Вероятно, он же придумал и свое; найдя для себя подходящей кличку «Урсус», он счел имя «Гомо» вполне подходящим для зверя. Содружество человека и волка пользовалось успехом на ярмарках, на приходских праздниках, на уличных перекрестках, где толпятся прохожие; толпа всегда рада послушать балагура и накупить всяких шарлатанских снадобий. Ей нравился ручной волк, ловко, без принуждения исполнявший приказания своего хозяина. Это большое удовольствие — видеть укрощенного строптивца, и нет ничего приятней, чем наблюдать все разновидности дрессировки. Вот почему бывает так много зрителей на пути следования королевских кортежей.
Урсус и Гомо кочевали с перекрестка на перекресток, с площадей Абериствита на площади Иедбурга, из одной местности в другую, из графства в графство, из города в город. Исчерпав все возможности на одной ярмарке, они переходили на другую. Урсус жил в балагане на колесах, который Гомо, достаточно вышколенный для этого, возил днем и стерег ночью. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъемах в гору, человек впрягался в лямку и по-братски, бок о бок с волком, тащил возок. Так они вместе и состарились.
На ночлег они располагались где придется — среди невспаханного поля, на лесной прогалине, у перекрестка нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на опушке парка, на церковной паперти. Когда возок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались кумушки и вокруг балагана собирался кружок зевак, Урсус принимался разглагольствовать, и Гомо с явным одобрением слушал его. Затем волк учтиво обходил присутствующих с деревянной чашкой в зубах. Так зарабатывали они себе на пропитание. Волк был образованный, человек — тоже. Волк был научен человеком или научился сам всяким, волчьим фокусам, которые повышали сбор.
— Главное, не выродись в человека, — дружески говаривал ему хозяин.
Волк никогда не кусался, с человеком же это порою случалось. Во всяком случае Урсус имел поползновение кусаться. Урсус был мизантроп и, чтобы подчеркнуть свою ненависть к человеку, сделался фигляром. К тому же надо было как-нибудь прокормиться, ибо желудок всегда предъявляет свои права. Впрочем, этот мизантроп и скоморох, быть может думая таким образом найти себе место в жизни поважнее и работу посложнее, был также и лекарем. Мало того, Урсус был еще и чревовещателем. Он умел говорить, не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих, с изумительной точностью копируя голос и интонации любого из них. Он один подражал гулу целой толпы, что давало ему полное право на звание «энгастримита». Он так себя и величал. Урсус воспроизводил всякие птичьи голоса: голос певчего дрозда, чирка, жаворонка, белогрудого дрозда — таких же скитальцев, как и он сам; благодаря этому своему таланту он мог по желанию в любую минуту вызвать у вас-впечатление то площади, гудящей народом, то луга, оглашаемого мычанием стада; порою он бывал грозен, как рокочущая толпа, порою детски безмятежен, как утренняя заря. Такое дарование хотя и редко, но все же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший смешанному гулу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех животных, состоял при Бюффоне в качестве человека-зверинца. Урсус был проницателен, крайне своеобразен и любознателен. Он питал склонность ко всяким россказням, которые мы называем баснями, и притворялся, будто сам верит им, — обычная хитрость лукавого шарлатана. Он гадал по руке, по раскрытой наобум книге, предсказывал судьбу, объяснял приметы, уверял, что встретить черную кобылу — к неудаче, но что еще опаснее услышать, когда ты уже совсем готов в дорогу, вопрос: «Куда собрался?» Он называл себя «продавцом суеверий», обычно говоря: «Я этого не скрываю; вот в чем разница между архиепископом Кентерберийским и мной». Архиепископ, справедливо возмущенный, однажды вызвал его к себе. Однако Урсус искусно обезоружил его преосвященство, прочитав перед ним собственного сочинения проповедь на день рождества Христова, которая так понравилась архиепископу, что он выучил ее наизусть, произнес с кафедры и велел напечатать как свое произведение. За это он даровал Урсусу прощение.
Благодаря своему искусству врачевателя, а может быть, и вопреки ему, Урсус исцелял больных. Он лечил ароматическими веществами. Хорошо разбираясь в лекарственных травах, он умело использовал огромные целебные силы, заключенные во множестве всеми пренебрегаемых растений — в гордовине, в белой и вечнозеленой крушине, в черной калине, бородавнике, в рамене; он лечил от чахотки росянкой, пользовался, сообразно надобности, листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительное, а сорванные у верхушки — как рвотное; исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого «заячьим ушком»; знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь; знал все ценные, благотворные свойства мандрагоры, которая, как всем известно, является растением двуполым. У него были лекарства на всякие случаи. Ожоги он исцелял кожей саламандры, из которой у Нерона, по словам Плиния, была сделана салфетка. Урсус пользовался ретортой и колбой; он сам производил перегонку и сам же продавал универсальные снадобья. Ходили слухи, будто одно время он сидел в сумасшедшем доме; ему оказали честь, приняв его за умалишенного, но вскоре выпустили на свободу, убедившись, что он всего-навсего поэт. Возможно, что этого и не было: каждый из нас бывал жертвой подобных россказней.
В действительности же Урсус был грамотеем, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он был ученым в двух областях, ибо одновременно шел по стопам и Гиппократа и Пиндара. В знании поэтического ремесла он мог бы состязаться с Раненом и с Видой. Он мог бы сочинять иезуитские трагедии не менее удачно, чем отец Бугур. Благодаря близкому знакомству с прославленными ритмами и размерами древних Урсус в своем обиходе пользовался ему одному свойственными образными выражениями и целым рядом классических метафор. О матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил: «Это дактиль»; об отце, за которым шли два его сына: «Это анапест»; о внуке, шагавшем между дедом и бабушкой: «Это амфимакрий». При таком обилии знаний можно жить только впроголодь. Салернская школа рекомендует: «Ешьте мало, но часто». Урсус ел мало и редко, выполняя, таким образом, лишь первую половину предписания и пренебрегая второй. Но это уж была вина публики, которая собиралась не каждый день и покупала не слишком часто. Урсус говорил: «Отхаркнешься поучительным изречением — станет легче. Волк находит утешение в вое, баран — в теплой шерсти, лес — в малиновке, женщина — в любви, философ же — в поучительном изречении». Урсус по мере надобности кропал комедии, которые сам же с грехом пополам и разыгрывал: это помогало продавать снадобья. В числе других творений он сочинил героическую пастораль в честь рыцаря Хью Миддлтона, который в 1608 году провел в Лондон речку. Эта речка спокойно протекала в шестидесяти милях от Лондона, в графстве Гартфорд; явился рыцарь Миддлтон и завладел ею; он привел с собою шестьсот человек, вооруженных заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижая грунт в одном месте, повышая его в другом, иногда подымая речку на двадцать футов, иногда углубляя ее русло на тридцать футов, соорудил из дерева наземные водопроводы, построил восемьсот мостов, каменных, кирпичных и бревенчатых, и вот, в одно прекрасное утро, речка вступила в пределы Лондона, который испытывал в то время недостаток в воде. Урсус преобразил эти прозаические подробности в прелестную буколическую сцену между рекою Темзой и речкой Серпантиной. Мощный поток приглашает к себе речку, предлагая ей разделить с ним ложе. «Я слишком стар, — говорит он, — чтобы нравиться женщинам, но достаточно богат, чтобы оплачивать их». Это был остроумный и галантный намек на то, что сэр Хью Миддлтон произвел все работы за свой счет.
Урсус мастерски владел монологом. Будучи нелюдимым и вместе с тем словоохотливым, не желая никого видеть, но испытывая потребность поговорить с кем-нибудь, он выходил из затруднения, беседуя сам с собою. Кто жил в уединении, знает, до какой степени человеческой природе свойствен монолог. Слово, звучащее внутри нас, вызывает своего рода зуд. Обращаясь в пространство, мы как бы открываем предохранительный клапан. Разговор вслух наедине с собой производит впечатление диалога с богом, которого мы носим в себе. Таково, как всем известно, было обыкновение Сократа. Он произносил речи перед самим собой. Точно так же поступал и Лютер. Урсус брал пример с этих великих мужей. Он обладал способностью, раздваиваясь, быть своей собственной аудиторией. Он задавал себе вопросы и сам отвечал на них; он превозносил себя и осыпал оскорблениями. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своем возке. Прохожие, у которых есть свое мерило для оценки незаурядных людей, говорили: «Вот идиот!» По временам, как мы только что сказали, Урсус бранил самого себя, но бывали моменты, когда он отдавал себе должное. Как-то в одной из тех кратких речей, с которыми он обращался к себе, он с гордостью воскликнул: «Я изучил растение во всех его тайнах, я изучил стебель, почку, чашелистики, лепесток, тычинку, завязь, семяпочку, бурачок, спорангий и апотеций. Я постиг хромацию, осмосию и химосию, иными словами — образование цвета, запаха и вкуса». В этом аттестате, который Урсус выдавал Урсусу, была, несомненно, некая доля бахвальства, но пусть первым кинет в него камень тот, кто не постиг хромации, осмосии и химосии.
К счастью, Урсус никогда не бывал в Нидерландах. Там его, без сомнения, взвесили бы, чтобы определить, обладает ли он должным весом, избыток или недостаток которого свидетельствует о том, что человек — колдун. В Голландии этот должный вес был мудро установлен законом. Это было удивительно просто и остроумно. Вас клали на чашу весов — и все сразу становилось ясным: если вы оказывались слишком тяжелым, вас вешали, если слишком легким — сжигали. Еще теперь можно видеть в Удеватере весы для взвешивания колдунов, но в наши дни на этих весах взвешивают сыр, — вот во что выродилась религия! Тощему Урсусу, пожалуй, не поздоровилось бы от такого взвешивания. В своих странствиях он избегал Голландии — и хорошо делал. Впрочем, мы полагаем, что он вообще не покидал пределов Англии.
Как бы то ни было, Урсус, человек очень бедный и притом сурового нрава, завязав в лесу знакомство с Гомо, почувствовал влечение к бродяжничеству. Он взял волка себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе жизнью, полной всяких неожиданностей. Урсус был очень изобретателен, всегда себе на уме, весьма искусен во врачебном деле и великий мастер на всякие фокусы. Он пользовался славой хорошего лекаря и хорошего фигляра; само собою разумеется, что его считали и чародеем, но лишь отчасти, ибо (прослыть приятелем черта было в ту пору небезопасно. Говоря по правде, Урсус своим пристрастием к фармакопее и лекарственным растениям мог навлечь на себя подозрение, так как часто уходил собирать травы в угрюмые, непролазные чащи, где произрастает салат Люцифера и где, как это установил советник д'Анкр, рискуешь встретить в вечернем тумане вышедшего из-под земли человека, «кривого на правый глаз, без плаща, со шпагой на боку и совершенно босого». Но при всех странностях своего характера Урсус был слишком добропорядочным, чтобы насылать град, вызывать привидения, вихрем пляски замучить человека насмерть, внушать безмятежные или, напротив, печальные и полные ужасов сны и заклинаниями выводить из яиц четырехкрылых петухов, — подобных проделок за ним не водилось. Он был неспособен на такие мерзости, как, например, говорить по-немецки, по-древнееврейски или по-гречески, не изучив этих языков, что является признаком либо гнусного коварства, либо природной болезни, вызываемой меланхолией. Если Урсус изъяснялся по-латыни, то только потому, что знал ее. Он не позволил бы себе говорить по-сирийски, так как не знал этого языка; кроме того, доказано, что сирийский язык — язык ведьм. В медицине Урсус не без основания отдавал предпочтение Галену перед Кардано, ибо Кардано, при всей своей учености, жалкий червь по сравнению с Галеном.
В общем, Урсус не принадлежал к числу тех лиц, которых часто тревожит полиция. Его возок был достаточно длинен и широк, чтобы он мог лежать в нем на сундуке, хранившем его не слишком роскошные пожитки. Он был обладателем фонаря, нескольких париков, кое-какой утвари, развешанной на гвоздях, а также музыкальных инструментов. Кроме того, у него была медвежья шкура, которую он напяливал на себя в дни больших представлений; он называл это — облачаться в парадный костюм. «У меня две шкуры, — говорил он, — вот эта — настоящая». И он указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. Кроме возка, реторты и волка, у него были флейта и виола-да-гамба, на которых он неплохо играл. Он сам изготовлял эликсиры. Все эти таланты иногда обеспечивали ему возможность поужинать. В потолке его лачуги было отверстие, через которое проходила труба чугунной печки, стоявшей почти вплотную к сундуку, так что деревянная стенка его даже слепка обуглилась. В печке было два отделения: в одном из них Урсус варил свои специи, в другом — картошку. По ночам волк, дружеской рукой посаженный на-цепь, спал под возком. Гомо был черен, Урсус сед; Урсусу было лег пятьдесят, если не все шестьдесят. Его покорность человеческой судьбе была такова, что он, как выше упомянуто, питался картофелем, который в ту пору считался поганой пищей, годной лишь для свиней да каторжников. Он ел его, негодуя, но подчиняясь своей участи. Ростом он был невысок, но казался долговязым. Он горбился и был всегда задумчив. Согбенная спина старика — это груз прожитых лет. Урсусу на роду было написано быть печальным. Ему стоило труда улыбнуться и никогда не удавалось заплакать. Он не умел находить утешение в слезах и временное облегчение в веселье. Старик — это не что иное, как мыслящая развалина. Урсус и был такой развалиной. Краснобайство шарлатана, худоба пророка, воспламеняемость заряженной мины — таков был Урсус. В молодости он жил в качестве философа у одного лорда.
Все это происходило сто восемьдесят лет назад, в те времена, когда люди были немного более волками, чем в наши дни.
Впрочем, не намного.
Гомо не был обыкновенным волком. Судя по тому, как он набрасывался на кизил и на яблоки, его можно было принять за степного волка; темной окраской шерсти он походил на гиену, а воем, постепенно переходившим в лай, напоминал чилийскую дикую собаку; но зрачок этого животного еще недостаточно изучен, и, может быть, оно лишь разновидность лисицы, между тем как Гомо был настоящим волком. Длина его равнялась пяти футам, а это немалый рост для волка даже в Литве; он был очень силен; смотрел он исподлобья, но это нельзя было ставить ему в вину; язык у него был мягкий, и он иногда лизал Урсуса; по спинному хребту у него щетинилась узкая полоска короткой шерсти; он был тощ, но это была здоровая худоба лесного зверя. До своего знакомства с Урсусом, когда ему не приходилось еще таскать за собой возок, он легко пробегал по сорок лье за ночь. Урсус, натолкнувшись на него в чаще на берегу ручья, проникся к нему уважением, увидев, как он умно и осторожно ловит раков, и с удовлетворением признал в нем отличный экземпляр подлинного гвианского волка — купара, из породы так называемых собак-ракоедов.
Урсус предпочитал Гомо ослу в качестве вьючного животного. Ему было бы неприятно заставлять осла тащить возок: он слишком уважал это животное. К тому же он заметил, что осел, этот не понятый людьми четвероногий мечтатель, имеет неприятное обыкновение настораживать уши, когда философы изрекают какие-нибудь глупости. Между нами и нашей мыслью осел оказывается, таким образом, лишним свидетелем, а это стеснительно. Урсус предпочитал Гомо в качестве друга и собаке, так как полагал, что волку дружба с человеком дается труднее.
Вот почему Урсус довольствовался обществом Гомо. Гомо был для него больше, чем другом, — он был его подобием. Похлопывая волка по впалым бокам, Урсус говорил: «Я нашел свое второе издание».
Он говорил также: «Когда я умру, всякому, кто пожелает получить представление обо мне, надо будет только изучить Гомо. Я оставлю его потомству в качестве моей вернейшей копии».
Английский закон, не слишком мягкий по отношению к хищным зверям, мог бы придраться к этому волку и притянуть его к ответу за смелость, с которой он свободно появлялся в городах; но Гомо пользовался неприкосновенностью, дарованной домашним животным одним из статутов Эдуарда IV. «Всякое домашнее животное, — гласит этот статут, — может свободно следовать за своим хозяином». Кроме того, некоторое ослабление строгостей по отношению к волкам явилось результатом моды, распространившейся при последних Стюартах среди придворных дам, которые заводили вместо собак маленьких песцов, величиной с кошку, выписывая их за большие деньги из Азии.
Урсус передал Гомо часть своих талантов: научил его стоять на задних лапах, умерять свой гнев, заменяя его хмуростью, издавать глухое ворчанье вместо воя и т. д. Волк, со своей стороны, передал человеку часть волчьих познаний, научив его обходиться без крова, без хлеба, без огня и предпочитать голод в лесу рабству во дворце.
Возок Урсуса, своеобразная передвижная хижина, следовал по самым различным направлениям, не выходя, однако, за пределы Англии и Шотландии; он был установлен на четырех колесах и снабжен оглоблями для волка и лямкой для человека. Пристяжкой пользовались только при дурной дороге. Балаган был крепок, хотя и сколочен из тонких досок, обычно идущих на перегородки. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедрой или трибуной, с которой Урсус произносил речи, а сзади — глухая дверь с форточкой. Для входа в балаган, на ночь тщательно запиравшийся засовами и замками, служила откидная подножка в три ступеньки, прилаженная на шарнирах к внутренней стороне задней двери. Немало дождей и снега перевидал возок на своем веку. Когда-то он был окрашен, но теперь уже нельзя было установить, в какой именно цвет, ибо перемены погоды действуют на дорожные возки точно так же, как смены царствований на придворных. Снаружи на стенке возка когда-то можно было разобрать на дощечке надпись черными буквами по белому полю, постепенно расплывшуюся и стершуюся:
«Золото ежегодно теряет от трения одну тысяча четырехсотую часть своего объема; это называется потерей в весе монеты; отсюда следует, что из миллиарда четырехсот миллионов золотом, находящихся в обращении на всем земном шаре, ежегодно пропадает один миллион. Этот миллион золотом распыляется, улетучивается, носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие легкие, проникает в нашу совесть, приглушает, обременяет, отягчает ее, соединяется с душою богачей, которые становятся от него надменными, и с душою бедняков, которые от него ожесточаются».
Надпись эту, размытую дождями и стершуюся по милости провидения, к счастью, уже нельзя было прочитать, так как весьма вероятно, что это загадочное и вместе с тем довольно прозрачное рассуждение о золоте, проникающем в легкие, пришлось бы не по вкусу шерифам, прево, маршалам и прочим носителям париков, стоящим на страже закона. Английское законодательство в ту пору шутить не любило. Быть жестоким считалось в порядке вещей. Беспощадность была исконным свойством судей, а жестокосердие — их второй натурой. Инквизиторы кишмя кишели. Джеффрис породил целое племя себе подобных.
Внутри возка были еще две надписи. Над сундуком на дощатой, выбеленной известкой стене было выведено от руки чернилами:
«Единственное, что следует знать:
Барон и пэр Англии носит на голове золотой обруч с шестью жемчужинами.
Право на корону начинается с виконта.
Виконт носит корону с неограниченным количеством жемчужин; граф — жемчужную корону, зубцы которой перемежаются с небольшими земляничными листьями; у маркиза — зубцы и листья на одном уровне; у герцога — одни зубцы, без жемчужин; у герцога королевской крови — обруч, составленный из крестов и лилий; у принца Уэльского корона такая же, как у короля, но незамкнутая.
Герцог именуется «светлейшим и могущественнейшим государем»; маркиз и граф — «высокородным и могущественным владетелем», виконт — «благородным и могущественным господином»; барон — «истинным господином».
Обращение к герцогу: «ваша светлость», к остальным пэрам — «ваша милость».
Личность лорда неприкосновенна.
Пэры — это парламент и суд, concilium et curia, законодательство и правосудие.
Most honourable (высокочтимый) значит больше, чем right honourable (досточтимый).
Лорды-пэры признаются лордами по праву рождения, лорды не пэры — лордами из учтивости; только пэры — настоящие лорды.
Лорд никогда не приносит присяги ни королю, ни на суде. Достаточно одного его слова. Он говорит: «Заверяю своей честью».
Члены палаты общин, представляющие народ, будучи вызваны в палату лордов, смиренно обнажают головы перед лордами, сидящими в головных уборах.
Палата общин представляет билли в палату лордов через депутацию из сорока членов, которые при вручении билля отвешивают три глубоких поклона.
Лорды препровождают в палату общин свои билли через простого писца.
В случае разногласия между палатами они совместно совещаются в «расписном зале», причем пэры сидят в шляпах, а члены палаты общин стоят с непокрытой горловой.
По закону, изданному Эдуардом VI, лорды пользуются привилегией непреднамеренного убийства. Лорд, убивший простолюдина, не подлежит преследованию.
Бароны приравниваются по рангу к епископам.
Чтобы быть бароном-пэром, надо получить от короля пожалование per baroniam integram, то есть полным баронским поместьем.
Полное баронское поместье состоит из тринадцати с четвертью дворянских ленов, каждый стоимостью в двадцать фунтов стерлингов, что составляет четыреста марок.
Баронский замок — эта «голова» баронского поместья — caput baroniae — переходит по наследству на тех же основаниях, что и корона Англии, то есть переходит к дочерям лишь при отсутствии детей мужского пола и в таком случае достается старшей дочери; caeteris filiabus aliunde satisfactis[351].
Бароны носят титул лорда, от саксонского laford (классическое латинское — dominus и вульгарно-латинское — lordus).
Старшие и следующие за ними сыновья виконтов и баронов — первые эсквайры королевства.
Старшие сыновья пэров имеют преимущество перед кавалерами ордена Подвязки; младшие сыновья преимущества не имеют.
Старший сын виконта в процессии следует за баронами и впереди всех баронетов.
Дочь лорда — леди, прочие английские девицы — мисс.
Все судьи признаются ниже пэров. Сержант носит капюшон из шкуры ягненка; судьи — капюшон de minuto vario — из белых шкурок любых мелких зверей, кроме горностая. Горностай носят только пэры и король.
Против лорда не допускается supplicavit[352].
Лорда нельзя посадить в обычную тюрьму. Он может быть заключен только в лондонский Тауэр.
Лорд, приглашенный в гости к королю, имеет право убить в королевском парке одну или две лани.
Лорду в его владениях предоставляется право баронского суда.
Выйти на улицу в мантии, взяв с собою для сопровождения только двух слуг, — недостойно лорда. Он может появляться лишь с целой свитой приближенных дворян.
Пэры отправляются в парламент в каретах цугом; члены палаты общин этого права не имеют. Некоторые пэры отправляются в Вестминстер в открытых двухместных колясках. Украшенные гербами и коронами коляски и кареты разрешается иметь только лордам: это одна из их привилегий.
Лорд может быть приговорен к штрафу только лордами, и притом в размере не свыше пяти шиллингов; исключение составляет герцог, которого можно оштрафовать на десять шиллингов.
Лорд может иметь у себя в доме шесть иностранцев. Всякий другой англичанин — только четырех.
Лорд может беспошлинно держать у себя в погребе восемь бочек вина.
Только лорд не подлежит явке к окружному шерифу.
Лорд не может быть облагаем податью на содержание войска.
Когда это угодно лорду, он на свои средства набирает полк и предоставляет его в распоряжение короля; так поступают их светлости герцог Атольский, герцог Гамильтон и герцог Нортемберлендский.
Лорд может быть судим только лордами.
В гражданских делах он может требовать пересмотра и отмены решения, если в составе суда не было по крайней мере одного дворянина.
Лорд сам назначает своих капелланов.
Барон назначает трех капелланов, виконт — четырех, граф и маркиз — пять, герцог — шесть.
Лорд не может быть подвергнут пытке даже при обвинении в государственной измене.
Лорд не может быть заклеймен палачом.
Лорд всегда считается ученым человеком, даже если он не умеет читать. Он грамотен по праву рождения.
Герцог появляется под балдахином всюду, за исключением тех мест, где присутствует король; виконт имеет балдахин у себя дома; у барона есть кубок с крышкой для пробы вина, крышку слуга держит под кубком, пока барон пьет; баронесса в присутствии виконтессы имеет право пользоваться услугами одного человека для ношения шлейфа.
Восемьдесят шесть лордов или старших сыновей лордов занимают председательские места за восемьюдесятью шестью столами на пятьсот приборов каждый, накрываемыми ежедневно в королевском дворце за счет округи, в которой расположена королевская резиденция.
Простолюдину, ударившему лорда, отсекают кисть руки.
Лорд почти то же, что король.
Король почти то же, что бог.
Вся земля — собственность лордов.
Англичане, обращаясь к богу, называют его «милорд».
Против этой надписи можно было прочесть другую, написанную таким же способом. Вот она:
«Утешение, которым должны довольствоваться те, кто ничего не имеет.
Генрих Оверкерк, граф Грентэм, заседающий в палате лордов между графом Джерси и графом Гриничем, имеет сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода. Его милости принадлежит дворец Грентэм-Террас, выстроенный из мрамора и знаменитый своим лабиринтом коридоров, представляющим собою настоящую достопримечательность. В этом дворце есть алый коридор из саранколинского мрамора, коридор из астраханской лумачеллы, белый — из ланийского мрамора, черный — из алабандского мрамора, серый — из старемского мрамора, желтый — из гессенского мрамора, зеленый — из тирольского, красный — наполовину из крапчатого богемского мрамора, наполовину из кордовской лумачеллы, темно-синий — из генуэзского мрамора, фиолетовый — из каталонского гранита, траурный — из сланцев Мурвиедро с белыми и черными прожилками, розовый — из альпийского циполина, жемчужный — из нонетской лумачеллы и разноцветный коридор, называемый «придворным», — из пестрой брекчии.
Ричард Лаутер, виконт Лонсдейл, имеет в Уэстморленде замок Лаутер; необыкновенно пышный подъезд этого замка как бы приглашает королей посетить его.
Ричард, граф Скарборо, виконт и барон Лэмлей, виконт Уотерфорд в Ирландии, лорд-лейтенант и вице-адмирал графства Нортемберлендского, графства Дерхемского с одноименным городом, владеет двумя поместьями в Стэнстеде, старым и новым, в котором всеобщее внимание привлекает великолепная решетка, охватывающая полукругом бассейн с фонтаном необычайной красоты. Сверх того ему принадлежит замок в Лэмлее.
Роберту Дарси, графу Холдернесу, принадлежит родовой замок Холдернес с баронскими башнями и огромным французским парком, в котором он совершает прогулки в карете, запряженной шестеркой лошадей, с двумя форейторами, как и подобает пэру Англии.
Чарльз Боклерк, герцог Сент-Олбенс, граф Барфорд, барон Хеддингтон, первый сокольничий Англии, рядом с королевским дворцом в Виндзоре владеет дворцом, нисколько не проигрывающим от этого соседства.
Чарльз Бодвилл, лорд Робертс, барон Труро, виконт Бодмин, владеет в Кембридже поместьем Уимпл, где выстроены три дворца с тремя фронтонами, из коих один в виде арки, а два треугольные. Въездная аллея обсажена четырьмя рядами деревьев.
Высокородный и могущественный лорд Филипп Герберт, виконт Кардиф, граф Монтгомери, граф Пемброк, пэр и владетель Кендола, Мармиона, Сент-Квентина и Чарленда, смотритель прудов в графствах Корнуэле и Девоне, наследственный наблюдатель коллегии Иисуса, является собственником чудесного Уилстонского сада, в котором, есть два фонтана, превосходящие красотою версальские фонтаны христианнейшего короля Людовика XIV.
Чарльз Сеймур, герцог Сомерсетский, владеет на Темзе виллой Сомерсет-Хауз, ничем не уступающей вилле Памфили в Риме. На величественном камине обращают на себя внимание две китайские фарфоровые вазы эпохи Юаньской династии, оцениваемые в полмиллиона на французские деньги.
В Йоркшире Артур, лорд Ингрэм, виконт Ирвин, владеет дворцом Темпл-Ньюшем, к которому подъезжают через триумфальную арку; широкие и плоские крыши этого дворца похожи на мавританские террасы.
Роберту, лорду Феррерс-Чартлею, Борчиру и Ловену, принадлежит в Лестершире замок Стаунтон-Гарольд с парком, имеющим форму храма с фронтоном; большая церковь с четырехугольной колокольней, высящаяся на берегу пруда, входит в состав поместья.
В графстве Нортгемптон Чарльз Спенсер, граф Сандерленд, член тайного совета его величества, владеет поместьем Олтроп, в которое въезжают через кованые железные ворота на четырех столбах, украшенных мраморными группами.
Лоуренсу Хайду, графу Рочестеру, принадлежит в Серрее поместье Нью-Парк, с замком, украшенным художественно изваянным акротерионом, с обсаженной деревьями круглой лужайкой и дубравами, на опушке которых высится искусно закругленная горка, увенчанная большим, издалека видным дубом.
Филипп Стенхоп, граф Честерфилд, владеет в Дербишире поместьем Бредби, в котором есть великолепный павильон с часами, соколиный двор, кроличьи садки и прелестные пруды, четырехугольные и овальные, в том числе один в форме зеркала, с двумя фонтанами, бьющими очень высоко.
Лорду Корнуэлу, барону Ай, принадлежит Бром-Холл — дворец четырнадцатого века.
Высокородный Олджернон Кейпл, виконт Молден, граф Эссекс, владеет в Гартфордшире замком Кешиобери, имеющим форму буквы Н, и лесными угодьями, изобилующими дичью.
Лорду Чарльзу Оссалстоуну принадлежит в Миддлсексе замок Доули, окруженный садами в итальянском вкусе.
Джемс Сесил, граф Солсбери, в семи лье от Лондона владеет дворцом Гартфилд-Хауз, с четырьмя господскими павильонами, с дозорной башней в центре и парадным двором, выложенным белыми и черными плитами, как в Сен-Жермене. Дворец этот, занимающий по фасаду двести семьдесят два фута, был выстроен в царствование Иакова I государственным казначеем Англии, прадедом нынешнего владельца. Кровать одной из графинь Солсбери стоит несметных денег: она целиком сделана из бразильского дерева, признанного вернейшим средством от змеиного укуса, которое называется milhombres, что значит «тысяча мужчин». На этой кровати золотыми буквами выведена надпись: «Honni soit qui mal y pense»[353].
Эдуард Рич, граф Уорик и Холленд, — собственник замка Уорик-Касл, где камины топят целыми дубами.
В приходе Севн-Оукс Чарльзу Секвиллу, барону Бекхерсту, виконту Кренфилду, графу Дорсету и Миддлсексу, принадлежит поместье Ноул, по величине не уступающее городу; в нем выстроены параллельно друг другу три дворца, длинных, как линии пехоты; на главном здании с лицевой стороны — десять ступенчатых щипцов, а над воротами замковая башня, окруженная четырьмя малыми башнями.
Томас Тинн, виконт Уэймет, барон Уорминстер, — собственник дворца Лонг-Лит, в котором почти столько же каминов, фонарей, беседок, арок, павильонов, башенок круглых, башенок со шпилями, сколько и в замке Шамбор во Франции, принадлежащем королю.
Генри Ховард, граф Сэффолк, владеет в двенадцати лье от Лондона, в Миддлсексе, дворцом Одлейн, почти не уступающим размерами и величественностью Эскуриалу испанского короля.
В Бедфордшире Рест-Хауз-энд-Парк, обнесенный рвами и стенами, — целая округа с лесами, реками, холмами, — составляет собственность маркиза Генри Кента.
В Гартфорде Гемптон-Корт с огромной зубчатой башней и садом, который отделен от леса прудом, принадлежит Томасу, лорду Конингсби.
Графу Роберту Линдсею, лорду и наследственному владельцу Уолхемского леса, принадлежит в Линкольншире замок Гримсторф с длинным фасадом, украшенным высокими башенками в виде частокола, с парками, прудами, фазаньими дворами, овчарнями, лужайками, рощами, площадками для игр, высокоствольными деревьями, узорными цветниками, разбитыми на квадраты и ромбы и похожими на большие ковры, с полянами для состязаний в верховой езде и с величественной круговой аллеей, служащей въездом в замок.
В Сессексе высокочтимому Форду, лорду Грею, виконту Глендейлу и графу Танкарвиллу, принадлежит большой квадратный замок с двумя симметрически расположенными по обеим сторонам парадного двора флигелями, над которыми высятся дозорные башни.
Дворец Ньюхем Пэдокс, в Уорикшире, со стеклянным четырехскатным щипцом и с двумя четырехугольными рыбными садками в парке, составляет собственность графа Денби, который в Германии носит еще титул графа Рейнфельден.
Замок Уайтхем в графстве Берк с французским парком, в котором сооружены четыре грота из тесаного камня, с его высокой зубчатой башней, подпираемой двумя крепостного типа контрфорсами, принадлежит лорду Монтегю, графу Эбингдону, который является также собственником баронского замка Райкот, над въездными воротами которого красуется девиз: Virtus ariete fortior[354].
Уильям Кавендиш, герцог Девонширский, владеет шестью замками, и в том числе двухэтажным Четсуортом, отлично выдержанным в греческом стиле; кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращенной спиною к королевскому дворцу.
Виконт Кинелмики, ирландский граф Корк, владеет в Пикадилли дворцом Барлингтон-Хауз, с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему также принадлежит дворец Чизуик, состоящий из девяти великолепных зданий, и Ландсборо, где рядом со старым дворцом выстроен новый.
Герцог Бофорт — собственник Челси, состоящего из двух дворцов в готическом стиле и одного во флорентийском; ему же принадлежит в Глостере дворец Бедмингтон, от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи. Высокородный и могущественный принц Генри, герцог Бофорт, носит также титул маркиза и графа Уостера, барона Раглана, барона Пауэра и барона Герберт-Чипстоу.
Джон Холле, герцог Ньюкасл и маркиз Клер, владеет замком Болсовер, четырехугольная дозорная башня которого производит величественное впечатление, а также замком Хоутон в Ноттингеме, где есть бассейн с круглой пирамидой в центре, наподобие вавилонской башни.
Лорд Вильям Кревен, барон Кревен-Хемпстед, имеет в Уорикшире свою резиденцию — Комб-Эбей, с самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка: Хемпстед-Маршал с фасадом, украшенным пятью стеклянными балконами в готическом стиле, и Эсдоун-Парк, выстроенный в лесу на скрещении двух дорог.
Лорд Линней Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, владеет замком Кленчарли, выстроенным в 914 году Эдуардом Старым для защиты от датчан; ему же принадлежат дворцы: Генкервилл-Хауз в Лондоне и Корлеоне-Лодж в Виндзоре, а также восемь кастелянств: в Брукстоне на Тренте, с правом разработки алебастровых копей, затем Гемдрайт, Хомбл, Морикемб, Тренуордрайт, Хелл-Кертерс с замечательным источником, Пиллинмор с торфяными болотами, Рикелвер близ старинного города Уайнкаунтон на горе Мойл-Энли; затем девятнадцать небольших городков и деревень с правом феодального суда над населением, а также вся округа Пенснет-Чейз, что в совокупности приносит его милости сорок тысяч фунтов стерлингов годового дохода.
Сто семьдесят два пэра, облеченных властью в царствование Иакова II, получают в совокупности миллион двести семьдесят две тысячи фунтов стерлингов годового дохода, что составляет одиннадцатую часть доходов Англии».
Сбоку, против последнего имени, лорда Линнея Кленчарли, рукою Урсуса была сделана пометка:
«Мятежник; в изгнании; имущество, земли и поместья под секвестром. И поделом».
Урсус восхищался Гомо. Мы восхищаемся тем, что нам близко. Это — закон.
Внутренним состоянием Урсуса была постоянная глухая ярость; его внешним состоянием была ворчливость. Урсус принадлежал к числу тех, кто недоволен мирозданием. В системе природы он выполнял роль оппозиции. Он видел мир с его дурной стороны. Никто и ничто на свете не удостаивалось его одобрения. Для него сладость меда не оправдывала укуса пчелы; распустившаяся на солнце роза не оправдывала желтой лихорадки или рвоты желчью, вызванных тем же солнцем. Возможно, что наедине с самим собой Урсус резко осуждал господа. Он говорил: «Очевидно, дьявола надо держать на привязи, и вина бога, что он спустил его с цепи». Он одобрял только владетельных особ, но выказывал это одобрение довольно своеобразно. Однажды, когда Иаков II принес в дар богоматери ирландской католической часовни тяжелую золотую лампаду, Урсус, как раз проходивший мимо этой часовни с Гомо, который, впрочем, относился к таким событиям более равнодушно, стал во всеуслышание выражать свой восторг. «Несомненно, — воскликнул он, — богородица гораздо больше нуждается в золотой лампаде, чем вот эта босоногая детвора — в башмаках!»
Такие доказательства «благонамеренности» Урсуса и его очевидное уважение к властям предержащим, вероятно, немало содействовали тому, что власти довольно терпимо относились к его кочевому образу жизни и необычайному союзу с волком. Иногда вечерком он по дружеской слабости разрешал Гомо немного поразмяться и побродить на свободе вокруг возка. Волк был бы неспособен злоупотребить доверием — и в «обществе», то есть на людях, вел себя смирнее пуделя. Однако попадись он в дурную минуту на глаза полицейским, не миновать бы неприятностей; вот почему Урсус старался как можно чаще держать ни в чем не повинного волка на цепи.
С точки зрения политической его надпись насчет золота, ставшая совсем неразборчивой, да к тому же малопонятная по существу, представлялась простой мазней на фасаде балагана и не навлекала на Урсуса никаких подозрений. Даже после Иакова II и в «досточтимое» царствование Вильгельма и Марии возок Урсуса спокойно разъезжал по глухим городкам английских графств. Урсус исколесил всю Великобританию, продавая свои чудодейственные зелья и снадобья и проделывая с помощью волка шарлатанские фокусы странствующего лекаря; он легко ускользал от сетей полиции, раскинутых в ту пору по всей Англии для очистки страны от бродячих шаек и главным, образом для задержания «компрачикосов».
В сущности это было справедливо. Урсус не принадлежал ни к какой бродячей шайке. Урсус жил вдвоем с Урсусом, и только волк, осторожно просовывая между ними свою морду, нарушал эту беседу с самим собой. Пределом мечтаний Урсуса было родиться караибом. Но так как это было вне его власти, он стал отшельником. Отшельничество — это та слабо выраженная форма дикарства, которую соглашается терпеть цивилизованное общество. Чем дольше мы скитаемся по свету, тем более мы одиноки. Этим объяснялись постоянные странствования Урсуса. Долгое пребывание в одном каком-нибудь месте казалось ему переходом от свободного состояния к неволе. Вся его жизнь прошла в скитаниях. При виде города в нем возрастала тяга к чаще, к лесным дебрям, к пещерам в скалах. В лесу он был у себя дома. Но глухой гул толпы на площадях не смущал его, так как напоминал ему шум лесных деревьев. В известной мере толпа удовлетворяет склонности к отшельничеству. Если что и не нравилось Урсусу в его повозке, то только дверь и окно, придававшие ей сходство с настоящим домом. Он достиг бы своего идеала, если бы мог поставить на колеса пещеру и путешествовать в ней.
Мы уже говорили, что Урсус не улыбался; он только смеялся — временами даже часто; но это был горький смех. В улыбке всегда есть некие начала примирения, тогда как смех часто выражает собою отказ примириться.
Главной особенностью Урсуса была ненависть к роду человеческому. В этой ненависти он был неумолим. Он пришел к твердому убеждению, что человеческая жизнь отвратительна; он заметил, что существует своего рода иерархия бедствий: над королями, угнетающими народ, есть война, над войною — чума, над чумою — голод, а над всеми бедствиями — глупость людская; удостоверившись, что уже самый факт существования является в какой-то мере наказанием, и видя в смерти избавление, он тем не менее лечил больных, которых к нему приводили. У него были укрепляющие лекарства и снадобья для продления жизни стариков. Он ставил на ноги калек и потом язвительно говорил им: «Ну вот, ты снова на ногах. Можешь теперь вволю мыкаться в этой юдоли слез». Увидев нищего, умирающего от голода, он отдавал ему все деньги, какие у него были, и сердито ворчал: «Живи, несчастный! Ешь! Старайся протянуть подольше! Уж только не я сокращу сроки твоей каторги». Затем, потирая руки, он приговаривал: «Я делаю людям все зло, какое только в моих силах».
Через окошечко в задней стене балагана прохожие имели возможность прочитать на потолке его надпись углем крупными) буквами: «Урсус-философ».
Глава 2
Компрачикосы
Кому в наши дни известно слово «компрачикосы»? Кому понятен его смысл?
Компрачикосы, или компрапекеньосы, представляли собой необычайное и гнусное сообщество бродяг, знаменитое в семнадцатом веке, забытое в восемнадцатом и совершенно неизвестное в наши дни. Компрачикосы, подобно «отраве для наследников», являются характерной подробностью старого общественного уклада. Это деталь древней картины нравственного уродства человечества. С точки зрения истории, сводящей воедино разрозненные события, компрачикосы представляются ответвлением гигантского явления, именуемого рабством. Легенда об Иосифе, проданном братьями, — одна из глав повести о компрачикосах. Они оставили память о себе в уголовных кодексах Испании и Англии. Разбираясь в темном хаосе английских законодательных актов, — кое-где наталкиваешься на следы этого чудовищного явления, как находишь в первобытных лесах отпечаток ноги дикаря.
«Компрачикос», так же как и «компрапекеньос», — составное испанское слово, означающее «скупщик детей».
Компрачикосы вели торговлю детьми.
Они покупали и продавали детей.
Но не похищали их. Кража детей — это уже другой промысел.
Что же они делали с этими детьми?
Они делали из них уродов.
Для чего же?
Для забавы.
Народ нуждается в забаве. Короли — тоже. Улице нужен паяц; дворцам нужен гаер. Одного зовут Тюрлюпен, другого — Трибуле.
Усилия, которые затрачивает человек в погоне за весельем, иногда заслуживают внимания философа.
Что должны представлять собою эти вступительные страницы?
Главу одной из самых страшных книг, книги, которую можно было бы озаглавить: «Эксплуатация несчастных счастливыми».
Ребенок, предназначенный служить игрушкой для взрослых, — такое явление не раз имело место в истории. (Оно имеет место и в наши дни.) В простодушно-жестокие эпохи оно вызывало к жизни особый промысел. Одной из таких эпох был семнадцатый век, называемый «великим». Это был век чисто византийских нравов; простодушие сочеталось в нем с развращенностью, а жестокость с чувствительностью — любопытная разновидность цивилизации! Он напоминает жеманничающего тигра. Это век мадам де Севинье, мило щебечущей о костре и колесовании. В этот век эксплуатация детей была явлением обычным: историки, льстившие семнадцатому столетию, скрыли эту язву, но им не удалось скрыть попытку Венсена де Поля залечить ее.
Чтобы сделать из человека хорошую игрушку, надо приняться за дело заблаговременно. Превратить ребенка в карлика можно, только пока он еще мал. Дети служили забавой. Но нормальный ребенок не очень забавен. Горбун куда потешнее.
Отсюда возникает настоящее искусство. Существовали подлинные мастера этого дела. Из нормального человека делали уродца. Человеческое лицо превращали в харю. Останавливали рост. Перекраивали ребенка наново. Искусственная фабрикация уродов производилась по известным правилам. Это была целая наука. Представьте себе ортопедию наизнанку. Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством. Там, где бог достиг совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. И в глазах знатоков именно этот набросок и был совершенством. Такие же опыты искажения естественного облика производились и над животными: изобрели, например, пегих лошадей. У Тюренна был пегий конь. А разве в наши дни не красят собак в голубой и зеленый цвет? Природа — это канва. Человек искони стремился прибавить к творению божьему кое-что от себя. Он переделывает его иногда к лучшему, иногда к худшему. Придворный шут был не чем иным, как попыткой вернуть человека к состоянию обезьяньи. Прогресс вспять. Изумительный образец движения назад. Одновременно бывали попытки превратить обезьяну в человека. Герцогиня Барбара Кливленд, графиня Саутгемптон, держала у себя в качестве пажа обезьяну сапажу. У Франсуазы Сеттон, баронессы Дадлей, жены мэра, занимавшего восьмое место на баронской скамье, чай подавал одетый в золотую парчу павиан, которого леди Дадлей называла «мой негр». Екатерина Сидлей, графиня Дорчестер, отправлялась на заседание парламента в карете с гербом, на запятках которой торчали, задрав морды кверху, три павиана в парадных ливреях. Одна из герцогинь Мединасели, при утреннем туалете которой довелось присутствовать кардиналу Полу, заставляла орангутанга надевать ей чулки. Обезьян возвышали до положения человека, зато людей низводили до положения скотов и зверей. Это своеобразное смешение человека с животным, столь приятное для знати, ярко проявлялось в традиционной паре: карлик и собака; карлик был неразлучен с огромной собакой. Собака была неизменным спутником карлика. Они ходили как бы на одной сворке. Это сочетание противоположностей запечатлено во множестве памятников домашнего быта, в частности, на портрете Джеффри Гудсона, карлика Генриеты Французской, дочери Генриха IV, жены Карла I.
Унижение человека ведет к лишению его человеческого облика. Бесправное положение завершалось уродованием. Некоторым операторам того времени превосходно удавалось вытравить с человеческого лица образ божий. Доктор Конкест, член Аменстритской коллегии, инспектировавший торговлю химическими товарами в Лондоне, написал на латинском языке книгу, посвященную этой хирургии наизнанку, изложив ее основные приемы. Если верить Юстусу Каррик-Фергюсу, основоположником этой хирургии является некий монах по имени Авен-Мор, что по-ирландски значит «Большая река».
Карлик немецкого властительного князя — уродец Перкео (кукла, изображающая его, — настоящее страшилище, — выскакивает из потайного ящика в одном из гейдельбергских погребков) — был замечательным образчиком этого искусства, чрезвычайно разностороннего в своем применении.
Оно создавало уродов, для которых закон существования был чудовищно прост: им разрешалось страдать и вменялось в обязанность служить предметом развлечения.
Фабрикация уродов производилась в большом масштабе и охватывала многие разновидности.
Уроды нужны были султану; уроды нужны были папе. Первому — чтобы охранять его жен; второму — чтобы возносить молитвы. Это был особый вид калек, неспособных к воспроизведению рода. Эти человекоподобные существа служили и сладострастию и религии. Гарем и Сикстинская капелла были потребителями одной и той же разновидности уродов: первый — свирепых, вторая — пленительных.
В те времена умели делать многое, чего не умеют делать теперь; люди обладали талантами, которых у нас уже нет, — недаром же благомыслящие умы кричат об упадке. Мы уже не умеем перекраивать живое человеческое тело: это объясняется тем, что искусство пытки нами почти утрачено. Раньше существовали виртуозы этого дела, теперь их уже нет. Искусство пытки упростили до такой степени, что вскоре оно, быть может, совсем исчезнет. Отрезая живым людям руки и ноги, вспарывая им животы, вырывая внутренности, проникали в живой организм человека; и это приводило к открытиям. От подобных успехов, которыми хирургия обязана была палачу, нам теперь приходится отказаться.
Операции эти не ограничивались в те давние времена изготовлением диковинных уродов для народных зрелищ, шутов, увеличивающих собою штат королевских придворных, и кастратов — для султанов и пап. Они были чрезвычайно разнообразны. Одним из высших достижении этого искусства было изготовление «петуха» для английского короля.
В Англии существовал обычай, согласно которому в королевском дворце держали человека, певшего по ночам петухом. Этот полуночник, не смыкавший глаз в то время, как все спали, бродил по дворцу и каждый час издавал петушиный крик, повторяя его столько раз, сколько требовалось, чтобы, заменить собою колокол. Человека, предназначенного для роли петуха, подвергали в детстве операции гортани, описанной в числе других доктором Конкестом. С тех пор как в царствование Карла II герцогиню Портсмутскую чуть не стошнило при виде слюнотечения, бывшего неизбежным результатом такой операции, к этому делу приставили человека с неизуродованным горлом, но самую должность упразднить не решились, дабы не ослабить блеска короны. Обычно на столь почетную должность назначали отставного офицера. При Иакове II ее занимал Вильям. Самсон Кок[355], получавший за свое пение девять фунтов два шиллинга шесть пенсов в год.
В Петербурге, менее ста лет тому назад, — об этом упоминает в своих мемуарах Екатерина II, — в тех случаях, когда царь или царица бывали недовольны каким-нибудь вельможей, последний должен был в наказание садиться на корточки в парадном вестибюле дворца и просиживать в этой позе иногда по нескольку дней, то мяукая, как кошка, то кудахтая, как наседка, и подбирая на полу брошенный ему корм.
Эти обычаи отошли в прошлое. Однако не настолько, как это принято думать. И в наши дни придворные квохчут в угоду властелину, лишь немного изменив интонацию. Любой из них подбирает свой корм если не из грязи, то с полу.
К счастью, королям не свойственно ошибаться. Благодаря этому противоречия, в которые они впадают, никого не смущают. Всегда одобряя их действия, можно быть уверенным в своей правоте, а такая уверенность приятна. Людовик XIV не пожелал бы видеть в Версале ни офицера, поющего петухом, ни вельможу, изображающего индюка. То, что в Англии и в России поднимало престиж королевской и императорской власти, показалось бы Людовику Великому несовместимым с короной Людовика Святого. Всем известно, как он быт недоволен, когда Генриета, герцогиня Орлеанская, забылась до того, что увидала во сне курицу, — поступок, в самом деле весьма непристойный для особы, приближенной ко двору. Тот, кто принадлежит к королевскому двору, не должен интересоваться двором птичьим. Боссюэ, как известно, разделял возмущение Людовика XIV.
Торговля детьми в семнадцатом столетии, как уже было упомянуто, дополнялась особым промыслом. Этой торговлей и этим промыслом занимались компрачикосы. Они покупали детей, слегка обрабатывали это сырье, а затем перепродавали его.
Продавцы бывали всякого рода, начиная с бедняка-отца, освобождавшегося таким способом от лишнего рта, и кончая рабовладельцем, выгодно сбывавшим приплод от принадлежащего ему человеческого стада. Торговля людьми считалась самым обычным делом. Еще и в наши дни право на нее отстаивали с оружием в руках. Достаточно только вспомнить, что меньше столетия назад курфюрст Гессенский продавал своих подданных английскому королю, которому нужны были люди, чтобы посылать их в Америку на убой. К курфюрсту Гессенскому шли как к мяснику. Он торговал пушечным мясом. В лавке этого государя подданные висели, как туши на крюках. Покупайте — продается!
В Англии во времена Джеффриса, после трагической авантюры герцога Монмута, было обезглавлено и четвертовано немало вельмож и дворян: жены и дочери их, оставшиеся вдовами и сиротами, были подарены Иаковом II его супруге — королеве. Королева продала этих леди Вильяму Пенну. Возможно, что король получил комиссионное вознаграждение и известный процент со сделки!. Но удивительно не то, что Иаков II продал этих женщин, а то, что Вильям Пенн их купил. Впрочем, эта покупка, находит себе если не оправдание, то объяснение в том, что, будучи поставлен перед необходимостью заселить целую пустыню, Пенн нуждался в женщинах. Женщины были как бы частью живого инвентаря.
Эти леди оказались недурным источником дохода для ее королевского величества. Молодые были проданы по дорогой цене. Не без смущения думаешь о том, что старых герцогинь Пенн, по всей вероятности, приобрел за бесценок.
Компрачикосы назывались также «чейлас» — индусское слово, означающее «охотники за детьми».
Долгое время компрачикосы находились почти на легальном положении.
Иногда темные стороны самого общественного строя благоприятствуют развитию преступных промыслов; в подобных случаях они особенно живучи. В наши дни в Испании такое сообщество, возглавлявшееся бандитом Рамоном Селлем, просуществовало с 1834 по 1866 год; в течение тридцати лет оно держало в страхе три провинции: Валенсию, Аликанте и Мурсию.
Во времена Стюартов к компрачикосам при дворе относились довольно снисходительно. При случае правительство прибегало к их услугам. Для Иакова II они были почти instrumentum regni[356].
Это были времена, когда пресекали существование целых родов, проявивших непокорность или являвшихся почему-либо помехой, когда одним ударом уничтожали целые семьи, когда насильственно устраняли наследников. Иногда обманным образом лишали законных прав одну ветвь в пользу другой. Компрачикосы обладали умением видоизменять наружность человека, и это делало их полезными целям политики. Изменить наружность человека лучше, чем убить его. Существовала, правда, железная маска, но это было слишком грубое средство. Нельзя ведь наводнить Европу железными масками, между тем как уроды-фигляры могут появляться на улицах, не возбуждая ни в ком подозрения; кроме того, железную маску можно сорвать, чего с живой маской сделать нельзя. Сделать навсегда маской собственное лицо человека — что может быть остроумнее этого? Компрачикосы подвергали обработке детей так, как китайцы обрабатывают дерево. У них, как мы уже говорили, были свои секретные способы. У них были свои особые приемы. Это искусство исчезло бесследно. Из рук компрачикосов выходило странное существо, остановившееся в своем росте. Оно вызывало смех; оно заставляло призадуматься. Компрачикосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Иногда они оставляли спинной хребет нетронутым, но перекраивали лицо. Они вытравляли природные черты ребенка, как спарывают метку с украденного носового платка.
У тех, кого предназначали для роли фигляра, весьма искусно выворачивали суставы; казалось, у этих существ нет костей. Из них делали гимнастов.
Компрачикосы не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. По крайней мере в той степени, в какой это было им доступно. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. Чудовищная хирургия оставляла след на его лице, но не в сознании. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем — что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни — он не знал. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов железом. На время операции компрачикосы усыпляли свою жертву при помощи какого-то одурманивающего порошка, слывшего волшебным средством, устраняющим всякую боль. Этот порошок издавна был известен в Китае; им пользуются также и в наши дни. Китай задолго до нас знал книгопечатание, артиллерию, воздухоплавание, хлороформ. Но в то время как в Европе открытие сразу оживает, развивается и творит настоящие чудеса, в Китае оно остается в зачаточном состоянии и сохраняется в мертвом виде. Китай — это банка с заспиртованным в ней зародышем.
Раз мы уже заговорили о Китае, остановимся еще на одной подробности. В Китае с незапамятных времен существовало искусство, которое следовало бы назвать отливкой живого человека. Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу более или менее причудливой формы, но без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно. Днем вазу держали в вертикальном положении, а ночью клали на бок, чтобы ребенок мог спать. Дитя росло, таким образом, только в ширину, заполняя своим стиснутым телом и искривленными костями все полые места внутри сосуда. Это выращивание в бутылке длилось несколько лет. По истечении известного времени жертва оказывалась изуродованной непоправимо. Убедившись, что эксперимент удался и что урод вполне готов, вазу разбивали, и из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму.
Это очень удобно: можно заказать себе карлика какой угодно формы.
Иаков II относился к компрачикосам терпимо. У него были на то уважительные причины: он сам не раз пользовался их услугами. Не всегда пренебрегают тем, что презирают. Этот низкий промысел, бывший весьма на руку тому высокому промыслу, который именуется политикой, обрекался на жалкое существование, но не преследовался. Никакого надзора за ним не было, однако из виду его не упускали. Он мог пригодиться. Закон закрывал один глаз, король открывал другой.
Иногда король доходил до того, что сознавался в соучастии. Таково бесстыдство монархической власти! Иногда жертву клеймили королевскими лилиями; с нее снимали печать, наложенную богом, и заменяли клеймом короля. В семье Иакова Эстли, родовитого дворянина и баронета, владельца замка Мелтон и констебля графства Норфолк, был такой проданный ребенок, на лбу которого правительственный чиновник выжег каленым железом королевскую лилию. В некоторых случаях, когда по каким-либо причинам хотели удостоверить, что изменение в судьбе ребенка произошло не без участия короля, прибегали именно к этому средству. Англия всегда оказывала нам честь, пользуясь для своих собственных надобностей цветком лилии.
Компрачикосы в некоторых отношениях напоминали «душителей» индусской секты — конечно, принимая во внимание разницу между людьми, промышлявшими преступным ремеслом, и фанатиками-изуверами; они дробились на шайки и занимались, между прочим, скоморошеством, но делали это для отвода глаз. Это облегчало им свободный переход с места на место. Они кочевали, появлялись то здесь, то там, но, отличаясь строгими правилами и религиозностью, были неспособны на воровство и ничем не походили на другие бродячие шайки. Народ долгое время неосновательно смешивал их с «испанскими и китайскими маврами». «Испанскими маврами» назывались фальшивомонетчики, а «китайскими» — мошенники. Совсем иное дело компрачикосы. Это были честные люди. Можно быть о них какого угодно мнения, но они порой бывали честны до щепетильности. Они стучались в дверь, входили, покупали ребенка, платили деньги и уносили его с собой. Сделка совершалась так, что покупателей ни в чем нельзя было упрекнуть.
Среди компрачикосов были люди различных национальностей. Это название объединяло англичан, французов, кастильцев, немцев, итальянцев. Такое тесное содружество обычно возникает в результате общности образа мыслей, общности суеверий, занятия одним и тем же ремеслом. В этом братстве бандитов левантинцы представляли Восток, а уроженцы западного побережья Европы — Запад. Баски свободно объяснялись с ирландцами: баск и ирландец понимают друг друга, ибо оба говорят на древнем пуническом наречии; кроме того, здесь играла роль тесная связь между католической Ирландией и католической Испанией. Эти дружеские отношения завершились даже повешением в Лондоне гаэльского лорда Брани, который был почти королем Ирландии, что послужило поводом к созданию Литримского графства.
Компрачикосы были скорее сообществом, чем племенем, но скорее сбродом, чем сообществом. Это была голь, собравшаяся со всего света и превратившая преступление в ремесло. Это было лоскутное племя, скроенное из пестрых отрепьев. Каждый новый человек был здесь как бы еще одним лоскутом, пришитым к нищенским лохмотьям.
Бродяжничество было законом существования компрачикосов, — они появлялись, потом опять исчезали. Тот, кого едва терпят, не может надолго осесть на одном месте. Даже в тех королевствах, где их промысел имел спрос при дворе и служил при случае подспорьем королевской власти, с ними порой обходились весьма сурово. Короли прибегали к их мастерству, а затем ссылали этих мастеров на каторгу. Такая непоследовательность объясняется непостоянством королевских прихотей. Таково уж свойство «высочайшей воли».
Кочевой промысел — что катящийся камень: он не обрастает мохом. Компрачикосы были бедны. Они могли бы сказать о себе то же, что сказала однажды изможденная, оборванная колдунья, увидев зажженный для нее костер: «Игра не стоит свеч». Очень возможно и даже вполне вероятно, что их главари, оставшиеся неизвестными и производившие торговлю детьми в крупных размерах, были богаты. Теперь, по прошествии двух столетий, трудно выяснить это обстоятельство.
Мы уже говорили, что компрачикосы были своего рода сообществом. У них были свои законы, своя присяга, свои обычаи. У них была, можно сказать, своя каббалистика. Если кому-нибудь в наши дни захотелось бы основательно познакомиться с компрачикосами, ему следовало бы съездить в Бискайю или в Галисию. Среди них было много басков, и поэтому там, в горах, и теперь еще сохранились легенды о них. Еще в наше время о компрачикосах вспоминают в Оярсуне, в Урбистондо, в Лесо, в Астигаре. «Aguardate, nino, que voy allamar al comprachicos!»[357] — пугают в тех местах матери своих детей.
Компрачикосы, подобно цыганам, устраивали сходбища; время от времени их вожаки собирались, чтобы посовещаться. В семнадцатом столетии у них было четыре главных пункта для таких встреч. Один — в Испании, в ущелье Панкорбо; второй — в Германии, на лесной прогалине, носившей название «Злая женщина», близ Дикирха, где находятся два загадочных барельефа, изображающих женщину с головой и мужчину без головы; третий — во Франции, на холме, где высилось колоссальное изваяние Палицы Обещания, в старинном священном лесу Борво-Томона, близ Бурбон-ле-Бена; четвертый — в Англии, за оградой сада, принадлежавшего Вильяму Челонеру, джисброускому эсквайру, в Кливленде, в графстве Йорк, между четырехугольной башней и стеной со стрельчатыми воротами.
Английские законы, направленные против бродяг, всегда отличались крайней суровостью. Казалось, в своем средневековом законодательстве Англия руководилась принципом: Homo errans fera errante pejor[358]. Один из специальных статутов характеризует человека, не имеющего постоянного местожительства, как существо более опасное, чем аспид, дракон, рысь и василиск» (atrocior aspide, dracone, lynce et basilico). Цыгане, от которых Англия хотела избавиться, долгое время причиняли ей столько же хлопот, сколько волки, которых ей удалось совсем истребить.
В этом отношении англичанин отличается от ирландца, который молится святым о здравии волка и величает его своим «крестным».
Однако английское законодательство, смотревшее, как мы только что видели, сквозь пальцы на прирученного волка, ставшего чем-то вроде собаки, относились так же терпимо к бродягам, кормящимся каким-нибудь ремеслом. Никто не преследовал ни скомороха, ни странствующего цирюльника, ни лекаря, ни разносчика, ни скитающегося алхимика, если только у них было какое-либо ремесло, доставлявшее им средства к жизни. Но и с этой оговоркой и за этими исключениями вольный человек, каким являлся каждый бродяга, уже внушал опасение закону. Всякий праздношатающийся представлял собою угрозу общественному спокойствию. Характерное для нашего времени бесцельное шатание по белу свету было тогда явлением неизвестным: знали только существовавшее испокон веков бродяжничество. Достаточно было только иметь тот особый вид, который принято называть «подозрительным», — хотя никто не может объяснить, что значит это слово, — чтобы общество схватило такого человека за шиворот: «Где ты проживаешь? Чем занимаешься?» И если он не мог ответить на эти вопросы, его ожидало суровое наказание. Железо и огонь были средствами воздействия, предусмотренными уголовным кодексом. Закон боролся с бродяжничеством прижиганиями.
Отсюда, как прямое следствие, вытекал неписаный «закон о подозрительных лицах», применявшийся на всей английской территории к бродягам (которые, надо сознаться, легко становились преступниками) и, в частности, к цыганам, изгнание которых неосновательно сравнивали с изгнанием евреев и мавров из Испании и протестантов из Франции. Что же касается нас, мы не смешиваем облавы с гонением.
Компрачикосы, повторяем, не имели ничего общего с цыганами. Цыгане составляли определенную народность; компрачикосы же были смесью всех наций, как мы уже говорили, отбросами их, отвратительной лоханью с помоями. Компрачикосы, в противоположность цыганам, не имели собственного наречия; их жаргон был смесью самых разнообразных наречий; они изъяснялись на каком-то тарабарском языке, заимствовавшем свои слова из всех языков. Они в конце концов сделались, подобно цыганам, племенем, кочующим среди других племен; но их связывало воедино сообщество, а не общность происхождения. Во все исторические эпохи в необъятном океане человечества можно наблюдать такие отдельные потоки вредоносных людей, распространяющие вокруг себя отраву. Цыгане составляли племя, компрачикосы же были своего рода масонским обществом; но это масонское общество не преследовало высоких целей, а занималось отвратительным промыслом. Наконец, было между ними различие и в религии. Цыгане были язычниками, компрачикосы — христианами, и даже хорошими христианами, как подобает братству, хотя и состоявшему из представителей всех народностей, но возникшему в благочестивой Испании.
Они были больше чем христианами — они были католиками, и даже больше чем католиками — они были рьяными почитателями папы. Притом они столь ревностно охраняли чистоту своей веры, что отказались соединиться с венгерскими кочевниками из Пештского комитата, во главе которых стоял некий старец, имевший вместо жезла посох с серебряным набалдашником, украшенным двуглавым австрийским орлом. Правда, эти венгры были схизматиками и даже праздновали 27 августа успение — омерзительная ересь!
В Англии при Стюартах компрачикосы, по указанным нами причинам, пользовались некоторым покровительством властей. Иаков II, пламенный ревнитель веры, преследовавший евреев и травивший цыган, по отношению к компрачикосам был добрым государем. Мы уже знаем, почему: компрачикосы были покупателями человеческого товара, которым торговал король. Они весьма искусно устраивали внезапные исчезновения. Такие исчезновения иной раз требовались «для блага государства». Стоявший кому-нибудь поперек дороги малолетний наследник, попав к ним в руки и будучи подвергнут ими определенной операции, становился неузнаваемым. Это облегчало конфискацию имущества, это упрощало передачу родовых поместий фаворитам. Кроме того, компрачикосы были крайне сдержанны и молчаливы: обязавшись хранить безмолвие, они твердо блюли данное слово, что совершенно необходимо в государственных делах. Почти не было примера, чтобы они выдали королевскую тайну. Правда, это соответствовало их же собственным интересам: если бы король потерял к ним доверие, им грозила бы немалая опасность. Итак, с политической точки зрения они были подспорьем власти. Сверх того, эти мастера на все руки поставляли певчих святейшему отцу. Благодаря им можно было исполнять «Miserere»[359] Аллегри. Особенно чтили они деву Марию. Все это нравилось папистам Стюартам. Иаков II не мог неприязненно относиться к людям, благочестие которых простиралось до того, что они фабриковали кастратов для церковных капелл. В 1688 году в Англии произошла смена династии. Стюарта вытеснил принц Оранский. Место Иакова II занял Вильгельм III.
Иаков II скончался в изгнании, и на его могиле совершилось чудо: его останки исцелили от фистулы епископа Отенского — достойное воздаяние за христианские добродетели низложенного монарха.
Вильгельм Оранский, не разделявший образа мыслей Иакова II и придерживавшийся в своей деятельности других принципов, сурово отнесся к компрачикосам. Он положил немало труда, чтобы уничтожить этот тлетворный сброд.
Статут, изданный в самом начале царствования Вильгельма III и Марии, обрушился со всей силой на сообщества компрачикосов. Это было для них жестоким ударом, от которого они уже никогда не смогли оправиться. В силу этого статута члены шайки, изобличенные в преступных действиях, подлежали клеймению: каленым железом у них выжигалась на плече буква R, что значит rogue, то есть мошенник, на левой руке — буква Т, означающая thief, то есть вор, и на правой руке — буква М, означающая manslay, то есть убийца. Главари, «предположительно богатые люди, хотя с виду и нищие», подвергались collistrigium, то есть стоянию у позорного столба (pilori), и на лбу у них выжигали букву Р; их имущество подлежало конфискации, а деревья в их угодьях вырубались, и пни выкорчевывались. Виновные в недоносительстве на компрачикосов карались как их сообщники конфискацией имущества и пожизненным заключением в тюрьме. Что же касается женщин, входивших в состав шаек, то они подлежали наказанию, носившему название cucking-stool, — это была своего рода западня, а самый термин образовался из соединения французского слова coquine (непотребная женщина) и немецкого слова stuhl (стул). Английские законы отличаются необыкновенной долговечностью: в английском уголовном кодексе это наказание сохранилось еще до сих пор для «сварливых женщин». Cucking-stool подвешивают над рекой или прудом, сажают в него женщину и погружают в воду. Эта операция повторяется трижды, «чтобы охладить злобу провинившейся», как поясняет комментатор Чемберлен.
Часть I. Ночь не так черна, как человек
Глава 1
Южная оконечность Портленда
В продолжение всего декабря 1689 года и января 1690 года на европейском материке непрерывно дул упорный северный ветер, в особенности неистовствуя в Англии. Это он вызвал те страшные по своим последствиям холода, которые сделали эту зиму «памятной для бедных», как об этом записано на полях старинной библии в пресвитерианской лондонской часовне Non Jurors[360]. Благодаря исключительной прочности старинного королевского пергамента, употреблявшегося для официальных актов, длинные списки бедняков, найденных мертвыми от голода и холода, можно еще и теперь без труда разобрать во многих местных реестрах, особенно в приходских записях Клинк-Либерти-Корта в городке Саутворке, Пай-Паудер-Корта (что означает «Двор запыленных ног») и Уайт-Чепел-Корта в деревне Стэпней, где церковным ктитором был местный бальи. Темза стала, что случается реже одного раза в столетие, так как морские приливы препятствуют образованию на ней льда. По замерзшей реке ездили на повозках; на Темзе открылась ярмарка с палатками, с боями медведей и быков; тут же, на льду, зажарили целого быка. Такой толщины лед держался два месяца. Тяжелый 1690 год превзошел холодами даже знаменитые зимы начала семнадцатого века, тщательно изученные доктором Гедеоном Делоном, которого, как аптекаря короля Иакова I, город Лондон почтил постановкой памятника — бюста на цоколе.
Однажды вечером, к концу одного из самых морозных январских дней 1690 года, в одной из многочисленных негостеприимных бухточек Портлендского залива происходило нечто необычайное. Всполошившиеся чайки и морские гуси с криком кружились у входа в бухточку, не отваживаясь вернуться в нее.
В этой маленькой бухте, самой опасной из всех бухт залива, когда дуют некоторые ветры, а следовательно, самой пустынной и наиболее удобной для судов, укрывающихся от нежелательных взоров, почти вплотную к берегу — место было глубокое — стояло небольшое суденышко, причалившее к выступу скалы. Мы делаем ошибку, говоря: «ночь опускается на землю»; следовало бы говорить: «ночь поднимается от земли», ибо темнота надвигается на небо снизу. Внизу, у подножия скалы, уже наступила ночь; вверху был еще день. Если бы кто-нибудь подошел поближе к стоявшему на причале суденышку, он узнал бы в нем бискайскую урку.
Солнце, скрывавшееся весь день в тумане, только что село. В сердце уже начинало проникать то мрачное беспокойство, которое можно было бы назвать тоской по исчезнувшему светилу.
Ветер с моря улегся, и в бухте было тихо.
Это было счастливым исключением, в особенности зимой. Доступ в большинство портлендский бухт прегражден мелями. В бурную погоду волнение в них очень сильно, и нужны немалая ловкость и опыт, чтобы благополучно довести судно до берега. Эти крошечные гавани хороши только с виду, на самом же деле они сплошь и рядом оказывают дурную услугу. Войти в них опасно, выйти — страшно. Однако в этот вечер, вопреки обыкновению, бухта не таила в себе никакой угрозы.
Бискайская урка — старинное судно, вышедшее ныне из употребления. Этот тип судна, в свое время принесший известную пользу военному флоту, отличался крепким корпусом и по размерам соответствовал барке, а по прочности — кораблю. Урки входили в состав Армады; военные урки, правда, имели большое водоизмещение; так, «Большой грифон», капитанское судно, которым командовал Лопе де Медина, было вместимостью в шестьсот пятьдесят тонн и имело на борту сорок пушек; торговая же и контрабандистская урки были значительно меньших размеров. Моряки ценили и уважали это утлое суденышко. Тросы такелажа на нем были из пеньковых стренд, некоторые из ник — со вплетенной внутрь железной проволокой, что свидетельствовало, быть может, о намерении, хотя научно и не совсем обоснованном, обеспечить правильное действие компаса при магнитных бурях; оснастка урки состояла не только из этих тонких тросов, но и из толстых перлиней, из кабрий испанских галер и камелов римских трирем. Румпель был очень длинным: это имело то преимущество, что увеличивалась сила рычага, но и ту дурную сторону, что уменьшался угол поворота; два шкива в двух шкивгатах на конце румпеля исправляли этот недостаток и до известной степени уменьшали потерю силы. Компас помещался в нактоузе правильной четырехугольной формы и сохранял устойчивое равновесие благодаря двум медным ободкам, вставленным один в другой и утвержденным горизонтально на маленьких стержнях, как в лампах Кардана. Конструкция урки свидетельствовала о том, что строитель ее обладал известными знаниями и смекалкой; но это были знания невежды и смекалка дикаря. Урка была так же примитивна по своему устройству, как прама и пирога; она обладала устойчивостью, первой и быстроходностью второй и, подобно всем судам, созданным инстинктом пирата и рыбака, отличалась высокими мореходными качествами. Такое судно было одинаково пригодно для плавания в закрытых и открытых морях; его чрезвычайно своеобразная парусная оснастка, включавшая в себя и стакселя, позволяла ему идти тихим ходом в закрытых бухтах Астурии, напоминающих собою бассейны, как, например, Пасахес, и полным ходом в открытом море; на нем можно было совершать путешествия и по озеру и вокруг света, — оригинальное судно, предназначенное для плавания и по спокойным водам пруда и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была то же, что трясогузка среди пернатых — меньше всех и смелей всех; усевшись на камыш, трясогузка только чуть-чуть сгибает его, а вспорхнув — может перелететь через океан.
Бискайские урки, даже самые бедные, были позолочены и раскрашены. Такая татуировка совсем в духе басков, этого очаровательного, но несколько дикого народа. Чудесные краски Пиренейских гор, покрытых белым снегом и зелеными пастбищами, пробуждают в их обитателях неодолимую страсть ко всякого рода украшениям. Баски великолепны в своей нищете: над входом в их хижины намалеваны гербы; у них есть крупные ослы, которых они увешивают бубенцами, и рослые быки, которым они сооружают головной убор из перьев; их телеги, за две мили дающие знать о себе скрипом колес, всегда ярко расписаны, покрыты резьбою и убраны лентами. Над дверью башмачника — барельеф, высеченный из камня: изображение св. Крепина и башмак. Их куртки обшиты кожаным галуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого непосредственного веселья баски величавы. Они, подобно грекам, — дети солнца. В то время как сумрачный сын Валенсии набрасывает на голое тело рыжую шерстяную хламиду с отверстием для головы, жители Галисии и Бискайи наряжаются в красивые рубашки из выбеленного на росе холста. Из-за маисовых гирлянд в окнах и на порогах их хижин приветливо выглядывают белокурые головки и свежие личики. Жизнерадостная и гордая ясность духа находит свое отражение в их незамысловатом искусстве, в ремеслах, в обычаях, в нарядах их девушек, в их песнях. Каждая гора, эта исполинская растрескавшаяся лачуга, в Бискайе насквозь пронизана светом: солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый Хаискивель — сплошная идиллия. Бискайя — краса Пиренеев, как Савойя — краса Альп. В опасных бухтах, близ Сан-Себастьяна, Лесо и Фуэнтарабии, в бурную погоду, под небом, затянутым тучами, среди всплесков пены, перехлестывающей через скалы, среди яростных волн и воя ветра, среди ужаса и грохота можно увидеть лодочниц-перевозчиц в венках из роз. Кто хоть раз видел страну басков, тот захочет увидеть ее вновь. Благословенный край! Две жатвы в год, веселые, шумные деревни, горделивая бедность; по воскресеньям целый день звон гитар, пляска, кастаньеты; любовь, опрятные светлые хижины да аисты на колокольнях.
Но возвратимся в Портленд, к неприступной морской скале.
Полуостров Портленд на карте имеет вид птичьей головы, обращенной клювом к океану, а затылком к Уэймету; перешеек кажется горлом.
В наши дни Портленд, в ущерб своей первобытной прелести, стал промышленным центром. В середине восемнадцатого века на берегах Портленда появились каменоломни и печи для обжигания гипса. С той поры из портлендского мергеля вырабатывают так называемый романский цемент — весьма полезное производство, которое обогащает страну, но уродует ландшафт. Двести лет назад скалистые берега залива подмывало только море, теперь же их разрушает рука каменолома; волна отхватывает целые пласты, кирка откалывает лишь небольшие куски; пейзаж от этого сильно проигрывает. На смену величественному разгулу океана пришел кропотливый труд человека. Этот труд совершенно уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале бискайская урка. Следы этой разрушенной гавани надо искать на восточном берегу полуострова, у самой его оконечности, по ту сторону Фолли-Пира и Дердл-Пайера, и даже дальше Уэкхема, между Черч-Хопом и Саутвелем.
Бухта, сжатая со всех сторон отвесными берегами, Превосходящими своей высотой ее ширину, с каждой минутой все больше погружалась в темноту; мутный туман, обычно подымающийся к ночи, все сгущался; становилось темно, как в глубоком колодце; узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне почти ночного сумрака, оживленного мерным плеском прибоя. Только подойдя совсем близко, можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом их тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая с борта на низкий и плоский выступ утеса — единственное место, куда можно было поставить ногу; по этому шаткому мостику сновали во мраке черные фигуры, очевидно готовясь к отплытию.
Благодаря скале, возвышавшейся в северной части бухты; и игравшей роль заслона, здесь было теплее, чем в открытом море; тем не менее люди дрожали. Они торопились.
В сумерках очертания предметов кажутся как бы изваянными резцом. Можно было ясно различить лохмотья, служившие одеждой отъезжающим и свидетельствовавшие о том, что их обладатели принадлежат к разряду населения, именуемого в Англии the ragged, то есть оборванцами.
На фоне скалы смутно виднелись извивы узкой тропинки. Девушка, небрежно бросающая через спинку кресла корсет, длинные шнурки которого петлями спускаются до полу, сама того не подозревая, воспроизводит извивы горных троп. К площадке, с которой была переброшена доска на судно, вела зигзагами такая тропинка, скорее пригодная для коз, чем для человека. Дороги в скалах своею, крутизной способны испугать пешехода; с них легче скатиться, чем сойти; это не спуски, а обрывы. Тропинка, о которой идет речь, по всей вероятности была ответвлением какой-нибудь дороги, пролегавшей по равнине, но шла так отвесно, что на нее страшно было смотреть. Снизу было видно, как она ползет змеей к вершине утеса, а оттуда, через обвалы и через, расщелину в скале, выбирается на выше расположенное плато. Должно быть, по этой тропе спустились и люди, которых урка ожидала в бухте.
Кроме людей, торопливо готовящихся к отплытию, несомненно под влиянием страха и тревоги, в бухте никого не было; вокруг царили тишина и спокойствие. Не слышно было ни шума шагов, ни голосов, ни дуновения ветра. По ту сторону рейда, у входа в Рингстедскую бухту, можно было с трудом, разглядеть флотилию судов для ловли акул, сбившуюся, по всей видимости, с дороги. Прихотью моря эти полярные суда загнало сюда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над рыбаками. Суда эти укрылись в Портлендской гавани, что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, угрожавшей в открытом море. Они намеревались стать на якорь. На однообразно белесом море четко выступал черный силуэт головного судна, стоявшего, по древнему обычаю норвежских флотилий, впереди остальных судов; виден был весь его такелаж, а на носу ясно можно было различить снаряды для ловли акул: всякого рода багры и гарпуны, предназначенные для охоты на seymnus glacialis, squalus acanthias и на squalus spinax niger[361], а также неводы для ловли крупного селаха. За исключением этих судов, теснившихся в одном углу гавани, на всем обширном горизонте Портленда не было ни живой души. Ни жилого строения, ни корабля. Побережье в ту пору было еще необитаемо, а рейд в это время года обычно пустовал.
Однако, что бы ни сулила им погода, люди, собиравшиеся отчалить на бискайской урке, судя по всему, и не думали) откладывать свой отъезд. Они копошились на берегу и с озабоченным и растерянным видом быстро сновали взад и вперед. Отличить их друг от друга было трудно. Нельзя было и рассмотреть, стары они или молоды. Вечерние сумерки затушевывали и заволакивали их фигуры. Тень маской ложилась на лица. Во мраке вырисовывались только силуэты. Их было восемь, в том числе, вероятно, одна или две женщины, но они почти не отличались от мужчин: жалкие лохмотья, в которые все они были закутаны, не походили ни на мужскую, ни на женскую одежду. Отрепья не имеют пола.
Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребенку.
Это был ребенок.
Глава 2
Брошенный
Присмотревшись поближе, можно было заметить следующее.
Все эти люди были в длинных плащах с капюшонами, рваных, в заплатах, но очень широких, закрывавших их в случае необходимости до самых глаз, одинаково защищавших и от непогоды и от любопытных взоров. Плащи эти ничуть не стесняли их быстрых движений. У большинства из них вокруг головы был повязан платок — испанский головной убор, из которого потом образовалась чалма. В Англии этот убор не был редкостью. В ту пору Юг был на Севере в моде. Быть может, это происходило оттого, что Север побеждал Юг; восторжествовав над ним, он приносил ему дань восхищения. После разгрома Армады кастильское наречие стало считаться изысканнейшим языком при дворе Елизаветы. Говорить по-английски в покоях королевы Англии было почти неприличным. Перенимать, хотя бы отчасти, нравы тех, для кого он стал законодателем, сделалось обычаем, победителя-варвара по отношению к побежденному народу более высокой культуры; монголы внимательно присматривались к китайцам и подражали им. Вот почему и кастильские моды проникали в Англию, зато английские товары проложили себе дорогу в Испанию.
Один из группы, готовившейся к отплытию, имел вид главаря. Он был обут в альпаргатьи; его рваная одежда была разукрашена золотым галуном, а жилет, расшитый крупными блестками, отсвечивал из-под плаща, как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа, вроде сомбреро, была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки; это указывало, что владелец ее — человек ученый.
Куртка взрослого человека может служить для ребенка плащом; по этой причине ребенок был закутан поверх отрепьев в матросскую парусиновую куртку, доходившую ему до колен. Судя по росту, это был мальчик лет десяти — одиннадцати. Он был бос.
Экипаж урки состоял из владельца судна и двух матросов.
Урка, по всей вероятности, пришла из Испании и возвращалась туда же. Совершая рейсы между двумя берегами, она, несомненно, выполняла какое-то тайное дело.
Люди, собиравшиеся отплыть на ней, переговаривались между собой шепотом.
Изъяснялись они на какой-то сложной смеси наречий. То слышалось испанское слово, то немецкое, то французское, порою — валлийское, порою — баскское. Это был язык простонародья, если не воровской жаргон.
Казалось, они принадлежали к разным нациям, но были членами одной шайки.
Экипаж судна, по всей видимости, состоял из их сообщников; и он принимал живое участие в приготовлениях к отплытию.
Этот разношерстный сброд можно было принять и за тесную приятельскую компанию и за шайку соумышленников.
Будь немного посветлее, можно было бы, вглядевшись пристальней, заметить на этих людях четки и ладанки, наполовину скрытые лохмотьями. На одной из этих фигур, в которой угадывалась женщина, четки почти не уступали величиною зерен четкам дервиша; в них нетрудно было узнать ирландские четки, какие носят в Ланимтефри, называемом также Ланандифри. Если бы не было так темно, можно было бы также увидеть на носу урки позолоченную статую богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, баскская мадонна, нечто вроде панагии древних кантабров. Под этой фигурой, заменявшей обычное скульптурное украшение на носу корабля, висел фонарь, в эту минуту не зажженный: предосторожность, свидетельствовавшая о том, что эти люди хотели укрыться от посторонних взоров. Фонарь, вероятно, имел двойное назначение: когда его зажигали, он горел вместо свечи перед изображением богоматери и в то же время освещал море, — он одновременно был судовым фонарем и церковным светильником.
Длинный, изогнутый и острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед. В самом верху водореза, у ног богородицы, прислонившись к форштевню, стоял коленопреклоненный ангел со сложенными крыльями и смотрел на горизонт в подзорную трубу. Ангел был позолочен, так же как и богоматерь.
В водорезе были проделаны отверстия и просветы, через которые проходила ударявшая волна; это было еще одним поводом украсить его позолотой и арабесками.
Под изображением богородицы прописными золотыми буквами было выведено название судна: «Матутина», но его в эту минуту нельзя было прочесть из-за темноты.
У подножия утеса, сваленный как попало, лежал груз, который увозили с собою эти люди; по доске, служившей сходней, они быстро переправляли его с берега на судно. Мешки с сухарями, бочонок соленой трески, ящик с сухим бульоном, три бочки — одна с пресной водой, другая с солодом и третья со смолой, четыре или пять больших бутылей эля, старый, затянутый ремнями дорожный мешок, сундуки, баулы, тюк пакли для факелов и световых сигналов — таков был этот груз. У оборванцев были чемоданы, и это указывало на то, что они вели кочевой образ жизни. Бродяги вынуждены иметь кое-какой скарб; они порою и рады бы упорхнуть, как птицы, но не могут сделать этого, чтобы не остаться без средств к пропитанию. Каков бы ни был их кочевой промысел, им необходимо всюду таскать с собой орудия своего ремесла. И эти люди тоже не могли расстаться со своими пожитками, уже не однажды служившими им помехой.
Им, вероятно, нелегко было спустить ночью свой скарб к подножию скалы. Однако-они спустили его, что доказывало решение немедленно покинуть эти края.
Они не теряли времени: шло беспрерывное движение с судна на берег и с берега на судно; все принимали участие в погрузке; один тащил мешок, другой ящик. Женщины — если они здесь были (об этом можно было только догадываться) — работали как и все остальные. Ребенка обременяли непосильной ношей.
Сомнительно, чтобы у ребенка были среди этих людей отец и мать. Никто к нему не обращался. Его заставляли работать — я только. Он производил впечатление не ребенка в своей семье, а раба среди чуждого ему племени. Он помогал всем, но никто с ним не заговаривал.
Впрочем, он тоже торопился и, подобно всей темной шайке, к которой он принадлежал, казалось, был поглощен одною только мыслью — поскорее уехать. Отдавал ли ребенок себе отчет в происходившем? Вероятно, нет. Он торопился бессознательно, видя, как торопятся другие.
Урка была палубным судном. Всю кладь быстро уложили в трюм, пора было выходить в открытое море. Последний ящик был уже поднят на палубу, оставалось только погрузить людей. Двое из них, чем-то напоминавшие женщин, уже были на борту; шестеро же, в том числе и ребенок, находились еще на нижнем уступе скалы. На судне началась суета, предшествующая отплытию; владелец урки взялся за руль, один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. Рубить канат — признак спешки: когда есть время, канат отвязывают. «Andamos»[362], — вполголоса произнес один из шести, одетый в лохмотья с блестками и казавшийся главарем. Ребенок стремительно кинулся к доске, чтобы взбежать первым. Но не успел он поставить на нее ногу, как к доске ринулись двое мужчин, едва не сбросив его в воду; за ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий, четвертый оттолкнул его кулаком и последовал за третьим, пятый — это был главарь — одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду; взмахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега — и ребенок остался на суше.
Глава 3
Один
Ребенок замер на скале, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул. Никого не позвал на помощь. Все, что произошло, было неожиданностью для него, но он не проронил ни звука. На корабле тоже царило молчание. Ни единого вопля не вырвалось у ребенка вслед этим людям, ни одного слова не сказали эти люди ему на прощанье. Обе стороны молча мирились с тем, что расстояние между ними возрастало с каждой минутой. Это напоминало расставание теней на берегу подземной реки Стикса. Ребенок, словно пригвожденный к скале, которую уже начал омывать прилив, смотрел на удалявшееся судно. Можно было подумать, что он понимает. Что именно? Что понимал он? Непостижимое.
Мгновение спустя урка достигла пролива, служившего выходом из бухты, и вошла в него. На светлом фоне неба над раздавшимися скалистыми массивами, между которыми, как между двумя стенами, извивался пролив, еще виднелась верхушка мачты. Некоторое время она скользила над скалами, затем, точно врезавшись в них, совершенно пропала из виду. Все было кончено. Урка вышла в море.
Ребенок следил за ее исчезновением.
Он был удивлен, он что-то обдумывал.
К чувству недоумения, которое он испытывал, присоединялось какое-то мрачное сознание действительности. Казалось, это существо, лишь недавно вступившее в жизнь, уже обладает каким-то опытом. Быть может, в нем уже пробуждался судья? Иногда, под влиянием слишком ранних испытаний, в тайниках детской души возникает нечто вроде весов, грозных весов, на которых эта беспомощная детская душа взвешивает деяния бога.
Не сознавая за собой никакой вины, он безропотно принял совершившееся. Ни малейшей жалобы. Безупречный не упрекает.
Неожиданное изгнание, которому его подвергли, не вызвало у него ни одного движения. Внутренне он словно окаменел. Но ребенок не склонился под неожиданным ударом судьбы, как будто желавшей положить конец его существованию на самой заре его жизни. Он мужественно вынес этот удар.
Всякому, кто увидел бы его изумление, в котором не было ничего общего с отчаянием, стало бы ясно, что среди этих бросивших его людей никто не любил его и никто не был им любим.
Погруженный в раздумье, он забыл про стужу. Вдруг волной ему залило ноги: нарастал прилив; холодное дыхание коснулось его волос; поднимался северный ветер. Он вздрогнул. Дрожь охватила его с ног до головы — он очнулся.
Он посмотрел вокруг. Он был один. До этого дня для него во всем мире не существовало других людей, кроме тех, которые в эту минуту находились на урке. Эти люди только что скрылись. Добавим, что, как это ни странно, единственные люди, которых он знал, были ему неизвестны. Он не мог бы сказать, кто они такие. Его детство протекло среди них, но он не сознавал себя принадлежащим к их среде. Он жил бок о бок с ними, только и всего. Теперь они покинули его. У него не было ни денег, ни обуви, лохмотья едва прикрывали его тело, в кармане не было ни куска хлеба.
Стояла зима. Был вечер. Чтобы добраться до человеческого жилья, надо было пройти несколько лье. Ребенок не знал, где он. Он ничего не знал, кроме того, что люди, пришедшие с ним на берег моря, уехали без него. Он почувствовал себя выброшенным из жизни. Он почувствовал, что теряет мужество. Ему было десять лет. Ребенок был в пустыне, между бездной, откуда поднималась ночь, и бездной, откуда доносился рокот волн.
Он поднял худые ручонки, потянулся и зевнул. Затем резким движением, как человек, сделавший окончательный выбор, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и с проворством белки или, быть может, клоуна повернулся спиной к бухте и смело стал карабкаться вверх по скале. Он стал взбираться по тропинке, потом сошел с нее, но снова на нее вернулся, полный решимости. Он торопился теперь уйти отсюда. Можно было подумать, что у него есть определенное намерение. Между тем он сам не знал, куда идет.
Он спешил без цели; это было какое-то бегство от судьбы.
Человеку свойственно подниматься, животному — карабкаться; он и поднимался и карабкался. Портлендские скалы своими отвесными склонами обращены к югу, и на тропинках почти совсем не было снега. Однако сильный мороз превратил и этот снег в ледяную пыль, идти было очень скользко. Но ребенок продолжал идти. Надетая на нем куртка взрослого человека была ему слишком широка и стесняла движения. Он часто натыкался на обледенелые бугры или попадал в расщелины утеса и падал. Иногда он несколько мгновений висел над пропастью, уцепившись за сухую ветку или за выступ скалы. Один раз он ступил на жилу крапчатого мрамора, который внезапно осыпался под ним, увлекая его за собой. Такие обвалы довольно опасны. Несколько секунд ребенок скользил вниз, как черепица по крыше; он скатился до самого края пропасти и спасся только тем, что во-время ухватился за кустик сухой травы. Он не вскрикнул при виде бездны, как не вскрикнул, увидев, что люди бросили его; он собрался с силами и снова молча стал карабкаться вверх. Склон был очень высок. Ребенку еще не раз пришлось преодолевать такие препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной. Отвесной скале не было конца. Она как будто все отступала, исчезая где-то вверху. По мере того как он поднимался, утес, казалось, вырастал. Продолжая карабкаться, ребенок вглядывался в черный карниз, точно преграда стоявший между ним и небом. Наконец он достиг вершины.
Он прыгнул на площадку. Можно было бы сказать: он ступил на землю, ибо он выбрался из бездны.
Едва он очутился наверху, как его охватила дрожь. Точно острое жало ночи, почувствовал он на своем лице ледяное дыхание зимы. Дул резкий северо-западный ветер. Ребенок плотнее запахнул на груди парусиновую матросскую куртку.
Это была хорошая, плотная одежда. Моряки называют ее «непромокайкой», потому что такая куртка не боится дождей.
Добравшись до верхней площадки, ребенок остановился; он твердо стал босыми ногами на мерзлую почву и оглянулся вокруг.
Позади него — море, впереди — земля, над головою — небо.
Но небо было беззвездно. Густой туман скрывал от глаз небесный свод.
С вершины утеса он увидел перед собою землю и стал всматриваться в даль. Перед ним расстилалось бескрайное, плоское и обледенелое, покрытое снегом плоскогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска. Ни следа дороги. Ничего. Не было даже хижины пастуха. В нескольких местах кружились беловатые спирали снежной пыли, вихрем уносившейся ввысь. Волнообразная гряда холмов, пропадая в тумане, сливалась с горизонтом. Огромная голая равнина исчезала в белесой мгле. Глубокое безмолвие. Все вокруг казалось беспредельным и молчало, как могила.
Ребенок обернулся к морю.
Море, как и земля, было сплошь белое: земля — от снега, море — от пены. Трудно представить себе что-либо более печальное, чем отсветы, порожденные этой двойной белизной. Иногда световые эффекты ночного пейзажа отличаются замечательной определенностью: море казалось стальным, утесы — изваянными из черного дерева.
С высоты, где находился ребенок, Портлендский залив, тускло мерцавший среди полукружия утесов, имел почти тот же вид, что и на географической карте; было нечто фантастическое в этой ночной картине; это напоминало серп луны, кажущийся иногда темнее, чем, охватываемый им округлый клочок неба. На всем берегу, от одного мыса до другого, не было ни одного огонька, указывающего на близость горящего очага, ни одного освещенного окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма и на земле и на небе; ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Кое-где широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была еще видна уходившая на всех парусах урка.
Теперь это был черный треугольник, скользивший по бледно-свинцовой поверхности.
Вдали, в зловещем полумраке беспредельности, волновалось водное пространство.
«Матутина» быстро убегала. Она уменьшалась с каждой минутой. Нет ничего быстрее исчезновения судна в морской дали. Вскоре на носу урки зажегся фонарь; вероятно, сгущавшаяся вокруг нее темнота побудила кормчего осветить волны. Эта блестящая точка, мерцание которой заметно было издалека, сообщала что-то зловещее высокому и длинному силуэту судна. Оно было похоже на блуждающее по морю привидение в саване, со звездою в руке.
В воздухе чувствовалось приближение бури. Ребенок не отдавал себе в этом отчета, но будь на его месте моряк, он содрогнулся бы. Это была минута того тревожного предчувствия, когда кажется, будто стихии станут сейчас живыми существами и на наших глазах произойдет таинственное превращение ветра в ураган. Море разольется в океан, слепые силы природы преобразятся в волю, и то, что мы принимаем за вещь, окажется наделенным душою. Кажется, что все это предстоит увидеть воочию. Вот чем объясняется наш ужас. Душа человека страшится встречи с душою вселенной.
Еще минута — и все будет объято хаосом. Ветер, разгоняя туман и нагромождая на заднем плане тучи, устанавливал декорации ужасной драмы, действующими лицами которой являются морские волны, и зима и которая называется снежной бурей.
Глава 4
Вопросы
Что же это была за шайка, которая, бросив ребенка, спасалась бегством?
Быть может, то были компрачикосы?
Выше мы обстоятельно изложили, какие меры принимались Вильгельмом III с одобрения парламента против преступников обоего пола, именуемых компрачикосами, компрапекеньосами и чейласами.
Некоторые законодательные акты вызывают настоящую панику. Закон, направленный против компрачикосов, обратил в повальное бегство не только их самих, но и всякого рода бродяг. Они наперебой спешили скрыться и покинуть берега Англии. Большинство компрачикосов вернулись в Испанию. Среди них, как мы уже упоминали, было много басков.
Закон, взявший на себя защиту детей, имел на первых порах довольно странные последствия: сразу же возросло число брошенных детей.
Немедленно после обнародования этого уголовного статута появилось много найденышей, то есть подкинутых детей. Дело объяснялось крайне просто. Всякая бродячая шайка, в которой был ребенок, навлекала на себя подозрений; уже самый факт наличия ребенка в ее среде становился уликой против нее. «Это, по всей вероятности, компрачикосы» — такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу, прево, констеблю. Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие, которых нужда заставляла скитаться и просить подаяния, дрожали от страха, что их могут принять за компрачикосов, хотя они не имели с ними ничего общего; но бедняк никогда не огражден от возможных ошибок правосудия. Кроме того, бродячие семьи живут в постоянной тревоге. Компрачикосов обвиняли в том, что они промышляют покупкой и продажей чужих детей. Но нищета и сопряженные с нею бедствия создают иногда условия, при которых отцу и матери бывает трудно доказать, что ребенок, находящийся при них, — их родное дитя. Откуда у вас этот ребенок? Как доказать, что он — твой? Иметь при себе ребенка становилось опасно; от него старались отделаться. Бежать без него было много легче. Взвесив все, отец и мать оставляли ребенка в лесу или на берегу моря, а то и просто бросали его в колодец.
В водоемах находили утопленных детей.
Прибавим, что компрачикосов, по примеру Англии, стали преследовать по всей Европе. Первый толчок к гонению на них был дан. Во всяком деле главное — почин. Теперь полиция всех стран стала состязаться в погоне за компрачикосами, и испанские альгвазилы выслеживали их с не меньшим рвением, чем английские констебли. Всего двадцать три года назад можно было прочитать на камне у ворот Отеро неудобопереводимую надпись — закон в выборе выражений не стесняется, — из которой явствовало, что в отношении кары между покупателями и похитителями детей проводилась резкая грань. Вот эта надпись на несколько варварском кастильском наречии: «Aqui quedan las orejas de los comprachicos, у las bolsas de los robaninos, mientras que se van ellos al trabajo de mar».
Мы видим, что отрезание ушей и прочее отнюдь не избавляло от ссылки на галеры. Такие меры вызвали паническое бегство всякого рода бродяг. Они удирали в испуге и добирались до места, дрожа от страха. На всем побережье Европы прибывающих беглецов выслеживала полиция. Ни одна шайка не желала везти с собой ребенка, потому что высадиться с ним был делом опасным.
Гораздо легче было сбыть ребенка с рук.
Кем же был покинут ребенок, которого мы только что видели на сумрачном пустынном берегу Портленда?
Судя по всему, компрачикосами.
Глава 5
Дерево, изобретённое людьми
Было, вероятно, около семи часов вечера. Ветер убывал — признак того, что он скоро должен был снова усилиться. Ребенок находился на краю плоскогорья южной оконечности Портленда.
Портленд — полуостров. Но ребенок не знал, что такое полуостров, и даже не слыхал слова «Портленд». Он знал только одно: что можно идти до тех пор, пока не свалишься. Представление об окружающем служит нам вожатым; у ребенка не было этого представления. Они привели его сюда и бросили здесь. «Они» и «здесь» — в этих двух загадочных словах заключалась вся его судьба: «они» — это был весь человеческий род, «здесь» — вся вселенная. Здесь, в этом мире, у него не было никакой иной точки опоры, кроме клочка земли, по которому ступали теперь его босые ноги, — такой каменистой и такой холодной земли. Что ожидало этого ребенка в огромном сумрачном мире, открытом всем ветрам? Ничто.
Он шел навстречу этому Ничто.
Вокруг него простирались безлюдные места. Вокруг него простиралась пустыня.
Он пересек по диагонали первую площадку, затем вторую, третью… В конце каждой площадки ребенок наталкивался на обрыв; спуск бывал иногда очень крутым, но всегда коротким. Высокие голые равнины оконечности Портленда похожи на огромные плиты, наполовину налегающие одна на другую, подобно ступеням лестницы; южным краем каждая площадка плоскогорья как бы уходила под верхнюю равнину, возвышаясь северным краем над нижней. Эти уступы ребенок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам с собою. Становилось все темнее, пространство, на котором можно было что-то различить, все сокращалось, и ребенок теперь мог видеть только в нескольких шагах от себя.
Вдруг он остановился, на минуту прислушался, еле заметно с удовлетворением, кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности, смутно вырисовывавшейся справа, в том конце равнины, который примыкал к скале. На этой возвышенности виднелись смутные очертания чего-то, казавшегося в тумане деревом. Оттуда и слышал он только что шум, не похожий ни на шум ветра, ни на шум моря. Это не был также и крик животного. Ребенок решил, что там кто-то есть.
Сделав несколько шагов, он очутился у подножия холма.
Там действительно кто-то был.
То, что издали смутно виднелось на вершине холма, теперь вырисовывалось вполне отчетливо.
Это было нечто, похожее на огромную руку, торчавшую прямо из земли. Кисть руки была согнута в горизонтальном направлении, и вытянутый вперед указательный палец подпирался снизу большим. Мнимая рука с указательным и большим пальцами приняла на фоне неба очертания угломера. От того места, где соединялись эти странные пальцы, свешивалось что-то вроде веревки, на которой болтался какой-то черный бесформенный предмет. Веревка, раскачиваемая ветром, издавала звук, напоминавший звон цепей.
Этот звук и слышал ребенок.
Вблизи веревка оказалась цепью, как и можно было предположить по ее лязгу, — корабельной цепью из крупных стальных звеньев.
В силу таинственного закона слияния впечатлений, который во всей природе как бы наслаивает кажущееся на действительное, все здесь — место, время, туман, мрачное море, смутные образы, возникавшие на самом краю горизонта, — сочеталось с этим силуэтом и сообщало ему чудовищные размеры.
Бесформенный предмет, висевший на цепи, имел сходство с футляром. Он был спеленут, как младенец, но длиною равнялся росту взрослого человека. В верхней части его виднелось что-то круглое, вокруг чего обвивался конец цепи. Внизу футляр был разодран, и из него торчали лишенные мяса кости.
Легкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону. Эта безжизненная масса подчинялась малейшим колебаниям воздуха; в ней было нечто, внушавшее панический страх; ужас, обычно изменяющий действительные пропорции предмета, скрадывал его истинные размеры, сохраняя лишь его контуры; это был сгусток мрака, принявший какие-то очертания; тьма была кругом, тьма была внутри; она вобрала в себя нараставшую вокруг нее могильную жуть; сумерки, восходы луны, исчезновения созвездий за утесами, сдвиги воздушных пространств, тучи, роза ветров — все в конце концов вошло в состав этого призрака; этот обрубок, висевший в воздухе, своим безличием походил на морскую даль и на небо, и мрак поглощал последние черты того, что было некогда человеком.
Это было нечто, ставшее ничем.
Превратиться в останки — для обозначения этого состояния в человеческом языке нет надлежащих слов. Не жить и вместе с тем продолжать существовать, находиться в бездне и в то же время вне ее, умереть и не быть поглощенным смертью — во всем этом, несмотря на несомненную реальность, есть что-то неестественное и потому невыразимое. Это существо — можно ли было назвать его существом? — этот черный призрак был останками, и притом останками ужасающими. Останками чего? Прежде всего природы, а затем общества. Это было ничто и все.
Он находился здесь во власти безжалостных стихий. Глубокое забвение пустыни окружало его. Он был оставлен на произвол неведомого. Он был беззащитен против мрака, который делал с ним все, что хотел. Он должен был терпеть все. И он терпел. Ураганы обрушивались на него. Мрачная задача, выполняемая ветрами!
Этот призрак был здесь добычей всех разрушительных сил. Его обрекали на чудовищную участь — разлагаться на открытом воздухе. Для него не существовало закона погребения. Он подвергся уничтожению, но не обрел вечного покоя. Летом он покрывался слоем, пыли, осенью обрастал корою грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила — стыдливостью. Здесь не было стыдливости, не было покрова. Гниение, цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти, орудующей на глазах у всех. Она наносит оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне своей лаборатории — вне могилы.
Этот труп был выпотрошен. В его костях уже не было мозга, в его животе не было внутренностей, в его гортани не было голоса. Труп — это карман, который смерть выворачивает наизнанку и вытряхивает. Если у него когда-либо было свое «я», где оно было теперь? Быть может, еще здесь, — страшно подумать. Что-то, витающее вокруг чего-то, прикованного к цепи. Можно ли представить себе во мраке образ более скорбный?
На земле существуют явления, открывающие какой-то доступ к неведомому; мысль ищет выхода в этом направлении, и сюда же устремляется гипотеза. Догадка имеет свое compelle intrare[363]. В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую неосвещенную дверь в неведомый мир. Кого не навел бы на размышления вид этого мертвеца?
Огромная сила распада бесшумно подтачивала этот труп. В нем была кровь — ее выпили, на нем была кожа — ее изглодали, было мясо — его растащили по кускам. Ничто не прошло мимо, не взяв у него чего-нибудь. Декабрь позаимствовал у него холод его тела, полночь — ужас, железо — ржавчину, чума — миазмы, цветок — запахи. Его медленное разложение было пошлиной, которую труп платил шквалу, дождю, росе, пресмыкающимся, птицам. Все темные руки ночи обшарили этого мертвеца.
Это был странный обитатель ночи. Он находился на холме посреди равнины, и в то же время его там не было. Он был доступен осязанию и вместе с тем не существовал. Он был тенью, дополнявшей ночную тьму. Когда угасал дневной свет, он зловеще сливался со всем окружающим в беспредельном безмолвии ночи. Одно его присутствие здесь усиливало мрачную ярость бури и спокойствие звезд. Все то невыразимое, что есть в пустыне, было, как в фокусе, сосредоточено в нем. Жертва неведомого рока, он усугублял собою угрюмое молчание ночи. Его тайна смутно отражала в себе все, что есть загадочного в мире.
Близ него чувствовалось как бы убывание жизни, уходящей куда-то в бездну. Все в окружавшем его пространстве утрачивало постепенно спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и трав, безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, — все это трагически сближало пейзаж с черной фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призрака в поле зрения отягчает одиночество.
Он был лишь призраком. Колеблемый никогда не утихавшими ветрами, он был неумолим. Вечная дрожь делала его ужасным. Он казался — страшно вымолвить — средоточием окружавшего пространства и служил опорой чему-то необъятному. Чему? Как знать? Быть может, той неясно сознаваемой и оскорбляемой нами справедливости, которая выше нашего правосудия. В его пребывании вне могилы была месть людей и его собственная месть. В этой сумрачной пустыне он выступал как грозный свидетель. Для того чтобы мертвая материя вызывала в нас тревогу, она в свое время должна была быть одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал бога. Над ним, принимая расплывчато-извилистые очертания туч и волн, реяли исполинские видения мрака.
За этим призраком стояла какая-то непроницаемая, роковая преграда. Этого мертвеца окружала беспредельность, не оживляемая ничем — ни деревом, ни кровлей, ни прохожим. Когда перед нашим взором смутно возникают тайны бытия — небо, бездна, жизнь, могила, вечность, — в такие мгновения все ощущается нами как нечто недоступное, запретное, огражденное от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.
Глава 6
Битва смерти с ночью
Ребенок стоял перед темным силуэтом, безмолвно, удивленно, пристально глядя на него. Для взрослого человека это была бы виселица, для ребенка это было привидение. Там, где взрослый увидел бы труп, ребенок видел призрак.
Он ничего не понимал.
Бездна таит в себе все разновидности приманок; одна из них находилась на вершине этого холма. Ребенок сделал шаг, другой. Он стал взбираться выше, испытывая желание спуститься, и приблизился, желая отступить назад.
Весь дрожа, он в то же время решительно подошел к самой виселице, чтобы получше рассмотреть призрак. Очутившись под виселицей, он поднял голову и стал внимательно разглядывать его.
Призрак был покрыт смолою и местами блестел. Ребенок различал черты лица. Оно тоже было обмазано смолою, и эта маска, казавшаяся липкой и вязкой, четко выступала в сумраке ночи. Ребенок видел дыру на том месте, где прежде был рот, дыру на месте носа и две черных ямы на месте глаз. Тело было как бы запеленуто в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань истлела и расползлась. В одном месте обнажилось колено. В другом видны были ребра. Одни части тела были еще трупом; другие уже стали скелетом. Лицо было цвета чернозема, ползавшие по нему слизняки оставили на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись на две половины, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целы и скалились в подобии смеха. В зияющей дыре рта, казалось, замер последний крик. На щеках можно было заметить несколько волосков бороды. Голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась.
Его, невидимому, недавно подновляли. Лицо было заново вымазано смолой, так же как и выступавшие из прорех колено и ребра. Внизу из-под холста торчали обглоданные ступни. Прямо под ними, в траве, видны были два башмака, утратившие от снега и дождей всякую форму. Они свалились с ног мертвеца.
Босой ребенок смотрел на эти башмаки.
Ветер, становившийся все резче и резче, иногда внезапно спадал, как будто собирался с силами, чтобы разразиться бурей; на несколько минут он даже совсем стих. Труп уже не качался. Цепь висела неподвижно, как шнурок отвеса с гирькой на конце.
Как у всякого существа, только что вступившего в жизнь, но отдающего себе отчет в своей тяжкой участи, у ребенка, несомненно, начиналось пробуждение мучительных мыслей — мыслей еще неясных, детских, но уже стучащих в мозг, подобно птичьему клюву, долбящему скорлупу яйца; но все, чем в эту минуту было полно его младенческое сознание, повергало его лишь в оцепенение. Как излишек масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысль. Взрослый задал бы себе тысячу вопросов, ребенок только смотрел.
Обмазанное смолой лицо мертвеца казалось мокрым. Капли смолы, застывшие в пустых глазницах, были похожи на слезы. Однако смола значительно замедляла разложение трупа: разрушительная работа смерти была задержана, насколько это оказалось возможным. То, что ребенок видел перед собой, было предметом, о котором заботились. По-видимому, человек этот представлял какую-то ценность. Его не захотели оставить в живых, но старались сохранить мертвым. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочная и стояла здесь уже давно.
В Англии с незапамятных времен существовал обычай смолить контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть; преступника, в назидание прочим, следует подвергать казни у всех на виду, и если его просмолить, он на долгие годы будет служить острасткой. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять виселицы. Виселицы расставляли на берегу на определенном расстоянии одна от другой, как ставят в наше время фонари. Повешенный заменял собою фонарь. Он по-своему светил своим сотоварищам-контрабандистам. Контрабандисты издали, еще находясь в море, замечали виселицы. Вот одна — первое предостережение, а там другая — второе предостережение. Это нисколько не мешало им заниматься контрабандой, но таков порядок. Этот обычай продержался в Англии до начала нашего столетия. Еще в 1822 году перед Дуврским замком можно было видеть трех повешенных, облитых смолой. Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только контрабандистам. Англия пользовалась им также по отношению к ворам, поджигателям и убийцам. Джон Пейнтер, совершивший поджог морских складов в Портсмуте, был в 1776 году повешен и засмолен. Аббат Койе, называющий Джона Пейнтера Jean le Peintre (Жаном Живописцем), видел его вторично в 1777 году. Джон Пейнтер висел на цепи над развалинами сожженных им складов, в время от времени его снова покрывали смолой. Этот труп провисел, — можно бы сказать, прожил, — почти четырнадцать лет. Еще в 1788 году он служил правосудию. Однако в 1790 году его пришлось заменить новым. Египтяне чтили мумии своих фараонов; оказывается, мумия простого смертного также может быть полезной.
Ветер, с особенной силой разгулявшийся на холме, смел с него весь снег.
Во многих местах виднелась трава, кое-где выглядывал чертополох. Холм был одет тем густым и низким приморским дерном, благодаря которому вершины скал кажутся покрытыми зеленым сукном. Только под виселицей, под самыми ногами казненного, росла высокая густая трава — явление неожиданное на этой бесплодной почве. Объяснялось это тем, что тела повешенных разлагались здесь на протяжении нескольких веков. Земля питается прахом человека.
Какие-то мрачные чары удерживали ребенка на холме. Он стоял на месте как вкопанный. Один только раз он наклонил голову: крапива больно обожгла ему ноги, и он принял это за укус животного. Затем он выпрямился и, закинув голову, снова стал смотреть прямо в лицо повешенному, который тоже смотрел на него. У мертвеца не было глаз, и потому казалось, что он смотрит особенно пристально. Это был взгляд рассеянный и вместе с тем невыразимо сосредоточенный; в нем были свет и мрак; он исходил из черепа, из оскала зубов, из черных впадин пустых глазниц. Вся голова мертвеца — сплошной взор, и это страшно. Зрачков нет, но мы чувствуем на себе их взгляд, жуткий взгляд привидения.
Постепенно ребенок сам становился страшен. Он больше не шевелился, как будто оцепенел. Он не замечал, что уже теряет сознание. Он коченел, замерзал. Зима безмолвно предавала его ночи; в зиме есть что-то вероломное. Дитя превратилось почти в изваяние. Каменный холод проникал в его кости; мрак, это пресмыкающееся, заползал в него. Дремота, исходящая от снега, подкрадывается к человеку, как морской прилив; ребенком медленно овладевала неподвижность, напоминавшая неподвижность трупа. Он засыпал.
На руке сна есть перст смерти.
Ребенок чувствовал, как его хватает эта рука. Он был близок к тому, чтобы упасть под виселицей. Он уже не сознавал, стоит он на ногах или нет.
Неизбежность конца, мгновенный переход от бытия к небытию, зияющий вход в горнило испытаний, возможность в каждое мгновение скатиться в бездну — таково человеческое существование.
Еще минута — и ребенок и мертвец, жизнь, едва зародившаяся, и жизнь, уже угасшая, должны были слиться в общем уничтожении.
Казалось, призрак понял это и не хотел этого. Он вдруг зашевелился, словно предупреждая ребенка. Это был просто новый порыв ветра.
Трудно представить себе что-либо более ужасное, чем этот качающийся покойник.
Подвешенный на цепи труп, колеблемый невидимым дуновением ветра, принимал наклонное положение, поднимался влево, возвращался на прежнее место, поднимался вправо, падал и снова взлетал мерно и угрюмо, как язык колокола. Зловещее движение взад и вперед. Казалось, качается во тьме ночи маятник часов самой вечности.
Так продолжалось какое-то время. Увидев, что мертвец движется, ребенок очнулся от столбняка, почувствовал страх. Цепь при каждом колебании поскрипывала с чудовищной размеренностью, словно переводила дыхание. Этот звук напоминал стрекотание кузнечика.
Приближение бури вызывает внезапный напор ветра. Ветер вдруг перешел в ураган. Труп задвигался еще порывистее. Это было уже не раскачивание, а резкая встряска. Скрип цепи сменился пронзительным лязгом.
Звук этот, невидимому, был услышан. Если это был призыв, то ему повиновались. Издали, с горизонта, донесся какой-то шум.
То был шум крыльев.
Слеталась стая воронов, как это часто бывает на кладбищах и пустырях, в особенности перед грозой.
Черные летящие точки пробились сквозь тучу, преодолели завесу тумана, приблизились, стали больше, сгрудились, сплотились и с неистовым криком бросились к холму. Это было подобно наступлению легиона. Крылатая нечисть ночи усеяла всю виселицу.
Ребенок в испуге отступил.
Стаи повинуются команде. Вороны кучками расселись на виселице. Ни один не спустился на мертвое тело. Они перекликались между собою. Карканье воронов вселяет страх. Вой, свист, рев — это голоса жизни, карканье же — радостное приятие тления. В нем чудится звук потревоженного безмолвия гробницы. Карканье — голос ночной тьмы. Ребенок весь похолодел не столько от стужи, сколько от ужаса.
Вороны притихли. Но вот один из них прыгнул на скелет. Это было сигналом. За ним устремились все остальные — целая туча крыльев; еще мгновение — и повешенный исчез под кишащей грудой черных пятен, шевелившихся во мраке. В эту минуту мертвец вдруг дернулся.
Сам ли он вздрогнул? Дунуло ли на него ветром? Но его с устрашающей силой подбросило на цепи. Налетевший ураган пришел ему на помощь. Призрак забился в судорогах. Бурный ветер, разгулявшись в высоте, завладел мертвым телом и принялся швырять его во все стороны. Мертвец стал ужасен. Он бесновался. Чудовищный картонный паяц, висевший не на тонкой веревочке, а на железной цепи! Какой-то злобный шутник дергал за ее конец и забавлялся пляской этой мумии. Она вертелась и подпрыгивала, угрожая каждую минуту распасться на куски. Вороны шарахнулись в испуге. Покойник точно стряхнул с себя этих омерзительных птиц. Но они снова вернулись. И начался бой.
Казалось, в мертвеце проснулись невероятные жизненные силы. Порывы ветра подбрасывали его кверху, словно собираясь умчать с собою, а он как будто отбивался что было мочи, стараясь вырваться; только железный ошейник удерживал его. Птицы повторяли все его движения, то отлетая, то снова набрасываясь, испуганные, остервенелые. С одной стороны — страшная попытка к бегству, с другой — погоня за прикованным на цепи. Мертвец, весь во власти судорожных порывов ветра, подскакивал, вздрагивал, приходил в ярость, отступал, возвращался, взлетал и стремглав падал вниз, разгоняя черную стаю. Он был палицей, стая — пылью. Крылатые хищники, не желая сдаваться, наступали с отчаянным упорством. Мертвец, словно обезумев при виде этого множества клювов, участил свои бесцельные удары по воздуху, подобные ударам камня, привязанного к праще. Временами на него набрасывались все клювы и все а крылья, затем все куда-то пропадало; орда рассыпалась, но через мгновение накидывалась еще яростней. Ужасная казнь, продолжавшаяся и за порогом жизни. На птиц, казалось, нашло исступление. Только из недр преисподней могла вырваться подобная стая. Удары когтей, удары клювов, карканье, раздирание в клочья того, что уже не было мясом, скрип виселицы, хруст костей, лязг железа, вой бури, смятение — возможна ли более мрачная картина схватки? Мертвец, борющийся с демонами. Битва призраков.
Временами, когда ветер усиливался, повешенный вдруг начинал вертеться, поворачиваясь лицом во все стороны, как будто хотел броситься на птиц и перегрызть им глотку своими оскаленными зубами. Ветер был за него, цепь — против него, — словно темные божества вели бой вместе с ним. Ураган тоже принимал участие в сражении. Мертвец весь извивался, вороны спиралью кружились над ним. Это был живой смерч.
Снизу доносился глухой и мощный рокот моря.
Ребенок видел наяву этот страшный сон. Вдруг он вздрогнул от головы до пят, трепет пробежал по всему его телу; он заметался, задрожал, еле удержался на ногах и сжал лоб обеими руками, словно это была единственная точка опоры; ошеломленный, с развевающимися по ветру волосами, зажмурив глаза, сам похожий на призрак, он большими шагами спустился с холма и бросился бежать, оставив позади себя мучительные видения ночи.
Глава 7
Северная оконечность Портленда
Он бежал, задыхаясь, несся куда глаза глядят, мчался, не помня себя, по снегу, по равнине, в пространство. Бег согрел его. Это было ему необходимо. Если бы не быстрое движение и не испуг, он был бы уже мертв.
Когда у него захватило дыхание, он остановился; но оглянуться он не посмел. Ему мерещилось, что птицы гонятся за ним, что мертвец, сорвавшись с цепи, следует за ним по пятам, что даже виселица кинулась с холма вслед за покойником. Он боялся обернуться, чтобы не увидеть этого.
Немного передохнув, он снова пустился бежать.
Дети не умеют отдавать себе отчет в происходящем. Затуманенное страхом сознание ребенка воспринимало внешние впечатления без связи, без выводов. Он мчался, сам не зная куда и зачем. Охваченный щемящей тоской, он бежал с трудом, как бегут во сне. За три часа, проведенные им в одиночестве, его стремление идти куда-то вперед, не став определеннее, изменило, однако, свою первоначальную цель: тогда это были поиски, теперь это было бегство. Он уже не чувствовал ни голода, ни холода; он чувствовал только страх. Один инстинкт вытеснил другой. Все его помыслы свелись к одному — убежать. Убежать от чего? От всего. Жизнь мрачной стеной обступила его со всех сторон. Если бы он мог убежать от всего на свете, он так бы и сделал.
Но детям неведом тот способ взлома тюремной двери, который именуется самоубийством.
Он продолжал бежать.
Сколько времени он мчался так — неизвестно. Но наступает минута, когда и дыхании не хватает и страху приходит конец.
И вдруг, как бы внезапно охваченный приливом энергии и рассудительности, ребенок остановился; ему, видимо, стало стыдно за свое бегство; он выпрямился, топнул ногою, смело поднял голову и обернулся назад.
Ни холма, ни виселицы, ни воронья.
Туман опять окутал весь горизонт.
Ребенок снова пустился в путь.
Теперь он уже не бежал, он медленно шел. Сказать, что встреча с мертвецом сделала его взрослым, значило бы втиснуть в узкие рамки то сложное и неясное впечатление, которое она на него произвела. Виселица, смутно запечатлевшаяся в его еще зачаточном сознании, оставалась для него лишь видением. Но так как победа над страхом придает нам силы, в нем пробудилась отвага. Будь он в том возрасте, когда человек способен разобраться в себе, он нашел бы тысячу поводов к раздумью; но мышление детей лишено четкости, и ребенок в лучшем случае может ощутить лишь легкую горечь того, пока недоступного ему чувства, которое он, став взрослым, назовет негодованием.
Прибавим к этому, что ребенок одарен способностью быстро забывать свои ощущения. От него ускользают отдаленные, беглые очертания сущности горестного явления. Самым своим возрастом, своей слабостью дитя защищено от слишком сложных душевных волнений. Оно воспринимает события, но почти ничего с ними не связывает. Взрослый доискивается связи между разрозненными явлениями, ребенок же легко удовлетворяется частичным их объяснением. Жизненный процесс как нечто целое возникает перед ним позднее, когда приходит опыт, на который уже можно опереться. Тогда сопоставляются отдельные группы фактов, просветленный и зрелый рассудок сравнивает их между собой, и воспоминания детского возраста проступают сквозь все пережитое, как палимпсест из-под новейшего письма; воспоминания оказываются точками опоры для логики, и то, что было в уме ребенка впечатлением, становится силлогизмом в сознании взрослого. Впрочем, опыт бывает различным и обращается на пользу или во вред в зависимости от натуры человека. Хорошая натура созревает, дурная — растлевается.
Ребенок пробежал с добрую четверть лье и еще столько же прошел шагом. Вдруг он почувствовал мучительный голод. Мысль о еде завладела всем его существом, сразу вытеснив из памяти омерзительную картину, которую он видел на холме. В человеке, к счастью, есть животное: оно возвращает его к действительности.
Но что бы поесть? Где бы поесть? Как бы поесть? Мальчик невольно ощупал свои карманы, отлично зная, что они пусты.
Он ускорил шаги. Не зная сам, куда идет, он спешил добраться до какого-нибудь жилья.
Надежда на пристанище в известной мере является источником человеческой веры в провидение. Верить, что для нас всегда найдется кров, значит верить в бога.
Однако на этой снежной равнине не было видно ничего, похожего на кровлю.
Ребенок шел и шел; перед ним по-прежнему простиралось голое плоскогорье; казалось, ему не будет конца.
На этой возвышенности никогда не было человеческого жилья. Только у подножия утеса, в расселинах скал, ютились в давние времена первобытные обитатели этой страны, у которых не было дерева для постройки хижина оружием им служила праща, топливом — сухой коровий помет, божеством, которому они поклонялись, был идол Чейл, стоявший на лесной прогалине в Дорчестере, весь же их промысел сводился к ловле серого коралла, который валлийцы называют plin, а греки — isidis plocamos.
Ребенок искал дорогу, как умел. Вся наша судьба — перепутье; выбрать надлежащее направление очень трудно, а этому маленькому существу уже на заре его жизни предстояло сделать выбор вслепую. Тем не менее он продолжал идти вперед. Но хотя мышцы ног у него были точно стальные, он начал уставать. На всем пространстве не было ни; одной тропы, а если они и были, их занесло снегом. Безотчетно он продолжал двигаться на восток. Он изранил ступни об острые камни. Если бы было светло, можно было бы увидеть на следах, оставляемых им на снегу, алые пятна крови.
Местность была ему совсем незнакома. Он пересекал Портлендскую возвышенность с юга на север, а шайка, с которой он сюда попал, вероятно избегая нежелательных встреч, пересекла ее с запада на восток. Невидимому, она бежала в рыбацкой или контрабандистской лодке с какого-нибудь пункта на Эджискомбском побережье, из Сент-Катрин-Чипа или из Суонкри, направляясь в Портленд, где ее ожидала урка, и должна была высадиться в одной из бухт Уэстона, с тем чтобы пересесть на другое судно в одном из заливчиков Истона. Путь этот под прямым углом перекрещивался с направлением, по которому шел теперь ребенок. Потому-то он и не узнавал местности.
На Портлендском плоскогорье сплошь и рядом попадаются высокие холмы, нависающие прямо над берегом и отвесно обрывающиеся к морю. Блуждая, ребенок взобрался на один из таких холмов, остановился и стал всматриваться в даль, надеясь, что с высокого места ему будет виднее. Но перед ним, заслоняя горизонт, расстилалась синеватая туманная мгла. Он стал внимательно всматриваться в нее, и пристальный взгляд его постепенно начал улавливать в ней какие-то очертания. На востоке, на дне отдаленной лощины, пониже синеватой мглы, которую можно было бы принять за движущийся в мутном сумраке ночи утес, стлались по земле и развевались в воздухе какие-то черные клочья. Синеватая мгла была туман, а черные клочья — дым. Где есть дым, там есть и люди. Ребенок направился в ту сторону.
На некотором расстоянии от себя он увидел спуск и внизу у спуска, среди неясных очертаний скал, окутанных туманом что-то вроде песчаной мели или косы, которая, вероятно, соединяла видневшиеся на горизонте равнины с только что пересеченным им плоскогорьем. Очевидно, надо было идти в этом направлении.
Действительно, он достиг Портлендского перешейка, образованного дилювиальными наносами, который называется Чесс-Хилл. Он стал спускаться по склону. Скат был трудный и неровный. Это была противоположная сторона той возвышенности, на которую он карабкался, выбираясь из бухты. Правда, спускаться было легче. Всякий подъем вознаграждается спуском. Раньше он карабкался, теперь скатывался кубарем.
Он перепрыгивал с утеса на утес, рискуя вывихнуть себе ногу или свалиться в невидимую пропасть. Чтобы удержаться на льду при спуске со скалы, он хватался руками за тонкие, длинные ветки дикого терна или за усеянные шипами кусты утесника, и колючие иглы их вонзались ему в пальцы. Кое-где скат был не так крут, и тогда ребенок немного отдыхал, но рядом опять начинался обрыв, и снова приходилось рассчитывать каждый шаг. При спуске в пропасть надо быть ловким, иначе грозит смерть; каждое движение — решение задачи. Эту задачу ребенок разрешал с врожденным искусством, которому позавидовали бы обезьяны, и с таким умением, которому подивился бы акробат. Склон был крут и длинен. Тем не менее ребенок уже находился почти внизу.
Мало-помалу приближалась минута, когда он вступит на перешеек, издали представший его взору.
Он то перескакивал, то переползал с утеса-на утес и временами вдруг начинал прислушиваться, насторожившись, как чуткая лань. Он различал вдали, налево от себя, слабый протяжный гул, похожий на низкий звук рожка. Действительно, в вышине уже происходили сдвиги воздушных слоев — предвестники того страшного северного ветра, который каким-то трубным воем дает знать о своем прибытии с полюса. В то же время ребенок почувствовал у себя на лбу, на веках, на щеках нечто, напоминавшее прикосновение к лицу холодных ладоней. Это были крупные хлопья снега, сначала незаметно порхавшие в воздухе и вдруг закружившиеся вихрем. Они предвещали снежную бурю. Ребенок уже был с головы до ног покрыт снегом. Снежная буря, более часа свирепствовавшая на море, захватила теперь и берег. Она постепенно простирала свою власть и на горные равнины. Надвигаясь под косым углом с северо-запада, она готовилась разразиться над Портлендским плоскогорьем.
Часть II. Урка в море
Глава 8
Законы, не зависящие от человеческой воли
Снежная буря на море — одно из наименее исследованных явлений. Она во всех отношениях должна быть признана самым темным метеорологическим феноменом. Это соединение тумана со штормом, которое и в наше время еще не вполне изучено, вызывает множество бедствий.
Причиною снежной бури считают ветер и волны. Но ведь в воздухе есть какая-то сила, отличная от ветра, а в воде — сила, отличная от волны. Сила эта, одна и та же и в воздухе и в воде, есть ток. Воздух и вода — две текучих массы, почти тождественные и проникающие одна в другую путем сгущения или разрежения; поэтому дышать — то же самое, что пить. Но только ток по-настоящему текуч. Ветер и волна — это толчки, ток же есть истечение. Ветер становится зримым благодаря облакам, волна — благодаря пене, ток же невидим. Тем не менее время от времени он дает знать о себе: «я здесь». Это «я здесь» — удар грома.
Снежная буря представляется такой же загадкой, как и сухой туман. Если удастся когда-либо пролить свет на сущность явления, именуемого испанцами callina, а эфиопами quobar, то это, конечно, окажется возможным только при условии внимательного наблюдения над свойствами магнитных токов.
Без этого множество фактов останется для нас загадкой. Например, изменением скорости ветра, обычно пробегающего три фута, а в бурю — двести двадцать футов в секунду, объясняется изменение высоты волны, подымающейся с трех дюймов при тихой погоде до тридцати шести футов в шторм. Или, например, горизонтальное направление ветра даже при шторме объясняет, каким образом вал в тридцать футов высотою может простираться в длину на полторы тысячи футов. Но почему волны Тихого океана в четыре раза выше у берегов Америки, чем у берегов Азии, то есть выше на западе, чем на востоке? Почему в Атлантическом океане мы наблюдаем обратное явление? Почему уровень воды в океане выше всего на экваторе? Чем вызывается изменение высоты волн океана в различных широтах? Все эти явления объясняются только влиянием магнитных токов в связи с вращением земли и притяжением небесных светил.
Не в этом ли таинственном сочетании различных сил следует искать причину внезапных перемен в направлении ветра, идущего, например, через запад от юго-востока к северо-востоку, затем внезапно поворачивающего обратно и возвращающегося назад тем же путем от северо-востока на юго-восток, — таким образом за тридцать шесть часов он описывает на огромном пространстве две дуги общей сложностью в пятьсот шестьдесят градусов, как это имело место перед снежной бурей 17 марта 1867 года.
В Австралии во время бури волны достигают восьмидесяти футов в высоту; это происходит от близости магнитного полюса. Штормы в этих широтах вызываются не столько перемещением воздушных слоев, сколько продолжительностью подводных электрических разрядов; в 1866 году работа трансатлантического кабеля каждые сутки регулярно нарушалась в продолжение двух часов, с двенадцати до двух часов пополудни, — приступы своеобразной перемежающейся лихорадки. Сложение и разложение некоторых сил имеют своим последствием определенные явления; моряк, желающий избегнуть кораблекрушения, должен непременно принимать их в расчет.
В тот день, когда искусство кораблевождения, продолжающее еще руководствоваться рутинными представлениями о природе, станет наукой, точной как математика; когда начнут доискиваться, почему, например, в наших широтах теплые ветры дуют иногда с севера, а холодные — с юга; когда поймут, что понижение температуры воды прямо пропорционально глубине океана; когда для всех станет очевидным, что земной шар — огромный, поляризованный в бесконечном пространстве магнит с двумя осями — осью вращения и осью магнитной, пересекающимися в центре земли, и что магнитные полюсы вращаются вокруг полюсов географических; когда люди, рискующие своей жизнью, согласятся рисковать ею лишь во всеоружии научных знаний; когда неустойчивая стихия, с которой приходится иметь дело мореплавателям, будет достаточно изучена; когда капитан будет метеорологом, а лоцман — химиком, — только тогда явится возможность избегнуть многих катастроф. Море в такой же мере стихия магнитная, как и водная; целый океан неведомых сил зыблется в океане воды, иначе сказать — плывет по течению. Видеть в море одну лишь массу воды — значит совсем не видеть моря; в море происходит непрерывное движение токов точно так же, как непрерывное чередование приливов и отливов; законы притяжения имеют для него, быть может, большее значение, чем ураганы; молекулярное сцепление, выражающееся, помимо ряда других явлений, капиллярным притяжением, неуловимое для невооруженного глаза, в океане приобретает грандиозные размеры, зависящие от его огромных пространств, и волны магнитные то усиливают движение воздушных и морских волн, то противодействуют им. Кто не знает законов электричества, тому неизвестны и тесно связанные с ними законы гидравлики. Правда, нет области знания более трудной и менее разработанной: наука эта имеет столь же близкое отношение к данным опыта, как астрономия — к астрологии. Однако без этой науки немыслимо кораблевождение.
А теперь перейдем к нашему повествованию.
Одно из самых страшных явлений на море — снежная буря. Она в значительной мере вызывается магнитными токами. Подобно северному сиянию, она есть порождение полюса; во мгле снежной бури и в блеске северного сияния — все тот же полюс; и в снежных хлопьях, как и в голубоватых сполохах, очевидно присутствие магнитных токов.
Снежные бури — это нервные припадки и приступы горячки у моря. У моря тоже есть свои мигрени. Бури можно сравнить с болезнями. Одни из них смертельны, другие — нет; от одной болезни выздоравливают, от другой — умирают. Снежная буря считается смертельным бедствием. Один из лоцманов Магеллана, Харабиха, называл ее «тучей, вышедшей из левого бока дьявола» («una nube sali da del malo lado del diabolo»).
Сюркуф говорил: «Такая буря точно холера».
В старину испанские мореплаватели называли бурю la nevada, когда падали снежные хлопья, и la helada, когда шел град. По их словам, вместе со снегом падали с неба и летучие мыши.
Снежные бури — явление обычное в полярном поясе. Однако они иногда доходят и до наших широт, вернее, обрушиваются на них — так велики причиняемые ими бедствия.
Как мы уже видели, «Матутина», покинув Портленд, с решимостью устремилась навстречу всем опасностям ночи, еще возросшим благодаря надвигавшейся буре. С трагической смелостью кинула она вызов уже возникшей перед ней угрозе. Но, повторяем, она была достаточно предупреждена об этом.
Глава 9
Обрисовка первых силуэтов
Пока урка находилась еще в Портлендском заливе, море было довольно спокойно; волнения почти не чувствовалось. Океан, правда, потемнел, но на небе было еще светло. Ветер чуть надувал паруса. Урка старалась держаться возможно ближе к утесу, служившему для нее прекрасным заслоном.
Их было десять на бискайском суденышке: три человека экипажа и семь пассажиров, в том числе две женщины. В открытом море сумерки всегда светлее, чем на берегу; теперь можно было ясно различить всех, находившихся на борту судна. К тому же им не было уже надобности ни прятаться, ни стесняться; все держали себя непринужденно, говорили громко, не закрывали лиц; отплыв от берега, беглецы вздохнули свободно.
Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределенного возраста: бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранние морщины. Одна женщина была баскийка, другая, с крупными четками, — ирландка. У обеих был безучастный вид, свойственный обычно беднякам. Очутившись на палубе, они сразу уселись рядышком на сундуках у мачты. Они беседовали: ирландский и баскский языки, как мы уже говорили, родственны между собой. У баскийки волосы пахли луком и базиликом. Хозяин урки был баск из Гипускоа, один из матросов — тоже баск, уроженец северного склона Пиренеев, а другой — южного, то есть принадлежал к той же национальности, хотя первый был французом, а второй испанцем. Баски не признают официального подданства. «Mi madre se llama montana» («мою мать зовут гора»), — говаривал погонщик мулов Салареус. Из пяти мужчин, ехавших вместе с женщинами, один был француз из Лангедока, другой — француз-провансалец, третий — генуэзец, четвертый, старик, носивший сомбреро без отверстия в полях для трубки, — невидимому немец; пятый, главарь, был баск из Бискароссы, житель каменистых пустошей. Это он в ту минуту, когда ребенок уже собирался подняться на урку, сбросил мостик в море. Этот крепко сложенный человек, отличавшийся порывистыми, быстрыми движениями и одетый, как уже было упомянуто, в лохмотья, расшитые галунами и блестками, не мог усидеть на месте; он то нагибался, то выпрямлялся, то переходил с одного конца палубы на другой, как будто его тревожило и то, что он только что сделал, и то, что должно было сейчас произойти.
Главарь шайки, хозяин корабля и двое матросов, все четверо баски, говорили то на баскском языке, то по-испански, то по-французски: эти три языка одинаково распространены на обоих склонах Пиренеев. Впрочем, все, за исключением женщин, объяснялись немного на французском языке, который был основою жаргона их шайки. В ту эпоху французский язык начинал входить во всеобщее употребление, так как он представляет собою переходную ступень от северных языков, отличающихся обилием согласных, к южным языкам, изобилующим гласными. В Европе по-французски говорили торговцы и воры. Многие, верно, помнят, что лондонский вор Джибби понимал Картуша.
Урка, быстроходный парусник, неслась вперед; однако десять человек, да сверх того еще и багаж, были слишком тяжелым грузом для такого утлого суденышка.
Бегство шайки на «Матутине» отнюдь не свидетельствовало о том, что между экипажем судна и его пассажирами существовала постоянная связь. Для такого предприятия было вполне достаточно, чтобы хозяин урки и главарь шайки были оба vascongado[364]. Помогать друг другу — священный долг каждого баска, не допускающий никаких исключений. Баск, как мы уже говорили, не признает себя ни испанцем, ни французом: он баск и потому везде, при любых обстоятельствах, обязан приходить на помощь своему соплеменнику. Таковы узы братства, связывающие всех жителей Пиренеев.
Все время, пока урка находилась в заливе, небо хотя и было пасмурно, однако не сулило ничего страшного, что могло бы встревожить беглецов. Они спасались от преследования, уходили от врага и были безудержно веселы. Один хохотал, другой распевал песни. Хохот был грубый, но непринужденный, пение — не пленявшее слуха, зато беззаботное.
Уроженец Лангедока орал: «caougagno!» — «кокань!», что на нарбоннском наречии означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Грюиссан, лепившейся по южному склону Клаппа, он не был настоящим матросом, не был мореходом, а был скорее рыбаком, привыкшим разъезжать в своей душегубке по Бажскому озеру и вытаскивать полный рыбою невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тому племени, где носят красный вязаный колпак, крестясь, складывают пальцы особым образом, как это делают испанцы, пьют вино из козьего меха, обгладывают окорок дочиста, становятся на колени, когда богохульствуют, и, обращаясь к своему покровителю с мольбой, грозят ему: «Великий святой, исполни мою просьбу, не то я запущу тебе камнем в голову» (ou te feg' un pic).
В случае нужды он мог оказаться полезным и в роли матроса.
Провансалец в камбузе подкидывал куски торфа под чугунный котел и варил похлебку.
Эта похлебка напоминала собой «пучеро», но только говядину заменяла в ней рыба; провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие, нарезанные квадратиками, ломтики сала и стручки красного перца, что было уступкой со стороны любителя bouillabaisse[365] любителям olla podrida[366]. Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Провансалец зажег у себя над головой железный фонарь со слюдяными стеклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарем болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мертвый зимородок, подвешенный за клюв, всегда поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер.
Занимаясь стряпней, провансалец то и дело подносил ко рту горлышко фляги и; прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками, оплетенная ивняком: такие фляги носили на ремне у пояса, почему они назывались «поясными флягами». Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песенок, которые как будто лишены почти всякого содержания: протоптанная тропинка, изгородь; меж кустами видны на лугу, освещенном лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади; время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают вилы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно.
Отъезд, в зависимости от настроения и мыслей, владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть. На урке все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в сомбреро.
Старика этого скорее всего можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, с которых уже стерлись все признаки какой-либо национальности; он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась тонзурой. Проходя мимо изваяния святой девы на носу урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу, и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинное, похожее на мантию, одеяние из коричневой дорчестерской саржи, потертое и рваное, распахиваясь, приоткрывало кафтан, плотно облегавший его и застегнутый, наподобие сутаны, до самого горла. Его руки, казалось, сами собой складывались на груди косым, крестом, по привычке богомолов. Цвет лица у него был мертвенно бледный: лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто, мысль лишена окраски. Это старческое лицо отражало странное душевное состояние — результат сложных противоречий, влекущих человека одновременно и в сторону добра и в сторону зла; внимательный наблюдатель разгадал бы, что это существо способно нравственно опуститься до уровня дикого зверя, пасть ниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное. Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что этот человек изведал и предвкушение зла, заранее рассчитывая его последствия, и опустошенность, следующую за его совершением. Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости: окаменелости сердца, свойственной палачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарину. Можно было безошибочно утверждать, — ибо чудовищное тоже бывает в своем роде совершенным, — что он был способен на все, даже на душевный порыв. Всякий ученый немного напоминает труп, а человек этот был ученым. С первого же взгляда бросалась в глаза эта ученость, запечатленная во всех его движениях, даже в складках его плаща. Подвижные морщины на лице этого полиглота порою складывались в гримасу, противоречившую строгому выражению каменных черт. В нем не было лицемерия, но не было и цинизма, — лицо трагического мечтателя, человека, которого преступление привело к глубокому раздумью. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы были на висках совершенно белыми. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Костлявые пальцы были искривлены подагрой; высокая, прямая, как жердь, фигура производила смешное впечатление, уверенная поступь выдавала моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его зрачков можно было уловить отблеск души, отдающей себе отчет в окружающем ее мраке и знающей, что такое угрызения совести.
Время от времени главарь шайки, человек грубый и бойкий, быстро носившийся по палубе, подбегал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. Казалось, молния совещается о чем-то с ночью.
Глава 10
Встревоженные люди на тревожном море
Два человека на судне были озабочены: старик и владелец урки, которого не следует смешивать с главарем шайки; судохозяин был озабочен видом моря, старик — видом неба. Один не спускал глаз с морских волн, другой сосредоточил все свое внимание на тучах. Состояние моря тревожило владельца урки, старику же внушало опасения то, что происходило на небе. Он пристально наблюдал каждую звезду, показывавшуюся в разрывах туч.
Был тот сумеречный час, когда еще светло, но кое-где в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звезды.
Горизонт выглядел необычно. Туман принимал самые разнообразные формы.
Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем.
Еще до выхода из Портлендского залива владелец урки, озабоченный высотою волн, тщательно проверил весь такелаж. Не дожидаясь момента, когда судно обогнет мыс, он подверг осмотру швиц-сарвени, убедился, что переплетка нижних вантов находится в полной исправности и служит надежной опорой путенс-вантам марсов, — предосторожность моряка, собирающегося поставить на судне все паруса.
Урка — в этом заключался ее недостаток — сидела в воде носом на полвары глубже, чем кормой.
Судохозяин то и дело переходил от путевого компаса к главному, стараясь при помощи обоих диоптров определить по неподвижным предметам на берегу скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала это оказался бейдевинд, и владелец урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и вызывал отклонение на пять пунктов в сторону от намеченного курса. Он сам по возможности стоял все время у румпеля, невидимому не доверяя другим и считая только себя способным извлечь из управления рулем наибольшую скорость хода.
Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движется судно, то казалось, что урка идет под большим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в бакштаг и не в бейдевинд, но настоящее направление ветра можно определить, только когда он дует в корму. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся к какой-либо точке на горизонте, эта точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, румб ветра определить было трудно, и владелец урки сомневался в правильности курса.
Он управлял рулем осторожно и в то же время смело, брасопил реи, следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их, наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, малейшие изменения в скорости хода, постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шло судно; особенно же, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, он все время добивался того, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности.
Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды, находящиеся в поясе Ориона; эти три звезды носят название Трех волхвов, и в старину испанские лоцманы говаривали: «Кто видит трех волхвов, тому недалеко и до спасителя».
Как раз в то мгновение, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика:
— Не видно ни Полярной звезды, ни Антареса, несмотря на его ярко-красный цвет. Не различить ни одной звезды.
Остальных беглецов это, казалось, не тревожило.
Однако, когда прошел первый порыв радости, вызванный бегством, все почувствовали на себе ледяное дыхание ветра, напоминавшее им о том, что стоит январь и что они находятся в море. Расположиться в каюте оказалось невозможно: она была слишком мала и к тому же вся загромождена багажом и тюками с товаром. Багаж принадлежал пассажирам, а тюки — экипажу, ибо урка была не яхтой для прогулок, а судном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе — лишение в сущности небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звездное небо заменяет им кров, на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон.
Впрочем, в эту ночь, как мы только что сказали, небо было беззвездно.
Уроженец Лангедока и генуэзец в ожидании ужина улеглись, свернувшись клубком, рядом с женщинами у мачты, накрывшись брезентом, который им бросили матросы.
Лысый старик все стоял на носу судна, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода.
Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук, похожий на крик птицы, которую в Америке называют «восклицателем»; на этот зов к нему подошел главарь шайки, и судохозяин обратился к нему:
— Etcheco jauna!
Эти два баскские слова, означающие «горный земледелец», служат у потомков древних кантабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания.
При этом владелец урки пальцем, указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев:
— Горный земледелец, что это за человек?
— Человек.
— На каких языках он говорит?
— На всех.
— Что он знает?
— Все.
— Какую страну он считает своей родиной?
— Никакую и рее.
— Кто его бог?
— Бог.
— Как зовешь ты его?
— Безумцем.
— Как, повтори, зовешь ты его?
— Мудрецом.
— Кто он в вашей шайке?
— То, что он есть.
— Главарь?
— Нет.
— Кто же он в таком случае?
— Душа.
Главарь шайки и судохозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли, а немного времени спустя «Матутина» вышла из залива.
Началась сильная качка.
Там, где море не было покрыто пеной, оно казалось клейкой массой; в вечернем сумраке волны, утратив четкость очертаний, походили на лужи желчи. В иных местах волны как будто ложились плашмя, и на них виднелись лучеобразные трещины, как на стекле, в которое бросили камнем. В самом центре этих расходившихся лучей, в кружащейся точке, мерцал фосфорический свет, похожий на тот кошачий блеск, которым горят глаза совы.
«Матутина» гордо и отважно миновала полосу опасной зыби над Чембурской мелью. Чембурская мель, заграждающая выход из портлендского рейда, имеет вид не прямой преграды, а амфитеатра. Песчаная круглая арена подводного цирка с симметрически расположенными ступенями, выбитыми круговоротом волн на поглощенной морем вершине высотою с Юнгфрау, Колизей на дне океана, призрачным видением возникающий перед водолазом в прозрачной глубине морской пучины, — вот что представляет собою Чембурская мель. Чудовищная арена; там сражаются гидры, там бросаются в схватку левиафаны; там, если верить легенде, на дне гигантской воронки покоятся остовы кораблей, схваченных и потопленных исполинским пауком Кракеном, которого называют также «горой-рыбой». Такова страшная тайна моря.
Эта призрачная, неведомая человеку жизнь дает о себе знать на поверхности моря только легкой зыбью.
В девятнадцатом столетии Чембурская мель почти совсем исчезла. Недавно построенный волнорез силою прибоя опрокинул и разрушил это высокое подводное сооружение, подобно тому как плотина, воздвигнутая в 1760 году в Круазике, передвинула время прилива и отлива у берегов его на четверть часа. Между тем приливы и отливы вечны. Но вечность подчиняется человеку гораздо больше, чем полагают.
Глава 11
Появление тучи, не похожей на другие
Старик, которого главарь шайки назвал сперва безумцем, а затем мудрецом, больше не покидал носовой части судна. Как только миновали Чембурскую мель, его внимание разделилось между небом и океаном. Он то опускал глаза, то снова поднимал их; особенно пристально всматривался он в направлении северо-востока.
Судохозяин передал руль одному из матросов, перешагнул через люк канатного ящика, перешел шкафут и очутился на баке.
Приблизившись к старику, он остановился в нескользких шагах позади него и, прижав локти к бокам, расставив руки, склонил голову набок; выкатив глаза, приподняв брови, он улыбнулся одними уголками губ, и лицо его выразило любопытство, находившееся на грани между иронией и уважением.
Старик, потому ли, что он имел привычку беседовать иногда сам с собою, или потому, что чувствовал у себя за спиной чье-то присутствие, вызывающее его на разговор, принялся разглагольствовать, ни к кому не обращаясь и глядя на расстилавшийся перед ним водный простор:
— Меридиан, от которого исчисляется прямое восхождение, в нашем веке обозначен четырьмя звездами: Полярной, креслом Кассиопеи, головой Андромеды и звездой Альгениб, находящейся в созвездии Пегаса. Но ни одной из них не видать…
Слова эти, прозвучавшие еле слышно, были обронены как будто безотчетно, словно сознание этого человека не принимало никакого участия в их произнесении. Они слетали с его губ и пропадали в воздухе. Монолог — это дым духовного огня, горящего внутри нас.
Владелец урки перебил его:
— Сеньор…
Старик, быть может тугой на ухо, а может быть, глубоко погруженный в свои думы, не расслышал обращения и продолжал:
— Слишком мало звезд, и слишком много ветра. Ветер то и дело меняет направление и устремляется на берег. Он обрушивается на него отвесно. Это происходит оттого, что на суше теплее, чем на море. Воздух над сушею легче. Холодный и тяжелый морской ветер устремляется на землю и вытесняет теплый воздух. Потому-то на большой высоте ветры дуют на землю со всех сторон. Следовало бы делать длинные галсы между параллелью теоретически исчисленной и параллелью предполагаемой. В тех случаях, когда наблюдаемая широта уклоняется от широты предполагаемой не больше, чем на три минуты на каждые десять лье и на четыре минуты на каждые двадцать лье, можно не сомневаться в правильности курса.
Судохозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в какое-то одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или Геттингенского университета, он стоял неподвижно, не меняя своей надменно-суровой позы, и пристально смотрел на море, как человек, хорошо изучивший и водную стихию и людей. Он вглядывался в волны, как будто собираясь принять участие в их шумной беседе и сообщить им важную весть. В нем было нечто, напоминавшее и средневекового алхимика и авгура древнего Рима. У него был вид ученого, претендующего на знание последних тайн природы.
Он продолжал свой монолог, быть может в расчете на то, что кто-то его слушает.
— Можно было бы бороться, будь у нас вместо румпеля штурвал. При скорости в четыре лье в час давление в тридцать фунтов на штурвал может дать триста тысяч фунтов полезного действия. И даже больше, ибо в некоторых случаях удается выгадать лишних два оборота.
Судохозяин вторично поклонился и произнес:
— Сеньор…
Старик пристально посмотрел на него. Он повернул только голову, не изменив своей позы.
— Называй меня доктором.
— Сеньор доктор, я владелец судна.
— Хорошо, — ответил «доктор».
Доктор, — отныне и мы будем называть его так, — невидимому согласился вступить в разговор.
— Хозяин, есть у тебя английский октант?
— Нет.
— Без английского октанта ты не в состоянии определять высоту ни впереди, ни позади судна.
— Баски, — возразил судовладелец, — умели определять высоту, когда никаких англичан еще на свете не было.
— Берегись приводиться к ветру.
— Я припускаюсь, когда это нужно.
— Ты измерил скорость хода корабля?
— Да.
— Когда?
— Только что.
— Чем?
— Лагом.
— А ты осмотрел деревянный сектор лага?
— Да.
— Песочные часы верно показывают свои тридцать секунд?
— Да.
— Ты уверен, что песок не расширил трением отверстия между двумя склянками?
— Да.
— Проверил ли ты песочные часы при помощи мушкетной пули, подвешенной…
— На ровной нитке из смоченной пеньки? Разумеется.
— Хорошо ли ты навощил нитку, чтобы она не растянулась?
— Да.
— А лаг ты проверил?
— Я проверил песочные часы посредством мушкетной пули и лаг посредством пушечного ядра.
— Каков диаметр твоего ядра?
— Один фут.
— Калибр вполне достаточный.
— Это старинное ядро с нашей старой военной урки «Касс де Паргран».
— Она входила в состав Армады?
— Да.
— На ней было шестьсот солдат, пятьдесят матросов и двадцать пять пушек?
— Про то знает море, поглотившее их.
— А как определил ты силу удара воды об ядро?
— При помощи немецкого безмена.
— Принял ли ты в расчет напор волны на канат, к которому привязано ядро?
— Да.
— Что же у тебя получилось в итоге?
— Сто семьдесят фунтов.
— Иными словами, урка делает четыре французских лье в час.
— Или три голландских лье.
— Но ведь это только превышение скорости хода над быстротою морского течения.
— Конечно.
— Куда ты направляешься?
— В знакомую мне бухту между Лойолой и Сан-Себастьяном.
— Выходи поскорее на параллель, на которой лежит эта бухта.
— Да, надо как можно меньше отклоняться в сторону.
— Остерегайся ветров и течений. Ветры усиливают течения.
— Предатели!
— Не надо ругательств! Море все слышит. Избегай бранных слов. Наблюдай — и только.
— Я наблюдал и наблюдаю. Ветер дует сейчас навстречу поднимающемуся приливу, но скоро, как только начнется отлив, он будет дуть в одном направлении с ним, и тогда мы полетим стрелой.
— Есть у тебя карта?
— Нет. Для этого моря у меня нет карты.
— Значит, ты идешь вслепую?
— Нет. У меня компас.
— Компас — один глаз, а карта — второй.
— И кривой видит.
— Каким образом ты измеряешь угол, образуемый курсом судна и килем?
— У меня есть компас, а остальное — дело догадки.
— Догадка хороша, но знание лучше.
— Христофор Колумб основывался на догадке.
— Когда во время бури стрелка компаса мечется как угорелая, никто уже не знает, за какой ветер следует ухватиться, и дело кончается тем, что теряешь всякое направление. Осел с дорожной картой стоит большего, чем прорицатель с его оракулом.
— Но ветер пока еще не предвещает бури, и я не вижу повода к тревоге.
— Корабли — мухи в паутине моря.
— Сейчас ни волны, ни ветер не внушают никаких опасений.
— Черные точки, качающиеся на волне, — вот что такое люди в океане.
— Я не предвижу ничего дурного этой ночью.
— Берегись, может произойти такая кутерьма, что ты и не выпутаешься из нее.
— Пока все обстоит благополучно.
Взор доктора устремился на северо-восток.
Владелец урки продолжал:
— Только бы добраться до Гасконского залива, а там я отвечаю за все. Еще бы! Там я как у себя дома. Гасконский залив я знаю, как свой карман. Хотя эта лоханка довольно часто бурлит от ярости, но мне известны все ее глубокие и мелкие места, все особенности фарватера: близ Сан-Киприано — ил, близ Сисарки — раковины, у мыса Пеньяс — песок, у Буко-де-Мимисана — мелкие гальки; я знаю, какого цвета каждый камешек.
Он остановился: доктор не слушал его.
Доктор внимательно смотрел на северо-восток. Что-то необычайное появилось вдруг на его бесстрастном лице. Оно выражало ту степень испуга, какую только способна выразить каменная маска. Из его уст вырвалось восклицание:
— В добрый час!
Его глаза, ставшие теперь совершенно круглыми, как у совы, расширились от ужаса при виде еле заметной точки на горизонте.
Он прибавил:
— Это справедливо. Что касается меня, я согласен.
Судовладелец смотрел на него.
Доктор, обращаясь не то к самому себе, не то к кому-то, притаившемуся в морской пучине, повторил:
— Я говорю: да.
Он умолк, шире раскрыл глаза, с удвоенным вниманием вглядываясь в то, что представилось его взору, и произнес:
— Оно надвигается издалека, но отлично знает, что делает.
Часть небосклона, противоположная закату, к которой неотрывно были прикованы и взор и мысль доктора, была освещена, как днем, отблеском заходившего солнца. Этот отрезок, резко очерченный окружавшими его клочьями сероватого тумана, был синего цвета, но скорее свинцового, чем лазурного оттенка.
Доктор, всем корпусом повернувшись к морю и уже не глядя на судовладельца, указал пальцем на эту часть неба:
— Видишь, хозяин?
— Что?
— Вот это.
— Что именно?
— Вон там.
— Синеву? Вижу.
— Что это такое?
— Клочок неба.
— Это для тех, кто думает попасть на небо, — возразил доктор. — Для тех же, кто туда не попадет, это совсем иное.
Он подчеркнул свои загадочные слова странным взглядом, потонувшим в вечернем полумраке.
Наступило молчание.
Владелец урки, вспомнив двойственную характеристику, данную старику главарем шайки, мысленно задал себе вопрос: «Кто же этот человек? Безумец или мудрец?»
Костлявый палец доктора все еще был направлен на мутно-синий край горизонта.
— Синяя туча-хуже черной, — произнес доктор.
И прибавил:
— Это снеговая туча.
— La nube de la nieve, — проговорил хозяин, переведя эти слова на родной язык, для того чтобы лучше уяснить себе их смысл.
— Знаешь ты, что такое снеговая туча?
— Нет.
— Так скоро узнаешь.
Судовладелец впился взглядом в горизонт. Всматриваясь в тучу, он бормотал сквозь зубы:
— Месяц бурных ветров, месяц дождей, кашляющий январь да плачущий февраль — вот и вся наша астурийская зима. Дождь у нас теплый. Снег у нас выпадает только в горах. Зато там берегись лавины! Лавина ничего не разбирает: лавина — это зверь.
— А смерч — чудовище, — подхватил доктор.
И, помолчав немного, прибавил:
— Вот он надвигается.
Затем продолжал:
— Сразу начинает дуть несколько ветров: порывистый с запада и другой, очень медленный, с востока.
— Восточный — это лицемер, — заметил судовладелец.
Синяя туча все росла.
— Если снег, — продолжал доктор, — страшен, когда он скатывается с горы, сам посуди, каков он, когда обрушивается с полюса.
Глаза его стали совершенно стеклянными; казалось, туча, сгущавшаяся на горизонте, одновременно сгущалась и на его лице.
Он продолжал задумчиво:
— С каждой минутой близится ужасный час. Приподымается завеса над предначертаниями верховной воли.
Владелец урки опять задал себе вопрос: «Не сумасшедший ли это?»
— Хозяин, — снова заговорил доктор, не отрывая взгляда от тучи, — ты много плавал в Ла-Манше?
— Сегодня в первый раз, — ответил тот.
Доктор, поглощенный созерцанием синей тучи, переполненный чувством тревоги, не взволновался от этого ответа, — так губка, пропитавшаяся влагой, уже не способна вобрать в себя ни одной лишней капли. В ответ на слова судохозяина он только слегка пожал плечами:
— Как же так?
— Я, сеньор доктор, обыкновенно плаваю только до Ирландии. Я делаю рейс от Фуэнтарабии до Блек-Харбора или до острова Акиля; называют его «остров», а на деле он состоит из двух островов. Иногда я захожу в Брачипульт, на побережье Уэльса. Но я никогда не спускался до Силлийсиих островов и этого моря не знаю.
— Плохо дело. Горе тому, кто с трудом разбирает азбуку океана! Ла-Манш — книга, которую надо читать бегло, Ла-Манш — сфинкс. Дно у него коварное.
— Здесь глубина двадцать пять брассов.
— Надо держать курс на запад, где глубина достигает пятидесяти пяти брассов, и не плыть на восток, где она всего лишь двадцать брассов.
— Мы будем бросать лот.
— Помни, Ла-Манш — море особенное. Вода здесь поднимается до пятидесяти футов при высокой воде и до двадцати пяти при низкой. Здесь спад воды — еще не отлив, а отлив — это еще не спад воды… Ага! Ты, кажется, испугался.
— Сегодня ночью будем бросать лот.
— Чтобы бросить лот, нужно остановиться, а это тебе не удастся.
— Почему?
— Не позволит ветер.
— Попробуем.
— Шквал, как шпага, воткнутая в ребра, лишает всякой свободы действий.
— Все равно будем бросать лот, сеньор доктор.
— Тебе не удастся даже поставить судно лагом к ветру.
— Бог поможет.
— Будь осторожен в словах. Не произноси всуе грозного имени.
— А все-таки я буду бросать лот.
— Будь скромнее. Сейчас ветер надает тебе пощечин.
— Я хочу сказать, что постараюсь бросить лот.
— Волны не дадут свинцу опуститься на дно, и линь оборвется. Видно, что ты впервые в этих местах.
— Ну да, я уже говорил вам…
— В таком случае слушай, хозяин…
Это «слушай» было сказано таким повелительным тоном, что судовладелец покорно склонил голову.
— Я слушаю, сеньор доктор.
— Ссади галсы на бакборте и натяни шкоты на штирборте.
— Что вы хотите этим сказать?
— Сворачивай на запад.
— Карамба!
— Сворачивай на запад.
— Невозможно.
— Как хочешь. Я это говорю, чтобы спасти других. Что касается меня, я готов покориться судьбе.
— Но, сеньор доктор, повернуть на запад…
— Да, хозяин.
— Значит идти против ветра.
— Да, хозяин.
— Будет дьявольская качка!
— Выбирай другие слова. Да, качка будет, хозяин.
— Судно встанет на дыбы.
— Да, хозяин.
— Может и мачта сломаться.
— Может.
— Вы хотите, чтобы я взял курс на запад?
— Да.
— Не могу.
— В таком случае справляйся с морем, как знаешь.
— Пусть только ветер переменится.
— Он не переменится всю ночь.
— Почему?
— Он дует на протяжении тысячи двухсот лье.
— Как же идти против такого ветра? Невозможно.
— Возьми курс на запад, говорю тебе.
— Попытаюсь. Но нас все равно отнесет в сторону.
— То-то и опасно.
— Ветер гонит нас на восток.
— Не правь на восток.
— Почему?
— Знаешь, хозяин, как зовут сегодня нашу смерть?
— Нет.
— Ее зовут востоком.
— Буду править на запад.
Доктор посмотрел на судовладельца таким взглядом, как будто хотел запечатлеть в его мозгу какую-то мысль. Он повернулся к нему и, медленно отчеканивая слог за слогом, произнес:
— Если сегодня ночью, когда мы будем в открытом море, до нас долетит звон колокола, судно погибло.
Владелец урки с ужасом уставился на него:
— Что вы хотите этим сказать?
Доктор ничего не ответил. Его взор, оживившийся на мгновение, снова погас. Он опять смотрел куда-то внутрь себя и, казалось, не расслышал вопроса изумленного судохозяина. Его внимание целиком было поглощено тем, что происходило в нем самом. С его губ невольно сорвалась шепотом произнесенная фраза:
— Настало время омыться черным душам.
Судохозяин сделал выразительную гримасу, от которой его подбородок поднялся чуть не до самого носа.
— Он скорее сумасшедший, чем мудрец, — пробормотал он, отойдя в сторону.
Но все-таки повернул судно на запад.
А ветер крепчал, и волны вздымались все выше.
Глава 12
Хардкванон
Туман набухал, поднимался клубами на всем протяжении горизонта, словно какие-то незримые рты раздували мехи бури. Облака начинали принимать зловещие очертания.
Синяя туча заволокла большую часть небосвода. Она уже захватила и запад и восток. Она надвигалась против ветра. Такие противоречия свойственны природе ветров.
Море, за минуту перед тем вздымавшееся граненой, крупной чешуей, тетерь было словно покрыто кожей. Таков этот дракон. Это был уже не крокодил, а боа. Грязно-свинцового цвета кожа казалась толстой и морщилась тяжелыми складками. На ней вздувались круглые пузыри, похожие на нарывы, и тотчас же лопались. Пена напоминала собой струпья проказы.
Как раз в это мгновение урка, которую брошенный ребенок разглядел на горизонте, зажгла фонарь.
Прошло четверть часа.
Судохозяин стал искать глазами доктора, но его уже не было на палубе.
Как только владелец урки отошел от него, доктор, согнув свой нескладный высокий стан, спустился в каюту. Там он уселся на эзельгофте подле кухонной плиты, вынул из кармана чернильницу, обтянутую шагренью, и большой бумажник из кордовской кожи, достал из бумажника вчетверо сложенный кусок пожелтевшего, пятнистого, исписанного пергамента, развернул его, извлек из футляра перо, примостил бумажник на коленях, положил на него пергамент оборотной стороной вверх и при свете фонаря, выхватывавшего из мрака фигуру повара, принялся писать. Ему мешали удары волн о борт, он медленно выводил букву за буквой.
Занятый этим делом, доктор случайно кинул взгляд на флягу с водкой, к которой провансалец прикладывался каждый раз, когда подбрасывал перцу в котел, как будто советовался с ней насчет приправы.
Доктор обратил внимание на флягу не потому, что это была бутыль с водкой, а потому, что заметил на ее плетенке имя, выведенное красными прутьями на фоне белых. В каюте было достаточно светло: он без труда прочитал это имя.
Прервав свое занятие, доктор медленно произнес вполголоса:
— Хардкванон.
Затем обратился к повару:
— Я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Хардкванону?
— Нашему бедняге Хардкванону? — переспросил повар. — Да.
Доктор продолжал допытываться:
— Фламандцу Хардкванону?
— Да.
— Тому самому, что сидит в тюрьме?
— Да.
— В Четэмской башне?
— Да, это его фляга, — произнес повар, — он был мне приятель. Я храню ее как память. Когда-то мы еще свидимся с ним? Да, это его поясная фляга.
Доктор снова взялся за перо и опять начал с трудом выводить букву за буквой: строчки ложились криво, но он явно старался писать разборчиво. Рука у него тряслась от старости, судно сотрясала качка, и все же он довел до конца свою запись.
Он кончил во-время, ибо как раз а эту минуту налетел шквал.
Волны приступом пошли на урку, и все бывшие на борту почувствовали, что началась та ужасающая пляска, которой корабли встречают бурю.
Доктор встал и, несмотря на сильную качку удерживая равновесие, подошел к плите, высушил, насколько это было возможно, на огне только что написанные строки, снова сложил пергамент, сунул его в бумажник, а самый бумажник вместе с чернильницей спрятал в карман.
Плита благодаря своему остроумному устройству занимала далеко не последнее место среди оборудования урки; она была расположена в части судна, наименее подверженной качке. Однако теперь котел сильно трясло. Провансалец не спускал с него глаз.
— Похлебка из рыбы, — сказал он.
— Для рыбы, — поправил его доктор.
И возвратился на палубу.
Глава 13
Они уповают на помощь ветра
Охваченный все возраставшей тревогой, доктор постарался выяснить положение дел. Тот, кто в эту минуту оказался бы рядом с ним, мог бы расслышать сорвавшуюся с его уст фразу:
— Слишком сильна боковая качка и слишком слаба килевая.
И, поглощенный мрачным течением своих мыслей, он снова погрузился в раздумье, подобно тому как рудокоп спускается в шахту.
Размышления нисколько не мешали ему наблюдать за тем, что происходило на море. Наблюдать море — значит размышлять.
Начиналась жестокая пытка водной стихии, от века терзаемой бурями. Из морской пучины вырывался жалобный стон. На всем безмерном пространстве ее совершались зловещие приготовления. Доктор смотрел на все творившееся у него перед глазами, не упуская ни малейшей подробности. Но его взгляд не был взглядом созерцателя. Нельзя спокойно созерцать ад.
Начинался пока еще мало приметный сдвиг воздушных слоев, однако уже проявивший себя в смятении океана, усиливший ветер и волны, сгустивший тучи. Нет ничего более последовательного и вместе с тем более вздорного, чем океан. Неожиданные прихоти его соприродны его могуществу и составляют один из элементов величия океана. Его волна не ведает ни покоя, ни бесстрастия. Она сливается с другой волной, чтобы тотчас же отхлынуть назад. Она то нападает, то отступает. Ничто не сравнится с зрелищем бушующего моря. Как живописать эти почти невероятные в своей непрерывной смене провалы и взлеты, эти исполинские зыблющиеся холмы и ущелья, эти едва воздвигнутые и уже рушащиеся подпоры? Как изобразить эти кущи пены на гребнях сказочных гор? Здесь все неописуемо — и эта разверстая бездна, и ее угрюмо-тревожный вид, и ее совершенная безликость, и эта светотень, и низко нависшие тучи, и внезапные разрывы облаков над головой, и их беспрестанное, неуловимое глазом таяние, и зловещий грохот, сопровождающий этот дикий хаос.
Ветер стал дуть прямо с севера. Ярость, с которой он налетал на судно, была как нельзя более кстати, ибо порывы его гнали урку от берегов Англии; владелец «Матутины» решил поднять все паруса. Вся в хлопьях пены, подгоняемая ветром, дувшим прямо в корму, урка неслась как будто вскачь, с бешеным весельем перепрыгивая с волны на волну. Беглецы заливались смехом. Они хлопали в ладоши, приветствуя волны, ветер, паруса, быстроту хода, свое бегство и неведомое будущее. Доктор, казалось, не замечал их; он был погружен в задумчивость.
Померкли последние лучи заката.
Они угасли как раз в ту минуту, когда ребенок, стоя на отдаленном утесе и пристально глядя на урку, потерял ее из виду. До этого мгновения его взор был прикован к судну. Какую роль в судьбе беглецов сыграл этот детский взор? Когда ребенок не мог уже ничего различить на горизонте, он повернулся и пошел на север, между тем как судно уносилось на юг.
Все потонуло во мраке ночи.
Глава 14
Священный ужас
А те, кого уносила на своем борту урка, с чувством радостного облегчения смотрели, как отступает все дальше и уменьшается в размерах враждебная земля. Мало-помалу перед ними, округляясь, все выше вздувалась мрачная поверхность океана, и в сумерках скрывались один за другим Портленд, Пербек, Тайнем, Киммридж и оба Матравера, длинный ряд мглистых утесов и усеянный маяками берег.
Англия скрылась из виду. Только море окружало теперь беглецов.
И вдруг наступила страшная темнота.
Ни расстояния, ни пространства уже не существовало; небо стало совершенно черным и непроницаемой завесой протянулось над судном. Медленно начал падать снег. Закружились первые хлопья. Казалось, это кружатся живые существа. В непроглядном мраке бушевал на просторе ветер. Люди почувствовали себя во власти стихии. На каждом шагу их подстерегала ловушка.
Именно такой глубокой тьмой обычно начинается в наших широтах полярный смерч.
Огромная бесформенная туча, похожая на брюхо гидры, тяжко нависла над океаном, в иных местах своей серо-свинцовой утробой вплотную соприкасаясь с волнами. Иногда она приникала к нему чудовищными присосками, похожими на лопнувшие мешки, которые втягивали в себя воду и выпускали клубы пара. Они поднимали то там, то здесь на поверхности волн конусообразные холмы пены.
Полярная буря обрушилась на урку, и урка ринулась в самую гущу ее. Шквал и судно устремились друг другу навстречу, словно бросились в рукопашную.
Во время этой первой неистовой схватки ни один парус не был убран, ни один кливер не спущен, не взят ни один риф — до такой степени бегство граничило с безумием. Мачта трещала и перегибалась назад, точно отпрянув в испуге.
Циклоны в нашем северном полушарии вращаются слева направо, в направлении часовой стрелки, и в своем поступательном движении проходят иногда до шестидесяти миль в час. Хотя урка оказалась всецело во власти яростного вихря, она держалась так, как держится судно при умеренном ветре, стараясь только идти наперерез волне, подставляя нос первому порыву ветра, правый борт — последующим, благодаря чему ей удавалось избегать ударов в корму и в борта. Такая полумера не принесла бы ни малейшей пользы, если бы ветер стал менять направление.
Откуда-то сверху, с недосягаемой высоты, доносился протяжный мощный гул.
Что можно сравнить с ревущей бездной? Это оглушительный звериный вой целого мира. То, что мы называем материей, это непознаваемое вещество, этот сплав неизмеримых сил, в действии которых обнаруживается едва ощутимая, повергающая нас в трепет воля, этот слепой хаос ночи, этот непостижимый Пан иногда издает крик — странный, долгий, упорный, протяжный крик, еще не ставший словом, но силою своей превосходящий гром. Этот крик и есть голос урагана. Другие голоса — песни, мелодии, возгласы, речь — исходят из гнезд, из нор, из жилищ, они принадлежат наседкам, воркующим влюбленным, брачующимся парам; голос же урагана — это голос из великого Ничто, которое есть Все. Живые голоса выражают душу вселенной, тогда как голосом урагана вопит чудовище, ревет бесформенное. От его косноязычных вещаний захватывает дух, объемлет ужас. Гулы несутся к человеку со всех сторон. Они перекликаются над его головой. Они то повышаются, то понижаются, плывут в воздухе волнами звуков, поражают разум тысячью диких неожиданностей, то разражаясь над самым ухом пронзительной фанфарой, то исходя хрипами где-то вдалеке; головокружительный гам, похожий на чей-то говор, — да это и в самом деле говор; это тщится говорить сама природа, это ее чудовищный лепет. В этом крике новорожденного глухо прорывается трепетный голос необъятного мрака, обреченного на длительное, неизбывное страдание, то приемлющего, то отвергающего свое иго. Чаще всего это напоминает бред безумца, приступ душевного недуга; это скорее эпилептические судороги, чем сила, направленная к определенной цели; кажется, будто видишь воочию бесконечность, бьющуюся в припадке падучей. Временами начинает казаться, что стихии предъявляют своя встречные права и хаос покушается снова завладеть вселенной. Временами это жалобный стон причитающего и в чем-то оправдывающегося пространства, нечто вроде защитительной речи, произносимой целым миром; в такие минуты приходит в голову, что вся вселенная ведет спор; прислушиваешься, стараясь уловить страшные доводы за и против; иногда стон, вырывающийся из тьмы, неопровержим, как логический силлогизм. В неизъяснимом смущении останавливается перед этим человеческая мысль. Вот где источник возникновения всех родов мифологии и политеизма. Ужас, вызываемый этим оглушительным и невнятным рокотом, усугубляется мгновенно возникающими и столь же быстро исчезающими фантастическими образами сверхчеловеческих существ: еле различимые лихи эвменид, облакоподобная грудь фурий, адские химеры, в реальности которых почти невозможно усомниться. Нет ничего страшнее этих рыданий, взрывов хохота, многообразных возгласов, этих непостижимых вопросов и ответов, этих призывов о помощи, обращенных к неведомым союзникам. Человек теряется, слыша эти жуткие заклинания. Он отступает перед загадкой свирепых и жалобных воплей. Каков их скрытый смысл? Что означают они? Кому угрожают, кого умоляют они? В них чудится бешеная злоба. Яростно перекликается бездна с бездной, воздух с водою, ветер с волной, дождь с утесом, зенит с надиром, звезды с морскою пеной, несется вой пучины, сбросившей с себя намордник, — таков этот бунт, в который замешалась еще и таинственная распря каких-то злобных духов.
Многоречивость ночи столь же зловеща, как и ее безмолвие. В ней чувствуется гнев неведомого.
Ночь скрывает чье-то присутствие. Но чье?
Впрочем, следует различать ночь и потемки. Ночь заключает в себе нечто единое; в потемках есть известная множественность. Недаром грамматика, со свойственной ей последовательностью, не допускает единственного числа для слова «потемки». Ночь — одна, потемок много.
Разрозненное, беглое, зыбкое, пагубное — вот что представляет собою покров ночной тайны. Земля пропадает у нас под ногами, вместо нее возникает иная реальность.
В беспредельном и смутном мраке чувствуется присутствие чего-то или кого-то живого, но от этого живого веет на нас холодом смерти. Когда закончится наш земной путь, когда этот мрак станет нам светом, тогда и мы станем частью этого неведомого мира. А пока — он протягивает к нам руку. Темнота — его рукопожатие. Ночь налагает свою руку на нашу душу. Бывают ужасные и торжественные мгновения, когда мы чувствуем, как овладевает нами этот посмертный мир.
Нигде эта близость неведомого не ощущается более явственно, чем на море, во время бури. Здесь ужас возрастает от фантастической обстановки. Древний тучегонитель, по своему произволу меняющий течение людских жизней, располагает здесь всем, что ему требуется для осуществления любой своей причуды: непостоянной, буйной стихией и рассеянными повсюду равнодушными силами. Буря, природа которой остается для нас тайной, только исполняет приказания, ежеминутно повинуясь внушениям чьей-то мнимой или действительной воли.
Поэты всех времен называли это прихотью волн.
Но прихоти не существует.
Явления, повергающие нас в недоумение и именуемые нами случайностью в природе и случаем в человеческой жизни — следствия законов, сущность которых мы только начинаем постигать.
Глава 15
Nix et nox — снег и ночь
Характерным признаком снежной бури является ее чернота. Обычная картина во время грозы — помрачневшее море или земля и свинцовое небо — резко изменяется: небо становится черным, океан — белым. Внизу — пена, вверху — мрак. Горизонт заслонен стеною мглы, зенит занавешен крепом. Буря напоминает внутренность собора, задрапированную траурной материей. Но никакого освещения в этом соборе нет. Нет ни огней святого Эльма на гребнях волн, нет ни одной искорки, ни намека на фосфоресценцию — куда ни глянь, сплошной мрак. Полярный циклон тем и отличается, между прочим, от циклона тропического, что один из них зажигает все огни, другой гасит их все до последнего. Над миром внезапно вырастает давящий каменный свод. В непроглядной тьме падают с неба, крутясь в воздухе, белые пушинки и постепенно опускаются в море. Пушинки эти не что иное, как снежные хлопья, — они порхают и кружатся в воздухе. Как будто с погребального покрова, раскинутого в небе срываются серебряные блестки и ожившими слезами падают одна за другой. Сеется снег, дует яростный северный ветер. Чернота, испещренная белыми точками, беснование во мраке, смятение перед разверзшейся могилой, ураган под катафалком — вот что представляет собою снежная буря.
Внизу волнуется океан, скрывающий страшные, неизведанные глубины.
При полярном ветре, насыщенном электричеством, хлопья снега мгновенно превращаются в градины, и воздух пронизывают маленькие ядра. Обстреливаемая этой картечью, поверхность моря кипит.
Ни одного удара грома. Во время полярной бури молния безмолвствует, и про нее можно сказать то же, что говорят иногда про кошку: «Она способна испепелить взглядом». Это — грозно разверстая пасть, не знающая пощады. Снежная буря — буря слепая и немая. Сплошь и рядом после того, как она пронеслась, корабли тоже становятся слепыми, а матросы немыми.
Выбраться из этой бездны нелегко.
Было бы, однако, ошибкой думать, что в снежную бурю кораблекрушение неизбежно. Датские рыболовы из Диско и Балезена, охотники за черными китами, Хирн, отправившийся к Берингову проливу отыскивать устье реки Медных Залежей, Гудсон, Мекензи, Ванкувер, Росс, Дюмон-Дюрвиль — все они за полярным кругом попадали в полосу страшных снежных бурь и все же остались невредимы.
Навстречу такой буре и устремилась дерзко урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монтгомери, спасаясь бегством из Руана, приказал гребцам своей галеры налечь на весла, чтобы с размаху прорвать цепь, загораживающую Сену у Буйля, он действовал с той же отвагой.
«Матутина» летела стрелой. По временам, несясь под парусами, она давала такой ужасный крен, что угол, образуемый ее бортом и поверхностью моря, не превосходил пятнадцати градусов, но ее отличный закругленный киль прилегал к волне, словно приклеенный. Киль противостоял напору урагана. Носовая часть судна освещалась фонарем. Туча, с приближением которой усилился ветер, все ниже нависала над океаном, суживая и поглощая пространство вокруг урки. Ни одной чайки. Ни одной ласточки, гнездящейся на скалах. Ничего, кроме снега. Клочок водной поверхности, освещенный фонарем впереди корабля, внушал ужас. На нем вздымались три-четыре вала исполинских размеров.
Время от времени огромная молния цвета красной меди вспыхивала, рассекая черные напластования тьмы от зенита до горизонта. Прорезанная ее алым сверканием, толща туч казалась еще более грозной. Пламя пожара, внезапно охватывавшего ее глубины, озаряя на миг передние облака и хаотическое их нагромождение вдалеке, открывало взорам всю бездну. На этом огненном фоне хлопья казались черными бабочками, залетевшими в пылающую печь. Потом все гасло.
После первого натиска ураган, продолжая подгонять урку, принялся реветь глухим басом. Это — вторая фаза, фаза зловещего замирания грохота. Нет ничего тревожнее такого монолога бури. Этот угрюмый речитатив как будто прерывает на время борьбу таинственных противников и свидетельствует о том, что в мире неведомого кто-то стоит на страже.
Урка по-прежнему с безумной скоростью мчалась вперед. Оба ее главных паруса были напряжены до предела. Небо и море стали чернильного цвета, брызги пены взлетали выше мачты. Потоки воды то и дело захлестывали палубу, и всякий раз, когда в боковой качке судно накренялось то правым, то левым бортом, клюзы, подобно раскрытым ртам, изрыгали пену обратно в море. Женщины укрылись в каюте, но мужчины оставались на палубе. Снежный вихрь слепил им глаза. Волны плевали им прямо в лицо. Все вокруг было охвачено неистовством.
В эту минуту главарь шайки, стоявший на корме, на транце, уцепившись одной рукой за ванты, другой сорвал с головы платок и, размахивая им при свете фонаря, с развевающимися по ветру волосами, с лицом, просиявшим от горделивой радости, опьяненный дыханием бури, крикнул:
— Мы свободны!
— Свободны! Свободны! Свободны! — вторили ему беглецы.
И вся шайка, держась за снасти, выстроилась на палубе.
— Ура! — крикнул вожак.
И шайка проревела в бурю:
— Ура!
Не успел еще замереть этот крик, заглушенный воем ветра, как на противоположном конце судна раздался громкий суровый голос:
— Молчать!
Все повернули головы в ту сторону.
Они узнали голос доктора. Вокруг царила непроглядная тьма; доктор прислонился к мачте, его высокая худая фигура сливалась с нею, его совсем не было видно.
Голос продолжал:
— Слушайте!
Все замолкли.
И тогда во мраке явственно прозвучал звон колокола.
Глава 16
Бурное море предостерегает
Владелец урки, державший румпель, разразился хохотом:
— Колокол! Отлично! Мы идем левым галсом. Что означает этот колокол? Только одно: вправо от нас земля.
Медленно выговаривая каждое слово, доктор твердо сказал:
— Вправо от нас нет земли.
— Есть! — крикнул судохозяин.
— Нет.
— Но ведь звон-то доносится с земли.
— Этот звон, — ответил доктор, — доносится с моря.
Даже наиболее бесстрашные из беглецов вздрогнули.
У входа в каюту, словно призраки, вызванные заклинанием, показались испуганные женщины. Доктор сделал шаг вперед, и его высокий черный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи.
— Среди моря, на полпути между Портлендом и Ла-Маншским архипелагом, находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй этот цепями прикреплен к отмели я плавает на поверхности воды. На буе на железных козлах подвешен колокол. В непогоду море, волнуясь, раскачивает буй, и колокол звонит. Этот колокол вы и слышите теперь.
Доктор выждал, чтобы улегся порыв ветра, и когда снова долетел звон колокола, продолжал:
— Слышать этот звон во время бури, когда дует северный ветер, равносильно смертному приговору. Почему? Сейчас объясню. Если вы слышите звуки колокола, то лишь потому, что их доносит ветер. Ветер дует с запада, а буруны Ориньи лежат на востоке. До вас не долетали бы эти звуки, не находись вы между буем и бурунами. Ветер гонит вас прямо на риф. Вы мчитесь навстречу опасности. Если бы судно не сбилось с курса, вы были бы в открытом море, на значительной глубине, и не слышали бы колокола. Ветер не доносил бы до вас его звона. Вы прошли бы около буя, не подозревая о его существовании. Мы сбились с пути. Колокол — это набат, возвещающий о кораблекрушении. А теперь решайте сами, как быть!
Во время речи доктора удары колокола, лишь слегка раскачиваемого утихшим ветром, стали реже; долетая через правильные промежутки, они как будто подтверждали слова старика. Казалось, в морской пучине раздается похоронный звон.
Задыхаясь от ужаса, беглецы внимали то голосу старика, то звону колокола.
Глава 17
Буря — лютая дикарка
Владелец урки схватил рупор.
— Cargate todo, hombres![367] Отдай шкоты! Тяни виралы! Спускай драйперы у нижних парусов! Забираем на запад! Подальше в море! Правь на буй! Правь на колокол! Там развернемся! Не все еще потеряно!
— Попробуйте, — сказал доктор.
Заметим здесь мимоходом, что этот буй, нечто вроде колокольни, был уничтожен в 1802 году. Старые моряки еще помнят его звон. Он предупреждал об опасности, но немного поздно.
Все кинулись исполнять приказания владельца урки. Уроженец Лангедока взял на себя роль третьего матроса. Работа закипела. Паруса не только убрали, но и закрепили; подтянули сезьни, завязали узлом нок-гордени, бак-гордени и гитовы, накрутили концы на стропы, превратив последние в ванты: наложили шкало на мачту; наглухо забили полупортики, благодаря чему судно оказалось как бы обнесенным стеной. Хотя все это делалось второпях, однако по всем правилам. Урка приняла вид гибнущего корабля. Но по мере того как она, убирая свой такелаж, уменьшалась в размерах, волны и ветер все свирепей обрушивались на нее. Валы достигали почти такой же высоты, какой бывают они за полярным кругом.
Ураган, словно палач, спешащий прикончить свою жертву, стал рвать урку на части. В мгновение ока она подверглась невероятному опустошению: марсели были сорваны, фальшборт снесен, галс-боканцы выбиты, ванты превращены в клочья, мачта сломана — все это с треском и грохотом разлетелось в разные стороны. Толстые перлини — и те не выдержали.
Магнитное напряжение, сопутствующее обычно снежным бурям, еще более способствовало разрыву снастей. Они лопались столько же от напора ветра, сколько от действия тока. Цепи, соскочив с блоков, больше не поддерживали рей. Скулы в носовой части и корма на всем протяжении от бизань-русленей до гакаборта сплющивались от страшного давления. Первой волною смыло компас вместе с нактоузом; второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычаю к бушприту; третьей сорвало блинда-рей; четвертой — статую богородицы и фонарь.
Уцелел один лишь руль.
Фонарь заменили крупной гранатой, которую повесили на форштевне, наполнив ее горящей смолой и паклей.
Мачта, сломанная пополам, унизанная сверху донизу клочьями парусов, обрывками снастей, остатками блоков и рей, загромождала палубу. Падая, она пробила правый борт.
Судовладелец, не выпускавший ни на минуту румпеля, крикнул:
— Ничего еще не потеряно, пока мы можем управлять судном. Подводная часть совсем не повреждена! Давай сюда топоры! Топоры! Мачту в море! Расчищай палубу!
Экипаж и пассажиры работали с тем лихорадочным возбуждением, какое появляется у людей в самые решительные моменты жизни. Несколько взмахов топора, и дело было сделано.
Мачту выкинули за борт. Палуба была очищена.
— А теперь, — продолжал судохозяин, — возьмите фал и принайтовьте меня к рулю.
Его привязали к румпелю.
Пока его привязывали, он смеялся. Он крикнул морю:
— Реви, старина, реви! Видывал я и почище бури у мыса Мачичако!
Когда его всего обкрутили канатами, он обеими руками схватился за румпель и заорал в порыве восторга, который вызывает в нас борьба с опасностью:
— Все идет отлично! Слава Буглосской божьей матери! Держим курс на запад!
Внезапно сбоку налетела огромная волна и хлынула на корму. Во время бури не раз поднимается такой свирепый вал: как беспощадный тигр, он сначала крадется по морю ползком, потом с рычанием и скрежетом набрасывается на гибнущий корабль и превращает его в щепы. Вей кормовая часть «Матутины» скрылась под горою пены, и в ту же минуту среди черного хаоса налетевших хлябей раздался громкий треск. Когда пена схлынула и из воды снова показалась корма, на ней не было уже ни судохозяина, ни руля.
Все исчезло бесследно.
Руль вместе с привязанным к нему человеком унесло волной в ревущий водоворот.
Главарь шайки, пристально всматриваясь в окружавшую темноту, воскликнул:
— Te burlas de nosotros?[368]
Вслед за этим негодующим криком раздался другой:
— Бросим якорь! Спасем хозяина!
Кинулись к кабестану. Отдали якорь. На урках бывает только один якорь. Попытка привела к тому, что «Матутина» потеряла своя единственный якорь. Дно было скалистое, волнение неистовое. Канат порвался, как волосок.
Якорь остался на дне морском.
От водореза сохранилась лишь фигура ангела, глядевшего в подзорную трубу.
С этой минуты урка сделалась добычей волн. «Матутина» была безнадежно оголена. Это судно, еще совсем недавно крылатое, можно сказать — грозное в своем стремительном беге, было теперь совершенно беспомощно. Вся оснастка была сорвана и пришла в полную негодность. Точно окаменев, оно без сопротивления подчинилось яростному произволу волн. В несколько мгновений парящий орел превратился в ползающего калеку: такие метаморфозы возможны только на море.
Порывы шторма ежеминутно возрастали, приобретая чудовищную силу. У бури — исполинские легкие. Она беспрестанно нагнетает новый ужас, сгущает мрак, хотя он как будто и не допускает, по самой своей сущности, никаких градаций. Колокол посреди моря отчаянно гудел, словно его раскачивала чья-то безжалостная рука.
«Матутина» неслась по воле волн. Так носится пробка, перескакивая с гребня на гребень. Она то ныряла, то снова всплывала наверх. Казалось, каждую минуту она может перевернуться, как мертвая рыба, брюхом кверху. Единственное, что спасало урку от гибели, — это прочность корпуса, не давшего ни малейшей течи. Сколько ни трепала ее буря, все доски внутренней обшивки были на месте. Не было ни одной трещины или щели, ни одна капля воды не попала в трюм. Это было чрезвычайно важно, ибо насос испортился и не действовал.
Урка прыгала по волнам в какой-то дикой пляске. Палуба судорожно вздымалась и опускалась, как диафрагма человека, которого тошнит. Казалось, она всячески старается изрыгнуть ютившихся на ней людей. Они же, не в силах ничего предпринять, только цеплялись за безжизненно повисшие снасти, за доски, за краспис, за рустов, за линьки, за обломки вздувшихся переборок, гвоздями раздиравшие им руки, за искривленные ридерсы, за самые незначительные выступы на всем, что еще оставалось после катастрофы. Время от времени они прислушивались. Звон колокола доносился все слабее и слабее. Казалось, он тоже был в агонии. Его удары напоминали прерывистое хрипение умирающего. Но вот и оно прекратилось. Где же они находились? В каком расстоянии от буя?
Звон колокола испугал их, его молчание повергло их в ужас. Ветер гнал их, быть может, туда, откуда нет возврата. Они чувствовали, что новый яростный шторм мчит их к чему-то страшному. Остов «Матутины» несся неизвестно куда среди непроглядной тьмы. Нет ничего ужаснее стремительного движения навстречу неведомой цели. Со всех сторон — впереди них, сзади них и под ними — зияла бездна. Это не было уже бегом, это было стремительным падением.
Вдруг сквозь оплошную завесу снежной метели мелькнуло что-то красное.
— Маяк! — закричали погибающие.
Глава 18
Каскеты
Это был действительно Каскетский маяк.
В девятнадцатом столетии маяк — это высокое конусообразное; каменное сооружение, вверху которого находится осветительный аппарат, устроенный по всем правилам науки. В частности, Каскетский маяк в настоящее время представляет собою тройную башню с тремя вращающимися огнями. Световые приборы, приводимые в движение при помощи часовых механизмов, совершают оборот вокруг своей оси с такой точностью, что вахтенный, наблюдающий их огни в открытом море, успевает сделать десять шагов по палубе во время проблеска и двадцать пять во время затмения. Вся система построена на строжайшем расчете как фокусных расстояний, так и вращающегося восьмигранного барабана, образованного восемью ступенчатыми плоско-выпуклыми стеклами, сверху и снизу которых помещаются диоптрические зеркала; эта тончайшая аппаратура защищена от напора ветра и от прибоя волн литыми миллиметровыми стеклами; однако даже такие стекла иногда разбивают своим клювом морские орлы, налетающие, как огромные ночные мотыльки, на исполинские фонари маяков. Здание, заключающее в себе этот механизм и служащее ему как бы оправой, отличается не меньшей математической точностью устройства. Все в нем просто, соразмерно, целесообразно, строго, стройно. Маяк — это цифра.
В семнадцатом веке маяк был, так сказать, пышным украшением земли на берегу моря. Башня маяка привлекала к себе внимание вычурным великолепием своей архитектуры. Она была перегружена множеством балконов, балюстрад, башенок, ниш, беседок, флюгеров. Сверху донизу ее усеивали лепные украшения в виде голов, статуи, решетки, завитки, рельефы, фигурки, дощечки с надписями. Pax in bello[369] — гласил Эддистоунский маяк. Заметим мимоходом, что это провозглашение мира не всегда обезоруживало океан. Уинстенлей воспроизвел эту надпись на маяке, сооруженном им на свои средства в дикой местности близ Плимута. По окончании постройки он поселился в башне, желая лично проверить, как выдержит она бурю. Но буря налетела и унесла в море и маяк и Уинстенлея. Эти чрезмерно затейливые сооружения, со всех сторон открытые ветрам, навлекали на себя ярость ураганов, подобно тому как генералы в цветных, расшитых золотом мундирах оказываются во время битвы наиболее уязвимой целью. Помимо украшений из камня, на маяках были украшения из железа, меди, дерева; металлические части изобиловали рельефами, деревянные — всякого рода выступами. По наружным стенам маяка, вделанные среди арабесок, лепились всевозможные снаряды, годные и непригодные к употреблению: лебедки, тали, блоки, багры, лестницы, грузоподъемные краны, дреки. На самой вершине башни, вокруг фонаря, на кованых, искусной работы кронштейнах были утверждены огромные железные подсвечники, в которые вставлялись куски просмоленного каната, — этих факелов не мог погасить самый сильный ветер. Вся башня сверху донизу была убрана морскими флагами, вымпелами, флюгарками, знаменами, султанами, наметами, укрепленными на флагштоках и поднимающимися от яруса к ярусу до самого фонаря; эта пестрая смесь разноцветных флагов, гербов различной формы и сигналов во время бури живописной массой лоскутьев весело развевалась вокруг пылавшего пламени. Дерзкий огонь на краю пучины походил на вызов и пробуждал отвагу у мореплавателей, терпевших бедствие в море. Но Каскетский маяк совсем не был похож на эти маяки.
В ту пору это был простой старинный, самого примитивного устройства маяк, воздвигнутый по приказанию Генриха I после гибели «Бланш-Нефа»: на вершине утеса в железной клетке горел костер — высокая груда углей, обнесенная решеткой, и ветер раздувал языки пламени.
Единственным усовершенствованием, сделанным в этом маяке со времени его сооружения в двенадцатом веке, были кузнечные мехи, приводимые в движение зубчатым колесом с каменной гирей; их присоединили к железной клетке в 1610 году.
Для морских птиц эти старинные маяки представляли несравненно большую опасность, чем нынешние. Привлеченные ярким светом, птицы слетались на огонь и попадали прямо в костер; там они прыгали, как адские духи, корчась в предсмертных судорогах; иногда они вырывались из раскаленной клетки и падали на скалу, обугленные, искалеченные, ослепленные, как падает ночная мошкара, обгоревшая в пламени лампы.
Вполне оснащенному судну, повинующемуся воле кормчего, Каскетский маяк нередко оказывает услугу. Он кричит ему: «Берегись!» Он предупреждает его о близости рифа. Но для судна, потерявшего и такелаж и руль, он только страшен. Оголенный остов корабля, беспомощный, бессильный в борьбе с бешеным натиском волн, беззащитный против шторма, — рыба без плавников, бескрылая птица, — он может плыть лишь туда, куда его гонит ветром. Маяк указывает ему роковое место, где его ждет неминуемая гибель, освещает его могилу. Маяк для него — погребальный факел.
Озарять путь к неотвратимому, предупреждать о неизбежном — какая трагическая насмешка!
Глава 19
Поединок с рифом
Несчастные, погибавшие на «Матутине», сразу же поняли горькую насмешку судьбы. При виде маяка они сначала приободрились, затем пришли в отчаяние. У них не было выхода, они ничего не могли предпринять. К волнам вполне применимо изречение, относящееся к царям: всякий, кто им подвластен, становится их жертвой. Хочешь не хочешь, надо терпеть все их безрассудства. Ветер гнал урку на Каскеты. Приходилось плыть по воле ветра. Сопротивляться было невозможно. Судно быстро несло на риф. Беглецы чувствовали, что дно мелеет; если бы измерение лотом имело для них какой-либо смысл, они убедились бы, что глубина моря здесь не больше трех-четырех брассов. Они прислушивались к глухому рокоту волн, врывающихся в расщелины подводных скал. Они различали у подножия маяка, между двумя гранитными выступами, темную полоску — узкий пролив, соединявший с океаном страшную бухточку, на дне которой, как можно было предположить, покоилось немало человеческих скелетов и разбитых остовов кораблей. Это был скорее зев пещеры, чем вход в гавань. С вершины маяка доносилось потрескивание костра в железной клетке, его багровые вспышки угрюмо освещали картину бури, пламя, сталкиваясь с градом, разрывало пелену тумана, черная туча, словно змей, сцепившийся со змеем, вступала в схватку с красным дымом, взлетали, подхваченные ветром, мелкие горящие головешки, и снежные хлопья, казалось, обращались в бегство перед внезапным натиском искр. Контуры рифов, вначале еле заметные, теперь выступали совершенно отчетливо — беспорядочное нагромождение скал с их пиками, гребнями и ребрами. Очертания углов обозначались ярко-алыми линиями, а скаты — кровавыми огненными бликами. По мере того как они приближались к рифу, его громада, разрастаясь ввысь и вширь, становилась все более зловещей.
Одна из женщин, ирландка, исступленно перебирала четки.
Обязанности лоцмана, лежавшие на погибшем судохозяине, пришлось взять на себя главарю шайки, который был капитаном. Баски все без исключения отлично знают горы и море. Они не боятся пропастей и не теряются при кораблекрушениях.
Судно подходило к самому рифу — вот-вот налетит на него. Внезапно северный склон Каскетов оказался так близко, что гранитная их стена сразу заслонила собою маяк. Виден был только утес да свет, пробивавшийся из-за него. Скала, выступавшая из тумана, напоминала женскую фигуру в черном с огненным чепцом на голове.
Эта скала, пользующаяся дурной славой, носит название Библе. Она является крайней северной точкой рифа, ограниченного с юга другим утесом, известным под именем Этак-о-Гильме.
Главарь шайки, окинув взглядом Библе, крикнул:
— Не найдется ли охотника доплыть с перлинем до бурунов? Кто умеет плавать?
Ответа не последовало.
Никто из находившихся на борту не умел плавать, даже матросы, — явление, довольно обычное среди моряков.
Наполовину оторвавшийся от бортовой обшивки лонгкарлинс болтался на скрепах. Главарь шайки схватил его обеими руками и сказал:
— Помогите мне.
Лонг-карлинс оторвали совсем. Теперь им можно было пользоваться как угодно. Из орудия обороны он стал наступательным орудием.
Это было довольно длинное бревно, вырезанное из сердцевины дуба, крепкое и толстое, одинаково пригодное и для нападения и для упора; оно могло служить и рычагом для подъема груза и тараном для разрушения башни.
— Становись! — крикнул главарь.
Все шестеро, выстроившись в ряд и упершись изо всех сил в обломок мачты, держали лонг-карлинс горизонтально за бортом, как копье, направленное в ребро утеса.
Это был опасный маневр. Атаковать гору — дерзость немалая. Все шестеро могли быть сброшены в воду обратным толчком.
Борьба с бурей чревата неожиданностями. Вслед за штормом — риф. На смену ветру — гранит. Приходится иметь дело то с неуловимым, то с несокрушимым.
Наступила одна из тех минут, когда у людей сразу седеют волосы.
Риф и судно должны были вступить друг с другом в схватку.
Утес терпелив. Он спокойно выжидал этого мгновения.
Набежала волна и положила конец ожиданию. Она подхватила судно снизу, приподняла его на своем гребне и с минуту раскачивала, как праща раскачивает камень.
— Смелей! — крикнул главарь. — Ведь это всего только утес, а мы — люди!
Бревно держали наготове. Все шесть человек как бы срослись с ним. Острые шипы лонг-карлинса врезались им в подмышки, но никто не почувствовал боли.
Волна швырнула урку на скалу.
Столкнувшись, они окрылись в бесформенном облаке пены, которое всегда готово скрыть от взоров такие столкновения.
Когда пенное облако скатилось в море и волна отхлынула от утеса, все шесть человек лежали на палубе; но «Матутина» уже огибала буруны. Бревно выдержало испытание, и толчок повлек за собой изменение курса. В несколько секунд урка, унесенная бешеным течением, оставила Каскеты далеко позади себя. «Матутина» на время оказалась вне опасности.
Такие случаи нередки. Удар бушприта о скалу спас от гибели Вуда де Ларго в устье Тея. В опасном месте, близ мыса Уинтертона, оттолкнувшись ганшпугом от страшного Браннодумского утеса, капитан Гамильтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна «Ройял Мери», хотя это был хрупкий фрегат шотландского типа. Волна — сила, подверженная мгновенному спаду, который делает если не легким, то во всяком случае возможным перемену галса, даже при сильнейшем толчке. В буре есть что-то животное: ураган — как бык: его можно ввести, в обман.
Перейти от движения по секущей к движению по касательной — вот весь секрет того, как избегнуть кораблекрушения.
Именно такую услугу и оказал судну лонг-карлинс. Он сыграл роль весла, он заменил собою руль. Но этим спасительным маневром можно было воспользоваться лишь однажды; повторить его уже было невозможно: бревно унесло в море. Силою толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лонг-карлинс значило бы расшатать самый кузов.
Ураган снова подхватил «Матутину». Через мгновение Каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной грудой камней. В подобных случаях у рифов бывает смущенный вид. В природе, еще далеко не изученной нами до конца, зримое как будто находит свое дополнение в незримом, и скалы угрюмо смотрят неподвижным взглядом вам вслед, негодуя, что добыча вырвалась у них из рук.
Именно так выглядели Каскеты, когда от них убегала «Матутина».
Маяк, отступая назад, бледнел, тускнел, затем пропал из глаз.
Его исчезновение вселило тоску. Густая пелена тумана заволокла растекавшийся во мгле багровый свет. Его лучи растворились в необъятности водной стихии. Пламя побарахталось немного на волнах, пытаясь еще бороться, потом поникло, нырнуло, как будто пошло ко дну. Костер превратился в огарок, еле мерцавший бледным огоньком. Вокруг него расплывалось кольцо мутного сияния, точно на дне пучины мрака кто-то раздавил ногой горящий светильник.
Умолк колокол, звучавший угрозой. Исчез из виду маяк, предостерегавший об опасности. Однако, когда тот и другой остались позади, беглецов объял еще больший ужас. Колокол был голосом, маяк был факелом. В них было нечто человеческое. Без них оставалась одна лишь пучина.
Глава 20
Лицом к лицу с мраком ночи
Урку снова захлестнули волны беспредельного мрака. Благополучно миновав Каскеты, «Матутина» теперь перепрыгивала с гребня на гребень бушующих волн. Отсрочка развязки среди хаоса. Урка металась из стороны в сторону, воспроизводя своими движениями безумные взлеты пенистых валов. Она почти совсем не испытывала килевой качки — грозный признак агонии судна. Потерпевшие аварию суда подвержены лишь боковой качке. Килевая же — судороги борьбы. Только руль может повернуть судно против ветра.
Во время бури, особенно во время снежной бури, море и мрак в конце концов сливаются воедино и образуют одно неразрывное целое. Туман, метель, ветер, бесцельное кружение, отсутствие всякой опоры, невозможность выправить свой курс, сделать хотя бы короткую передышку, падение из одного провала в другой, полное исчезновение видимого горизонта, безнадежное движение вслепую — вот к чему свелось плавание урки.
Выбраться благополучно, из Каскетов, миновать рифы было для несчастных беглецов подлинной победой. Но эта победа повергла их в оцепенение. Они уже не приветствовали ее криками «ура»; в море не позволяют себе дважды такой неосторожности. Бросать вызов там, где не рискуешь бросать лот, — опасно.
Оттолкнуться от рифа значило осуществить невозможное. Это ошеломило гибнущих. Мало-помалу, однако, в их сердцах пробудилась надежда. Человеческая душа всегда склонна уповать на чудо. Нет такого отчаянного положения, при котором в самый критический момент из глубины души не подымалась бы заря надежды. Несчастные так жаждали сказать себе: «Спасены!» У них уже готово было сорваться это слово.
Но вдруг во мраке ночи с левой стороны судна выросла какая-то чудовищная громада. Из тумана выступила и четко обозначилась высокая черная отвесная скала с прямыми углами — четырехугольная башня, возникшая из бездны.
Они смотрели на нее, пораженные.
Шторм гнал их прямо на нее.
Они не знали, что это такое. Это была скала Ортах.
Глава 21
Ортах
Опять начинались рифы. После Каскетов — Ортах. Буря не блещет фантазией: она груба, могуча и прибегает всегда к одним и тем же приемам.
Мрак неисчерпаем. Он вероломно таит в себе неисчислимые ловушки и козни. Человек же быстро расходует все свои средства. Человек выдыхается; бездна неистощима.
Глаза погибающих обратились к главарю, к единственному их защитнику. Но он только пожал плечами с угрюмым презрением к собственному бессилию.
Ортах — исполинский булыжник, поставленный дыбом посреди океана. Ортахский риф, представляющий собою сплошной массив, возвышается на восемьдесят футов над бушующими волнами. О него разбиваются и морские валы и корабли. Неподвижный гранитный куб отвесно погружает свои прямолинейные грани в бесчисленные змеиные извивы волнующегося моря.
Ночью его можно принять за огромную плаху, придавившую собой складки черного сукна на помосте. В бурю он ждет удара топора, или, что то же, удара грома. Грома, однако, при снежной буре не бывает. Правда, ночная темнота вполне заменяет для корабля повязку на глазах. Его ждет плаха, как осужденного на казнь преступника. Но на молнию, убивающую сразу, он не должен возлагать никаких надежд.
«Матутина», жалкая игрушка волн, понеслась навстречу этому утесу, как незадолго перед тем мчалась к другому рифу. Несчастные, уже считавшие себя спасенными, снова впали в отчаяние. Перед ними вновь возникал призрак кораблекрушения, который они оставили позади. Со дна моря опять вынырнул риф. Оттолкнувшись от скалы, они ничего не добились.
Каскеты — вафельница со множеством углублений; Ортах — сплошная стена. Потерпеть аварию у Каскетов — значит быть растерзанным на части; потерпеть аварию у Ортаха — значит быть расплющенным.
И все-таки у находившихся на борту урки была еще возможность спастись.
От отвесной скалы — а Ортах именно такая скала — волна не отскакивает рикошетом, подобно пушечному ядру. Она соскальзывает вниз. Это похоже на прилив и отлив. Она налетает валом, а отступает зыбью. В подобных случаях вопрос о жизни и смерти решается следующим образом: если вал бросит судно на скалу, оно разобьется вдребезги; если же волна отхлынет раньше, чем корабль достиг скалы, он окажется спасенным.
Сердце сжимала мучительная тревога. Погибавшие уже различали в полумраке приближение девятого вала.
Как далеко он увлечет их? Если волна ударит в борт, их отбросит к самому рифу, и тогда смерть неизбежна. Если же она пройдет под килем…
Волна прошла под килем.
Они облегченно вздохнули.
Но что будет с ними, когда она вернется? Куда умчит их отхлынувшая волна?
Волна умчала их в море.
Несколько минут спустя «Матутина» была уже далеко от рифа. Ортах постепенно скрывался из виду, как перед тем исчезли из виду Каскеты.
Вторая победа. Уже во второй раз урка была на краю гибели и счастливо избежала ее.
Глава 22
Portentosum mare — море ужаса
Между тем густой туман со всех сторон окутал несчастных, носившихся по прихоти волн. Они не знали, где они. Они едва различали, что происходит на расстоянии нескольких кабельтовых от урки. Несмотря на крупный град, заставлявший всех наклонять головы, даже женщины упорно отказывались спуститься в каюту. Всякий, кто терпит бедствие на море, предпочитает погибнуть под открытым небом. Когда смерть так близка, потолок над головой начинает казаться крышкой гроба.
Волны, вздымаясь все выше и выше, вместе с тем становились короче. Нагромождение валов свидетельствует о том, что им приходится прорываться сквозь теснины: такое бурление волн всегда указывает на близость узкого пролива. Действительно, беглецы, сами не догадываясь о том, огибали Ориньи. Между Ортахом и Каскетами на западе и Ориньи на востоке море сжато двойным рядом утесов. И там, где ему тесно, оно бурлит. Море, как и все на свете, не избавлено от страданий, и в тех местах, где оно испытывает боль, оно особенно яростно. Такой фарватер опасен для судов.
«Матутина» вступила в этот узкий проход.
Представьте себе под водою щит черепахи величиною с Гайд-Парк или с Елисейские Поля, на котором каждая бороздка была бы мелким протоком, а каждая выпуклость — скалой. Таковы подступы к Ориньи с запада. Море прикрывает и прячет эту западню для кораблей. Дробясь об острые грани подводных камней, волны скачут и пенятся. В тихую погоду это лишь плеск, но в бурю это хаос.
Люди на судне почуяли какую-то новую опасность, хотя не сразу могли ее себе объяснить. Вдруг они все поняли. Небо в зените немного посветлело, на море пал бледный тусклый свет, и с левого борта на востоке показалась длинная гряда утесов, на которую гнал урку вновь усилившийся ветер. Эта гряда была Ориньи.
Что представляла собою эта преграда? Они задрожали от ужаса. Они ужаснулись бы гораздо больше, если бы кто-нибудь сказал им, что это Ориньи.
Нет острова более недоступного для человека, чем Ориньи. И над водой и под водой его охраняет свирепая стража, передовым постом которой является Ортах.
На западе — Бюру, Сотерьо, Анфрок, Ниангль, Фон-дю-Крок, Жюмель, Гросс, Кланк, Эгийон, Врак, Фосс-Мальер; на востоке — Сокс, Омо, Флоро, Бринбете, Келенг, Кроклиу, Фурш, Со, Нуар-Пют, Купи, Орбю. Что это за чудовища? Гидры? Да, из породы рифов.
Один из этих утесов называется Бю (цель), словно в знак того, что здесь конец всякому странствованию.
Это нагромождение рифов, слитых воедино мраком и водою, предстало взорам погибающих в виде сплошной черной полосы, как бы перечеркнувшей собою горизонт.
Кораблекрушение — высшая степень беспомощности. Находиться близ земли и не быть в состоянии достигнуть ее; носиться по волнам и не иметь возможности выбрать направление; опираться на нечто кажущееся твердым, но на самом деле зыбкое и хрупкое, быть одновременно полным жизни и полным смерти; быть узником неизмеримых пространств, заточенным между небом и океаном; ощущать над собою бесконечность сводами темницы; быть окруженным со всех сторон буйным разгулом ветров и быть схваченным, связанным и парализованным — такое состояние подавляет и рождает возмущение. Кажется, слышишь издевательский хохот незримого противника. Тебя сковывает именно то, что помогает птицам расправить крылья, а рыбам свободно двигаться. На первый взгляд это ничто, а между тем это все. Зависишь от того самого воздуха, который колеблешь своим дыханием, от той самой воды, которую можешь зачерпнуть в ладонь. Набери полный стакан этой бурной влаги и выпей ее, и ты ощутишь только горечь во рту. Глоток ее вызывает лишь тошноту, волна же может погубить. Песчинка в пустыне, клочок пены в океане — потрясающие феномены; всемогущая природа не считает нужным скрывать свои атомы; она превращает слабость в силу, наполняет собою ничтожное и из бесконечно малого образует бесконечно великое, уничтожающее человека. Океан сокрушает нас своими каплями. Чувствуешь себя его игрушкой.
Игрушкой — какое страшное слово!
«Матутина» находилась чуть-чуть повыше Ориньи, и это было благоприятным обстоятельством, но ее относило к северной оконечности гряды, а это угрожало роковой развязкой. Северо-западный ветер гнал урку со стремительностью стрелы, выпущенной из туго натянутого лука. У этого мыса, немного не доходя до гавани Корбеле, есть место, которое моряки Нормандского архипелага прозвали «обезьяной».
«Обезьяна» — swinge — это бешеное течение. Ряд воронкообразных углублений в отмелях вызывает на поверхности океана ряд водоворотов. Только вы выбрались из одного, как вас подхватывает другой. Судно, попав в лапы «обезьяны», вертится, перебрасываемое от спирали к спирали, пока не напорется кузовом на острый утес. Получив пробоину, корабль останавливается, вздернув корму выше волн, носом погрузившись в воду, водоворот кружит его в последний раз, корма скрывается под водой, и пучина засасывает судно. Островок пены расширяется, тает, и вскоре на поверхности моря остается лишь несколько пузырьков, свидетельствующих о том, что люди задохнулись под водой.
Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трех местах: один по соседству с пресловутой песчаной мелью Гердлер-Сендс, другой возле Джерси, между Пиньонэ и мысом Нуармон, и третий близ Ориньи.
Если бы на борту «Матутины» находился местный лоцман, он предупредил бы об этой новой опасности. За отсутствием лоцмана несчастным приходилось руководствоваться инстинктом: в критические минуты у человека появляется нечто вроде второго зрения. Яростный ветер вздымал на воздух целые каскады пены и разносил их вдоль всего побережья. Это плевалась «обезьяна». Множество судов погибло в этой ловушке. Беглецы с ужасом приближались к этому месту, хотя и не знали, что оно собой представляет.
Как обогнуть грозный мыс? Это невозможно.
Так же, как перед ними ранее выросли, Каскеты, а затем Ортах, теперь им предстали высокие скалы Ориньи. Один великан вслед за другим. Ряд ужасных поединков.
Сцилла и Харибда — их было только две; Каскеты, Ортах и Ориньи — это три противника.
Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величавым однообразием, на какое способна только бездна. В битвах с океаном, так же как в гомеровских битвах, встречаются повторения.
С каждой волной, приближавшей их к мысу, громада его, и без того чудовищно разросшаяся в тумане, становилась выше на двадцать локтей. Расстояние между уркой и утесом сокращалось с угрожающей быстротой. Они уже находились на самой грани водоворота. Первая же струя должна была увлечь их безвозвратно. Еще одна волна, и все было бы кончено.
Вдруг урка отпрянула назад, словно под ударом чудовищного кулака. Волна вздыбилась под килем судна, затем опрокинулась и отшвырнула урку, обдав ее облаком пены. Этим толчком «Матутину» отбросило от Ориньи.
Она снова очутилась в открытом море.
Кто же пришел на помощь урке? — Ветер.
Шторм внезапно изменил направление.
До сих пор беглецы были игралищем волн, теперь они стали игралищем ветра. Из Каскетов они выбрались сами. От Ортаха их спасла волна. От Ориньи их отогнал ветер.
Северо-западный ветер сразу сменился юго-западным.
Течение — это ветер в воде; ветер — это течение в воздухе: две силы столкнулись, и ветру вздумалось вырвать у течения его добычу.
Внезапные причуды океана непостижимы: это бесконечное «а вдруг». Когда всецело находишься в его полной власти, нельзя ни надеяться, ни отчаиваться. Он создает и вновь разрушает. Океан забавляется. Этому необъятному угрюмому морю, которое Жан Барт называл «грубой скотиной», свойственны все черты хищника. Оно то выпускает острые когти, то прячет их в бархатных лапах. Иногда буря топит судно походя, на скорую руку, иногда как бы тщательно обдумывает кораблекрушение, можно оказать — лелеет каждую мелочь. У моря времени достаточно. В этом уже не раз убеждались его жертвы!
Порою, кстати сказать, отсрочка казни знаменует собою предстоящее помилование. Но такие случаи редки. Как бы то ни было, погибающим на море недолго поверить в свое спасение: стоит только буре немного утихнуть, и им уже мнится, что опасность миновала. После того как они считали себя погребенными на дне морском, они с лихорадочной поспешностью хватаются за то, что им еще не даровано: все дурное уже пережито, никаких сомнений, они вполне удовлетворены, они спасены, им уже ничего не нужно от бога. Не следует слишком торопиться с выдачей Неведомому расписок в окончательном расчете с ним.
Юго-западный ветер начался вихрем. Тот, кто оказывает помощь терпящим кораблекрушение, обычно не церемонится. Шквал, ухватив «Матутину» за обрывки парусов, как хватают за волосы утопленницу, стремительно поволок ее в открытое море. Это напоминало великодушие Тиберия, даровавшего свободу пленницам ценой их бесчестья. Ветер беспощадно обрушивался на тех, кого спасал. Он оказывал им эту услугу с бешеной злобой. Это была помощь, не знавшая жалости…
После столь жестокого спасения урка окончательно стала обломком.
Крупные градины, величиною с мушкетную пулю и не уступавшие ей в твердости, казалось, готовы были изрешетить судно. При каждом крене градины перекатывались по палубе, как свинцовые шарики дроби. Урка, терзаемая сверху и снизу водной стихией, чуть виднелась из-под перехлестывавших через нее волн и каскадов пены. На судне каждый думал только о себе.
Люди хватались за что попало. После каждой очередной встряски они с удивлением оглядывались, видя, что никого не унесло в море. У многих лица были исцарапаны разлетавшимися во все стороны щепками.
К счастью, отчаяние во много крат увеличивает силы человека. Рука объятого ужасом ребенка не слабее руки великана. В минуты смертельного страха пальцы женщин превращаются в настоящие тиски; молодая девушка способна тогда вонзить свои розовые ноготки даже в камень. Погибающие изо всех сил старались удержаться на месте. Но каждая волна грозила смыть их с палубы.
Вдруг они снова вздохнули с облегчением.
Глава 23
Загадочное затишье
Ураган внезапно утих.
Ни северного, ни южного ветра уже не было в помине. Смолк бешеный вой бури. Без всякого перехода, без малейшего ослабления смерч в одно мгновение куда-то исчез, точно провалился в бездну. И не сообразить было, куда он девался. Вместо градин в воздухе опять замелькали белые хлопья. Снова начал медленно падать снег.
Волнение улеглось. Море стало гладким, как скатерть.
Снежным бурям свойственно такое внезапное затишье. Как только прекращается электрический ток, все успокаивается, даже волны, которые после обыкновенных бурь некоторое время еще продолжают бушевать. Тут же наоборот — никаких следов недавней ярости. Как труженик после тяжкой работы, море сразу засыпает; это как будто идет вразрез с законами статики, но нисколько не удивляет старых моряков, знающих, что море полно всяких неожиданностей.
Подобные явления — правда, очень редко — имеют место и при обыкновенных бурях. Так, в наши дни во время памятного урагана, разразившегося 27 июля 1867 года над Джерси, ветер, неистовствовавший четырнадцать часов подряд, внезапно сменился мертвым штилем.
Несколько минут спустя вокруг урки простиралась бесконечная пелена сонных вод. Одновременно с этим — ибо последняя фаза бури похожа на первую — наступила полная темнота. Все, что удавалось разглядеть, пока снежные тучи еще клубились в небе, снова стало невидимым, бледные силуэты расплылись, растаяли, и беспредельный мрак опять со всех сторон окутал судно. Эта стена непроглядной ночи, это сплошное черное кольцо, эта внутренность полого цилиндра, ежеминутно сокращавшаяся, окружила «Матутину» и суживалась со зловещей медлительностью замерзающей полыньи. В зените — ни звезды, ни клочка неба: давящий, низко нависший потолок тумана. Урка очутилась как бы на дне глубокого колодца.
В этом колодце море казалось жидким свинцом. Вода застыла в суровой неподвижности. Никогда океан не бывает так угрюм, как в то время, когда он напоминает собою пруд.
Все было объято безмолвием, тишиной и глубоким мраком.
Тишина в природе бывает нередко грозным безмолвием.
Последние всплески улегшегося волнения изредка докатывались до бортов судна. Палуба, принявшая опять горизонтальное положение, лишь слегка накренялась то в одну, то в другую сторону. Кое-где еле заметно колыхались оборванные снасти. Висевшая вместо фонаря граната, в которой горела просмоленная пакля, уже не раскачивалась на бушприте, и с нее не стекали в море огненные капли. Ветерок, еще разгуливавший в облаках, не производил никакого шума. Густой рыхлый снег падал чуть-чуть косо. Уже не было слышно кипения волн у рифов. Могильная тишина.
После взрывов дикого отчаяния, пережитого несчастными, беспомощно носившимися по волнам, это внезапное затишье казалось невыразимым счастьем. Они решили, что настал конец их испытаниям. Все вокруг них и над ними как будто молча сговорилось спасти их. К ним опять вернулась надежда. Все, что за минуту перед тем было яростью, стало теперь спокойствием. Они сочли это верным признаком того, что мир заключен. Измученные люди вздохнули, наконец, полной грудью. Они могли теперь выпустить из рук обрывок каната или обломок доски, за которые до сих пор цеплялись, могли подняться, выпрямиться, стоять, ходить, двигаться. Неизъяснимое чувство покоя овладело ими. Во мраке бездны бывают иногда такие мгновения райского блаженства, служащие лишь подготовлением к чему-то иному. Было очевидно, что людям больше не угрожали ни шторм, ни пенящиеся валы, ни бешеные порывы ветра, — от всего этого они уже избавились.
Отныне все им благоприятствовало. Часа через три-четыре забрезжит заря, их заметит и подберет какое-нибудь встречное судно. Самое страшное осталось позади. Они возвращались к жизни. Самое важное достигнуто: им удалось продержаться на воде до прекращения бури. Они говорили себе: «Теперь уже конец».
Вдруг они убедились, что действительно пришел конец.
Один из матросов, уроженец Северной Бискайи, по имени Гальдеазун, спустился за канатом в трюм и, вернувшись, объявил:
— Трюм полон.
— Чего? — спросил главарь.
— Воды, — ответил матрос.
Главарь закричал:
— Что же это значит?
— Это значит, — ответил Гальдеазун, — что еще полчаса, и мы потонем.
Глава 24
Последнее средство
В днище оказалась пробоина. Судно дало течь. Когда это произошло? Никто не мог бы ответить на этот вопрос. Случилось ли это, когда их пригнало к Каскетам? Или когда они находились вблизи Ортаха? Или, может быть, когда их едва не затянуло в водоворот, к западу от Ориньи? Вероятнее всего, они вплотную подошли к «обезьяне», и там судно напоролось на острие подводного камня. Они не заметили толчка, так как их в это время швыряло ветром из стороны в сторону. В состоянии столбняка не чувствуешь уколов.
Другой матрос, уроженец Южной Бискайи, которого звали Аве-Мария, тоже спустился в трюм и, вернувшись, сообщил:
— Воды в трюме на два вара.
Это около шести футов.
Аве-Мария прибавил:
— Через сорок минут мы пойдем ко дну.
В каком именно месте днище дало течь? Пробоины не было видно, ее скрывала вода, наполнявшая трюм, она находилась под ватерлинией, где-то глубоко в подводной части урки. Отыскать ее было невозможно. Невозможно было ее и заделать. Где-то была рана, а перевязать ее было нельзя. Впрочем, вода прибывала не слишком быстро.
Главарь крикнул:
— Надо выкачивать воду!
Гальдеазун ответил:
— У нас больше нет насосов.
— Тогда, — воскликнул главарь, — надо плыть к берегу!
— А где он, берег?
— Не знаю.
— И я не знаю.
— Но где-нибудь да должен быть?
— Конечно.
— Пусть кто-нибудь ведет нас к берегу, — продолжал главарь.
— У нас нет лоцмана, — возразил Гальдеазун.
— Берись ты за румпель.
— У нас больше нет румпеля.
— Сделаем из первой попавшейся балки. Гвоздей! Молоток! Инструмент! Живо!
— Весь плотничный инструмент в воде, нет ничего.
— Все равно, будем как-нибудь править.
— Чем же править?
— Где шлюпка? В шлюпку! Будем грести!
— Нет шлюпки.
— Будем грести на урке.
— Нет весел.
— Тогда пойдем на парусах.
— У нас нет ни парусов, ни мачт.
— Сделаем мачту из лонг-карлинса, а парус из брезента. Выберемся отсюда, положимся на ветер.
— И ветра нет.
Действительно, ветер совсем улегся. Буря унеслась прочь, но затишье, которое они сочли своим спасением, было для них гибелью. Если бы юго-западный ветер продолжал дуть с прежней яростью, он пригнал бы их к какому-нибудь берегу раньше, чем трюм наполнился водою, или, быть может, выбросил бы их на песчаную отмель до того, как судно начало тонуть. Шторм помог бы им добраться до суши. Но не было ветра, не было и надежды. Они погибали, потому что ураган утих.
Положение становилось безвыходным.
Ветер, град, шквал, вихрь — необузданные противники, с которыми можно справиться. Над бурей удается одержать верх, ибо она недостаточно вооружена. С врагом, который беспрестанно сам разоблачает свои намерения, мечется без толку и зачастую допускает промахи, всегда можно найти средства борьбы. Но против штиля нет никакого орудия. Тут не за что ухватиться.
Ветры — это налет диких всадников; держитесь стойко, и ватага рассеется. Штиль — это клещи палача.
Вода, тяжелая и неодолимая, медленно, но безостановочно прибывала в трюме, и, по мере того как она поднималась, урка все глубже погружалась. Это совершалось очень медленно.
Находившиеся на «Матутине» чувствовали, как мало-помалу на них надвигается ужаснейшая гибель, гибель без борьбы. Ими овладела зловеще-спокойная уверенность в неизбежном торжестве слепой стихии. В воздухе не было ни малейшего дуновения, на воде — ни малейшей ряби. В неподвижности кроется что-то неумолимое. Пучина поглощала их в полном безмолвии. Сквозь слой немотствующей воды безгневно, бесстрастно, бесцельно, безотчетно и безучастно их притягивал к себе центр земного шара. Пучина засасывала их среди полного затишья. Уже не было ни разверстой пасти волн, ни злобно угрожавших челюстей шквала и моря, ни зева смерча, ни валов, вскипавших пеной в предвкушении добычи; теперь несчастные видели перед собой черное зияние бесконечности. Они чувствовали, что погружаются в спокойную глубину, которая была не что иное, как смерть. Расстояние от борта до воды постепенно уменьшалось — только и всего. Можно было точно рассчитать, через сколько минут оно исчезнет совсем. Это было зрелище, прямо противоположное зрелищу наступающего прилива. Не вода поднималась к ним, а они опускались к ней. Они сами рыли себе могилу. Их могильщиком была их собственная тяжесть.
Им готовилась казнь не по людским законам, но по законам природы.
Снег все шел, и так как тонущее судно не двигалось, эта белая корпия пеленой ложилась на палубу, точно саваном покрывая урку.
Трюм постепенно наполнялся водой. Не было никаких средств остановить течь. У них не было даже черпака, который, впрочем, не мог бы принести никакой пользы — урка была палубным судном. Тремя-четырьмя факелами, воткнутыми куда попало, осветили трюм. Гальдеазун принес несколько старых кожаных ведер; решили отливать воду из трюма, образовали цепь. Но ведра оказались никуда не годными: одни расползлись по швам, у других было дырявое дно, и вода выливалась из них по дороге. Несоответствие между количеством воды прибывавшей и вычерпываемой казалось прямым издевательством. Прибывала целая бочка, убывал один стакан. Все старания не приводили ни к чему. Это напоминало усилия скупца, который пытается израсходовать миллион, тратя ежедневно по одному су.
Главарь сказал:
— Нужно облегчить судно.
Во время бури несколько сундуков, находившихся на палубе, канатами привязали к мачте. Они так и остались принайтовленными к ее обломку. Теперь найтовы развязали и столкнули сундуки в воду через брешь в обшивке борта. Один из этих сундуков принадлежал уроженке Бискайи: у бедной женщины вырвалось горестное восклицание:
— Ах, ведь там мой новый плащ на красной подкладке! И мои кружевные чулки! И серебряные сережки, в которых я ходила к обедне в богородицын день!
Палубу очистили, оставалась каюта. Она была доверху загромождена. В ней, как помнит читатель, находился багаж пассажиров и тюки, принадлежавшие матросам.
Багаж вытащили и выкинули за борт через ту же брешь.
Тюки также столкнули в море.
Принялись до конца опоражнивать каюту. Фонарь, эзельгофт, бочонки, мешки, баки, бочки с пресной водой, котел с похлебкой — все полетело в воду.
Отвинтили гайки у чугунной печки, уже давно потухшей, сняли ее с цементной подставки, подняли на палубу, дотащили до бреши и бросили за борт.
Выкинули в море все, что можно было оторвать от внутренней обшивки, выбросили ридерсы, ванты, обломки мачты и реи.
Время от времени главарь шайки брал факел и освещал цифры на носу урки, показывающие глубину осадки, стараясь определить, сколько еще продержится судно.
Глава 25
Крайнее средство
Избавившись от груза, «Матутина» стала погружаться немного медленнее, но все же продолжала погружаться.
Положение было отчаянное: ни на что уже не приходилось надеяться. Последнее средство было исчерпано.
— Нет ли там еще чего, что можно было бы бросить в море? — выкрикнул главарь.
Доктор, о котором все теперь позабыли, вышел из рубки и сказал:
— Есть.
— Что именно? — спросил начальник.
Доктор ответил:
— Наше преступление.
Все вздрогнули и в один голос воскликнули:
— Аминь!
Доктор весь вытянулся, мертвенно бледный, и, указав рукой на небо, произнес:
— На колени!
Они качнулись, собираясь пасть ниц.
Доктор продолжал:
— Бросим а море наши преступления. Они — наша главная тяжесть. Из-за них судно идет ко дну. Нечего больше думать о спасении жизни, подумаем лучше о спасении души. Слушайте, несчастные: тяжелее всего наше последнее преступление — то, которое мы сейчас совершили, или, вернее, довершили. Нет более дерзкого кощунства, как искушать пучину, имея на совести предумышленное убийство. То, что содеяно против ребенка, — содеяно против бога. Уехать было необходимо, знаю, но это была верная погибель. Тень, отброшенная нашим черным делом, навлекла на нас бурю. Так и должно быть. Впрочем, жалеть нам не о чем. Тут, неподалеку от нас, в этой непроглядной тьме, Вовильские песчаные отмели и мыс Гуг. Это — Франция. Для нас оставалось только одно убежище — Испания. Франция для нас не менее опасна, чем Англия. Избежав гибели на море, мы попали бы на виселицу. Либо потонуть, либо быть повешенным — другого выбора у нас не было. Бог сделал выбор за нас. Возблагодарим же его. Он дарует нам могилу в пучине моря, которая смоет с нас грехи. Братья мои, это было неизбежно. Подумайте, ведь мы сами только что сделали все от нас зависящее, чтобы погибло невинное существо, ребенок, и, быть может, в эту самую минуту в небе, над нашими головами, его чистая душа обвиняет нас перед лицом судии, взирающего на нас. Воспользуемся же последней отсрочкой. Постараемся, если только это еще возможно, исправить в пределах, нам доступных, содеянное нами зло. Если ребенок нас переживет, придем ему на помощь. Если он умрет, приложим все усилия к тому, чтобы заслужить его прощение. Снимем с себя тяжесть преступления. Освободимся от бремени, гнетущего нашу совесть. Постараемся, чтобы наши души не были отвергнуты богом, ибо это было бы самой ужасной гибелью. Наши тела тогда достались бы рыбам, а души — демонам. Пожалейте самих себя! На колени, говорю вам! Раскаяние — ладья, которая никогда не идет ко дну. У вас нет больше компаса? Вы заблуждаетесь. Ваш компас — молитва.
Волки превратились в ягнят. Такие превращения происходят в минуты безысходного отчаяния. Бывают случаи, что и тигры лижут распятие. Когда приоткрывается дверь в неведомое, верить — трудно, не верить — невозможно. Как бы ни были несовершенны попытки существовавших и существующих религий измыслить картину загробного мира, но даже и тогда, когда вера человека носит неопределенный характер и предлагаемые ему догматы никак не согласуются с его смутными представлениями о вечности, все-таки в последнюю минуту невольный трепет овладевает его душой. За порогом жизни нас ждет что-то неведомое. Это и угнетает нас перед лицом смерти.
Час смерти — время расплаты. В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть лежащей на них ответственности. То, что было, усложняет собою то, чему предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Все изведанное предстоит взору такой же бездной, как и неизведанное, и обе эти пропасти, одна — исполненная заблуждений, другая — ожидания, взаимно отражаются одна в другой. Это слияние двух пучин повергает в ужас умирающего.
Беглецы утратили последнюю надежду на спасение здесь, в земной жизни. Потому-то они и повернулись в противоположную сторону. Только там, во мраке вечной ночи, они еще могли уповать на что-то. Они это поняли. Это было скорбным просветлением, за которым сразу же снова последовал ужас. То, что постигаешь в минуту кончины, похоже на то, что видишь при вспышке молнии. Сначала — все, затем — ничего. И видишь, и вместе с тем не видишь. После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем.
Они воскликнули, обращаясь к доктору:
— Ты! Ты! Ты один теперь у нас. Мы исполним все, что ты велишь. Что нужно делать? Говори!
Доктор ответил:
— Нужно перешагнуть неведомую бездну и достигнуть другого берега жизни, по ту сторону могилы. Я знаю больше всех вас, и наибольшая опасность угрожает мне. Вы поступаете правильно, предоставляя выбор моста тому, кто несет на себе самое тяжелое бремя.
И он прибавил:
— Сознание содеянного зла гнетет совесть.
Потом спросил:
— Сколько времени нам еще остается?
Гальдеазун взглянул на цифры, показывающие глубину осадки, и ответил:
— Немного больше четверти часа.
— Хорошо, — промолвил доктор.
Низкая крыша рубки, на которую он облокотился, представляла собою нечто вроде стола. Доктор вынул из кармана чернильницу, перо и бумажник, вытащил из него пергамент, тот самый, на котором несколько часов назад он набросал строк двадцать своим неровным, убористым почерком.
— Огня! — распорядился он.
Снег, падавший безостановочно, как брызги пены водопада, погасил один за другим все факелы, кроме одного. Аве-Мария выдернул этот факел из гнезда и, держа его в руке, стал рядом с доктором.
Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышу рубки чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал:
— Слушайте.
И вот среди моря, на неуклонно оседавшем остове судна, похожем на шаткий настил над зияющей могилой, доктор с суровым лицом приступил к чтению, которому, казалось, внимал весь окружавший их мрак. Осужденные на смерть, склонив головы, обступили старика. Пламя факела подчеркивало бледность их лиц. То, что читал доктор, было написано на английском языке. Временами, поймав на себе чей-либо жалобный взгляд, молча просивший разъяснения, доктор останавливался и переводил только что прочитанное на французский, испанский, баскский или итальянский языки. Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонущее судно продолжало погружаться в воду.
Когда чтение было окончено, доктор разложил пергамент на крыше рубки, взял перо и на оставленном для подписей месте под текстом вывел свое имя: «Доктор Гернардус Геестемюнде».
Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал:
— Подойдите и подпишитесь.
Первой подошла уроженка Бискайи, взяла перо и подписалась: «Асунсион».
Затем передала перо ирландке, которая, будучи неграмотной, поставила крест.
Доктор рядом с крестом приписал: «Барбара Фермой, с острова Тиррифа, что в Эбудах».
Потом протянул перо главарю шайки.
Тот подписался: «Гаиздорра, капталь».
Генуэзец вывел под этим свое имя: «Джанджирате».
Уроженец Лангедока подписался: «Жак Катурз, по прозванию Нарбоннец».
Провансалец подписался: «Люк-Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы».
Под этими подписями доктор сделал примечание:
«Из трех человек, составлявших экипаж урки, судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже».
Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец Северной Бискайи подписался: «Гальдеазун». Уроженец Южной Бискайи подписался: «Аве-Мария, вор».
Покончив с этим делом, доктор кликнул:
— Капгаруп!
— Есть, — отозвался провансалец.
— Фляга Хардкванона у тебя?
— Да.
— Дай-ка ее мне.
Капгаруп выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору.
Вода в трюме прибывала с каждой минутой. Судно все больше и больше погружалось в море.
Скошенная к краям палуба медленно затоплялась плоской, постепенно возраставшей волной.
Все сбились в кучу на изгибе палубы.
Доктор просушил на пламени факела еще влажные подписи, сложил пергамент тонкой трубкой, чтобы он мог пройти в горлышко фляги, и всунул его внутрь. Потом потребовал:
— Пробку!
— Не знаю, где она, — ответил Капгаруп.
— Вот обрывок гинь-лопаря, — предложил Жак Катурз.
Доктор заткнул флягу кусочком несмоленого троса и Приказал:
— Смолы!
Гальдеазун отправился на нос, погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с форштевня и принес его доктору: граната была до половины наполнена кипящей смолой.
Доктор погрузил горлышко фляги в смолу, затем вынул его оттуда. Теперь фляга, заключавшая в себе подписанный всеми пергамент, была закупорена и засмолена.
— Готово, — сказал доктор.
И в ответ из уст всех присутствующих вырвался невнятный разноязыкий лепет, походивший на мрачный гул катакомб:
— Да будет так!
— Mea culpa![370]
— Asi sea![371]
— Aro rai![372]
— Amen![373]
Восклицания потонули во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба, отказывавшегося внимать им.
Доктор повернулся спиною к своим товарищам по преступлению и несчастью и сделал несколько шагов к борту. Подойдя к нему вплотную, он устремил взор в беспредельную даль и с чувством произнес:
— Со мной ли ты?
Он обращался, вероятно, к какому-то призраку.
Судно оседало все ниже и ниже.
Позади доктора все стояли, погруженные в свои думы. Молитва — неодолимая сила. Они не просто склонились в молитве, они словно сломились под ее тяжестью. В их раскаянии было нечто непроизвольное. Они беспомощно никли, как никнет в безветрие парус, и мало-помалу эти сбившиеся в кучу суровые люди с опущенными головами и молитвенно сложенными руками принимали, хотя и по-разному, сокрушенную позу отчаяния и упования на божью милость. Быть может, то было отсветом разверзавшейся перед ними пучины, но на эти разбойничьи лица теперь легла печать спокойного достоинства.
Доктор снова подошел к ним. Каково бы ни было его прошлое, этот старик в минуту роковой развязки казался величественным. Безмолвие черных пространств, окружавших корабль, хотя и занимало его мысли, но не повергало в смятение. Этого человека нельзя было застигнуть врасплох. Спокойствия его не мог нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие бога.
В облике этого старика, этого углубленного в свои мысли преступника, была торжественность пастыря, хотя он об этом и не подозревал.
Он промолвил:
— Слушайте!
И, посмотрев с минуту в пространство, прибавил:
— Пришел наш смертный час.
Взяв факел из рук Аве-Марии, он взмахнул им в воздухе.
Стая искр оторвалась от пламени, взлетела и рассеялась во тьме.
Доктор бросил факел в море.
Факел потух. Последний свет погас, воцарился непроницаемый мрак. Казалось, над ними закрылась могила.
И в этой темноте раздался голос доктора:
— Помолимся!
Все опустились на колени.
Теперь они стояли уже не на снегу, а в воде.
Им оставалось жить лишь несколько минут.
Один только доктор не преклонил колея. Снежные хлопья падали, усеивая его фигуру белыми, похожими на слезы, звездочками и выделяя ее на черном фоне ночи. Это была говорящая статуя мрака.
Он перекрестился и возвысил голос, меж тем как палуба у него под ногами уже начала вздрагивать толчками, предвещающими близость момента окончательного погружения судна в воду. Он произнес:
— Pater noster qui es in coelis[374].
Провансалец повторил это по-французски:
— Notre pere qui etes aux cieux.
Ирландка повторила на своем языке, понятном уроженке Бискайи:
— Ar nathair ata ar neamh.
Доктор продолжал:
— Sanctificetur nomen tuum[375].
— Que votre nom soit sanctifie, — перевел провансалец.
— Naomhthar hainm, — сказала ирландка.
— Adveniat regnum tuum[376], — продолжал доктор.
— Que votre regne arrive, — повторил провансалец.
— Tigeadh do rioghachd, — подхватила ирландка.
Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч.
Доктор продолжал:
— Fiat voluntas tua[377].
— Que votre volonte soil faite, — пролепетал провансалец.
У обеих женщин вырвался вопль:
— Deuntar do thoil ar an Hhalamb!
— Sicut in coelo, et in terra[378], — произнес доктор.
Никто не отозвался.
Он посмотрел вниз. Все головы были под водой. Никто не встал. Стоя на коленях, они без сопротивления дали воде поглотить себя.
Доктор взял в правую руку флягу, стоявшую на крышке рубки, и поднял ее над головой.
Судно шло ко дну.
Погружаясь в воду, доктор шепотом договаривал последние слова молитвы.
С минуту над водой виднелась еще его грудь, потом только голова, наконец лишь рука, державшая флягу, как будто он показывал ее бесконечности.
Но вот исчезла и рука. Поверхность моря стала гладкой, как у оливкового масла, налитого в бочку. Все падал и падал снег.
Какой-то предмет вынырнул из пучины и во мраке поплыл по волнам. Это была засмоленная фляга, державшаяся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.
Часть III. Ребёнок во мраке
Глава 26
Чесс-Хилл
На суше буря свирепствовала не меньше, чем на море.
Та же дикая ярость окружала и покинутого ребенка. Слабым и неискушенным приходится самим изыскивать способы борьбы с бешеным разгулом слепой стихии; мрак не делает различий; природа вовсе не так милосердна, как это предполагают.
Правда, на берегу почти не чувствовалось ветра; в холоде была какая-то странная неподвижность. Града не было. Но шел невероятно густой снег.
Град бьет, колотит, ранит, оглушает, разрушает, но снежные хлопья хуже града. Мягкие неумолимые снежинки делают свое дело втихомолку. Если до них дотронуться — они тают. Их чистота — то же, что искренность лицемера. Ложась слой за слоем, снежинки вырастают в лавину; нагромождая обман на обман, лицемер доходит до преступления.
Ребенок продолжал идти вперед в сплошном тумане. Туман на первый взгляд представляется легко преодолимым препятствием, но в этом-то и заключается его опасность: он отступает, но не рассеивается; так же как в снеге, в тумане есть нечто предательское. Ребенку, которому по странной прихоти судьбы приходилось бороться со всеми этими опасностями, удалось достигнуть конца спуска и выйти на Чесс-Хилл. Сам того не зная, он находился теперь на перешейке; по обеим сторонам от него простирался океан: достаточно было ему в ночном тумане и снежной метели сделать несколько неверных шагов, и он, ступив направо, упал бы в глубокие воды залива, а свернув налево — в бушующие волны открытого моря. Он шел, не подозревая о том, что идет между двумя безднами.
В те времена Портлендский перешеек имел необычайно суровый и дикий вид. Теперь этот перешеек уже ничем не напоминает то, чем он был прежде. С тех пор как из портлендского камня стали делать романский цемент, всю скалу изрыли сверху донизу, совершенно изменив этим ее первоначальный вид. Правда, там и в наши дни еще попадаются известняки нижнеюрской формации, сланцы и траппы, выступающие из пластов смешанных пород, точно зубы из десен; но кирка разрыла и сровняла с землей эти остроконечные каменистые холмы, на которых вили свои безобразные гнезда стервятники. Нет уже вершин, куда могли бы слетаться поморники и хищные чайки, любящие, подобно завистливым людям, грязнить все высокое. Напрасно стали бы там искать и исполинский монолит, прозванный Годольфином, что на древневаллийском языке означает «белый орел». Летом на этой изрытой и пористой, как губка, почве еще находят розмарин, мяту, дикий иссоп, морокой укроп, настой которого служит хорошим укрепляющим средством, и узловатую траву, растущую прямо на песке и употребляемую для изготовления циновок; но там уже не увидишь ни серой амбры, ни черного олова, ни трех разновидностей сланца — зеленого, голубого и цвета шалфейных листьев. Исчезли лисицы, барсуки, выдры, куницы; на скалистых уступах Портленда, так же как и на высотах Корнуэла, водились прежде серны; теперь их больше нет. В некоторых местах еще ловят палтусов и сардин. Но вспугнутые лососи уже не поднимаются в период между днем св. Михаила и рождеством к верховьям Уэя, чтобы метать там икру. Сюда уже не прилетают, как в старину, во времена Елизаветы, те неизвестные птицы величиною с ястреба, что расклевывали яблоко пополам и съедали только семена. Не видно тут и тех коварных желтоклювых ворон, называемых по-английски cornish dough, а по-латыни pyrrocarax, которые сбрасывали на соломенные крыши горящие прутья виноградных лоз. Не видно больше и переселившегося сюда с шотландского архипелага колдуна-буревестника, выпускавшего из клюва какой-то жир, который островитяне жгли в своих светильнях. Не встретить больше вечером в лужах, оставленных морским приливом, древней легендарной птицы со свиными ногами, мычавшей теленком. Приливом уже не выбрасывает на песок острозубую усатую нерпуху с загнутыми ушами, ползающую на ластах. На Портленде, ставшем в наши дни неузнаваемым, никогда не водились соловьи, потому что там не было лесов, но соколы, лебеди и морские гуси перевелись на нем сравнительно недавно. У теперешних портлендских овец жирное мясо и тонкое руно; но у тех немногочисленных иизкорослых овец, которые паслись здесь два века назад, питаясь соленой прибрежной травой, мясо было жесткое, а шерсть грубая; так и подобало кельтскому скоту, который стерегли во время оно пастухи, евшие много чеснока, жившие по сто лет и на расстояний полумили пробивавшие латы своими аршинными стрелами. Где не возделана земля, там и шерсть груба. Нынешний Чесс-Хилл ничем не напоминает прежнего Чесс-Хилла: до такой степени все здесь преображено человеком и бешеными ветрами, разрушающими даже камень.
В наши дни по этой узкой косе проходит железная дорога, доходящая до Чезлтона, в котором новенькие дома расположены а шахматном порядке. Есть и станция «Портленд». Там, где когда-то ползали тюлени, теперь катятся вагоны.
Двести лет назад Портлендский перешеек представлял собою двухсторонний скат со скалистым хребтом посредине.
Опасности, угрожавшие ребенку, не исчезли, только стали иными. При спуске самым страшным для него было сорваться и упасть к подножию утеса; на перешейке же он на каждом шагу рисковал провалиться в какую-нибудь рытвину. Раньше он имел дело с пропастью; теперь ему пришлось иметь дело с трясиной. На берегу моря все оказывается ловушкой: утесы — скользки, песок — зыбуч. Что ни изберешь точкой опоры — все обманчиво. Ходишь точно по стеклу. В любую минуту почва может раздаться у вас под ногами, и вы исчезнете бесследно. Берег океана, как хорошо оборудованная сцена, имеет свои многоярусные люки.
Высокие гранитные склоны, в которые упираются оба ската перешейка, почти совсем недоступны. На них с трудом можно отыскать то, что на театральном языке называется выходом на сцену. Человек не должен рассчитывать на гостеприимство океана: ни скалы, ни волны не окажут ему радушного приема. Море заботится лишь с птицах и о рыбах. Перешейки всегда обнажены и каменисты. Волны, размывающие и подрывающие их с двух сторон, придают им резкие очертания. Всюду — острые выступы, гребни, пилообразные хребты, ужасные осколки треснувших глыб, впадины с зазубренными краями, напоминающие усеянную острыми зубами челюсть акулы, волчьи ямы, прикрытые влажным мхом, крутые обрывы скал, нависших над пенящимся прибоем. Человек, задавшийся целью перейти по хребту перешейка, встречает на каждом шагу уродливые, величиною с дом, громады, имеющие форму берцовых или тазовых костей, лопаток, позвонков — омерзительную анатомию оголенных утесов. Пешеход с риском свернуть себе шею пробирается через груды этих обломков. Это почти то же самое, что ходить по костяку исполинского скелета.
Представьте же себе ребенка, совершающего этот Геркулесов подвиг.
При ярком дневном свете идти все-таки было бы легче, ко вокруг царила тьма. Здесь необходим проводник, а ребенок был один. И взрослому человеку здесь пришлось бы немало потрудиться, а у него были только слабые силы ребенка. Проводника могла бы, на худой конец, заменить тропинка. Но тропинок здесь не было. Инстинктивно он избегал цепи острых утесов и старался держаться как можно ближе к берегу. Но на этом пути ему попадались рытвины. Их было три разновидности: одни — наполненные водой, другие — снегом, третьи — песком. Последняя разновидность всего страшнее, ибо песок засасывает.
Опасность, которую ждешь заранее, внушает тревогу; опасность неожиданная внушает ужас. Ребенок боролся с неведомыми ему опасностями. Он то и дело вслепую приближался к тому, что могло стать его могилой.
У него не было колебаний. Он огибал скалы, обходил провалы, чутьем угадывал расставленные мраком ловушки, преодолевал одно препятствие за другим и смело двигался вперед. Не имея возможности идти прямо, он все-таки шел уверенно.
В случае надобности он мгновенно отступал. Он вовремя выбирался из трясины зыбучих песков. Он стряхивал с себя снег. Не раз оказывался он по колено в воде, и его мокрые лохмотья сразу же замерзали на сильном ночном морозе. Он шел быстро в своей обледеневшей одежде. При этом он как-то умудрился сохранить свою матросскую куртку сухой и теплой на груди. Голод по-прежнему мучил его.
Нет предела неожиданностям, кроющимся в бездне: тут все возможно, даже спасение. Исхода из нее не видно, но он существует. Каким образом ребенок, застигнутый снежной метелью, от которой у него захватывало дыхание, заблудившийся на узком подъеме между двумя разверстыми пропастями, не видя дороги, все-таки одолел перешеек, он и сам не мог бы объяснить. Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу и упорно шел вперед — вот и все. В этом тайна всякой победы. Не прошло и часа, как он почувствовал, что поднимается в гору: он достиг другого конца перешейке, он оставил позади себя Чесс-Хилл, он стоял уже на твердой почве.
Моста, соединяющего теперь Сендфорд-Кэс со Смолмоус-Сендом, в ту пору не существовало. Возможно, что ребенок, руководясь верным инстинктом, добрался до гребня, высящегося как раз напротив Уайк-Реджиса, где тогда пролегала песчаная коса — природное шоссе, пересекавшее Ист-Флит.
Он избегнул гибели, грозившей ему на перешейке, но все еще находился лицом к лицу с бурей, с зимою, с ночью.
Перед ним снова простиралась во мгле необъятная равнина.
Он посмотрел на землю, отыскивая тропинку.
Вдруг он наклонился.
Он заметил на снегу что-то, похожее на след.
В самом деле это был след, след человеческой ноги. Ее отпечаток совершенно явственно виднелся на белой пелене снега. Ребенок стал рассматривать его. След был оставлен босой ступней; нога была меньше мужской, но больше детской.
Вероятно, это была нога женщины.
За первым следом был второй, за ним третий, следы шли на расстоянии шага один от другого и уклонялись вправо по равнине. Следы были еще свежие, слегка припорошенные снегом. Здесь несомненно прошла недавно женщина.
Она, невидимому, направилась в ту сторону, где ребенок разглядел дым.
Не спуская глаз с этих следов, ребенок пошел по ним.
Глава 27
Действие снега
Некоторое время он шел по этим следам. К несчастью, они становились все менее и менее отчетливыми. Снег так и валил. Это было как раз то время, когда «Матутина» под тем же снегопадом шла к своей гибели в открытом море.
Ребенок, боровшийся, так же как и судно, со смертью, хотя она и предстала ему в ином облике, не видел в окружавшей его со всех сторон непроглядной тьме ничего, кроме этих следов на снегу, и он ухватился за них, как за путеводную нить.
Вдруг — потому ли, что их окончательно замело снегом, или по другой причине — следы пропали. Все вокруг опять стало гладким, плоским, ровным, без единого пятнышка. Земля была сплошь затянута белой пеленой, небо — черной.
Можно было подумать, что женщина, проходившая здесь, улетела.
Выбившийся из сил ребенок наклонился к земле и стал приглядываться. Увы, тщетно.
Не успел он выпрямиться, как ему почудился какой-то непонятный звук, но у него не было уверенности, что он не ослышался. Звук был похож на голос, на вздох, на неуловимый лепет, и, казалось, исходил скорее от человека, чем от животного. Однако в нем было что-то замогильное, а не живое. Это был звук, какой нам слышится иногда сквозь сон.
Он посмотрел вокруг, но ничего не увидел.
Перед ним расстилалась бесконечная, голая, мертвенная пустыня. Он прислушался. Звук прекратился. Быть может, это ему только почудилось? Он прислушался еще раз. Все было тихо.
Очевидно, в густом тумане что-то вызывало слуховую галлюцинацию. Он снова двинулся в путь.
Он брел теперь наугад.
Едва прошел он несколько шагов, как звук возобновился. На этот раз он уже не мог сомневаться. Это был стон, почти рыдание.
Звук вновь повторился.
Если души, находящиеся в чистилище, могут стонать, то, вероятно, они стонут именно так.
Трудно представить себе что-либо более трогательное, душераздирающее и вместе с тем более слабое, чем этот голос. Ибо это был голос — голос, принадлежавший человеческому существу. В этом жалобном и, казалось, безотчетном стенании чувствовалось биение чьей-то жизни. Это молило о помощи живое страдание, не сознающее того, что оно страждет и молит. Этот стон, бывший, может быть, первым, может быть, последним вздохом, в равной мере напоминал предсмертный хрип и крик новорожденного. Кто-то дышал, кто-то задыхался, кто-то плакал. Глухая мольба, доносившаяся неизвестно откуда.
Ребенок зорко посмотрел во все стороны: вдаль, вблизи себя, вверх, вниз. Никого и ничего.
Он напряг слух. Звук раздался еще раз. Он явственно услыхал его. Голос немного напоминал блеяние ягненка.
Тогда ему стало страшно, ему захотелось убежать.
Стон повторился. Уже четвертый раз. В нем была невероятная мука и жалоба. Чувствовалось, что это — последнее усилие, скорее невольное, чем сознательное, и что сейчас этот крик, вероятно, умолкнет навсегда. Это была мольба о помощи, безотчетно обращенная умирающим в пространство, откуда должно было прийти спасение; это был предсмертный лепет, взывавший к незримому провидению. Ребенок пошел в ту сторону, где слышался голос.
Он по-прежнему ничего не видел.
Чутко прислушиваясь, он сделал еще несколько шагов.
Стенание не прекращалось. Из нечленораздельного и еле внятного оно сделалось теперь явственным и громким. Это было где-то совсем близко. Но где именно?
Кто-то рядом жалобно взывал. Эти дрожащие звуки раздавались возле него. Человеческий стон, носившийся где-то в пространстве, — вот что слышал ребенок в непроглядном мраке. Таково по крайней мере было его впечатление, смутное, как густой туман, в котором он блуждал.
Колеблясь между безотчетным желанием бежать и безотчетным желанием остаться, он вдруг заметил на снегу, в нескольких шагах от себя, волнообразное возвышение размером с человеческое тело, невысокий бугорок, продолговатый и узкий, нечто вроде белой могильной насыпи на заснеженном кладбище.
В эту минуту стон перешел в крик.
Он доносился из-под этого холмика.
Ребенок нагнулся, присел на корточки перед снежным сугробом и принялся торопливо разгребать его обеими руками.
По мере того как он расчищал снег, перед ним стали обрисовываться очертания человеческого тела, и вдруг в вырытом углублении показалось бледное лицо.
Но кричало не это существо. Нет, глаза его были закрыты, а рот хотя и открыт, но полон снега.
Лицо было неподвижно. Оно не дрогнуло, когда ребенок дотронулся до него рукой. Ребенок, обморозивший себе кончики пальцев, отпрянул, ощутив холод этого лица. Это была голова женщины. В разметавшиеся волосы набился снег. Женщина была мертва.
Ребенок снова принялся разгребать снег. Показалась шея покойницы, потом верхняя часть туловища, прикрытая лохмотьями, сквозь которые виднелось голое тело.
Вдруг он почувствовал под своими руками легкое движение. Что-то маленькое шевелилось под снежным сугробом. Мальчик быстро раскидал снег и увидел на обнаженной груди матери жалкое тельце крошечного, совершенно голого младенца, хилого, посиневшего от холода, но еще живого.
Это была девочка.
Рваные пеленки, в которые ее завернули, были, должно быть, короткими, и она, ворочаясь, выбилась из них. Тепло, исходившее от ее щуплого тельца и от ее дыхания, растопило вокруг нее немного снега. Кормилица дала бы ей на вид месяцев пять-шесть, но ей было, вероятно, около года: ведь нищета ведет детей к рахитизму и задерживает их рост. Как только лицо малютки показалось из-под снега, горький плач ее сменился резким криком. Мать несомненно была мертва, если этот отчаянный вопль не мог разбудить ее.
Мальчик взял малютку на руки.
Эта мать, застывшая на снегу, производила страшное впечатление. Казалось, ее лицо светится каким-то призрачным светом. Ее отверстый бездыханный рот как будто готовился отвечать на невнятном языке теней на вопросы, предлагаемые там, в незримом мире, мертвецам. На лице ее лежал тусклый отпечаток белеющих кругом снежных просторов. Виднелось юное чело, обрамленное темными волосами, почти негодующе нахмуренные брови, сжатые ноздри, закрытые веки, слипшиеся от инея ресницы и спускавшиеся от углов глаз к концам губ следы обильных слез. Снег бросал бледный отблеск на это мертвое лицо. Зима и могила отнюдь не враждебны друг другу. Труп — это обледеневший человек. В наготе груди было нечто возвышенно-трогательное. Она исполнила свое назначение. Лежавшая на ней трагическая печать увядания свидетельствовала о том, что это безжизненное существо дало жизнь другому существу: девственную чистоту сменило величие материнства. На одном соске белела жемчужина. Это была замерзшая капля молока.
Поясним сразу, что по тем же самым равнинам, по которым шел покинутый мальчик, незадолго до него брела в поисках крова заблудившаяся нищенка с младенцем у груди. Окоченев от холода, она свалилась под бурным порывом ветра и не могла уже подняться. Ее замело вьюгой. Из последних сил она прижала к себе ребенка и так умерла.
Малютка пыталась прильнуть губами к этому мрамору. В бессознательной доверчивости, с которой она искала себе пищи, не было ничего противного законам природы, ибо мать, только что испустившая последний вздох, по-видимому еще способна накормить грудью ребенка.
Но ротик младенца не мог найти соска, на котором застыла похищенная смертью капля молока, и малютка, более привыкшая к колыбели, чем к могиле, закричала под снегом.
Покинутый мальчик услыхал вопль погибавшей крошки.
Он вырыл ее из сугроба.
Он взял ее на руки.
Почувствовав, что ее держат на руках, она перестала кричать. Лица двух детей соприкоснулись, и посиневшие губы младенца прильнули к щеке мальчика, как к материнской груди.
Малютка была близка к тому состоянию, когда застывающая кровь останавливает биение сердца. Мать уже успела приобщить ее в какой-то мере к своей смерти; холод трупа распространяется на окружающее: ножки и ручки малютки были словно скованы этим ледяным холодом. Мальчик тоже почувствовал на себе его дыхание.
Из всей одежды на нем осталась сухой и теплой только матросская куртка. Положив крошку на грудь умершей, он снял с себя куртку, закутал в нее девочку, снова взял ее на руки и, сам теперь полуголый, ничем почти не защищенный от бушующей вьюги, держа малютку в объятиях, опять тронулся в путь.
Снова отыскав щеку мальчика, младенец прильнул к ней губами, и, согревшись, уснул. Это было первым поцелуем двух детских душ, встретившихся во мраке.
Мать осталась лежать в снегу; лицо ее было обращено к ночному небу. Но в ту минуту, когда мальчик снял с себя куртку, чтобы завернуть в нее малютку, покойница, быть может, увидела это из беспредельности, где уже была ее душа.
Глава 28
Тягостный путь ещё тяжелее от ноши
Прошло более четырех часов с того момента, как урка покинула воды Портлендской бухты, оставив мальчика одного на берегу. За те долгие часы, когда он, брошенный всеми, брел куда глаза глядят, ему повстречались здесь, в человеческом обществе, в которое ему, быть может, предстояло вступить, лишь трое: мужчина, женщина и ребенок. Мужчина — тот, что был на холме; женщина — та, что лежала в снегу; ребенок — девочка, которую он нес на руках.
От усталости и голода он еле держался на ногах. Но он шел вперед еще решительнее, чем прежде, хотя теперь у него прибавилась ноша, а сил убавилось. Он был почти совсем раздет. Еле прикрывавшие его лохмотья, обледенев на морозе, подобно стеклу резали тело и обдирали кожу. Он замерзал, зато девочка согревалась. То, что терял он, не пропадало даром, а шло на пользу малютке. Он ощущал это тепло, возвращавшее ее к жизни, и упорно шел вперед.
Время от времени, стараясь не выронить ноши, он нагибался, захватывал полную горсть снега и растирал себе ступни, чтобы не дать им закоченеть.
Порою же, когда у него пересыхало в горле, он набирал в рот немного снегу и сосал его; это ненадолго утоляло жажду, но вызывало озноб. Мимолетное облегчение лишь усиливало страдания.
Вьюга, разбушевавшись, уже не знала пределов своему неистовству, — в природе наблюдаются явления, которые следовало бы назвать снежными потопами. Это и было таким потопом. Беснуясь, буря обрушилась не только на океан: она свирепствовала и на побережье. Вероятно, как раз в это время урка, беспомощно носясь по волнам, теряла в поединке с рифами последние остатки такелажа.
Двигаясь сквозь вьюгу на восток, ребенок пересек широкие снежные пространства. Он не имел представления, который мог быть час. Уже давно не различал он никакого дыма. Такие приметы исчезают во мраке ночи довольно скоро, не говоря уже о том, что час был поздний и огни давно были потушены; в конце концов он, может быть, просто ошибся, и в той стороне, куда он направлялся, не было ни города, ни селения.
Но эти сомнения нисколько не ослабили его решимости.
Два-три раза малютка принималась кричать. Не останавливаясь, он укачивал ее на ходу; она успокаивалась и умолкала. Наконец она заснула крепким, безмятежным сном. Сам дрожа от холода, он чувствовал, что ей тепло.
Он то и дело запахивал плотнее куртку вокруг шейки малютки, чтобы в разошедшиеся складки не забился иней и чтобы к тельцу ребенка не было ни малейшего доступа таявшему снегу.
Поверхность равнины была волнистой. В ложбинах, где она понижалась, ветром намело такие сугробы, что мальчик утопал в них чуть не по грудь и с трудом прокладывал себе дорогу, расталкивая снег коленями.
Выбравшись из лощины, он попал на плоскогорье, со всех сторон открытое ветрам, где снег лежал лишь тонким слоем. Там была гололедица.
Теплое дыхание девочки, касаясь его щеки, согревало его на мгновение, но увлажненные волосы на виске тотчас же превращались в сосульку.
Он отдавал себе отчет, насколько усложнилась его задача: ему уже нельзя было упасть. Он чувствовал, что, упав, он больше не подымется. Он изнемогал от усталости, и мрак немедленно придавил бы его своей свинцовой тяжестью к земле, а мороз заживо приковал бы его к ней, как ту покойницу. До сих пор он уже не раз висел над пропастью, но спускался благополучно; не раз спотыкался, попадая ногою в ямы, но выбирался из них невредимым; теперь же всякое падение было равносильно смерти. Неверный шаг разверзнул бы перед ним могилу. Ему нельзя было поскользнуться: у него не хватило бы сил даже привстать на колени. А между тем поскользнуться можно было на каждом шагу: все пространство вокруг покрылось ледяной корой.
Девочка, которую он нес, страшно мешала ему идти; это была не только тяжесть, непосильная при его усталости и истощении, это была еще и помеха. Обе руки у него были заняты, между тем при гололедице именно руки служат пешеходу необходимым естественным балансиром.
Надо было обходиться без этого балансира.
Он и обходился без него и шел, не зная, как ему управиться с ношей.
Малютка оказалась каплей, переполнившей чашу его бедствий.
Он продвигался вперед, ставя ноги как на туго натянутом канате, проделывая чудеса равновесия, которых никто не видел. Впрочем, повторяем, быть может на этом скорбном пути за ним из мрака бесконечности следили открывшиеся глаза матери да око божие.
Он шатался, оступался, но удерживался на ногах, все время заботясь о малютке, закутывая ее поплотнее в куртку, покрывая ей головку, опять оступался, но продолжал идти, скользил и снова выпрямлялся. У ветра же хватало низости еще подталкивать его.
Он, вероятно, много плутал. Судя по всему, он находился на тех равнинах, где позднее выросла Бинкливская ферма, на полпути между нынешними Спринг-Гарденсом и Персонедж-Хаузом. В настоящее время там — фермы и коттеджи, тогда же там была пустошь. Нередко меньше, чем за столетие, голая степь превращается в город.
Вдруг слепившая ему глаза и пронизывавшая холодом метель на минуту затихла, и он заметил невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы — целый город, выступавший белым пятном на черном фоне горизонта, так оказать, силуэт наизнанку, нечто вроде того, что теперь называют негативом.
Кровли, жилища, ночлег! Он, значит, куда-то добрался! Он почувствовал неизъяснимый прилив бодрости, какой пробуждает в человеке надежда. Вахтенный на сбившемся с курса судне, кричащий своим спутникам: «Земля!», переживает подобное же волнение. Ребенок ускорил шаги.
Он, наконец, нашел людей. Он сейчас увидит живые лица. Куда девался страх! Он чувствовал себя в безопасности, и от одного этого сознания кровь быстрей потекла в его жилах. С тем, что ему только что пришлось пережить, было, значит, покончено навсегда. Не будет больше ни ночи, ни зимы, ни вьюги. Ему казалось, что все самое страшное теперь позади. Малютка уже нисколько не обременяла его. Он почти бежал.
Его глаза были прикованы к этим кровлям. Там, под ними, была жизнь. Он не сводил с них взгляда. Так смотрел бы мертвец на мир, представший ему сквозь приоткрытую крышку гроба. Это были те самые трубы, дым которых он видел издалека.
Теперь ни одна из них не дымилась.
Он быстро дошел до первых домов. Он вступил в предместье, представлявшее собою открытый въезд в город. В ту эпоху уже отмирал обычай загораживать улицы на ночь.
Улица начиналась двумя домами. Однако в них не было видно ни одной горящей свечи, ни одной лампы, так же как и во всей улице и во всем городе — нигде не было ни одного огонька.
Дом направо был похож скорее на сарай, чем на жилое строение, до того он был невзрачен; стены были глинобитные, крыша соломенная и по сравнению со стенами несоразмерно велика. Большой куст крапивы, разросшийся у стены, доходил чуть не до застрехи. В лачуге была одна только дверь, похожая на кошачью лазейку, и лишь одно крошечное окошко под самой кровлей. Все было заперто. Рядом, в хлеву, глухо хрюкала свинья; это свидетельствовало о том, что и дом обитаем.
Дом слева был высоким, длинным каменным зданием с аспидной крышей. Палаты богача, выросшие против лачуги бедняка.
Мальчик, не колеблясь, направился к большому дому. Тяжелая дубовая двустворчатая дверь с узором из крупных шляпок гвоздей не вызывала сомнения в том, что она заперта на несколько крепких засовов и замков; снаружи висел железный молоток.
Ребенок не без труда поднял молоток — его окоченевшие руки были скорее обрубками, чем руками. Он постучал.
Никакого ответа.
Он постучал еще раз, теперь в два удара.
В доме не слышно было ни малейшего движения.
Он постучал в третий раз. Никто не откликнулся.
Он понял, что хозяева либо опят, либо не желают подняться с постели.
Тогда он подошел к бедному дому. Разыскав в снегу булыжник, он постучал им в низенькую дверь.
Никакого ответа.
Привстав на носки, он стал барабанить камнем в окошечко — достаточно осторожно, чтобы не разбить стекла, но достаточно громко, чтобы его услышали.
Никто не отозвался, никто не шевельнулся, никто не зажег свечи.
Он понял, что здесь тоже не хотят вставать.
И в каменных палатах и в крытой соломой хижине люди были одинаково глухи к мольбам обездоленных.
Мальчик решил идти дальше и направился в тянувшийся прямо перед ним узкий переулок, настолько мрачный, что его можно было скорее принять за ущелье между скалами, чем за городскую улицу.
Глава 29
Иного рода пустыня
Поселок, в который он попал, назывался Уэймет.
Тогдашний Уэймет не был нынешним почтенным и великолепным Уэйметом.
В старинном Уэймете не было, подобно теперешнему Уэймету, безукоризненной, прямой, как стрела, набережной со статуей Георга III и гостиницей, носящей имя того же короля. Это объясняется тем, что Георга III в то время еще не было на свете. По той же причине на зеленом склоне холма, к востоку от Уэймета, еще не красовалось занимающее теперь чуть ли не целый арпан и сделанное из подстриженного дерна, уложенного на обнаженной почве, изображение некоего короля верхом на белом коне с развевающимся хвостом, обращенным, в честь того же Георга III, в сторону города. Впрочем, почести эти были заслужены: Георг III, лишившийся в старости рассудка, которым он не обладал и в молодости, не ответственен за бедствия, происшедшие в его царствование. Это был дурачок. Почему бы не воздвигнуть памятник и ему?
Сто восемьдесят лет тому назад Уэймет отличался приблизительно той же симметричностью, что и сваленная в беспорядке куча бирюлек. Легендарная Астарот иногда прогуливалась по земле с мешком за плечами, в котором было все решительно, включая и домики с добрыми хозяйками. Груда домишек, выпавшая из этой дьявольской котомки, могла бы дать точное представление о хаотической разбросанности уэйметских жилищ и даже о добрых уэйметских хозяйках. Образцом его построек может служить сохранившийся доныне Дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою; уродливые, покосившиеся на сторону строения, из коих одни опирались на столбы, а другие прислонялись к соседним домишкам, чтобы не свалиться под напором морского ветра, узкие, кривые, извилистые проходы, переулки, перекрестки, часто затопляемые морским приливом, ветхие лачуги, лепившиеся вокруг старинной церкви, — вот что представлял собой в ту пору Уэймет. Уэймет был чем-то вроде древнего нормандского поселка, выброшенного волнами на английский берег.
Путешественник, заходивший в таверну, на месте которой стоит ныне гостиница, вместо того чтобы потребовать жареной камбалы и бутылку вина и с королевской щедростью заплатить двадцать пять франков, скромно съедал за два су тарелку рыбной похлебки, впрочем отменно вкусной. Все это было очень убого.
Покинутый ребенок, неся на руках найденную им девочку, прошел одну улицу, затем другую, третью. Он смотрел вверх, надеясь найти хоть одно освещенное окно, но все дома были наглухо заперты я темны. Иногда он стучался в какую-нибудь дверь. Никто не отзывался. Теплая постель обладает способностью превращать человеческое сердце в камень. Стук и толчки разбудили в конце концов малютку. Он заметил это потому, что она принялась сосать его щеку. Она не кричала, так как думала, что лежит на руках у матери.
Быть может, ему пришлось бы долго кружить и блуждать по лабиринту переулков Скрамбриджа, где в то время было больше огородов, чем домов, и больше изгородей из кустов терновника, чем жилых строений, если бы по счастливой случайности он не забрел в узкий проход, существующий еще и в наши дни возле школы Троицы. Этот проход вывел его к отлогому берегу, где было сооружено некое подобие набережной с парапетом. Направо от себя он увидел мост.
Мост этот, переброшенный через Уэй, был тот самый, что и теперь соединяет Уэймет с Мелкомб-Реджисом, — мост, под пролетами которого гавань сообщается с рекой, прегражденной плотиной.
Уэймет был еще в те времена предместьем портового города Мелкомб-Реджиса. Теперь Мелкомб-Реджис — один из приходов Уэймета. Предместье поглотило город, чему в значительной степени помог мост. Мосты — это своеобразные насосы, перекачивающие население из одной местности в другую и иногда способствующие росту какого-нибудь прибрежного селения за счет его соседа на противоположном берегу.
Мальчик направился к мосту, который представлял собой в те времена просто крытые деревянные мостки. Он прошел по этим мосткам.
Благодаря крыше на настиле моста не было снега. Ступая босыми ногами по сухим доскам, он испытал на минуту блаженное ощущение.
Перейдя мост, он очутился в Мелкомб-Реджисе.
Здесь деревянных домиков было меньше, чем каменных. Это было уже не предместье, это был город. Мост упирался в довольно красивую улицу св. Фомы. Мальчик пошел по ней. По обеим сторонам улицы стояли высокие дома с резным щипцом, там и сям попадались окна лавок. Он снова стал стучаться в двери. У него уже не было сил ни звать, ни кричать.
Никто не откликался в Мелкомб-Реджисе, так же, как это было и в Уэймете. Все двери были крепко заперты на замок. Окна были закрыты ставнями, как глаза веками. Были приняты все меры предосторожности против внезапного, всегда неприятного пробуждения.
Маленький скиталец испытал на себе не выразимое никакими словами влияние спящего города. Безмолвие такого оцепеневшего муравейника способно вызвать головокружение. Кошмары тяжелого сна, что толпой теснятся в мозгу неподвижно распростертых человеческих тел, как будто исходят от них клубами дыма. Смутная мысль спящих реет над ними то легким туманом, то тяжким угаром и сливается с несбыточными их мечтами, которые, пожалуй, тоже витают в пространстве, где-то на грани сна и действительности. Отсюда вся эта путаница наших снов. Грезы, наплывая облаком, порою плотным, порою прозрачным, заслоняют собою звезду, имя которой разум. За сомкнутыми веками глаз, где зрение вытеснено сновидением, проносятся призрачные силуэты, распадающиеся образы, совсем живые, но неосязаемые, и кажется, что рассеянные где-то в иных мирах таинственные существования сливаются с нашей жизнью на том рубеже смерти, который называется оном. Этот хоровод призраков и душ кружится в воздухе. Даже тот, кто не спит, чувствует, как давит его эта среда, исполненная зловещей жизни. Окружающие его химеры, в которых он угадывает нечто реальное, не дают ему покоя. Бодрствующий человек проходит по спящим улицам точно сквозь мглу чужих сновидений, безотчетно сопротивляясь натиску наступающих на него призраков; он испытывает (или во всяком случае ему кажется, будто он испытывает) ужас соприкосновения с незримыми и враждебными существами; каждое мгновение он сталкивается с чем-то неизъяснимым, что сейчас же пропадает бесследно. В этом ночном странствии среди летучего хаоса сонных грез есть нечто общее с блужданием в дремучем лесу.
Это и есть то состояние, которое называют беспричинным страхом.
У ребенка это чувство проявляется еще сильнее, чем у взрослых.
Ужас, внушаемый мальчику ночным безмолвием и зрелищем как будто вымерших домов, усугублял тяжесть бедственного его положения.
Войдя в Коникер-лейн, он увидел в конце этого переулка запруженную реку и принял ее за океан; он уже не мог бы сказать, в какой стороне находится море; он возвратился на прежнее место, свернул влево по Мейдн-стрит и пошел назад по Сент-Олбенс-роу.
Там он стал уже без разбора громко стучать в первые попавшиеся дома. Беспорядочно сыпавшиеся отрывистые удары, в которые он влагал свои последние силы, повторялись через определенные промежутки все с большей и большей яростью. Это билось в двери его иссякшее терпение.
Наконец раздался ответный звук.
Ответили часы.
На старинной колокольне церкви св. Николая медленно пробило три часа ночи.
Затем все снова погрузилось в безмолвие.
Может показаться невероятным, что ни один из жителей города не приоткрыл даже окошка. Однако это находит некоторое объяснение. Надо сказать, что в январе 1690 года только что улеглась довольно сильная вспышка чумы, свирепствовавшей в Лондоне, и боязнь впустить к себе в дом какого-нибудь больного бродягу вызвала во всей стране, упадок гостеприимства. Не решались даже слегка приотворить окно, чтобы не вдохнуть зараженного воздуха.
Холодность людей была для ребенка еще страшнее, чем холод ночи. В ней ведь всегда чувствуется преднамеренность. Сердце у него болезненно сжалось: он впал в большее уныние, чем там, в пустыне. Он вступил в общество себе подобных, но продолжал оставаться одиноким. Это было мучительно. Безжалостность пустыни была ему понятна, но беспощадное равнодушие города казалось ему чудовищным. Мерные звуки колокола, отбивающего истекшие часы, повергли его в еще большее отчаяние. Порою ничто не производит такого удручающего впечатления, как бой часов. Это — откровенное признание в полном безразличии. Это — сама вечность, заявляющая громогласно: «Какое мне дело?»
Он остановился. Как знать, может быть в эту горькую минуту он задал себе вопрос: не лучше ли лечь прямо на улице и умереть? Но в это время девочка склонила головку к нему на плечо и опять заснула. Инстинктивная доверчивость малютки побудила его идти дальше.
Он, вокруг которого все рушилось, почувствовал, что сам является чьей-то опорой. При таких обстоятельствах в человеке пробуждается голос долга.
Но ни эти мысли, ни состояние, в котором он находился, не соответствовали его возрасту. Возможно, что все это было выше уровня его понимания. Он действовал бессознательно. Он поступал так, не отдавая себе отчета.
Он направился к Джонсон-роу.
Он уже не шел, а еле волочил ноги.
Оставив по левую руку от себя Сент-Мери-стрит, он миновал несколько кривых переулков и, пробравшись через узкий извилистый проход между двумя лачугами, очутился на довольно обширном незастроенном поле. Этот пустырь находился приблизительно в том месте, где теперь Честерфилдская площадь. Здесь дома кончались. Направо виднелось море, налево — редкие хижины предместья.
Как быть? Опять начиналась голая равнина. На востоке простирались покрытые пеленою снега широкие склоны Редипола.
Что делать? Идти дальше? Уйти снова в безлюдье? Вернуться назад на городские улицы? Что предпочесть: безмолвие снежных полей или глухой, бездушный город? Которое выбрать из этих двух зол?
Существует якорь спасения, существует и взгляд, молящий о спасении. Именно такой взгляд кинул вокруг себя отчаявшийся ребенок.
Вдруг он услышал угрозу.
Глава 30
Причуды мизантропа
Какой-то странный, пугающий скрежет донесся до него из темноты.
Тут было от чего попятиться назад. Однако он пошел вперед.
Тому, кого удручает безмолвие, приятно даже рычание.
Эта свирепо разверстая пасть ободрила его. Угроза сулила какой-то выход. Здесь, неподалеку, было живое, не погруженное в сон существо, хотя бы и дикий зверь. Он пошел в ту сторону, откуда доносилось рычание.
Он повернул за угол и при мертвенно-тусклых отсветах снега увидел какое-то темное сооружение, приютившееся у самой стены: не то повозку, не то хижину. Оно стояло на колесах, — значит, повозка. Но у него была крыша, как у дома, — значит, людское жилье. Над крышей торчала труба, из трубы шел дым. Дым был красноватого цвета, что свидетельствовало о жарко горящем очаге. Петли, приделанные снаружи на стене, указывали на то, что здесь устроена дверь, а сквозь четырехугольное отверстие в середине двери виден был свет, горевший в хижине. Ребенок подошел ближе.
Существо, издававшее рычание, почуяло его. Когда он приблизился к повозке, угрожающие звуки стали еще яростнее. Это уже было не глухое ворчанье, а громкий вой. Он услыхал лязг натянувшейся цепи, и внезапно между задними колесами повозки, под самой дверью, блеснул двойной ряд острых белых клыков.
В ту же минуту, как между колесами показалась звериная морда, в четырехугольное отверстие двери просунулась чья-то голова.
— Молчать! — крикнула голова.
Вой прекратился.
Голова спросила:
— Есть тут кто-нибудь?
Ребенок ответил:
— Да.
— Кто?
— Я.
— Ты? Кто ты? Откуда ты?
— Я устал, — сказал ребенок.
— А который теперь час?
— Я озяб.
— Что ты там делаешь?
— Я голоден.
Голова возразила:
— Не всем же быть счастливыми, как лорды. Убирайся прочь!
Голова скрылась. Форточка захлопнулась.
Ребенок опустил голову, прижал к себе спящую малютку и собрал последние силы, чтобы снова тронуться в путь. Он уже отошел на несколько шагов от возка.
Но в то самое время, как закрылась форточка, распахнулась дверь, и опустилась подножка. Голос, только что говоривший с мальчиком, сердито окликнул его из глубины возка:
— Ну, что ж ты не входишь?
Ребенок обернулся.
— Входи же, — продолжал голос. — И откуда это еще взялся на мою беду такой негодяй? Голоден, озяб, а входить не хочет.
Ребенок, которого одновременно прогоняли и звали, стоял не двигаясь.
Голос продолжал:
— Говорят тебе, входи, бездельник!
Мальчик, наконец, решился и уже занес ногу на первую ступеньку лестницы.
Но в эту минуту под тележкой послышалось рычанье.
Он отступил. Из-под возка опять показалась разинутая пасть.
— Молчать! — крикнул человеческий голос.
Пасть исчезла. Рычанье прекратилось.
— Влезай! — продолжал человек.
Ребенок с трудом поднялся по трем ступенькам лестницы. Его движениям мешала девочка, которую он держал на руках; она вся закоченела, хотя так плотно была закутана в куртку, что ее совсем не было видно: это был какой-то бесформенный сверток.
Одолев все три ступеньки, мальчик остановился на пороге.
В домике не горело ни одной свечи — вероятно, из нищенской экономии. Он был освещен лишь красноватым отблеском, вырывавшимся из дверцы чугунной печки, где потрескивал торф. На печке стояла дымившаяся миска и горшок, в котором, невидимому, готовилось какое-то кушанье. От него шел приятный запах. Все убранство домика состояло из сундука, скамьи и подвешенного к потолку незажженного фонаря. По стенам, на подставках, было укреплено несколько полок и вбит ряд крюков, на которых висела разная утварь. На полках и отдельно, на гвоздях, поблескивала стеклянная и медная посуда, перегонный куб, колба, похожая на сосуд для плавления воска, и множество странных предметов, назначения которых ребенок не мог себе объяснить и которые составляют кухню химика. Домик имел продолговатую форму; печь помещалась в самой глубине. Это была даже не клетушка, а деревянный ящик не слишком больших размеров. Снаружи домик был освещен снегом сильнее, чем изнутри — печкой. Полумрак, наполнявший каморку, скрадывал все очертания. Тем не менее благодаря отсвету пламени можно было прочитать на потолке слова, написанные крупными буквами: «Урсус, философ».
В самом деле, ребенок очутился в жилище Гомо и Урсуса. Рычание, которое мы только что слышали, было рычанием Гомо, а голос — голосом Урсуса.
Переступив порог, ребенок увидел около печки высокого пожилого мужчину, худощавого и гладко выбритого; он был одет во что-то серое и стоял, упираясь лысым черепом в самый потолок. Человек этот не мог приподняться на носки: каморка была высотою как раз в его рост.
— Входи, — сказал человек. Это был Урсус.
Ребенок вошел.
— Узелок положи вон туда.
Ребенок, боясь испугать и разбудить малютку, бережно опустил на сундук свою ношу.
Мужчина продолжал:
— Что это ты так осторожно кладешь? Мощи там у тебя, что ли? Уж не боишься ли ты разорвать свое тряпье? Ах, мерзкий бездельник! В такой час слоняться по улицам! Кто ты? Отвечай! Впрочем, не надо никаких разговоров! Сперва проделаем самое неотложное: ты прозяб, ступай погрейся.
И, взяв мальчика за плечи, он толкнул его к печке.
— Ну и промок же ты! Ну и замерз же ты! И в таком-то виде ты смеешь являться в чужой дом? Ну-ка, сбрасывай поскорее с себя всю эту ветошь, негодяй!
И с лихорадочной поспешностью он одной рукой сорвал с него лохмотья, которые от одного прикосновения рвались на клочья, а другою снял с гвоздя мужскую рубашку и вязаную фуфайку.
— Ну, напяливай на себя!
Выбрав из вороха тряпок шерстяной лоскут, он принялся растирать перед огнем руки и ноги нагого, остолбеневшего от неожиданности и близкого к обмороку ребенка, которому в эту минуту блаженного тепла показалось, что он попал на небо. Растерев мальчику все тело, человек ощупал его ступни.
— Ну, кощей, ничего у тебя не отморожено. А я-то, дурень, боялся, не отморозил ли он себе передние или задние лапы! На этот раз ты еще не калека! Одевайся!
Ребенок натянул на себя рубашку, а поверх нее старик накинул на него фуфайку.
— Теперь…
Он пододвинул ногою скамью, толкнул на нее ребенка и пальцем показал на миску, от которой шел пар. В этой миске ребенку снова явилось небо, на этот раз в виде картошки с салом.
— Раз голоден, так ешь!
Достав с полки черствую горбушку хлеба и железную вилку, он протянул их ребенку; тот не решался взять.
— Уж не прикажешь ли накрыть для тебя стол? — заворчал мужчина.
И он поставил миску мальчику на колени.
— Лопай все это!
Голод взял верх над изумлением. Ребенок принялся за еду. Бедняжка не ел, а пожирал убогую снедь. В каморке слышался веселый хруст жестких корок, которые он уплетал. Хозяин ворчал:
— И куда это ты торопишься, обжора! Ну и жаден же, негодяй! Эти голодные канальи едят так, что тошно становится. То ли дело лорды: любо посмотреть, как они кушают. Мне случалось видеть герцогов за столом. Они совсем ничего не едят; вот что значит благородное воспитанта. Правда, они пьют… Ну, ешь до отвала, поросенок!
Голодное брюхо к ученью глухо; ругательства, которыми хозяин осыпал своего гостя, не производили на него особого впечатления, тем более что они явно противоречили той доброте, которую проявил к нему Урсус. К тому же все внимание ребенка было всецело поглощено двумя желаниями: согреться и поесть.
Продолжая негодовать, Урсус между тем ворчал себе под нос:
— Я видел, как ужинал сам король Иаков; это было в Банкетинг-Хаузе, где по стенам висят картины знаменитого Рубенса; его величество даже не притронулся ни к чему. А этот нищий знай набивает себе живот! Недаром «живот» и «животное» — слова одного корня. И дернула же меня нелегкая забраться в этот Уэймет, чтоб ему провалиться! С самого утра ничего не продал, краснобайствовал перед снегом, играл на флейте для урагана, не заработал ни одного фартинга, а вечером тут как тут — нищие! Ну и гнусный край! Только и знаешь, что с дураками прохожими состязаться, кто кого надует! Они стараются отделаться от меня жалкими грошами, а я стараюсь всучить им какое-нибудь целительное снадобье. Но сегодня, как назло, — ничего, решительно ничего! Ни одного болвана на перекрестке, ни одного пенни в кассе! Ешь, исчадие ада! Уплетай за обе щеки, грызи, глотай! Мы живем в такое время, когда ничто не может сравниться с наглостью лизоблюдов. Жирей на мой счет, паразит! Это не голодный ребенок, а людоед! Это не аппетит, а звериная жадность. Тебя, видно, разъедает изнутри какая-то зараза. Кто знает? Уж не чума ли? У тебя чума, разбойник? Что, если она перебросится на Гомо? Ну нет, подыхай один, подлое отродье, не хочу я, чтоб умер мой волк. Однако я и сам проголодался. Надо прямо сказать, пренеприятный случай. Сегодня я проработал до глубокой ночи. Бывают такие обстоятельства в жизни, когда человеку нужно что-нибудь до зарезу. Нынче вечером мне во что бы то ни стало надо было поесть. Сижу я здесь один, развел огонь; всего-то припасов у меня две картошки, горбушка хлеба, ломтик сала да капля молока; ставлю я все это подогреть и думаю: ладно, попробую как-нибудь этим насытиться. Трах! Надо же было, чтобы этот крокодил свалился мне на голову! Ни слова не говоря, становится между мной и моей пищей. И вот в моей трапезной хоть шаром покати! Ешь, щука, ешь, акула! Хотелось бы знать, во сколько рядов зубы у тебя в пасти? Жри, волчонок! Нет, беру это слово назад — из уважения к волкам. Глотай мой корм, удав! Работал, работал, а в желудке пусто, горло пересохло, в поджелудочной железе боль, все кишки свело; трудился до поздней ночи — и вот моя награда: смотрю, как ест другой. Что ж, так и быть, разделим ужин пополам. Ему — хлеб, картошка и сало, мне — молоко.
В эту минуту каморка огласилась протяжным и жалобным криком. Урсус насторожился.
— И еще кричишь, мошенник? Чего ты орешь?
Мальчик повернулся к нему. Было очевидно, что кричит не он. Рот у него был полон.
Крик не прекращался.
Урсус направился к сундуку.
— Да это твой сверток орет! Долина Иосафата! Вот уж и свертки стали горланить. Чего это он раскаркался?
Он развернул куртку. Из нее показалась головка младенца, надрывавшегося от крика.
— Это еще кто там? — спросил Урсус. — Что это такое? Еще один! Этому конца не будет! Караул! В ружье! Капрал, взвод вперед! Вторичная тревога! Что это ты мне принес, бандит! Разве ты не видишь, что она хочет пить? Значит, надо ее напоить. Ничего не поделаешь, придется, видно, остаться и без молока.
Он выбрал из кучи хлама, лежавшего на полке, несколько ветошек, губку и пузырек, продолжая все время яростно ворчать:
— Проклятый край!
Потом осмотрел малютку.
— Девчонка. Можно по визгу узнать. Эта тоже насквозь промокла.
Он сорвал с нее, так же как с мальчика, тряпье, в которое она была укутана, и завернул ее в обрывок грубого толста, дырявый, но чистый и сухой. Внезапное и быстрое переодевание окончательно растревожило малютку.
— Ну и мяучит! Пощады нет! — промолвил он.
Он откусил зубами продолговатый кусок губки, оторвал от тряпки четырехугольный лоскут, вытянул из него нитку, снял с печки горшок с молоком, перелил молоко в пузырек, наполовину воткнул губку в горлышко, прикрыл ее лоскутом, обвязал холст ниткой, приложил пузырек к щеке, чтобы убедиться, что он не слишком горяч, и взял подмышку спеленутого младенца, продолжавшего неистово кричать.
— На, поужинай, негодная тварь! Вот тебе соска!
И он сунул ей в рот горлышко пузырька.
Малютка стала с жадностью сосать.
Он поддерживал склянку в наклонном положении, продолжая ворчать:
— Все они на один образец, негодные! Как только преподнесешь, чего им хочется, так и замолкают.
Малютка глотала молоко так торопливо и с такой жадностью впилась в искусственную грудь, протянутую ей этим ворчливым провидением, что закашлялась.
— Да ты захлебнешься, — сердито буркнул Урсус. — Смотри-ка, тоже обжора хоть куда!
Он отнял у нее губку, выждал, пока прошел кашель, затем снова сунул ей в рот пузырек, говоря:
— Соси, дрянь ты этакая!
Тем временем мальчик положил вилку. Он смотрел, как малютка сосет молоко, и забыл о еде. За минуту до этого, когда он утолял свой голод, в его взгляде было только удовлетворение; теперь же этот взгляд выражал признательность. Он смотрел на возвращавшуюся к жизни малютку. Окончательное воскрешение девочки, вырванной из объятий смерти, исполнило его взор неизъяснимо радостным блеском. Урсус продолжал сердито ворчать сквозь зубы. По временам мальчик поднимал на него глаза, влажные от слез: бедное создание, хоть его и осыпали руганью, было глубоко растрогано, но не умело выразить словами волновавших его чувств.
Урсус гневно накинулся на него:
— Будешь ты есть, наконец!
— А вы? — дрожа всем телом, спросил ребенок, в глазах которого стояли слезы. — Вам ничего не останется?
— Ешь все, говорят тебе, дьявольское отродье! Здесь и тебе одному еле хватит, если для меня было мало.
Ребенок взял вилку, но не решался есть.
— Ешь! — заорал Урсус. — При чем тут я? Кто тебя просит заботиться обо мне? Говорю тебе, ешь все, босоногий причетник Безгрошового прихода! Раз ты попал сюда, так надо есть, пить и спать. Ешь, не то я вышвырну тебя за дверь вместе с твоей негодницей.
Услышав эту угрозу, мальчик снова принялся за еду. Ему не пришлось слишком много трудиться, чтобы уничтожить то, что еще оставалось в миске.
Урсус пробормотал:
— Постройка не из важных: от окон так и несет холодом.
В самом деле, оконце в двери было разбито не то от тряски, не то камнем шалуна. Урсус залепил дыру бумагой, но она отставала. Через это отверстие проникал холодный ветер.
Урсус присел на самый край сундука. Малютка, которую он, обхватив обеими руками, держал у себя на коленях, с наслаждением сосала свою соску, впав в то состояние блаженной дремоты, в котором находятся херувимы перед ликом божьим и младенцы у материнской груди.
— Наелась, — промолвил Урсус.
И прибавил:
— Проповедуйте-ка после этого воздержание!
Ветром сорвало со стекла наложенную Урсусом заплатку; клочок бумаги, взлетев на воздух, закружился по всей каморке, но такой пустяк не мог отвлечь внимания детей от занятия, возвращавшего их обоих к жизни.
Пока девочка пила, а мальчик ел, Урсус продолжал брюзжать:
— Пьянство начинается с пеленок. Стоит ли после этого быть епископом Тиллотсоном и метать громы и молнии на пьяниц! Вот отвратительный сквозняк! Да и печка того гляди развалится. Такой дым, что глаза ест. Не сладить ни с холодом, ни с огнем. Да и темновато. Эта тварь злоупотребляет моим гостеприимством, а я еще не разглядел его рожи. Да, до роскоши здесь далеко. Клянусь Юпитером, я умею ценить утонченное пиршество в теплом зале, где тебя не продувает насквозь. Я изменил своему призванию: я рожден для чувственных удовольствий. Величайший из мудрецов — Филоксен: он выразил желание иметь журавлиную шею, чтобы подольше наслаждаться хорошей трапезой. Сегодня ни гроша не заработал! За весь день ничего не продал! Катастрофа. Пожалуйте, горожане, слуги, мещане, вот лекарь и вот лекарства! Напрасно стараешься, старина. Убери-ка свою аптеку. Здесь все здоровы. Что за проклятый город, где нет ни одного больного! Одни лишь небеса страдают поносом. Вон какой снег! Анаксагор учил, что снег черного цвета. Он был прав: холод — это чернота. Лед — это ночь. Ну и вьюга! Представляю себе, как приятно сейчас в море. Ураган — это хоровод дьяволов, это бешеная свистопляска вампиров, все они скачут галопом и кувыркаются у нас над головой. Они мелькают в тучах: у одного — хвост, у другого — рога, у третьего вместо языка во рту пламя, у этого — крылья с когтями, у того — брюхо лорд-канцлера, а вон у того — башка академика. Каждого из них можно распознать по особому, им одним издаваемому звуку. Что ни порыв ветра, то новый адский дух; слышишь и видишь в одно и то же время, ибо этот грохот принимает зрительные формы. Черт возьми, а ведь в море, наверно, есть люди! Друзья мои, управляйтесь с бурей как-нибудь без меня, а мне и самому-то нелегко управиться с жизнью. Что я вам, содержатель харчевни, что ли? С какой это стати ко мне прут путешественники? Всемирная нужда перехлестывает через порог моего убогого жилища. Омерзительные брызги человеческой нищеты летят прямо ко мне в хижину. Я жертва алчности всяких проходимцев. Я их добыча. Добыча околевающих с голоду. Зима, ночь, картонный домишко, под ним — несчастный друг; снаружи со всех сторон — буря, в каморке — картошка, жалкий огонь в печке, попрошайки, ветер, свистящий во все щели, ни гроша в кармане и впридачу — свертки, которые вдруг начинают выть. Разворачиваешь его, а там — маленькая нищенка! Ну и жизнь! Не говоря уже о том, что здесь налицо явное нарушение закона. Ах ты, бродяга, гнусный карманник, преступный недоносок! Шатаешься по улицам после того, как погасили огни. Если бы наш добрый король узнал об этом, он мигом законопатил бы тебя в какое-нибудь подземелье, чтобы проучить как следует: шутка ли сказать, молодчик прогуливается по ночам со своей девицей! В пятнадцатиградусный мороз без шапки и босиком! Да ведь это запрещено, на сей счет существуют особые правила и указы, мятежник ты этакий! Ты разве не знаешь, что все бродяги подлежат наказанию, тогда как благонамеренные люди, имеющие свои дома, пользуются охраной и покровительством закона: недаром же короли — отцы народа. Я, например, человек оседлый! Если бы тебя поймали, тебя выпороли бы кнутом на площади, и отлично бы сделали. В благоустроенном государстве нужен порядок. Напрасно я сразу же не донес на тебя констеблю. Но так уж я создан: знаю, что хорошо, а поступаю дурно. Ах ты, мерзавец! Явился ко мне в таком виде! Я и не заметил сперва, сколько снегу ты нанес. А теперь все растаяло. Лужи во всех углах. Настоящее наводнение. Придется сжечь уйму угля, чтобы осушить это озеро. А уголь-то стоит двенадцать фартингов мерка! Как же мы поместимся втроем в этой хибарке? Кончено, отныне я завожу у себя питомник — в моих руках будущее всей английской голи, которую мне придется вскармливать на свой счет. Моим занятием, обязанностью и назначением в жизни будет воспитание недоносков великой мошенницы — нищеты, наведение лоска на малолетних висельников, превращение молодых плутов в философов! И подумать только, что если бы меня тридцать лет кряду не объедали такие твари, как эти, я был бы богачом, Гомо нагулял бы жиру, у меня был бы врачебный кабинет со всякими диковинками и хирургическими инструментами, как у доктора Лайнекра, хирурга короля Генриха Восьмого, с чучелами разных зверей, египетскими мумиями и тому подобным. Я был бы членом Докторской коллегии, имел бы право пользоваться библиотекой, выстроенной в тысяча шестьсот пятьдесят втором году знаменитым Гарвеем, и работал бы под стеклянным куполом, откуда открывается вид на весь Лондон. Я мог бы продолжать заниматься вычислением солнечных затмений и доказал бы, что от этого светила исходит неуловимый глазом пар. Таково мнение Иоганна Кеплера, который родился за год до Варфоломеевской ночи и был придворным математиком императора. Солнце — это очаг, который иногда дымит, как моя печка. Она не лучше солнца. Да, я нажил бы себе состояние, был бы совсем другим человеком — не пошляком, унижающим достоинство науки на всех перекрестках. Народ не заслуживает, чтобы его просвещали, ибо народ — это сборище безумцев обоего пола, беспорядочная смесь возрастов, нравов, общественных положений, чернь, которую мудрецы всех времен открыто презирали, сумасбродство и ярость которой справедливо ненавидят даже самые умеренные из них. Ах, мне надоело все на свете! С такими чувствами долго не проживешь. Говорят, что жизнь человеческая коротка. А я уже ею сыт по горло. Чтобы мы не впали в полное отчаяние, чтобы заставить нас добровольно влачить это глупое существование, чтобы мы не воспользовались великолепным случаем повеситься на первой попавшейся веревке и гвозде, природа нет-нет да и прикинется, будто она не прочь и позаботиться о человеке, — я не говорю об этой ночи. Она, эта угрюмая природа, взращивает хлебные колосья, наливает соком виноград, заставляет петь соловья. Порою луч зари или стакан джина вызывает у нас обманчивые мечты о счастье. Узенькая полоска добра окаймляет огромный саван зла. Наша судьба целиком соткана дьяволом, а бог только подшил рубец. Ах ты, воришка: пока я тут разглагольствовал, ты проглотил весь мой ужин!
Между тем у малютки, которую он осторожно держал на руках и, несмотря на высказываемое негодование, старался не беспокоить, начинали смыкаться глазки — знак того, что она вполне удовлетворена. Взглянув на пузырек, Урсус буркнул:
— Все вылакала, бессовестная!
Поддерживая крошку левой рукой, он встал, приподнял правой рукой крышку сундука и извлек оттуда медвежью шкуру, которую он, как помнит читатель, называл своей «настоящей шкурой».
Проделывая все это, он искоса поглядывал на другого ребенка, еще занятого едой.
— Туго придется мне, если надо будет кормить этого обжору. Это будет подлинный солитер во чреве моего промысла.
Свободной рукой он старательно разостлал медвежью шкуру на сундуке, помогая себе локтем другой руки и следя за каждым своим движением, чтобы не потревожить засыпавшую малютку. Затем положил ее на мех, поближе к огню.
Покончив с этим, он поставил пустой пузырек на печку и воскликнул:
— Смерть как хочется пить!
Заглянув в горшок, где оставалось еще несколько глотков молока, он поднес этот горшок к губам. Но в эту минуту его взгляд упал на девочку. Он поставил горшок обратно на печку, взял пузырек, вылил в него остатки молока, снова вложил губку в горлышко, обернул ее лоскутком и завязал ниткой.
— А все-таки хочется и есть и пить, — продолжал он.
И прибавил:
— Когда нет хлеба, пьют воду.
За печкой стоял безносый кувшин.
Он взял его и подал мальчику.
— Пей!
Ребенок напился и снова принялся за еду.
Урсус схватил кувшин и поднес его ко рту. Вода в нем, благодаря соседству в печкой, нагрелась неравномерно. Он сделал несколько глотков и скорчил гримасу.
— О ты, якобы чистая вода, ты похожа на мнимых друзей. Сверху ты теплая, а на дне — холодная.
Между тем мальчик покончил с ужином. Миска была не только опорожнена: она была вылизана дочиста. О чем-то задумавшись, мальчик подбирал и доедал последние крошки хлеба, упавшие к нему на колени.
Урсус повернулся к нему.
— Это еще не все. Теперь потолкуем. Рот дан человеку не только для того, чтобы есть, но и для того, чтобы говорить. Ты согрелся, нажрался и теперь смотри, животное, берегись: тебе придется отвечать на мои вопросы. Откуда ты пришел?
Ребенок ответил:
— Не знаю.
— Как это не знаешь?
— Сегодня вечером меня оставили одного на берегу моря.
— Ах, негодяй! Как же тебя зовут? Хорош гусь, если от него даже родители отказались.
— У меня нет родителей.
— Ты должен считаться с моими вкусами: имей в виду, что я терпеть не могу вранья. Раз у тебя есть сестра, значит есть и родители.
— Она мне не сестра.
— Не сестра?
— Нет.
— Кто же она такая?
— Эту девочку я нашел.
— Нашел?
— Да.
— Где? Если ты лжешь, я тебя убью.
— На мертвой женщине в снегу.
— Когда?
— Час тому назад.
— Где?
— В одном лье отсюда.
Урсус сурово сдвинул брови, что характерно для философа, охваченного волнением.
— Так эта женщина умерла? То-то счастливица. Надо ее так и оставить в снегу. Ей там хорошо. А где ж она лежит?
— Как идти к морю.
— Ты переходил мост?
— Да.
Урсус открыл форточку в задней стене и посмотрел, что делается на дворе. Погода нисколько не стала лучше. Все так же падал густой, наводивший уныние снег.
Он захлопнул форточку.
Подойдя к разбитому стеклу, он заткнул дыру тряпкой, подбросил в печку торфу, разостлал как можно шире медвежью шкуру на сундуке, взял лежавшую в углу толстую книгу, пристроил ее в изголовье вместо подушки и положил на нее головку уснувшей малютки.
Затем повернулся к мальчику:
— Ложись сюда.
Ребенок послушно растянулся во всю длину рядом с девочкой. Урсус плотно закутал обоих детей в медвежью шкуру и подоткнул ее края им под ноги.
Он достал с полки и надел на себя холщовый пояс с большим карманом, в котором, вероятно, были хирургические инструменты и склянка со снадобьями.
Потом отцепил висевший над потолком фонарь, зажег его. Фонарь был потайной. Свет от него не падал на лица детей.
Урсус приоткрыл дверь и, уже стоя на пороге, сказал:
— Я ухожу. Не бойтесь. Я скоро вернусь. Спите.
Спуская подножку, он позвал:
— Гомо!
Ему ответило ласковое ворчание.
Урсус с фонарем в руке сошел вниз, подножка поднялась, дверь снова закрылась. Дети остались одни.
Снаружи донесся голос Урсуса; он спрашивал:
— Мальчик, съевший мой ужин, ты еще не спишь?
— Нет, — ответил ребенок.
— Ну так вот: если она заревет, дай ей остальное молоко.
Послышался лязг отвязываемой цепи и постепенно удалявшийся шум шагов человека и зверя.
Несколько минут спустя дети спали глубоким сном.
Их дыхание смешалось, и в этом была неизъяснимая чистота. Реявшие над ними детские сны перелетали от одного к другому, под закрытыми веками их глаза, быть может, сияли звездами; если слово «супруги» в этом случае будет допустимо, то они были супругами в том смысле, в каком могут быть ими ангелы. Такая невинность в таком мраке жизни, такая чистота объятий, такое предвосхищение небесной любви возможно только в детстве, и все, что есть на свете великого, меркнет перед величием младенцев. Из всех бездн это самая глубокая. Ни чудовищный жребий висевшего на цепи мертвеца, ни бешеное неистовство, с которым разъяренный океан топит корабль, ни белизна снега, заживо погребающего человека под своей холодной пеленой, — ничто не может сравниться с трогательным зрелищем божественного соприкосновения детских уст, которое не имеет ничего общего с поцелуем. Быть может, это обручение? Быть может — предчувствие роковой развязки? Над этими спящими детьми нависло неведомое. Это зрелище очаровательно. Но кто знает — не страшно ли оно? Сердце невольно замирает. Невинность выше добродетели. Невинность — плод святого неведения. Они спали. Им было спокойно. Им было тепло. Нагота их прижавшихся друг к другу тел была так же целомудренна, как их невинные души. Они были здесь как в гнездышке, повисшем над бездной.
Глава 31
Пробуждение
День начинался зловещей хмурью. В каморку проник бледный, печальный свет. Занялась ледяная заря. Белесоватые ее лучи постепенно обрисовывали угрюмые очертания предметов, ночью казавшихся призраками, но не разбудили детей; они продолжали спать, прижавшись друг к дружке. В каморке было тепло. Слышно было дыхание спящих детей; оно напоминало ровные всплески двух чередующихся волн. Ураган затих. Рассвет неторопливо захватывал одну полосу небосвода за другой. Созвездия гасли, как потушенные свечи. Только несколько крупных звезд упорно продолжали мерцать. С моря доносился бесконечный, глухой, протяжный гул.
Печка не совсем еще потухла. Утренние сумерки постепенно переходили в дневной свет. Мальчик спал не так крепко, как девочка. Он и во сне, казалось, бодрствовал над нею и охранял ее. Как только первый яркий луч проник в окно, он открыл глаза. До окончательного своего пробуждения ребенок обычно бывает некоторое время погружен в забытье. Мальчик в дремоте не отдавал себе отчета, ни где он, ни кто лежит рядом с ним, и не старался припомнить что бы то ни было; глядя в потолок, он мечтательно рассматривал надпись «Урсус-философ», не понимая ее смысла, потому что он не умел читать.
Щелканье ключа в замке заставило его приподнять голову.
Дверь отворилась, подножка откинулась наружу. Вошел Урсус. Он поднялся по ступенькам, держа в руке потушенный фонарь.
Одновременно, послышался мягкий топот четырех лап, легко взбиравшихся по подножке. Это был Гомо, возвращавшийся домой вслед за Урсусом.
Мальчик, окончательно проснувшись, вздрогнул.
Волк, вероятно проголодавшийся к утру, раскрыл пасть, ощерив ослепительно белые клыки.
Стоя на подножке, он положил передние лапы на порог, позой напоминая проповедника, облокотившегося на кафедру. Он издали обнюхал сундук, на котором не привык видеть никого постороннего. В прямоугольном проеме двери верхняя часть его туловища вырисовывалась черным силуэтом на фоне светлеющего неба. Наконец он решился и вошел.
Увидев в каморке, волка, мальчик вылез из-под медвежьей шкуры и встал на ноги, заслонив собою малютку, спавшую крепким сном.
Урсус повесил фонарь на крюк, вбитый в потолок. Молча, не спеша, привычным движением снял и положил на полку пояс с инструментами. Он не смотрел по сторонам и как будто ничего не замечал. Глаза у него казались стеклянными. По-видимому, он был чем-то глубоко взволнован. Наконец его мысль прорвалась наружу, как всегда, быстрым потоком слов:
— Вот счастливица! Мертва, совсем мертва!
Он присел на корточки, подбросил в печку выпавший из нее шлак и, помешивая торф, бормотал:
— Нелегко было отыскать ее. Какая-то злая сила запрятала ее на два фута под снег. Не будь со мною Гомо, чутье которого ведет его так же хорошо, как в свое время разум вел Христофора Колумба, я до сих пор вязнул бы там в сугробах, играя в прятки со смертью. Диоген днем с фонарем искал человека, а я ночью с фонарем искал покойницу; поиски Диогена привели его к сарказму, мои привели меня к зрелищу смерти. Какая она была холодная! Я дотронулся до ее руки — настоящий камень. Какое безмолвие в ее глазах! Как это глупо — умирать, зная, что оставляешь после себя ребенка! Не очень-то удобно будет нам втроем в этой коробке. Ну и неприятность! Выходит, я обзавелся семьей. Девочкой и мальчиком.
Пока Урсус произносил эту тираду, Гомо прокрался к печке. Ручка спящей малютки свешивалась между печкой и сундуком. Волк стал лизать ручку.
Он лизал ее так осторожно, что девочка даже не шевельнулась.
Урсус повернулся к волку.
— Ладно, Гомо. Я буду отцом, а ты — дядей.
Не прерывая своего монолога, он с философским глубокомыслием снова принялся помешивать торф в печке.
— Значит, усыновляю. Это дело решенное. Да и Гомо не прочь.
Он выпрямился.
— Любопытно было бы знать, кто повинен в этой смерти? Люди? Или…
Он устремил взор куда-то ввысь и еле внятно докончил:
— Или ты?
И в тяжелом раздумье Урсус поник головой.
— Ночь взяла на себя труд умертвить эту женщину, — сказал он.
Когда он снова поднял голову, его взгляд упал на лицо мальчика, который совсем проснулся и прислушивался к его словам. Урсус резко спросил его:
— Ты чему смеешься?
Мальчик ответил:
— Я не смеюсь.
Урсус вздрогнул и, пристально посмотрев на него, сказал:
— В таком случае ты ужасен.
Ночью в лачуге было настолько темно, что Урсус не разглядел лица мальчика. Теперь, при дневном свете, он увидел его впервые.
Положив обе руки на плечи ребенка, он со все возраставшим вниманием всматривался в его черты и, наконец, крикнул:
— Да перестань же смеяться!
— Я не смеюсь! — сказал мальчик.
По всему телу Урсуса пробежала дрожь.
— Ты смеешься, говорю тебе!
И, тряся ребенка с яростной силой, не то от гнева, не то от жалости, он накинулся на него:
— Кто же так над тобою поработал?
Ребенок ответил:
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
Урсус продолжал допытываться:
— С каких это пор ты так смеешься?
— Я всегда был такой, — ответил мальчик.
Урсус повернулся лицом к сундуку и произнес вполголоса:
— Я думал, что этого уже не делают.
Осторожно, чтобы не разбудить спящей малютки, он вытащил у нее из-под головки книгу, которую положил ей вместо подушки.
— Посмотрим, что говорится на этот счет у Конкеста, — пробормотал он.
Это был толстый фолиант в мягком пергаментном переплете. Урсус полистал большим пальцем трактат, отыскивая нужную страницу, разложил книгу на печке и прочел:
— …«De denasatis»[379]. Это здесь.
— И продолжал:
— «Bucca fissa usque ad aures, genzivis denudatis, nasoque murdridato, masca eris, et ridebis semper[380]. Да, именно так.
Он водворил книгу на полку, бормоча себе под нос:
— Случай, в смысл которого было бы вредно углубляться. Останемся на поверхности явления. Смейся, малыш!
Девочка проснулась. Ее утренним приветствием был крик.
— Ну, кормилица, дай-ка ей грудь, — сказал Урсус.
Малютка приподнялась на своем ложе. Урсус достал с печки пузырек и сунул его в рот девочки.
В эту минуту взошло солнце. Оно только что всплыло над горизонтом. Алые его лучи, проникнув в окно, ударили прямо в лицо малютки, повернувшейся в ту сторону. В зрачках ее, как в двух зеркалах, отразился пурпурный диск светила. Зрачки не сократились, и веки не дрогнули.
— Что ж это, — вскрикнул Урсус, — она слепа!
Часть IV. Прошлое не умирает; В людях отражается человек
Глава 32
Лорд Кленчарли
В те времена существовал человек, который был живым осколком прошлого.
Этим осколком был лорд Линней Кленчарли.
Барон Линней Кленчарли, современник Кромвеля, был одним из тех, спешим прибавить — немногочисленных, пэров Англии, которые в свое время признали республику. Это признание имело свои причины и в конце концов вполне объяснимо, поскольку республика на короткое время восторжествовала. Так что не было ничего удивительного в том, что лорд Кленчарли пребывал в партии республиканцев, пока республика была победительницей. Но лорд Кленчарли продолжал оставаться республиканцем и после того, как окончилась революция и пал парламентский режим. Высокородному патрицию нетрудно было бы вернуться во вновь восстановленную палату лордов, ибо при реставрациях монархи всегда очень охотно принимают раскаявшихся и Карл II был милостив к тем, кто возвращался к нему. Однако лорд Кленчарли совершенно не понял, чего требовали от него события. И в то время, как в Англии радостными кликами встречали короля, вновь вступавшего во владение страной, как верноподданные единодушно приветствовали монархию и династия восстанавливалась среди всеобщего торжественного отречения от прошлого, в то время, как прошлое становилось будущим, а будущее — прошлым, лорд Кленчарли не пожелал покориться. Он не захотел видеть этого ликования и добровольно покинул родину. Он мог стать пэром, а предпочел стать изгнанником. Так протекали годы; так он и состарился, храня верность мертвой республике. Такое ребячество сделало его всеобщим посмешищем.
Он удалился в Швейцарию. Он поселился в высоком полуразвалившемся доме на берегу Женевского озера. Он выбрал себе жилище в самом глухом месте побережья — между Шильоном, где был заключен Бонивар, и Веве, где похоронен Ледло. Его окружали овеваемые ветрами и одетые тучами суровые, сумрачные Альпы; он жил здесь, затерянный, в глубокой тени, отбрасываемой горами. Его редко встречал прохожий. Этот человек жил вне своей страны, почти вне своей эпохи. В то время каждый, кто был в курсе событий и разбирался в них, понимал, что всякое сопротивление установившемуся порядку не имело оправдания. Англия была счастлива; реставрация — своего рода примирение супругов: король и нация возвращаются на свое брачное ложе; можно ли представить себе что-либо более приятное и радостное? Великобритания сияла от счастья; иметь короля — это уже много, а тем более такого очаровательного короля. Карл II был любезен, умел и пожить в свое удовольствие и управлять государством, напоминая своим величием Людовика XIV. Это был джентльмен и дворянин; подданные восхищались им; он вел войну с Ганновером и, конечно, хорошо знал зачем, хотя только он один это и знал; он продал Дюнкерк Франции — дело высокого политического значения. У демократически настроенных пэров, про которых Чемберлен сказал: «Проклятая республика заразила своим тлетворным дыханием даже некоторых аристократов», хватило здравого смысла очень быстро примениться к обстоятельствам, не отстать от своего времени и занять свои места в палате лордов; для этого им достаточно было лишь принести присягу королю.
Когда люди думали обо всем этом — об этом прекрасном царствовании, об этом превосходном короле, об этих августейших принцах, возвращенных народу божественным милосердием; о том, что такие значительные особы, как Монк и позднее Джеффрис, примирились с троном и были справедливо вознаграждены за верность и усердие самыми почетными должностями и самыми доходными местами; о том, что лорд Кленчарли не мог не знать, что от него одного зависело торжественно занять между ними подобающее ему место и разделить сыпавшиеся на них почести; о том, что Англия, благодаря своему королю, вознесена на вершину процветания, что в Лондоне одно празднество сменяется другим, что все кругом богатеют и преисполнены восторга, что королевский двор галантен, весел и пышен, — и при этом случайно возникал в памяти образ изгнанника, прозябающего вдали от всего этого великолепия, этого, старика в одежде простолюдина, бледного, согбенного, вероятно уже близкого к могиле, который стоит в эту минуту над озером в печальном полумраке, не замечая холода и непогоды, или шагает по его берегу без цели, с неподвижным взором, с развевающимися на ветру седыми волосами, молчаливый, одинокий, погруженный в свои думы, — трудно было удержаться от улыбки.
Этот старик был олицетворением безумия.
Улыбка, являвшаяся у людей при мысли о том, чем мог быть лорд Кленчарли и чем он стал, несомненно была проявлением их снисходительности. Иные смеялись открыто. Были и такие, что негодовали.
Понятно, что людей положительных коробила такая вызывающая отчужденность.
Вину лорда Кленчарли смягчало только то, что он никогда не блистал умом. Таково было общее мнение.
Неприятно видеть людей упорствующих. Подражатели Регула не пользуются симпатией, и общественное мнение относится к ним с иронией. Подобное упрямство походит на упрек, и здравомыслящие люди правы, когда смеются над этим.
И в конце концов разве такое упорство, такая непреклонность — добродетель? Разве в чрезмерном подчеркивании своей самоотверженности и честности нет большой доли тщеславия? Это просто-напросто рисовка. К чему такие крайности, как добровольное одиночество и изгнание? Ничего не преувеличивать — вот правило мудреца. Можете возражать, осуждать, если вам угодно, но делайте это благопристойно и не переставая возглашать: «Да здравствует король!» Подлинная добродетель — это рассудительность. То, что падает, должно было упасть, то, что преуспевает, должно было преуспеть. У провидения свои цели: оно награждает того, кто этого достоин. Неужели вы мните себя способным разобраться в этом лучше, чем оно? Когда обстоятельства совершенно ясно определились, когда один режим сменил другой, когда самим успехом установлено, где правда и где ложь, где катастрофа, а где торжество, — не может уже быть места никаким сомнениям; порядочный человек присоединяется к той стороне, которая одержала верх, и будь это даже выгодно ему и его родне, он, конечно, вовсе не из этих соображений, а исключительно во имя общественного блага предоставляет себя целиком в распоряжение победителя.
Что стало бы с государством, если бы никто не согласился служить? Все остановилось бы. Всякий благоразумный гражданин должен оставаться на своем месте. Умейте поступаться своими сокровенными симпатиями. Должности существуют для того, чтобы их занимали. Надо жертвовать собой. Не изменять общественным обязанностям — вот истинная верность. Самовольный уход чиновников парализовал бы государство. Вы добровольно отправляетесь в ссылку? Очень жаль. Вы хотите показать пример? Какое тщеславие! Вы бросаете вызов? Какая наглость! Кем же вы себя возомнили? Знайте, что мы не хуже вас. Но мы не покидаем своего поста. При желании мы тоже могли бы быть несговорчивы и непокорны и натворить еще худших дел, чем вы. Но мы предпочитаем благоразумие. Только потому, что я Тримальхион, вы считаете меня неспособным быть Катоном? Какие глупости!
Никогда еще положение вещей не было таким ясным и определенным, как в 1660 году. Никогда еще линия поведения благонамеренного человека не намечалась сама собой с такой отчетливостью.
Англия избавилась от Кромвеля. Много неправомерного было совершено во время республики. Британия приобрела первенство в Европе; в результате Тридцатилетней войны была покорена Германия; с помощью Фронды ослаблена Франция, с помощью герцога Браганцкого умалена Испания. Кромвель подчинил себе Мазарини; во всех договорах протектор Англии ставил свою подпись выше подписи французского короля; на Соединенные провинции была наложена контрибуция в восемь миллионов; Алжир и Тунис подверглись притеснениям; покорили Ямайку; усмирили Лиссабон; в Барселоне подогрели соперничество Испании и Франции, а в Неаполе восстание Мазаньелло; присоединили к Англии Португалию; от Гибралтара до Кандии очистили море от берберийцев; утвердили морское владычество двумя способами: силой оружия и торговлей; 10 августа 1653 года английский флот разбил Мартина Гапперца Тромпа, человека, выигравшего тридцать три сражения, старого адмирала, именовавшего себя «дедушкой матросов», победителя испанского флота. Англия отняла Атлантический океан у испанцев, Великий — у голландцев. Средиземное море — у венецианцев и по навигационному акту установила свое господство на побережьях всех морей; захватив океан, она держала в руках весь мир; голландский флаг смиренно приветствовал в море флаг английский; Франция в лице своего посла Манцини преклонила колени перед Оливером Кромвелем, а Кромвель, как мячами, играл Кале и Дюнкерком; он заставил трепетать весь континент, он диктовал мир, объявлял войну; повсюду развевался английский флаг; один только закованный в латы полк протектора внушал Европе больший ужас, чем целая армия; Кромвель говорил: «Я хочу, чтобы английскую республику уважали так, как уважали республику римскую»; не оставалось ничего святого; слово было свободно, печать была свободна; на улице говорили все, что хотели, все печатали без всякого контроля и цензуры; престолы зашатались; весь монархический порядок Европы, частью которого были Стюарты, пришел в расстройство. Но вот, наконец, Англия свергла этот ненавистный режим и получила прощение.
Снисходительный Карл II даровал Бредскую декларацию. Он дал Англии возможность забыть о том времени, когда сын гентингдонского пивовара попирал пятой голову Людовика XIV.
Англия покаялась в своих тяжких прегрешениях и вздохнула свободно. Радость, как мы уже говорили, объяла все сердца, и воздвигнутые виселицы цареубийц только усиливали ликование. Реставрация — это улыбка, но несколько виселиц не портят впечатления: надо же успокоить общественную совесть. Дух неповиновения рассеялся, восстанавливалась преданность монарху. Быть добрыми верноподданными — к этому сводились отныне все честолюбивые стремления. Все опомнились от политического безумия, все поносили теперь революцию, издевались над республикой и над тем удивительным временем, когда с уст не сходили громкие слова «Право, Свобода, Прогресс»; над их высокопарностью теперь смеялись. Возврат к здравому смыслу был зрелищем; достойным восхищения. Англия стряхнула с себя тяжкий сон. Какое счастье — избавиться от этих заблуждений. Возможно ли что-нибудь более безрассудное? Что было бы, если бы каждого встречного и поперечного наделили всеми правами? Вы представляете себе? Вдруг все стали бы правителями? Мыслимо ли, чтобы страна управлялась гражданами? Граждане — это упряжка, а упряжка — не кучер. Решать вопросы управления голосованием — разве это не то же, что плыть по воле ветра? Неужели вы хотели бы сообщить государственному строю зыбкость облака? Беспорядок не создает порядка. Если зодчий — хаос, строение будет Вавилонской башней. И потом, эта пресловутая свобода — сущая тирания. Я хочу веселиться, а не управлять государством. Мне надоело голосовать, я хочу танцевать. Какое счастье, что есть король, который всем этим занимается. Право, как великодушен король, что берет на себя весь этот труд. Кроме того, его этому учили, он умеет справляться с этим. Это его ремесло. Мир, война, законодательство, финансы — какое до всего этого дело народу? Конечно, необходимо, чтобы народ платил, чтобы он служил, и он должен этим довольствоваться. Ведь ему предоставлена возможность участвовать в политике: из его недр выходят две основные силы государства — армия и бюджет, Платить подати и быть солдатом — разве этого мало? Чего ему еще надо? Он — опора военная, и он же — опора казны. Великолепная роль. А за него царствуют. Должен же он платить за такую услугу. Налоги и цивильный лист — это жалованье, которое народы платят королям за их труды. Народ отдает свою кровь и деньги для того, чтобы им правили. Какая нелепая идея — самим управлять собою. Народу необходим поводырь. Народ невежествен, а стало быть, слеп. Ведь есть же у слепца собака. А у народа есть король — лев, который соглашается быть для своего народа собакой. Какая доброта! Но почему народ невежествен? Потому что так надо. Невежество — страх добродетели. У кого нет никаких надежд, у того нет и честолюбия. Невежда пребывает в спасительном мраке, который, лишая его возможности видеть, лишает его вместе с тем всяких вожделений. Отсюда — неведение. Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает. А зачем, спрашивается, народу рассуждать? Не рассуждать — это его долг и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы. На этом зиждется общество.
Таким образом в Англии снова восторжествовали здоровые социальные доктрины. Так вернула себе нация утраченную честь. Одновременно возродился интерес к изящной литературе. Стали презирать Шекспира и восхищаться Драйденом. «Драйден — величайший поэт Англии и своего века», — говорил Эттербери, переводчик «Ахитофела». Это было время, когда Гюэ, епископ Авраншский, писал Сомезу, оказавшему своими нападками и бранью честь автору «Потерянного рая»: «Как можете вы заниматься таким ничтожеством, как этот Мильтон?» Все возрождалось; все опять становилось на свое место: Драйден вверху, Шекспир внизу. Карл II на троне, Кромвель на виселице. Англия старалась загладить позор и сумасбродство минувших лет. Великое счастье для нации, когда монархия восстанавливает порядок в государственных делах и воспитывает хороший литературный вкус.
Трудно поверить, что можно не оценить такие благодеяния. Отвернуться от Карла II, заплатить неблагодарностью за то, что он великодушно воссел на восстановленный трон, — не гнусно ли это? Лорд Кленчарли причинил большое огорчение всем порядочным людям. Как это возмутительно — досадовать на счастье своей родины!
Известно, что в 1650 году парламент установил следующий текст присяги: «Обещаю хранить верность республике, без короля, без монарха, без государя». Лорд Кленчарли на том основании, что он принес эту чудовищную присягу, жил вне пределов королевства и на фоне всеобщего благополучия и привольной жизни считал себя вправе быть печальным. Он хранил скорбную память о том, что погибло. Странная привязанность к несуществующему!
Ему не было оправдания; даже самые благожелательные к нему люди отвернулись от него. Друзья долго оказывали ему честь, считая, что он вступил в ряды республиканцев лишь для того, чтобы поближе увидеть слабые стороны республики, и позднее, когда настанет время, вернее поразить ее, защищая священные интересы короля. А такое выжидание удобного момента для нападения на врага с тыла и есть одно из проявлений лояльности. Именно такой лояльности и ожидали от лорда Кленчарли, и были склонны истолковывать в лучшую сторону его поведение. Но перед лицом его странной приверженности к республике пришлось поневоле изменить это доброе мнение. Очевидно, лорд Кленчарли был верен своим убеждениям, то есть глуп.
Снисходительные люди колебались, не зная, чем объяснить его образ действий — ребяческим ли упрямством, или старческим упорством.
Люди строгие, справедливые шли дальше. Они клеймили отступника. Тупоумие в человеке допустимо, но оно должно иметь и границы. Можно быть грубияном, но нельзя быть бунтовщиком. В конце концов кто такой этот лорд Кленчарли? Перебежчик. Он покинул стан аристократии, чтобы примкнуть к стану противоположному — к народу. Следовательно, этот стойкий приверженец республики — изменник. Правда, он изменил более сильному и остался верен более слабому. Правда, стан, им покинутый, был победителем, а стан, к которому он примкнул, был побежденным; правда, при этом «предательстве» он потерял все: свои политические привилегии и свой домашний очаг, свое пэрство и свою родину. А что он выиграл? Прослыл чудаком и вынужден жить в изгнании. А что это доказывает? Да то, что он глупец! Это — бесспорно.
Предатель и в то же время простак — это бывает.
Будь дураком сколько хочешь, но не подавай дурного примера. От дураков не требуется ничего, кроме благонамеренности, и тогда они могут считать себя опорой монархии. Этот Кленчарли был невероятно ограниченным человеком. Он был по-прежнему ослеплен революционными фантазиями. Он прельстился республикой и из-за этого выброшен за борт. Он обесчестил свою страну. Позиция, занятая им, была настоящим вероломством. Его отсутствие было оскорблением. Он, словно от чумы, бежал от счастья своих соотечественников. В его добровольном изгнании был какой-то протест против всеобщего довольства. Он, видимо, считал королевскую власть заразой. На фоне веселья, вызванного торжеством монархии, он был чем-то мрачным и зловещим, как черный флаг над чумным бараком. Как? Напускать на себя угрюмый вид перед лицом восстановленного порядка, воспрянувшей нации, восторжествовавшей религии! Набрасывать тень на эту безмятежность! Негодовать на счастливую Англию! Быть темным пятном в безбрежном голубом небе! Напоминать собою угрозу! Противиться желанию нации! Говорить «нет», когда столько людей говорят «да»! Это было бы гнусно, если бы не было смешно. Этот Кленчарли не понял, что можно заблуждаться вместе с Кромвелем, но что следует вернуться вместе с Монком. Посмотрите на Монка. Он командовал республиканской армией; Карл II, находясь в изгнании и зная о его тайной преданности престолу, написал ему; Монк, умея сочетать доблесть с хитростью, сначала скрывал свои намерения, потом неожиданно ринулся во главе войска на мятежный парламент, возвел на престол короля и за спасение общества получил титул герцога Олбемарльского. Он приобрел богатство, навеки прославил свое время и в качестве кавалера ордена Подвязки может рассчитывать на то, что его похоронят в Вестминстерском аббатстве. Такова слава истинно верноподданного англичанина. Лорд Кленчарли не мог подняться до столь тонкого понимания долга. Он предпочел всему бездейственное изгнание. Он удовольствовался пустыми фразами. Его сковала гордость. Слова «совесть», «достоинство» и тому подобное в конце концов только слова. Надо смотреть глубже.
Вот этого-то умения смотреть глубже не было у лорда Кленчарли, — он был близорук; прежде чем принять участие, в каком-нибудь деле, он всегда хотел присмотреться к нему, узнать, чем оно пахнет. Отсюда все его нелепые предубеждения. При такой щепетильности нельзя быть государственным деятелем. Требовательная совесть превращается в недуг. Человек совестливый — однорук, ему не захватить власти; он евнух — ему не овладеть фортуной. Остерегайтесь щепетильности; она далеко заведет вас. Неразумная верность своим убеждениям ведет вниз, как лестница в погреб. Ступенька, другая, третья — и вы погружаетесь во тьму. Люди смышленые поднимаются обратно, простофили остаются внизу. Нельзя легкомысленно разрешать своей совести быть неприступной. Ведь так можно понемногу дойти до такой крайности, как честность в политике. Тогда вы погибли. Так и случилось с лордом Кленчарли.
Принципы в конце концов увлекают людей в бездну.
Вот и шагай теперь, заложив руки за спину, по берегу Женевского озера, — прекрасное занятие!
В Лондоне иногда говорили об этом изгнаннике. В глазах благородного общества он был чем-то вроде подсудимого. Одни высказывались за, другие против него. При этом смягчающим вину обстоятельством признавалась его глупость.
Многие из бывших приверженцев республики перешли на сторону Стюартов; что же, за это они только достойны похвалы. Естественно, что они слегка злословили на его счет. Угодливые души не выносят упрямцев. Люди умные, занявшие хорошее положение при дворе, которым надоело его вызывающее поведение, охотно говорили: «Он не примкнул к нам только потому, что ему слишком мало заплатили. Он хотел занять место канцлера, а король предоставил это место лорду Хайду» и т. д. Один из его «старых друзей» смело утверждал: «Он сам мне об этом говорил». Иногда, несмотря на замкнутый образ жизни Линнея Кленчарли, до него доходили кое-какие слухи через беглецов, которых он встречал, — старых цареубийц, вроде Эндрью Броутона, жившего в Лозанне. В ответ Кленчарли только пожимал плечами — признак полного отупения.
Однажды он дополнил этот жест следующими, сказанными вполголоса, словами: «Жалею тех, кто этому верит».
Карл II, человек мягкий, отнесся к нему с презрением. Англия была при Карле II больше чем счастлива, — она ликовала. Реставрация подобна потемневшей от времени картине, которую заново покрыли лаком, — все прошлое вдруг выступает наружу. Возвратились добрые старые нравы: красивые женщины царствовали и управляли. Эвелин отметил это; мы читаем в его дневнике: «Разврат, кощунство, презрение к богу. В воскресный вечер я видел короля с его непотребными девками: Портсмут, Кливленд, Мазарини и еще двумя-тремя другими; все почти голые собрались в галерее для игр». В этом описании сквозит явное недовольство; но Эвелин был ворчливый пуританин, зараженный республиканскими идеями. Он не оценил всего значения примера, который подают короли своими вавилонскими праздниками, в итоге способствующими развитию роскоши. Он не понимал пользы пороков. Существует правило: если хотите иметь прелестных женщин, не истребляйте пороков, иначе вы будете похожи на тех дураков, которые, страстно любя бабочек, истребляют гусениц.
Карл II, как мы уже сказали, почти не заметил, что существует мятежник по имени Кленчарли, но Иаков II был более внимателен. Карл II правил мягко, это была его манера; признаться, правлению государством это не вредило. Иногда моряк, натягивая снасти, предназначенные управлять ветром, оставляет один узел свободным, для того чтобы его затянул сам ветер. В этом проявляется глупость урагана и глупость народа.
Правление Карла II и было таким слабым узлом, который, однако, очень быстро затянулся туго-натуго.
При Иакове II этот узел затянулся окончательно; началось последовательное удушение всего, что осталось от революции. Иаков II возымел похвальное желание быть подлинным королем. В его глазах царствование Карла II было лишь черновым наброском реставрации; Иаков II хотел полностью возвратить прежние порядки. В 1660 году он выразил сожаление, что повесил всего лишь десять цареубийц. Он действительно восстановил «твердую власть». При нем восторжествовали серьезные принципы; воцарилось настоящее правосудие, которое, став выше чувствительных разглагольствований, заботится прежде всего об интересах общества.
Эти строгие охранительные мероприятия обнаруживают в нем отца государства. Он доверил отправление правосудия Джеффрису, а меч — Кирку. Этот рьяный полковник умножил устрашающие примеры. Вешая одного республиканца, он три раза подряд вынимал его из петли, спрашивая при этом: «Отказываешься от республики?» Злодей неизменно отвечал: «Нет!» — и был удавлен. «Я четыре раза вешал его», — с удовлетворением говорил Кирк. Возобновившиеся казни служили несомненным признаком сильной власти. Была казнена леди Лайль, отправившая своего сына на войну против Монмута, но укрывшая у себя двух мятежников. Другой мятежник, у которого хватило благородства сознаться, что старуха-анабаптистка давала ему приют, был помилован, женщину же сожгли на костре. Однажды Кирк дал понять одному городу, что знает о его республиканских грехах, — он повесил там девятнадцать горожан. Вполне законное возмездие, если вспомнить, что при Кромвеле в церквах отбивали носы и уши каменным статуям святых. Иаков II, сумевший выбрать Джеффриса и Кирка, был государем глубоко религиозным; он умерщвлял свою плоть, выбирая себе уродливых любовниц, он слушал проповедника, отца Ла-Коломбьера, почти не уступавшего елейностью речей отцу Шемине, но отличавшегося еще большим пылом. Этот священнослужитель прославился тем, что первую половину своей жизни был советником Иакова II, а вторую — вдохновителем Марии Алакок. Благодаря такой религиозной пище Иаков II позднее с достоинством мог переносить изгнание и в своем сен-жерменском уединении спокойно относился к превратностям судьбы и беседовал с иезуитами, являя собой пример твердого духом короля.
Понятно, что этот король должен был обратить некоторое внимание на такого мятежника, как лорд Линней Кленчарли. И так как наследственное пэрство заключает в себе кое-какие возможности, то ясно, что Иаков II готов был без всяких колебаний принять любые меры против этого лорда.
Глава 33
Лорд Дэвид Дерр-Мойр
Лорд Линней Кленчарли не всегда был стариком и изгнанником. Он пережил когда-то пору молодости и страстей. Со слов Гаррисона и Прайда известно, что Кромвель в молодости любил женщин и удовольствия; иной раз подобные увлечения доказывают (другая сторона женского вопроса), что в юноше таится будущий мятежник.
Итак, у лорда Кленчарли, как и у Кромвеля, были ошибки и заблуждения. У него был незаконный сын. Этот ребенок, явившийся на свет в дни падения республики, родился в Англии, как раз тогда, когда его отец отправлялся в изгнание. Вот почему мальчик никогда не видел своего отца. Незаконнорожденный отпрыск лорда Кленчарли вырос пажом при дворе Карла II. Его звали лорд Дэвид Дерри-Мойр; титул лорда за ним оставили «из учтивости», так как мать его была знатной дамой. В то время как лорд Кленчарли жил в Швейцарии угрюмым нелюдимом, эта красивая женщина решила быть сговорчивее и добилась того, что ей простили ее первого любовника-бунтовщика ради второго, несомненно более благонамеренного, даже роялиста, так как это был сам король. Она пробыла любовницей Карла II достаточно времени для того, чтобы король, счастливый тем, что отвоевал у республики такую красавицу, назначил маленького лорда Дэвида, сына побежденной им женщины, в свой личный конвой. Внебрачный сын получил офицерское звание, право столоваться при дворе и, в противовес своему отцу, стал горячим приверженцем Стюартов. Некоторое время он, в качестве офицера конвоя его величества, был одним из ста семидесяти, носивших палаши, затем был переведен в «пенсионеры» и стал одним из сорока, имевших право носить золотой бердыш. Кроме того, входя в состав учрежденного Генрихом VIII благородного отряда телохранителей, он пользовался привилегией подавать блюда на стол короля.
Таким образом, в то время как отец его старился в изгнании, лорд Дэвид благоденствовал при дворе Карла II.
Затем он стал благоденствовать и при дворе Иакова II.
Король умер, да здравствует король! — это non deficit alter, aureus[381].
По восшествии на престол герцога йоркского он получил разрешение называться лордом Дэвидом Дерри-Мойр, по названию поместья, которое, умирая, завещала ему мать; поместье это находилось в Шотландии, в большом лесу, где водится птица краг, клювом выдалбливающая себе гнездо в стволе дуба.
Иаков II был королем, но притязал на славу полководца. Он любил окружать себя молодыми офицерами. Он охотно показывался народу верхом, в каске и кирасе, в огромном развевавшемся парике, ниспадавшем из-под каски на кирасу; в таком виде он напоминал конную статую, олицетворяющую войну во всей ее бессмысленности. Ему нравились изящные манеры молодого лорда Дэвида. Он даже питал нечто вроде признательности к этому роялисту за то, что он был сыном республиканца: отречься от отца-бунтовщика небесполезно в начале придворной карьеры. Король сделал лорда Дэвида Дерри-Мойр своим постельничим, с жалованьем в тысячу ливров.
Это было крупное повышение. Постельничий спит в одной комнате с королем, на кровати, которую ставят для него рядом с королевским ложем. Всех постельничих двенадцать, и они поочередно охраняют короля.
Лорд Дэвид был, кроме того, назначен главным королевским конюшим, на обязанности которого лежало отпускать овес для королевских лошадей, за что он получал еще двести пятьдесят ливров в год. Под его началом находились пять королевских кучеров, пять королевских форейторов, пять королевских конюхов, двенадцать королевских выездных лакеев и четыре королевских носильщика. На нем лежал присмотр за шестью скаковыми лошадьми, которых король содержал в Хеймаркете и которые обходились его величеству в шестьсот ливров в год. Он был полновластным хозяином в королевской гардеробной, снабжавшей парадными костюмами кавалеров ордена Подвязки. Ему до земли кланялся королевский придверник, пристав черного жезла. При Иакове II эту должность занимал кавалер Дюппа. Лорду Дэвиду оказывали все знаки уважения королевский клерк господин Бекер и парламентский клерк господин Броун. Английский двор был образцом великолепия и гостеприимства. Лорд Дэвид председательствовал на пирах и приемах в числе двенадцати вельмож. Он имел честь стоять позади короля в «дни приношения», когда король жертвует церкви золотой безант, byzantium, и в «орденские дни», когда король надевает цепь своего ордена, и в «дни причастия», когда не причащается никто, кроме короля и принцев крови. В страстной четверг он вводил к королю двенадцать бедняков, которым король дарил столько серебряных пенни, сколько ему было лет, и столько шиллингов, сколько лет он уже царствует. Когда король заболевал, на обязанности лорда Дэвида лежало призывать двух высших сановников церкви, которые должны были ухаживать за королем, и не допускать к нему врачей без разрешения государственного совета. Кроме того, он был подполковником шотландского полка королевской гвардии, того самого, который играет шотландский марш.
В этом чине он участвовал в нескольких кампаниях и приобрел заслуженную славу как храбрый воин. Это был человек сильный, хорошо сложенный, красивый, щедрый, с благородной наружностью и превосходными манерами. Его внешность соответствовала его положению. Он был высокого роста и высокого происхождения.
Дерри-Мойр был уже на шаг от того, чтобы получить звание groom of the stole, что давало бы ему право подносить королю сорочку, но для этого нужно было быть принцем или пэром.
Сделать кого-нибудь пэром — дело серьезное. Это значит создать пэрство и тем самым породить завистников. Это — милость, а оказывая кому-либо милость, король приобретает одного друга и сто недругов, не считая того, что и друг оказывается потом неблагодарным. Иаков II из политических соображений с большим трудом жаловал своих подданных достоинством пэра, но передавал его охотно. Переданное пэрство не вызывает волнения. Это делается просто в целях сохранения знатного имени, и такая передача мало трогала лордов.
Король не имел ничего против того, чтобы ввести лорда Дэвида Дерри-Мойр в палату пэров, лишь бы это произошло в результате передачи пэрства. Его величество ждал подходящего случая, чтобы сделать Дэвида Дерри-Мойр, лорда «из учтивости», лордом по праву.
Случай этот представился.
В один прекрасный день стало известно, что со старым изгнанником произошли разные события, и главное из них было то, что он умер. Смерть хороша тем, что она заставляет хотя бы немного поговорить об умершем. Начали рассказывать, что знали (или, вернее, думали, будто знают) о последних годах жизни лорда Линнея. Очевидно, это были догадки и вымыслы. Если верить этим рассказам, несомненно совершенно неосновательным, республиканские чувства лорда Кленчарли до такой степени обострились к концу его жизни, что он женился — странное упрямство изгнанника! — на дочери одного из цареубийц, Анне Бредшоу, — имя называли с точностью, — которая умерла, произведя на свет ребенка, мальчика, являющегося якобы, если только все это правда, законным сыном и наследником лорда Кленчарли. Эти сведения, очень неопределенные, были похожи скорее на слухи, чем на факты. Для Англии того времени все происходящее в Швейцарии было таким же далеким, как для теперешней Англии то, что происходит в Китае. Лорду Кленчарли было будто бы пятьдесят девять лет, когда он женился, и шестьдесят, когда у него родился сын; говорили, что он умер немного времени спустя и мальчик остался круглым сиротой. Что ж, возможно, конечно, но маловероятно. Прибавляли, что ребенок этот «хорош как день», — как говорится в волшебных сказках. Король Иаков положил конец этим безусловно неосновательным слухам, всемилостивейше объявив в одно прекрасное утро Дэвида Дерри-Мойр единственным и бесспорным наследником его незаконного отца, лорда Линнея Кленчарли, «за неимением у такового законных детей и поскольку установлено отсутствие всякого другого родства и потомства», — грамота, гласящая об этом, была занесена в реестры палаты лордов. Этой грамотой король признавал за лордом Дэвидом Дерри-Мойр титулы, права и преимущества покойного лорда Линнея Кленчарли, при единственном условии, чтобы лорд Дэвид женился, по достижении ею совершеннолетия, на девице, которая в то время была еще младенцем в возрасте нескольких месяцев и которую король, неизвестно по каким причинам, еще в колыбели сделал герцогиней. Впрочем, причины эти были хорошо известны.
Малютку-невесту звали герцогиней Джозианой. В Англии была тогда мода на испанские имена. Одного из незаконных детей Карла II звали Карлосом, графом Плимут. Возможно, что имя Джозиана было сокращением двух имен — Джозефа и Анны. А может быть, существовало имя Джозиана, как было имя Джозия. Одного из приближенных Генриха II звали Джозией дю Пассаж.
Вот этой-то маленькой герцогине король и пожаловал пэрство Кленчарли. Она была пэрессой, ожидавшей своего пэра: пэром должен был стать ее будущий муж. Это пэрство состояло из двух баронств: баронства Кленчарли и баронства Генкервилл; кроме того, лорды Кленчарли в награду за какой-то воинский подвиг были высочайше пожалованы титулом сицилийских маркизов Корлеэне. Как общее правило, пэры Англии не могут носить иностранных титулов; однако бывают исключения — так, например, Генри Эрандел, барон Эрандел-Уордур, был, так же как и лорд Клиффорд, графом Священной Римской империи, князем которой был лорд Каупер; герцог Гамильтон носит во Франции титул герцога Шательро; Бэзил Фейлдинг, граф Денби, в Германии носит титул графа Габсбурга, Лауфенбурга и Рейнфельдена. Герцог Мальборо был в Швеции князем Миндельгеймом, так же как герцог Веллингтон был в Бельгии князем Ватерлоо. Тот же герцог Веллингтон был испанским герцогом Сьюдад-Родриго и португальским графом Вимейра.
В Англии уже и в те времена существовали, как они существуют и поныне, поместья дворянские и поместья недворянские. Эти земли, замки, городки, аренды, лены, поместья, аллоды и вотчины пэрства Кленчарли-Генкервилл принадлежали временно леди Джозиане, и король объявил, что как только лорд Дэвид Дерри-Мойр женится на Джозиане, он станет бароном Кленчарли.
Кроме наследства Кленчарли, у леди Джозианы было и собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу йоркскому Madame sans queue[382]. Madame sans queue значит просто Madame. Так величали Генриету Английскую, первую, после королевы, женщину Франции.
Лорд Дэвид, преуспевавший при Карле и Иакове, продолжал преуспевать и при Вильгельме Оранском. Он не заходил в своей приверженности Иакову так далеко, чтобы последовать за ним в изгнание. Не переставая любить своего законного короля, он имел благоразумие служить узурпатору. Впрочем, лорд Дэвид был хоть и не очень дисциплинированным, но превосходным офицером; он переменил сухопутную службу на морскую и отличился в «белой эскадре». Лорд Дэвид стал, как называли тогда, капитаном легкого фрегата. В конце концов из него вышел вполне светский человек, прикрывающий изяществом манер свои пороки, немного поэт, как и все в ту пору, хороший слуга королю и государству, непременный участник всех празднеств, торжеств, «малых королевских выходов», церемоний, но не избегавший и сражений, достаточно угодливый царедворец и вместе с тем весьма надменный вельможа, близорукий или зоркий, смотря по обстоятельствам; честный по природе, почтительный по отношению к одним и высокомерный с другими, искренний и чистосердечный по первому побуждению, но способный мгновенно надеть на себя любую личину прекрасно учитывающий дурное и хорошее расположение духа у короля, беспечно стоявший перед направленным на него острием шпаги, по одному знаку его величества готовый геройски нелепо рисковать своей жизнью, способный на любые выходки, но неизменно вежливый, раб этикета и учтивости, гордый возможностью в торжественных случаях преклонить колено перед монархом, веселый, храбрый, истый придворный по своему облику и рыцарь в душе, человек все еще молодой, несмотря на свои сорок пять лет.
Лорд Дэвид распевал французские песенки, изысканная веселость которых нравилась когда-то Карлу II.
Он любил красноречие, ценил высокий слог и восхищался прославленными, но нестерпимо скучными разглагольствованиями епископа Боссюэ в «Надгробных речах».
От матери ему досталось скромное наследство, приносившее около десяти тысяч фунтов стерлингов, или двести пятьдесят тысяч франков годового дохода, — этого едва хватало на жизнь. Он кое-как изворачивался, делая долги. В роскоши, экстравагантности и новшествах он не имел соперников. Как только ему начинали подражать, он придумывал что-нибудь новое. Для верховой езды он надевал широкие со шпорами сапоги из юфти двойного дубления. Ни у кого не было таких шляп, таких редкостных кружев и таких брыжей, как у него.
Глава 34
Герцогиня Джозиана
Хотя в 1705 году леди Джозиане было уже двадцать три года, а лорду Дэвиду сорок четыре, они все еще не были женаты — и по очень веским причинам. Быть может, они ненавидели друг друга? Вовсе нет. Но то, что от вас все равно не уйдет, не внушает вам ни малейшего желания торопиться. Джозиана хотела сохранить свою свободу, а лорд Дэвид — свою молодость. Ему казалось, что он тем дольше сможет продлить ее, чем позже свяжет себя брачными узами. В ту богатую любовными похождениями эпоху мужчины не спешили с женитьбой; седины не мешали волокитству: их скрывали парики, позднее на помощь пришла пудра. В пятьдесят лет лорд Чарльз Джерард, барон Джерард из бромлейских Джерардов, пользовался в Лондоне огромным успехом у женщин. Молодая прелестная герцогиня Бекингем, графиня Ковентри, была без ума от шестидесятисемилетнего красавца Томаса Белласайз, виконта Фалькомберга. Цитировали знаменитые стихи семидесятилетнего Корнеля, посвященные двадцатилетней даме: «Пускай мое лицо, маркиза». Женщины на склоне лет тоже побеждали сердца: вспомним хотя бы Ниной и Марион. Было кому подражать.
Отношения Джозианы и Дэвида были изящным кокетством, игрой в любовь. Они не любили, они только нравились друг другу. Им было вполне достаточно того, что они общались друг с другом. К чему было спешить? Тогдашние романы внушали влюбленным, что такого рода искус есть проявление хорошего тона. К тому же Джозиана, гордая своим высоким, хотя и незаконным происхождением, считала себя принцессой и держалась довольно надменно. Лорд Дэвид ей нравился. Лорд Дэвид был красив, но главное, она находила его изящным. Быть изящным — это все. Великолепный и изящный Калибан оставляет позади бедного Ариэля. Лорд Дэвид был красив — тем лучше; красивому мужчине угрожает опасность быть приторным; лорд Дэвид не был приторным. Он любил бокс, азартные игры и был в долгу как в шелку. Джозиану занимали его лошади, собаки, его проигрыши и любовницы. Лорд Дэвид в свою очередь поддавался очарованию герцогини Джозианы, девушки безупречного поведения, но свободной от предрассудков, высокомерной, неприступной и дерзкой. Он посвящал ей сонеты, которые Джозиана иногда удостаивала прочесть; он уверял в этих сонетах, что обладание Джозианой вознесет его на небеса, что не мешало ему, однако, из года в год откладывать это вознесение. Он стоял у врат сердца Джозианы, и это нравилось им обоим. Утонченность их отношений восхищала двор. Леди Джозиана говорила:
— Как досадно, что я должна выйти замуж за лорда Дэвида: мне хотелось бы только быть влюбленной в него!
Джозиана была олицетворением чувственной красоты. Невозможно было себе представить тело более великолепное. Она была очень высокого роста, пожалуй даже слишком высокого. Ее золотые волосы отливали пурпуром. Это была полная, свежая, румяная красавица, очень смелая и остроумная. Глаза ее говорили красноречиво. Любовников у нее не было, но у нее не было и целомудрия. Ее ограждала гордость. Мужчина? Что вы! Она могла бы снизойти только до божества или чудовища. Если добродетель состоит в неприступности, то Джозиана была идеалом добродетели, но отнюдь не воплощением невинности. Надменность удерживала ее от любовных приключений, но она не рассердилась бы, если бы ей их приписали, лишь бы они были оригинальны и достойны такой особы, как она. Она мало заботилась о своей репутации, но очень дорожила своей славой. Казаться легкомысленной и быть недосягаемой — верх искусства. Джозиана сознавала свое величие и свое обаяние. Ее красота скорей подавляла, чем очаровывала. Она ступала по сердцам. Это была вполне земная женщина. Если бы она почувствовала, что в груди у нее есть душа, она удивилась бы этому не меньше, чем увидев у себя за спиной крылья. Она рассуждала о Локке. Она была хорошо воспитана. Ходили слухи, что она знает арабский язык.
Быть живой женской плотью и быть женщиной — две вещи разные. Слабая струна женщины — жалость, так легко переходящая в любовь, была неведома Джозиане. Не потому, что она была бесчувственна: неверно сравнивать тело с мрамором, как это делали древние. Красивое тело не должно быть похоже на мрамор; оно должно трепетать, содрогаться, покрываться румянцем, истекать кровью, быть упругим, но не твердым, белым, но не холодным, должно испытывать наслаждение и боль; оно должно жить, мрамор же — мертв. Прекрасное тело почти имеет право быть обнаженным; его ослепительность заменяет ему одежды. Кто увидел бы Джозиану нагой, увидел бы ее тело лишь сквозь излучаемое им сияние. Она, не смутясь, предстала бы нагой и перед сатиром и перед евнухом. У нее была самоуверенность богини. Она с удовольствием создала бы из своей красоты пытку для нового Тантала. Король сделал ее герцогиней, а Юпитер — нереидой. Какое-то двойственное обаяние исходило от этого существа. Всякий, кто любовался ею, чувствовал, как становится язычником и ее рабом. Она была дитя прелюбодеяния и казалась нимфой, вышедшей из пены морской. Первое, что судил ей рок, — это плыть по течению, но в царственной среде. В ней было что-то не поддающееся определению, изменчивое, властное, порывистое. Она была образована и умна. Ни одна страсть не коснулась ее, но мысленно она испытала все. Возможность осуществить свои порочные мечты отталкивала ее и вместе с тем привлекала. Если бы она заколола себя кинжалом, она сделала бы это, как Лукреция, уже после падения. У этой девственницы было развращенное воображение. В этой Диане таилась Астарта. Пользуясь своим высоким происхождением, она держалась вызывающе и неприступно. Однако ей показалось бы забавным самой подготовить свое падение. Слава вознесла ее на лучезарную высоту, но она испытывала соблазн спуститься оттуда и, движимая любопытством, быть может даже бросилась бы вниз. Она была немного тяжеловесна для облаков, падение казалось ей заманчивым. Свойственная великим мира сего дерзость дает им право производить любые опыты, — ведь то, что губит мещанку, для герцогини только забава. Знатность рода, иронический ум, сияющая красота делали Джозиану почти королевой. Одно время она восторгалась Луи де Буфлером, ломавшим одною рукою подкову. Она жалела, что Геркулес уже умер, и жила в ожидании какой-то высокой и вместе с тем сладострастной любви.
Нравственный облик Джозианы заставлял вспомнить стих послания к Пизонам: Desinit in piscem[383]:
Прекрасный женский торс и гидры хвост.
Благородный торс, высокая грудь, вздымаемая ровным биением царственного сердца, живой и ясный взор, чистые, горделивые черты, а там под водой, в мутной волне, — как знать? — скрывается, быть может, сверхъестественное продолжение — гибкий и безобразный, ужасный хвост дракона. Недосягаемая добродетель, таящая порочные мечты…
И вместе с тем она была жеманна. Этого требовала мода. Вспомним Елизавету. Елизавета — тот тип женщины, который преобладал в Англии в течение трех столетий — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого. Елизавета была не только англичанкой, она была англиканкой. Вот чем объясняется глубокое уважение, с которым епископальная церковь относилась к этой королеве; это уважение, впрочем, разделяла и католическая церковь, что не помешало ей отлучить Елизавету. В устах Сикста Пятого, предававшего Елизавету анафеме, проклятие превращается в мадригал. «Государыня большого ума», — говорит он.
Мария Стюарт, менее заботившаяся о религиозных вопросах и больше занятая женскими переживаниями, не слишком уважала свою сестру Елизавету и писала ей как королева королеве и кокетка недотроге: «Ваше нежелание вступить в брак происходит от того, что вы не хотите отказаться от возможности свободно предаваться любви». Мария Стюарт играла веером, Елизавета — топором. Оружие неравное. Они обе соперничали в литературе. Мария Стюарт писала французские стихи, Елизавета переводила Горация. Некрасивая Елизавета считала себя красавицей; она любила катрены, акростихи; по ее желанию ключи от города ей подносили купидоны; она поджимала губки, как итальянка, и закатывала глаза, как испанка; у нее было три тысячи платьев, в том числе несколько костюмов Минервы и Амфитриты; она ценила ирландцев за их широкие плечи, носила расшитые блестками фижмы, обожала розы, ругалась, сквернословила, топала ногами, колотила своих фрейлин, Дедлея посылала к черту, била канцлера Берлея так, что бедняга плакал, плевала в лицо Мэтью, хватала за шиворот Хэттона, давала пощечины Эссексу, показывала свои ноги Бассомпьеру — и при всем том была девственницей.
Она сделала для Бассомпьера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона. Священное писание упоминало о подобном случае: следовательно, это не могло быть неприличным. Все, что допускала библия, могло быть допущено и англиканской церковью. Происшествие, о котором повествует библия, завершилось рождением ребенка, нареченного Эвнеакимом или Мелилехетом, что означает «сын мудреца».
Развратные нравы. Да. Но лицемерие не лучше цинизма.
Современная Англия, имеющая своего Лойолу в лице Уэсли, немного стесняется этого прошлого. Она и досадует на него и гордится им.
В те времена нравилось безобразие, в особенности женщинам, и притом красивым. Стоит ли быть красавицей, если у тебя нет урода? Стоит ли быть королевой, если нет какого-нибудь смешного пугала, который говорит тебе «ты»? Мария Стюарт «была благосклонна» к горбуну Риччо. Мария-Терезия Испанская была немного фамильярна с одним мавром. Следствием этой фамильярности явилась «черная аббатиса». В альковных историях «великого века» не был помехой и горб; примером может служить маршал Люксембургский. А еще раньше Люксембургского — Конде, этот «маленький красавчик».
Красавицы, и те могли иметь недостатки. Это допускалось. У Анны Болейн одна грудь была больше другой, шесть пальцев на руке и один лишний зуб, выросший над другим. У Лавальер были кривые ноги. Это не мешало Генриху VIII быть без ума от Анны Болейн, а Людовику XIV терять голову от любви к Лавальер.
Такие же отклонения от нормы наблюдались и в области моральной. Почти все женщины, принадлежавшие к высшему кругу, были нравственными уродами. В Агнесах таились Мелузины. Днем они были женщинами, а ночью упырями. Они ходили к месту казни и целовали только что отрубленные головы, насаженные на железные колья. Маргарита Валуа, родоначальница всех жеманниц, носила у пояса юбки пришитые к корсажу, закрывавшиеся на замок жестяные коробочки, в которых хранились сердца умерших ее возлюбленных. Под этой необъятной юбкой прятался Генрих IV.
В восемнадцатом веке герцогиня Беррийская, дочь регента французского королевства, воплотила в своем образе все разновидности этого типа распутных принцесс.
И наряду с этим прекрасные дамы знали латынь. Начиная с семнадцатого века, знакомство с латынью считалось одной из женских прелестей. Изысканность Джен Грей доходила до того, что она изучила древнееврейский язык.
Герцогиня Джозиана знала латинский. Кроме того, у нее было еще одно преимущество: она была католичкой, — правда, втайне и скорее как ее дядя Карл II, чем как ее отец Иаков II. Из-за своей приверженности к католицизму Иаков потерял трон, Джозиана же совсем не желала рисковать своим пэрством. Вот почему, будучи католичкой в кругу своих утонченных друзей, она была протестанткой для черни.
Этот способ исповедовать религию удобен; вы пользуетесь всеми преимуществами, предоставленными вам официальной епископальной церковью, а умираете, как Гроциус, в правоверии католицизма, и отец Пето служит по вас заупокойную мессу.
Несмотря на свое цветущее здоровье, Джозиана, повторяем, была в полном смысле слова жеманницей.
Иногда ее ленивая и сладострастная манера растягивать конец фразы напоминала мягкие движения крадущейся в джунглях тигрицы.
Положение жеманниц выгодно тем, что они резко отделяют себя от всего человеческого рода, считая свою особу выше остальных людей.
Жеманницам важней всего держать человечество на известном расстоянии.
За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье. Юнона превращается в Араминту.
Жеманницу создает неосуществимое притязание на божественность. Небесные громы заменяются дерзостью; храм, уменьшившись в размерах, становится будуаром. Не имея возможности быть богиней, жеманница ограничивается ролью идола.
В жеманстве есть известного рода педантство, которое приятно женщинам. Кокетка и педант — близкие соседи. Их внутреннее родство ясно проступает в образе фата.
Изнеженность идет от чувственности. Чревоугодие прикрывается разборчивостью. Алчности к лицу гримаса отвращения.
Кроме того, слабости, обычно свойственные женщинам, оказываются хорошо защищенными любовной казуистикой, которая заменяет им суровый голос совести. Это похоже на ров перед осаждаемой крепостью. Всякая жеманница имеет неприступный вид. Это ограждает ее от возможной опасности.
Она, конечно, сдастся, но пока она полна презрения; повторяем, пока.
В глубине души Джозиана была неспокойна. Она сознавала в себе такую склонность к разнузданности, что держала себя святошей. Гордость, сдерживающая наши пороки, толкает нас к порокам противоположным. Чрезмерные усилия быть целомудренной делали Джозиану недотрогой. Постоянная настороженность свидетельствует о тайном желании подвергнуться нападению. Кто действительно неприступен, тому нет надобности вооружаться суровостью.
Она была ограждена своим исключительным положением и высоким происхождением, не переставая, как мы уже говорили, помышлять о какой-нибудь неожиданной выходке.
Занималась заря восемнадцатого столетия. Англия копировала Францию времен регентства. Уолпол немногим отличался от Дюбуа. Мальборо сражался против своего бывшего короля Иакова II, которому, как говорят, он продал свою сестру Черчилль. Блистал Болингброк, всходила звезда Ришелье. Некоторое смешение сословий создавало удобную почву для любовных интриг; порок уравнивал людей, принадлежавших к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Якшаясь с чернью, аристократия положила начало тому, что позднее завершила революция. Уже недалеко было то время, когда Желиот мог открыто сидеть среди бела дня на кровати маркизы д'Эпине. Впрочем, нравы одного столетия нередко перекликаются с нравами другого Шестнадцатый век был свидетелем того, как ночной колпак Сметона лежал на подушке Анны Болейн.
Если женщина и грех одно и то же, как утверждалось на каком-то вселенском соборе, то никогда еще женщина не была до такой степени женщиной, как в те времена. Прикрывая свое непостоянство очарованием, а слабость — всемогуществом, она никогда еще так властно не заставляла прощать себя. То, что Ева сделала из плода запретного плод дозволенный, было ее падением, зато ее торжеством было превращение дозволенного плода в плод запретный. В восемнадцатом веке женщина не допускает в свою спальню супруга. Ева запирается в эдеме с сатаной. Адам остается по ту сторону райских врат.
Инстинкты Джозианы скорее склоняли ее к свободной любви, чем к законному браку. В свободной любви есть что-то от литературы, это напоминает историю Меналка и Амарилис, свидетельствует почти что об учености.
Если исключать влечение одного урода к другому, мадемуазель Скюдери не имела другого основания уступить Пелиссону.
Девушка властвует над женихом, а жена подчиняется мужу — таков старинный английский обычай. Джозиана старалась, насколько возможно, отдалить час своего рабства. Конечно, повинуясь королевской воле, ей неизбежно предстояло выйти замуж за лорда Дэвида. Но как это было неприятно! Не отвергая лорда Дэвида, Джозиана в то же время держала его в некотором отдалении. Между ними существовало безмолвное соглашение; не заключать брака и не расходиться. Они избегали друг друга. Этот способ любить, делая один шаг вперед и два назад, отразился и в танцах того времени — в менуэте и гавоте. Брак никому не к лицу, из-за него блекнут ленты, украшающие платье, он старит. Брак — убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса — какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым положениям; он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографией, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умаляет тех, кто предъявляет свои права, и тех, кто им подчиняется; наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательнее равновесие, существующее между полом сильным и полом могущественным, между силой и красотой, мужа делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существуют только раб и царица. Как превращать ложе в нечто до того прозаическое, что оно становится вполне благопристойным, — мыслимо ли что-либо более вульгарное? Не глупо ли стремиться к такой пресной любви?
Лорд Дэвид достиг вполне зрелого возраста. Сорок лет — не шутка. Он не замечал их. Действительно, ему нельзя было дать больше тридцати. Он предпочитал желать Джозиану, чем обладать ею. Он обладал другими женщинами; у него были любовницы.
А Джозиана предавалась мечтам. И это было хуже.
У герцогини Джозианы была одна особенность, встречающаяся чаще, чем предполагают: один глаз у нее был голубой, а другой черный. Глаза эти таили в себе любовь и ненависть, счастье и горе. День и ночь смешались в ее взгляде.
Честолюбие ее было столь велико, что ей хотелось совершить невозможное.
Однажды она сказала Свифту:
— Вы воображаете, что ваше презрение чего-нибудь стоит?
Под этим «вы» подразумевался весь человеческий род.
Она была паписткой, но это было в ней очень поверхностно. Ее католицизм не переходил границ, установленных требованиями элегантности. В наши дни это называлось бы пюзеизмом. Она носила тяжелые бархатные, атласные или муаровые платья, затканные золотом и серебром, некоторые шириною в пятнадцать-шестнадцать локтей, пояс ее был перевит множеством нитей жемчуга и драгоценных камней. Она злоупотребляла галунами. Иногда она надевала суконный камзол, обшитый позументом, как у бакалавра. Она ездила верхом по-мужски, несмотря на то, что дамские седла были введены в Англии Анной, женой Ричарда II, еще в четырнадцатом веке. Следуя кастильскому обычаю, сна мыла лицо, руки и грудь раствором леденцов в яичном белке. Выслушав какое-нибудь остроумное замечание, она отвечала на него задумчивым, необычайно красивым смехом.
Впрочем, злой она не была; она была скорее добра.
Глава 35
Magister elegantiarum — законодатель изящества
Джозиана, конечно, скучала.
Лорд Дэвид Дерри-Мойр занимал выдающееся место среди веселящегося лондонского общества. Аристократия и дворянство относились к нему с глубоким почтением.
Отметим один из славных подвигов лорда Дэвида: он осмелился носить собственные волосы. Реакция против париков уже начиналась. Подобно тому как в 1824 году Эжен Девериа первый отважился отпустить бороду, так в 1702 году Прайс Девере первый появился в обществе с прической из собственных, искусно завитых волос. Рисковать шевелюрой значило почти рисковать головой. Негодование было всеобщим, хотя Прайс Девере был виконтом Герфордом и пэром Англии. Его оскорбляли, и действительно было за что. И вот, в самый разгар этой травли, лорд Дэвид неожиданно появился тоже без парика, в прическе из своих волос. Подобные поступки знаменуют собою начало крушения общественного уклада. На лорда Дэвида посыпалось еще больше оскорблений, чем на виконта Герфорда. Он, однако, продолжал делать по-своему. Прайс Девере был первым, Дэвид Дерри-Мойр оказался вторым. Иногда вторым быть труднее, чем первым. Для этого нужно меньше гениальности, но больше отваги. Первый, упоенный новизной, может не знать размеров угрожающей ему опасности, второй же видит пропасть и все же бросается в нее. Вот в эту-то пропасть и устремился Дэвид Дерри-Мойр, дерзнув вторым появиться без парика. Позднее у двух смельчаков нашлись подражатели, рискнувшие носить собственные волосы; смягчающим обстоятельством явилась пудра.
Чтобы правильнее осветить столь важный исторический факт, мы должны признать настоящее первенство в этой войне против париков за шведской королевой Христиной, одевавшейся в мужское платье и носившей, начиная с 1680 года, свои собственные каштановые волосы, напудренные и беспорядочно взбитые. Впрочем, у нее, кроме того, была, по словам Миссона, «кое-какая растительность на подбородке». Со своей стороны папа римский тоже подорвал отчасти уважение к парику, издав в марте 1694 года буллу, запрещавшую епископам и священникам носить парики и предписав всем служителям церкви отращивать волосы.
Итак, лорд Дэвид не признавал парика и, кроме того, носил сапоги из юфти.
Эти подвиги вызывали всеобщее восхищение. Не было ни одного аристократического клуба, где лорд Дэвид не состоял бы почетным членом, не проходило ни одного состязания боксеров, где бы он не являлся для всех желанным referee. Referee — значит судья.
Он принял участие в сочинении уставов нескольких клубов лондонского высшего света; он основал ряд великолепных учреждений, из которых одно, а именно «Леди Гинея», существовало в Пел-Меле еще в 1772 году. Там играли на золото. Самой маленькой ставкой был столбик из пятидесяти гиней; в банке никогда не было меньше двадцати тысяч гиней. Подле каждого игрока стоял столик, чтобы ставить на него чай и золоченую деревянную чашку для гиней. Игроки надевали, как лакеи во время чистки ножей, кожаные нарукавники и нагрудники, предохранявшие от порчи их кружевные манжеты и брыжи; широкополые соломенные шляпы, украшенные цветами, защищали их от яркого света и сохраняли завивку. Все они были в масках, чтобы скрыть свое волнение, в особенности когда шла игра в «пятнадцать». Камзолы онинадевали наизнанку, так как, говорят, это приносит удачу.
Лорд Дэвид состоял членом «Бифштекс-клуба», «Серли-клуба», «Клуба ворчунов», «Сплит-фартинг-клуба», «Клуба скаредов», «Клуба запечатанного узла» («Силед-Нот»), «Клуба роялистов» и «Клуба Мартина Скриблера», основанного Свифтом взамен «Клуба Рота», учрежденного Мильтоном.
Несмотря на свою красивую наружность, он был также членом «Клуба безобразных». Этот клуб был посвящен уродству. Там давали обещание драться не из-за красивых женщин, а из-за безобразных мужчин. В зале клуба были развешаны портреты уродливых людей: Терсита, Трибуле, Дунса, Гудибраса, Скаррона; на камине между двумя кривыми — Коклесом и Камоэнсом — стоял Эзоп; Коклес был крив на левый глаз, а Камоэнс на правый; каждый из них был обращен к зрителю своим невидящим глазом; их слепые профили смотрели друг на друга. В тот день, когда красавица Визар заболела оспой, в «Клубе безобразных» пили за ее здоровье. Этот клуб процветал еще в начале девятнадцатого столетия; он послал Мирабо диплом почетного члена.
С восстановлением на престоле Карла II все республиканские клубы были уничтожены. На улице, прилегавшей к Мурфилдсу, была уничтожена таверна, в которой заседал «Клуб телячьей головы», получивший это название потому, что 30 января 1649 года, в день, когда пролилась на эшафоте кровь Карла I, здесь пили красное вино за здоровье Кромвеля из телячьего черепа.
На смену республиканским клубам явились клубы монархические.
Там развлекались вполне благопристойно: например, члены «Клуба озорников» хватали на улице какую-нибудь проходившую мимо мещанку, по возможности не старую и не безобразную, силой затаскивали ее в клуб и заставляли ходить на руках, вверх ногами, причем падавшие на голову юбки закрывали ей лицо. Если она упрямилась, ее слегка подстегивали хлыстом по тем частям тела, которых больше не скрывала одежда. Сама виновата, изволь слушаться. Подвизавшиеся в этом своеобразном манеже назывались «прыгунами».
Был клуб «Жарких молний», который назывался также «Клубом веселых танцев». Там заставляли негров и белых женщин исполнять танцы перуанских пикантов и тимтиримбасов, в частности «мозамалу» (дурная девушка) — пляску, завершающуюся тем, что танцовщица садится на кучу отрубей и, подымаясь, оставляет на ней отпечаток неудобоназываемой части тела. Там же ставили в лицах картину, о которой говорит стих Лукреция:
Tunc Venus in sylvis jungebat corpora amantum[384].Был «Клуб адского пламени», в котором занимались богохульством. Члены его соперничали друг с другом в кощунстве. Ад доставался в награду тому, кто превосходил в этом отношении всех остальных.
Был «Клуб ударов головы», названный так потому, что там наносили людям удары головой. Подыскивали какого-нибудь грузчика с широкой грудью и глупым лицом. Предлагали ему, а иногда и насильно заставляли его согласиться выпить кружку портера с тем, что его четыре раза ударят в грудь головой. Потом составлялись пари. Один валлиец, по имени Гоганджерд, здоровенный малый, после третьего удара испустил дух. Дело оказалось довольно серьезным. Началось расследование, и комиссия установила: «Умер от разрыва сердца вследствие злоупотребления спиртными напитками». Гоганджерд действительно выпил кружку портера.
Был еще «Фен-клуб». Fun, как и cant или как humour, — термин почти непереводимый. По отношению к шутке fun то же, что перец по отношению к соли. Пробраться к кому-нибудь в дом, разбить дорогое зеркало, изрезать фамильные портреты, отравить собаку, посадить к птицам кошку, все это — fun. Распустить слух о чьей-нибудь смерти, заставив родственников мнимого покойника облечься в траур, — это тоже fun. Тот, кто прорезал в картине Гольбейна в Гемптон-Корте большую четырехугольную дыру, тоже устроил fun.
Самым замечательным fun было бы отбить руку у Венеры Милосской. При Иакове II один молодой лорд миллионер заставил хохотать весь Лондон: он ночью поджег для забавы чью-то лачугу; его объявили королем fun. Несчастные обитатели лачуги спаслись в одном белье, лишившись всего своего убогого скарба. Ночью, когда обыватели спали, члены «Фен-клуба», все представители высшей аристократии, бродили по Лондону, срывали с петель ставни, перерезали пожарные кишки, вышибали дно у бочек с водой, снимали вывески, топтали огороды, тушили уличные фонари, перепиливали столбы, подпиравшие ветхие стены домов, разбивали оконные стекла, в особенности в бедных кварталах. Так поступали с бедняками богачи. Жаловаться на них было невозможно. Впрочем, все это считалось шутками. Подобные нравы и до сих пор еще не совсем вывелись. В разных частях Англии или английских владений, например на острове Гернсей, от времени до времени на ваш дом ночью происходит небольшое нападение: у вас ломают забор, срывают молоток у двери и т. д. Если бы это проделывали бедняки, их сослали бы на каторгу, но этим занимается золотая молодежь.
Во главе самого аристократического клуба стоял председатель, который носил на лбу полумесяц и назывался «Великим могоком». Могок превосходил даже fun. Делать зло во имя зла — такова была его программа. «Могок-клуб» ставил перед собой великую цель — вредить. Для достижения этой цели все средства были хороши. Тот, кто становился могоком, давал клятву всем вредить. Вредить во что бы то ни стало, все равно когда, все равно кому, все равно как, — это входило в его обязанность. Всякий член «Могок-клуба» должен был иметь какой-нибудь особый талант. Один был «учителем танцев»: он заставлял подскакивать крестьян тем, что колол им шпагой икры. Другой умел «вгонять в пот». Для этого шесть-восемь джентльменов, вооруженных рапирами, останавливали какого-нибудь бродягу; оборванец, окруженный со всех сторон, неизменно оказывался к кому-нибудь спиной; джентльмен, к которому несчастный обращался спиной, колол его клинком, отчего бедняга невольно поворачивался; новая рана в поясницу давала ему знать о том, что сзади него стоит другой джентльмен; таким образом, его кололи по очереди; когда забавникам казалось, что израненный человек достаточно навертелся и напрыгался, они приказывали лакеям избить его, чтобы изменить направление его мыслей. Другие «били льва», то есть со смехом останавливали какого-нибудь прохожего, ударом кулака разбивали ему нос и большими пальцами вдавливали глаза. Если он навсегда терял зрение, его вознаграждали за слепоту некоторой суммой денег.
Вот как мило развлекались в начале восемнадцатого столетия богатые лондонские повесы. Парижские бездельники развлекались по-своему. Граф де Шароле подстрелил мирного жителя, стоявшего на пороге своего дома. Молодость любит повеселиться.
Лорд Дэвид Дерри-Мойр вносил во все эти увеселительные учреждения свойственный ему дух великолепной щедрости. Как и все, он весело поджигал крытую соломой деревянную лачугу и поджаривал немного ее обитателей, но зато потом он строил им каменный дом. Однажды в «Клубе озорников» ему случилось заставить танцевать на руках двух женщин. Одной из них, девушке, он дал потом хорошее приданое; другая была замужем, и он выхлопотал ее мужу место капеллана.
Он ввел достойные похвал усовершенствования в петушиные бои. Нельзя было не любоваться им, когда он готовил петуха к бою. Как люди хватают друг друга за волосы, так петухи друг друга хватают за перья. Поэтому лорд Дэвид делал своего петуха как можно более лысым. Он самолично срезывал ему ножницами все перья на хвосте и от головы до плеч. «Тем меньше останется для клюва противника», — говорил он. Потом он расправлял петуху крылья и одно за другим заострял в них перья, так что каждое перо становилось своего рода копьем. «А это для глаз противника», — объяснял он. Потом он скоблил ему лапы, перочинным ножиком оттачивал когти, надевал на шпоры острые стальные наконечники; поплевав ему на голову и на шею, он натирал его своей слюной, как натирали маслом тела атлетов, и выпускал его в этом устрашающем виде, возглашая:
— Вот как из петуха делают орла и как обитателя курятника превращают в горную птицу.
Лорд Дэвид неизменно присутствовал при боксе и являлся тончайшим знатоком всех правил этого спорта. Под его наблюдением перед каждым серьезным боем вколачивались колья и протягивалась меж ними веревка; он определял величину площадки, на которой будет происходить поединок. Когда он бывал секундантом, он шаг за шагом следовал за своим подопечным с бутылкой в одной руке и губкой в другой, кричал боксеру: «Бей крепче!», подсказывал всякие уловки, давал советы, вытирал ему кровь, подымал, когда тот падал, и, положив к себе на колени, поил его; набрав воды в рот, прыскал ему в лицо, обмывал глаза и уши; таким образом он приводил в чувство даже умирающих. Когда он бывал судьей, он всегда следил за правильностью ударов, запрещал кому бы то ни было, кроме секундантов, помогать дерущимся, объявлял побежденным чемпиона, который становился в неправильную позицию к противнику, наблюдал, чтобы приготовления к схватке не длились больше полминуты, не позволял подставлять подножку, не разрешал наносить удары головой или бить упавшего. Вся эта премудрость отнюдь не делала из него педанта и ничуть не вредила его светскости.
И уж когда судьей в боксе бывал он, ни один из загорелых, прыщавых, нестриженых сторонников того или иного бойца не осмеливался перелезать через ограду, выскакивать на середину площадки, разрывать веревки, вытаскивать колья и вмешиваться в бой, чтобы прийти на помощь слабеющему боксеру и склонить весы счастья на его сторону. Лорд Дэвид принадлежал к числу тех немногих судей, которым не осмеливались задать трепку.
Никто не умел так тренировать, как он. Боксер, получивший согласие лорда Дэвида быть его тренером, был заранее уверен в победе. Лорд Дэвид выбирал геркулеса, крепкого, как скала, и высокого, как башня, и воспитывал его, как родное дитя. Задача состояла в том, чтобы научить эту каменную глыбу в образе человека переходить из положения оборонительного в положение наступательное, и лорд Дэвид блестяще разрешал ее. Выбрав великана, он уже не расставался с ним. Он становился его нянькой. Он отмерял ему вино, отвешивал мясо, считал часы его сна. Он установил тот замечательный режим для атлетов, который впоследствии возобновил Морлей: утром сырое яйцо и стакан хереса, в полдень кровавый бифштекс и чай, в четыре часа поджаренный хлеб и чай, вечером эль и поджаренный хлеб. После этого он раздевал своего питомца, массировал и укладывал в постель. На улице он не терял его из виду, оберегал от всяких опасностей: от вырвавшихся на свободу лошадей, от колес экипажей, от пьяных солдат и красивых девушек. Он следил за его нравственностью. С материнской заботливостью он вносил все новые и новые усовершенствования в воспитание опекаемого им силача. Он показывал ему, как надо выбивать зубы ударом кулака, как выдавливать большим пальцем глаз. Трудно было представить себе что-либо более трогательное.
Вот каким образом готовил он себя к политической деятельности, которой впоследствии должен был заняться. Не так-то просто стать настоящим джентльменом.
Лорд Дэвид Дерри-Мойр страстно любил уличные зрелища, театральные подмостки, цирки с диковинными зверями, балаганы, клоунов, фигляров, шутов, представления под открытом небом, ярмарочных фокусников. Настоящий аристократ не гнушается удовольствиями простого народа; вот почему лорд Дэвид посещал таверны и балаганы Лондона и Пяти Портов. Чтобы иметь возможность, не компрометируя своего звания офицера «белой эскадры», схватиться при случае с каким-нибудь матросом или конопатчиком, он прибегал к маскараду и в толпе обитателей трущоб всегда появлялся в матросской куртке. При этих переодеваниях было большим удобством то, что он не носил парика, ибо даже при Людовике XIV народ сохранял свои волосы, как лев — гриву. В таком виде лорд Дэвид чувствовал себя ничем не связанным. Мелкий люд, с которым он вступал в общение на этих шумных сборищах, относился к нему с уважением, не зная, что он лорд. Его называли Том-Джим-Джек. Под этой кличкой он был очень популярен и даже знаменит среди голытьбы. Он мастерски прикидывался простолюдином и при случае пускал в ход кулаки.
Эту сторону его изысканной жизни знала и очень ценила леди Джозиана.
Глава 36
Королева Анна
Над этой четой судьба поставила Анну — королеву Англии. Королева Анна была самой заурядной женщиной. Она была весела, благожелательна, почти величественна. Ни одно из ее положительных качеств не достигало степени добродетели, ни один из недостатков не доходил до порока. Ее полнота была одутловатостью, остроумие — тупостью, а доброта — глупостью. Она была упряма и ленива, была и верна и неверна своему мужу, так как отдавала сердце фаворитам, а ложе берегла для супруга. Как христианка, она была и еретичкой и ханжой. Ее красила сильная шея Ниобеи. Все остальное в ее наружности было значительно хуже. Кокетничала она неловко и бесхитростно. Зная, что у нее нежная белая кожа, она охотно надевала открытые платья. Она ввела в моду плотно облегавшие шею ожерелья из крупного жемчуга. У нее был низкий лоб, чувственные губы и выпуклые близорукие глаза. Эта близорукость распространялась и на ее ум. За исключением редких порывов веселости, почти столь же тягостных для окружающих, как и ее гнев, она жила в атмосфере молчаливого недовольства и затаенного брюзжания. У нее вырывались слова, о смысле которых надобно было догадываться. Это была смесь доброй женщины и злой дьяволицы. Она любила неожиданности — чисто женское свойство. Это была представительница первобытного типа Евы, еле тронутого резцом времени. И на долю этого чурбана случайно выпал трон. Она пила. Муж ее был породистый датчанин.
Будучи сторонницей тори, она правила при посредстве вигов. Правила по-женски, безрассудно. На нее иногда находили припадки бешенства. Все у нее валилось из рук. Трудно представить себе человека, менее подходящего для управления государством. Она роняла наземь события. Через ее политику проходила глубокая трещина. Из-за нее пустяковые происшествия приводили к катастрофам. Когда ей почему-либо хотелось показать свою власть, она называла эти проявления самодурства «огреть кочергой».
Она с глубокомысленным видом изрекала такие фразы:
— Ни один пэр, кроме Курси, барона Кинсела, пэра Ирландии, не смеет стоять перед королем с покрытой головой.
Или:
— Мой отец был лорд-адмиралом, отчего же и моему мужу не носить этого звания? Это несправедливо.
И она делала Георга Датского генерал-адмиралом Англии и всех колоний ее величества. Она постоянно находилась в дурном настроении. Мысли свои она не высказывала, а изрекала. В этой гусыне были некоторые черты сфинкса.
Она не была противницей fun — злобной издевательской шутки. Она с радостью сделала бы Аполлона горбатым, но оставила бы его богом. Когда на нее находил добрый стих, она не хотела никого огорчать, но докучала решительно всем. У нее часто вырывались грубые слова; еще немного — и она ругалась бы площадными словами, как Елизавета. Время от времени она доставала из кармана юбки маленькую круглую коробочку чеканного серебра с ее собственным профилем между двумя буквами «К» и «А» и, взяв оттуда на кончик мизинца немного помады, красила себе губы. Приведя в порядок рот, она начинала смеяться. Ее любимым лакомством были плоские зеландские пряники. Она гордилась своим дородством.
Будучи скорее всего пуританкой, Анна питала, однако, склонность к зрелищам. Ей очень хотелось основать музыкальную академию, наподобие французской. В 1770 году один француз, по имени Фортерош, задался целью построить в Париже «Королевский цирк», который должен был обойтись в четыреста тысяч франков, но этому воспротивился министр д'Аржансон; Фортерош приехал в Англию и предложил свой план королеве Анне; ее на минуту соблазнила идея выстроить в Лондоне оборудованный машинами и четырехъярусными люками театр, который затмил бы роскошью театр короля Франции. Как и Людовик XIV, она любила быструю езду. Иногда ее переезд в карете из Виндзора в Лондон занимал не больше часа с четвертью, включая все остановки.
Во времена Анны никакие сборища не допускались без разрешения двух мировых судей. Двенадцать человек, собравшихся хотя бы для того, чтобы поесть устриц и выпить портеру, объявлялись заговорщиками.
Во время этого относительно спокойного царствования насильственный набор во флот производился с особой жестокостью — печальное доказательство того, что англичанин в большей мере подданный, чем гражданин. На протяжении столетий английские короли поступали в этом отношении как тираны, нарушая все старинные хартии вольностей и вызывая этим негодование и злорадство во Франции. Торжество ее отчасти умалялось тем, что, наподобие практиковавшейся в Англии насильственной вербовки матросов, во Франции существовала насильственная вербовка солдат. Во всех больших городах Франции любой здоровый мужчина, шедший по своим делам, мог быть схвачен на улице вербовщиками и отправлен в один из домов, носивших название «печи». Там его запирали вместе с другими жертвами, затем вербовщики отбирали годных к военной службе и продавали их офицерам. В 1695 году в Париже было тридцать таких «печей».
Изданные королевой Анной законы против Ирландии были ужасны.
Анна родилась в 1664 году, за два года до пожара Лондона, на основании чего астрологи (эти звездочеты тогда еще существовали; при рождении Людовика XIV также присутствовал астролог, составивший его гороскоп) предсказали, что, как «старшая сестра огня», она будет королевой. Она и стала королевой благодаря астрологии и революции 1688 года. Анна чувствовала себя униженной тем, что ее крестным отцом был всего лишь Джильберт, архиепископ Кентерберийский. В те времена в Англии уже невозможно было иметь крестным отцом папу. Но даже старший среди епископов — незавидный восприемник для августейшей особы. Анне пришлось удовольствоваться им. Это произошло по ее собственной вине. Зачем она была протестанткой?
За ее девственность, virginitas empta[385], как говорится в старинных хартиях, Дания уплатила шесть тысяч двести пятьдесят фунтов стерлингов годового пожизненного дохода, получаемого ею с Вардинбурга и острова Фемарна.
Анна следовала — не по убеждениям, а по привычке — традициям Вильгельма Оранского. Во время этого царствования, рожденного революцией, англичане пользовались свободой на всем пространстве между Тауэром, куда заключали ораторов, и позорным столбом, к которому ставили писателей. Анна говорила немного по-датски — наедине с мужем, и по-французски — наедине с Болингброком. Французский язык она коверкала нещадно, но в Англии, в особенности при дворе, было в моде говорить по-французски. На другом языке никакие остроты не имели успеха. Анна уделяла огромное внимание монетам, в особенности мелким медным монетам, имеющим широкое хождение, — ей хотелось красоваться на них. В ее царствование отчеканили фартинги шести образцов. На трех первых она приказала изобразить трон, на четвертом — триумфальную колесницу, а на шестом — богиню, держащую в одной руке меч, в другой — оливковую ветвь с надписью: Bello et Pace[386]. Дочь наивного и жестокого Иакова II была груба.
И вместе с тем она была в сущности кроткой женщиной. Это противоречие только кажущееся. Ее преображал гнев. Подогрейте сахар — он закипит.
Анна пользовалась популярностью. Англия любит царствующих женщин. Почему? Да потому, что Франция их не допускает. Это уже достаточно веская причина. А других причин, пожалуй, и нет. Если верить английским историкам, то Елизавета была олицетворением величия, а Анна — доброты. Предположим, что это так. Но в обоих этих женских царствованиях не было и намека на изящество. Все линии были топорны. Это было грубое величие и грубая доброта. Что же касается незапятнанной добродетели этих королев, на которой так настаивает Англия, мы не будем ее оспаривать. Елизавета — девственница, целомудрие которой несколько умаляется тенью Эссекса, супружеская верность Анны осложняется близостью с Болингброком.
У народов существует идиотская привычка приписывать королям свои собственные подвиги. Они сражаются. Кому достается слава? Королю. Они платят деньги. Кто на эти деньги роскошествует? Король. И народу нравится, что его король так богат. Король собирает с бедняков экю, а возвращает им лиар. Как он щедр! Колосс служит пьедесталом и любуется стоящим на нем пигмеем. Какой великий карапузик! Он взобрался ко мне на спину! У карлика есть прекрасная возможность стать выше гиганта — стоит лишь вскарабкаться к нему на плечи. Удивительно, что исполин это позволяет, но то, что он еще и восхищается величием карлика, — просто глупо. Человечество очень наивно.
Конная статуя, воздвигаемая только в честь королей, — прекрасный символ монархии. Конь — это народ. Но только конь этот постепенно видоизменяется. Вначале это осел, но в конце концов он становится львом. Тогда он сбрасывает всадника, и Англия переживает 1642 год, а Франция — 1789 год; случается, что лев и пожирает всадника, тогда в Англии происходят события 1649 года, а во Франции — 1793 года.
Трудно поверить, чтобы лев мог снова стать ослом, однако иногда это бывает. Так случилось в Англии. Впав в монархическое идолопоклонство, народ снова стал вьючным животным. Королева Анна, как мы уже сказали, была популярна. Что же она делала для этого? Ничего. Ничего не делать — вот все, что требуется от короля Англии. За этот труд он получает тридцать миллионов в год. Англия, имевшая при Елизавете только тридцать военных судов и при Иакове II — тридцать шесть, в 1705 году насчитывала их сто пятьдесят. У англичан было три армии — пять тысяч человек в Каталонии, десять тысяч в Португалии, пятьдесят тысяч во Фландрии; кроме того, она платила сорок миллионов в год монархической и дипломатической Европе, этой публичной девке, которую всегда содержала Англия на деньги народа. Когда парламент вотировал патриотический заем в тридцать четыре миллиона, дававший пожизненную ренту, казначейство осаждали охотники подписаться на него. Англия послала одну эскадру в Восточную Индию, другую, во главе с адмиралом Ликом, — к берегам Испании, не считая запасной флотилии из четырехсот парусных судов, находившихся под командой адмирала Шоуэлла. Англия только что присоединила к себе Шотландию. Это было в период между Гохштетом и Рамильи, когда первая победа дала возможность предвидеть вторую. Под Гохштетом Англия окружила и взяла в плен семь батальонов и четыре драгунских полка, отобрала сто два лье территории у французов, в замешательстве отступивших от Дуная к Рейну. Англия протягивала руку к Сардинии и Балеарским островам. Она с триумфом ввела в свои порты десять испанских линейных кораблей и множество груженных золотом галионов. Гудсонов залив и пролив были почти брошены Людовиком XIV; чувствовалось, что он так же легко расстанется с Акадией, и с островами св. Христофора, и с Новой Землей и будет счастлив, если Англия снисходительно разрешит Франции ловить треску у Бретонского мыса. Англия готовилась принудить французского короля совершить позорный поступок — самому разрушить укрепления Дюнкерка.
А покуда она завладела Гибралтаром и намеревалась завладеть Барселоной. Сколько великих деяний! Как было не восторгаться королевой Анной, соблаговолившей жить в такое время?
В некотором отношении царствование Анны представляется сколком с царствования Людовика XIV. Анна, которую случай, называемый историей, сделал современницей этого короля, имела с ним некое, довольно слабое, сходство, была его бледным подобием.
Подобно Людовику XIV, она играла в «великое царствование»; у нее были свои памятники, свое искусство, свои победы, свои полководцы, свои писатели, свои личные средства, из которых она выдавала пенсии знаменитостям, своя галерея произведений искусств. У нее тоже был пышный двор и свита, собственный этикет и собственный марш. Двор этот был воспроизведением в миниатюре всех «великих людей» Версаля — и в оригинале не очень-то великих. В некотором роде обман зрения, но прибавьте к этому гимн «Боже, спаси королеву», музыка которого заимствована у Люлли, и все вместе создавало иллюзию сходства. Все необходимые персонажи налицо: Кристофер Рен вполне подходящий Мансар, Сомерс не хуже Ламуаньона. У Анны был свой Расин — Драйден, свой Буало — Поп, свой Кольбер — Годольфин, свой Лувуа — Пемброк и свой Тюренн — Мальборо. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем все торжественно и пышно, и Виндзор в то время почти не уступал Марли. Но на всем лежал женственный отпечаток, даже отец Телье у Анны носил имя Сары Дженнингс. Впрочем, к этому времени в литературе начинает звучать та ирония, которая пятьюдесятью годами спустя воплотится в философию, и Свифт разоблачает протестантского Тартюфа так же, как Мольер разоблачил Тартюфа-католика. Несмотря на то, что Англия ссорится в это время с Францией и побеждает ее, она ей подражает и заимствует у нее просвещение; все, что красуется на фасаде Англии, освещено лучами Франции. Жаль, что царствование Анны продолжалось только двенадцать лет, иначе англичане, не долго думая, стали бы говорить «век Анны», как французы говорят: «век Людовика XIV». Анна появилась на горизонте в 1702 году, когда Людовик XIV уже склонялся к закату. Восхождение бледного светила совпало с закатом светила пурпурного; когда во Франции царствовал король Солнце, в Англии правила королева Луна.
Любопытный исторический факт: в Англии очень почитали Людовика XIV, несмотря на то, что вели с ним войну. «Именно такой король и нужен Франции», — говорили англичане. Любовь англичан к своей свободе не мешает им мириться с рабством других народов. Благожелательное отношение к цепям, сковывающим соседа, приводит англичан к восторженному преклонению перед деспотами.
В общем, Анна осчастливила свой народ, как говорит французский переводчик книги Биверелла, с любезной настойчивостью упоминая об этом трижды: на шестой и девятой страницах своего посвящения и на третьей странице предисловия.
Королева Анна не очень благоволила к Джозиане по двум причинам.
Во-первых, потому, что находила герцогиню Джозиану красивой.
Во-вторых, потому, что находила красивым жениха герцогини Джозианы.
Чтобы возбудить зависть женщины, необходимы два повода; королеве же достаточно одного.
Она сердилась на Джозиану еще за то, что Джозиана была ее сестрой.
Анна была против красивых женщин.
Она считала, что это развращает нравы.
Что касается ее самой, она была некрасива, — но, конечно, не по своей воле.
Непривлекательной внешностью Анны отчасти и объясняется ее религиозность.
Умница и красавица Джозиана раздражала королеву.
Хорошенькая герцогиня не совсем желанная сестра для некрасивой королевы.
Была еще одна причина для недовольства: происхождение Джозианы.
Анна была дочерью Анны Хайд, простой леди, на которой Иаков II женился хотя и неудачно, но вполне законным образом, когда еще был герцогом Йоркским. Зная, что в ее жилах есть некоролевская кровь, Анна чувствовала себя королевой лишь наполовину; Джозиана, явившаяся на свет совсем незаконно, точно подчеркивала не вполне безупречное происхождение королевы. Дочери от неравного брака было досадно видеть рядом с собою внебрачную дочь. Напрашивалось какое-то неприятное сравнение. Джозиана имела право заявить Анне: «Моя мать ничуть не хуже вашей!» При дворе об этом не говорили, но, вероятно, думали. Это раздражало ее королевское величество. К чему здесь эта Джозиана? Зачем она вздумала родиться? Кому понадобилась эта Джозиана?
Некоторые родственные связи бывают унизительными.
Однако внешне Анна относилась к Джозиане благосклонно.
Возможно, она даже полюбила бы ее, не будь герцогиня ее сестрой.
Глава 37
Баркильфедро
Знать, что делают твои ближние, весьма полезно, и благоразумие требует, чтобы за ними велось наблюдение.
Джозиана поручила наблюдение за лордом Дэвидом преданному человеку, которому она доверяла и которого звали Баркильфедро.
Лорд Дэвид поручил осторожно наблюдать за Джозианой преданному человеку, в котором он не сомневался и которого звали Баркильфедро.
Королева Анна, со своей стороны, была осведомлена обо всех поступках и действиях Джозианы, своей побочной сестры, и лорда Дэвида, своего будущего зятя с левой стороны, через преданного человека, на которого сна вполне полагалась и которого звали Баркильфедро.
У этого Баркильфедро было под рукой три клавиша: Джозиана, лорд Дэвид и королева. Мужчина и две женщины! Сколько возможных модуляций! Какие сочетания самых противоположных чувств!
В своем прошлом Баркильфедро не всегда имел такую блестящую возможность нашептывать на ухо трем высоким особам.
Когда-то он был слугой герцога Йоркского. Он пытался стать священнослужителем, но это ему не удалось. Герцог Йоркский, принц английский и римский, соединявший приверженность к папе с официальной принадлежностью к англиканской церкви, мог бы далеко продвинуть Баркильфедро по ступеням той и другой иерархии, но не считал его ни достаточно ревностным католиком, чтобы сделать из него священника, ни достаточно ревностным протестантом, чтобы сделать его капелланом. Таким образом, Баркильфедро очутился между двух религий, и душа его низверглась с неба на землю.
Для пресмыкающихся душ это не такое уж плохое положение.
Есть дороги, по которым можно продвигаться только ползком.
В течение долгого времени единственным источником существования Баркильфедро была хотя и скромная, но сытная должность лакея. Такая должность давала ему кое-что, но он, кроме того, стремился к власти. Быть может, он и дорвался бы до нее, если бы не падение Иакова II. Приходилось все начинать сызнова. Трудно было достичь чего-нибудь при Вильгельме III, царствовавшем с угрюмой суровостью, которую он считал честностью. Баркильфедро впал в нищету не сразу после падения его покровителя Иакова II. Какие-то непонятные силы, продолжающие действовать и после того, как низложен монарх, обычно питают и поддерживают еще некоторое время его паразитов. Остатки растительных соков в течение двух-трех дней еще сохраняют зеленой листву на ветвях срубленного дерева; потом оно сразу желтеет и вянет; то же происходит и с царедворцами.
Благодаря своеобразному бальзамированию, которое называют» наследственным правом на престол, монарх, если даже он свергнут и изгнан, продолжает существовать; не так обстоит дело с придворными — они более мертвы, чем король. Там, на чужбине, король — мумия, здесь, на родине, придворный — только призрак. А быть тенью тени — это высшая степень худобы. Баркильфедро совсем отощал, изголодался. Тогда он стал сочинителем.
Но его гнали даже из кухонь. Иногда он не знал, где переночевать. «Кто приютит меня?» — вопрошал он и боролся, боролся с упорством человека, близкого к отчаянию, — черта, обычно вызывающая участие к несчастному. Кроме того, он обладал особым талантом: подобно термиту, он просверливал в древесном стволе ход снизу доверху. С помощью имени Иакова II, играя на своих воспоминаниях, чувстве преданности, умилении, он получил доступ к герцогине Джозиане.
Джозиана милостиво отнеслась к человеку, который обладал двумя качествами, способными тронуть сердце: он был беден и умен. Она представила его лорду Дерри-Мойр, поселила в отведенном для слуг помещении, зачислила его в штат своей домашней челяди, была к нему добра и даже иногда разговаривала с ним. Баркильфедро не пришлось больше терпеть ни холода, ни голода. Джозиана говорила ему «ты». Такова была мода: знатные дамы обращались к литераторам на «ты», и те не протестовали. Маркиза де Мальи, принимая, лежа в постели, Руа, которого видела первый раз в жизни, спросила его:
— Это ты написал «Год светской жизни»? Здравствуй!
Позднее писатели расплатились той же монетой. Пришел день, когда Фабр д'Эглантин обратился к герцогине де Роган:
— Ты урожденная Шабо?
То, что Джозиана говорила Баркильфедро «ты», было для него большим успехом. Это приводило его в восторг. Ему льстила высокомерная фамильярность герцогини.
«Леди Джозиана говорит мне «ты»!» — думал он, потирая руки от удовольствия.
Он воспользовался этим, чтобы упрочить свое положение. Он сделался чем-то вроде своего человека во внутренних покоях Джозианы, человека, которого никто не замечает, которого не стесняются; герцогиня не постеснялась бы переменить при нем сорочку. Но все это было ненадежно. А Баркильфедро добивался прочного положения. Герцогиня — только половина пути. Он считал бы все свои труды потерянными, если бы, прокладывая подземный ход, ему не удалось добраться до королевы.
Однажды Баркильфедро обратился к Джозиане:
— Не захочет ли ваша светлость осчастливить меня?
— Чего ты хочешь? — спросила Джозиана.
— Получить должность.
— Должность? Ты?
— Да, ваша светлость.
— Что за фантазия пришла тебе просить должности? Ты ведь ни на что не годен.
— Потому-то я вас и прошу.
Джозиана рассмеялась.
— Какую же должность из всех, для которых ты не пригоден, тебе хотелось бы получить?
— Место откупорщика океанских бутылок.
Джозиана рассмеялась еще веселее:
— Что это такое? Ты шутишь?
— Нет, ваша светлость.
— Хорошо. Для забавы буду отвечать тебе серьезно. Кем ты хочешь быть? Повтори.
— Откупорщиком океанских бутылок.
— При дворе все возможно. Неужели есть такая должность?
— Да, ваша светлость.
— Для меня это ново. Продолжай.
— Такая должность существует.
— Поклянись душой, которой у тебя нет.
— Клянусь.
— Нет, тебе невозможно верить.
— Благодарю вас, ваша светлость.
— Итак, ты хотел бы… Повтори еще раз.
— Распечатывать морские бутылки.
— Такая обязанность, должно быть, не слишком утомительна. Это почти то же, что расчесывать гриву бронзовому коню.
— Почти.
— Ничего не делать… Такое место действительно по тебе. К этому ты вполне пригоден.
— Видите, и я кое на что способен.
— Перестань шутить! Такая должность в самом деле существует?
Баркильфедро почтительно приосанился:
— Ваш августейший отец — король Иаков Второй, ваш зять — знаменитый Георг Датский, герцог Кемберлендский. Ваш отец был, а зять и поныне состоит лорд-адмиралом Англии.
— Подумаешь, какие новости ты мне сообщаешь. Я и без тебя это отлично знаю.
— Но вот чего не знает ваша светлость: в море попадаются три рода находок — те, что лежат на большой глубине, те, что плавают на поверхности, и те, что море выбрасывает на берег.
— Ну и что же?
— Все эти предметы, _легон, флоутсон и джетсон_, являются собственностью генерал-адмирала.
— Ну?
— Теперь ваша светлость понимает?
— Ничего не понимаю.
— Все, что находится в море, все, что пошло ко дну, все, что всплывает наверх, все, что прибивает к берегу, — все это собственность генерал-адмирала.
— Допустим. Что ж из этого?
— Все, за исключением осетров, которые принадлежат королю.
— А я думала, — сказала Джозиана, — что все это принадлежит Нептуну.
— Нептун — дурак. Он все выпустил из рук, позволил англичанам завладеть всем.
— Кончай скорей!
— Находки эти называются морской добычей.
— Прекрасно.
— Они неисчерпаемы. На поверхности моря всегда кто-нибудь плавает, волна всегда что-нибудь пригонит к берегу. Это контрибуция, которую платит море. Англичане берут таким образом с моря дань.
— Ну и прекрасно. А дальше?
— Ваша светлость, таким образом океан создал целый департамент.
— Где?
— В адмиралтействе.
— Какой департамент?
— Департамент морских находок.
— Ну?
— Департамент этот состоит из трех отделов: Легон, Флоутсон и Джетсон, и в каждом отделе сидит чиновник.
— Ну?
— Допустим, какой-нибудь корабль, плавающий в открытом море, хочет послать уведомление о том, что он находится на такой-то широте, или встретился с морским чудовищем, или заметил какой-то берег, или терпит бедствие, тонет, гибнет и прочее; хозяин судна берет бутылку, кладет в нее клочок бумаги, на котором записано это событие, запечатывает горлышко и бросает бутылку в море. Если бутылка идет ко дну, это касается начальника отдела Легон, если она плавает — начальника отдела Флоутсон, если волны выбрасывают ее на сушу — начальника отдела Джетсон.
— И ты хочешь служить в отделе Джетсон?
— Совершенно верно.
— И это ты называешь должностью откупорщика океанских бутылок?
— Такая должность существует.
— Почему тебе это место нравится больше первых двух?
— Потому что оно в настоящее время никем не занято.
— В чем состоят эти обязанности?
— Ваша светлость, в тысяча пятьсот девяносто восьмом году один рыбак, промышлявший ловлей угрей, нашел в песчаных мелях у мыса Эпидиум засмоленную бутылку, и она была доставлена королеве Елизавете; пергамент, извлеченный из этой бутылки, известил Англию о том, что Голландия, не говоря никому ни слова, захватила неизвестную страну, называемую Новой Землей, что это случилось в июне тысяча пятьсот девяносто шестого года, что в этой стране медведи пожирают людей, что описание зимы, проведенной в этих краях, спрятано в футляре из-под мушкета, подвешенном в трубе деревянного домика, построенного и покинутого погибшими голландцами, и что труба эта сделана из укрепленного на крыше бочонка с выбитым дном.
— Не понимаю всей этой чепухи.
— А Елизавета поняла: одной страной больше у Голландии, значит одной страной меньше у Англии. Бутылка, содержавшая это известие, оказалась вещью значительной. Было издано постановление о том, что отныне всякий, нашедший на берегу запечатанную бутылку, должен под страхом повешения доставить ее генерал-адмиралу Англии. Адмирал поручает особому чиновнику вскрыть бутылку и, если «содержимое оной того заслуживает», сообщить о нем ее величеству.
— И часто доставляют в адмиралтейство такие бутылки?
— Редко. Но это ничего не значит. Должность существует, и тот, кто занимает ее, получает в адмиралтействе специальную комнату для занятий и казенную квартиру.
— И сколько же платят за этот способ ничего не делать?
— Сто гиней в год.
— И ты беспокоишь меня из-за такой безделицы?
— На эти деньги можно жить.
— Нищенски.
— Как и подобает таким людям, как я.
— Сто гиней! Ведь это ничто.
— Того, что вы проживаете в одну минуту, нам, мелкоте, хватит на год. В этом преимущество бедняков.
— Ты получишь это место.
Неделю спустя, благодаря желанию Джозианы и связям лорда Дэвида Дерри-Мойр, Баркильфедро, теперь окончательно спасенный, зажил на всем готовом, получая бесплатную квартиру и годовой оклад в сто гиней.
Глава 38
Баркильфедро пробивает себе дорогу
Прежде всего люди спешат проявить неблагодарность.
Не преминул поступить таким образом и Баркильфедро.
Облагодетельствованный Джозианой, он, конечно, только и думал о том, как бы ей за это отомстить.
Напомним, что Джозиана была красива, высока ростом, молода, богата, влиятельна, знаменита, а Баркильфедро уродлив, мал, стар, беден, зависим и безвестен. За все это, разумеется, надо было отомстить.
Может ли тот, кто воплощает мрак, простить тому, кто полон блеска?
Баркильфедро был ирландец, отрекшийся от Ирландии, — самый дрянной человек.
Только одно говорило в пользу Баркильфедро — его большой живот.
Большой живот обычно считается признаком доброты. Но чрево Баркильфедро было сплошным лицемерием: он был злым человеком.
Сколько лет было Баркильфедро? Трудно сказать. Столько, сколько требовали обстоятельства. Морщины и седина придавали ему старческий вид, а живость ума говорила о молодости. Он был и ловок и неповоротлив; что-то среднее между обезьяной и гиппопотамом. Роялист? Конечно. Республиканец? Как знать! Католик? Может быть. Протестант? Несомненно. За Стюартов? Вероятно. За Брауншвейгскую династию? Очевидно. Быть «за» выгодно только тогда, когда ты в то же время и «против», — Баркильфедро придерживался этого мудрого правила.
Должность «откупорщика океанских бутылок» на самом деле не была такой уж нелепой, какою она казалась со слов Баркильфедро. Гарсиа Феррандес в своем «Морском путеводителе» протестовал против разграбления потерпевших крушение судов и расхищения прибрежными жителями выброшенных морем вещей; протест, который в наши дни был бы сочтен простым витийством, произвел в Англии сенсацию и принес пострадавшим от кораблекрушения ту выгоду, что с тех пор их имущество уже не растаскивалось крестьянами, а конфисковывалось лорд-адмиралом.
Все, что выбрасывало море на английский берег, — товары, остовы судов, тюки, ящики и прочее, — все принадлежало лорд-адмиралу (в том-то и заключалась значительность должности, о которой ходатайствовал Баркильфедро); особенно привлекали внимание адмиралтейства плававшие на поверхности моря сосуды, содержавшие в себе всякие известия и сообщения. Кораблекрушения — вопрос, серьезно занимающий Англию. Жизнь Англии в мореплавании, и потому кораблекрушения составляют вечную ее заботу. Море причиняет ей постоянное беспокойство. Маленькая стеклянная фляжка, брошенная в море гибнущим кораблем, содержит в себе важные и ценные со всех точек зрения сведения — сведения о судне, об экипаже, времени и причине крушения, о ветрах, потопивших корабль, о течении, прибившем фляжку к берегу. Должность, которую занимал Баркильфедро, уничтожена более ста лет тому назад, но в свое время она действительно приносила пользу. Последним «откупорщиком океанских бутылок» был Вильям Хесси из Доддингтона в Линкольне. Человек, исполнявший эту обязанность, являлся как бы докладчиком обо всем, что происходит в море. Ему доставлялись все запечатанные сосуды, бутылки, фляжки, выброшенные прибоем на английский берег; он один имел право их вскрывать, он первый узнавал их тайну; он разбирал их и, снабдив ярлыками, записывал в реестр; отсюда и пошло до сих пор еще употребляемое на островах Ла-Манша выражение: «водворить плетенку в канцелярию». Правда, была принята одна мера предосторожности: все эти сосуды могли быть распечатаны только в присутствии двух представителей адмиралтейства, приносивших присягу не разглашать тайну и совместно с чиновником, заведующим отделом Джетсон, подписывавших протокол о распечатании. Так как оба «присяжных» были связаны своим клятвенным обязательством, то для Баркильфедро открывалась некоторая свобода действий, и в известной мере от него одного зависело скрыть какой-либо факт или предать его гласности.
Эти хрупкие находки были далеко не такими редкими и незначительными, как Баркильфедро говорил Джозиане. Иногда они довольно быстро достигали земли, иногда на это требовались долгие годы, — все зависело от ветров и течений. Обычай бросать в море бутылки теперь почти вывелся, так же как и обычай вешать ex voto[387] перед изображениями святых, но в те времена люди, смотревшие в глаза смерти, любили таким способом посылать богу и людям свои последние мысли, и иногда в адмиралтействе скоплялось много подобных посланий.
Пергамент, хранящийся в Орлеанском замке и подписанный графом Сэффолком, лорд-казначеем Англии при Иакове I, гласит, что в течение одного только 1615 года в адмиралтейство было доставлено и зарегистрировано в канцелярии лорд-адмирала пятьдесят две штуки засмоленных склянок, банок, бутылок и фляг, содержавших известия о гибнущих кораблях.
Придворные должности похожи на капли масла, которые, расплываясь, постепенно захватывают все более широкое поле. Таким путем привратник становится канцлером, а конюх — коннетаблем. На должность, которую выпрашивал и получил Баркильфедро, назначался обычно человек, облеченный доверием. Так пожелала Елизавета. При дворе доверие подразумевает под собой интригу, а интрига означает повышение в чинах. Чиновник этот в конце концов стал в некотором роде значительной персоной. Он был клерком и в придворной иерархии следовал непосредственно за двумя раздатчиками милостыни. Он имел право входа во дворец, — правда, скромного входа (humilis introitus), но перед ним открывались двери даже королевской спальни; обычай требовал, чтобы в некоторых случаях он оповещал королевскую особу о своих находках, часто весьма любопытных: в них бывали завещания людей, потерявших всякую надежду остаться в живых, прощальные письма родным, сообщения о хищениях груза и других преступлениях, совершенных в море, дарственные записи в пользу короны и т. д.; «откупорщик океанских бутылок» поддерживал непосредственные сношения с двором и время от времени давал королю отчет о вскрытых им находках. Это был «черный кабинет» по делам океана.
Елизавета, охотно говорившая по-латыни, спрашивала обычно у Темфилда из Колея в Беркшире, который занимал при ней должность чиновника Джетсон и вручал ей такие выброшенные морем послания:
— Quid mihi scribit Neptunus? (Что пишет мне Нептун?)
Ход был проделан. Термит добился своего. Баркильфедро проник к королеве.
Это было именно то, к чему он стремился.
Чтобы создать свое благополучие?
Нет.
Чтобы разрушить благополучие других.
Это гораздо приятнее.
Вредить ближнему — высшее наслаждение.
Далеко не всем дано испытывать смутное, но необоримое желание причинять другому вред и ни на минуту не забывать о своем намерении. Баркильфедро был удивительно настойчив. В осуществлении своих замыслов он отличался мертвой хваткой бульдога. Он испытывал мрачное удовлетворение от сознания собственной непреклонности. Только бы чувствовать в своих руках добычу или хотя бы знать, что зло будет нанесено неизбежно, — больше ему ничего не надо было.
Он готов был сам дрожать от холода, лишь бы этот холод заморозил другого. Быть злым — роскошь. Человек, который слывет бедным, да и на самом деле беден, обладает одним лишь сокровищем, от которого он не откажется ни за какие другие; это сокровище — его злоба. Все дело в удовлетворении, которое испытываешь, сыграв с кем-нибудь скверную штуку. Эта радость дороже всяких денег. Чем хуже для жертвы, тем лучше для шутника. Кэтсби, сообщник Гая Фокса в пороховом заговоре папистов, говорил: «Я и за миллион фунтов стерлингов не отказался бы от радости увидеть, как взлетает в воздух парламент».
Кто был Баркильфедро? Самым ничтожным и самым ужасным существом. Завистником.
При дворе зависть всегда найдет себе применение. Там много наглецов, бездельников, богатых лодырей, жадных до сплетен, искателей соломинки в чужом глазу, злопыхателей, осмеянных насмешников, глупых остряков, и все они нуждаются в услугах завистника.
Как отрадно послушать хулу на своего ближнего!
Из завистников выходят ловкие шпионы.
Между врожденной страстью — завистью и развившимся в обществе особым ремеслом — шпионством есть глубокое сходство. Шпион, как собака, выслеживает добычу для других; завистник, как кошка, выслеживает ее для себя.
Звериный эгоизм — вот существо завистника.
У Баркильфедро были другие особенности: он был скромен, скрытен, но всегда ставил себе определенную цель. Он все хранил про себя и копил в себе злобу. Великая низость идет об руку с великим тщеславием. К Баркильфедро благоволили те, кого он забавлял, остальные ненавидели его; но он чувствовал, что ненавидящие относятся к нему с пренебрежением, а благосклонные — с презрением.
Он постоянно сдерживал себя. Под личиной враждебной покорности в нем кипели оскорбленные чувства. Он возмущался, как будто негодяи имеют право на негодование. Ярость, не дававшая ему ни минуты покоя, никогда не проявлялась у него внешне. Он был способен вынести любые оскорбления. Его терзали мрачные порывы злобы и пожирало вечно тлевшее в его душе пламя, но никто об этом даже не догадывался. Втайне Баркильфедро был холерик, но он всегда улыбался. Он был обходителен, услужлив, учтив и угодлив. Он кланялся всем и каждому. Малейшее, дуновение ветерка склоняло его до земли. Легко добиться счастья тому, у кого вместо позвоночного столба гибкая тростинка.
Таких скрытных и ядовитых людей больше, чем мы думаем. Они зловеще шныряют вокруг нас. Зачем они существуют на свете? Какой мучительный вопрос! Его постоянно задает себе мечтатель и никогда не может разрешить мыслитель. Поэтому печальные взоры философов всегда устремлены к той сумрачной вершине, которую именуют роком и с высоты которой огромный призрак зла бросает на землю пригоршни змей.
У Баркильфедро было тучное тело и худое лицо. На жирном туловище узкая головка. У него были короткие, плоские рубчатые ногти, узловатые пальцы, жесткие волосы, далеко расставленные друг от друга глаза, лоб преступника, широкий и низкий. Раскосые глаза с подлым выражением прятались под нависшими бровями. Длинный, острый, горбатый нос почти соприкасался со ртом. Если бы облачить Баркильфедро в одежду римских императоров, он был бы похож на Домициана. Его желтое лицо казалось вылепленным из какой-то клейкой массы, а неподвижные щеки — из воска; множество продольных и поперечных морщин свидетельствовали о всевозможных пороках; у него была широкая нижняя челюсть, тяжелый подбородок и большие мясистые уши. Когда он молчал, из-под верхней губы, приподнятой острым углом, видны были, при взгляде на него сбоку, два зуба. Казалось, эти зубы смотрят на вас. Ведь зубы могут смотреть, так же как глаза — кусаться.
Терпеливость, сдержанность, умеренность, осторожность, скромность, любезность, уступчивость, мягкость, вежливость, трезвость и целомудрие — все эти добродетели дополняли и совершенствовали образ Баркильфедро. То, что он обладал ими, было клеветой на них.
В очень короткое время Баркильфедро прочно обосновался при дворе.
Глава 39
Inferi — преисподняя
Обосноваться при дворе можно двояким способом: либо на облачных высотах — тогда вы окружены ореолом величия, либо в грязи — и тогда в ваших руках сила.
В первом случае вы пребываете на Олимпе, во втором — располагаетесь в гардеробной.
Обитатель Олимпа повелевает только громами; тот, кто живет при гардеробной — полицией.
Здесь, в гардеробной, вы найдете все атрибуты королевской власти, а иногда, — ибо гардеробная место предательское, — и орудия кары. Тут находят свою смерть Гелиогабалы. В подобных случаях гардеробная называется отхожим местом.
Но обыкновенно в гардеробной не столь ужасно. Альберони восхищается здесь герцогом Вандомским, коронованные особы охотно дают здесь аудиенции. Она заменяет собою тронную залу. Людовик XIV принимал в ней герцогиню Бургундскую. Филипп V восседал там рядом с королевой. В королевскую гардеробную получает доступ и священник. Иногда она становится отделением исповедальни.
Вот почему, занимая при дворе самое незаметное положение, можно сделать карьеру. И неплохую карьеру.
Если вы хотите быть великим при Людовике XI — будьте Пьером Роганом, маршалом Франции; если хотите быть «влиятельным — будьте, как Оливье Леден, цирюльником. Если хотите прославиться при Марии Медичи — будьте канцлером Силлери, если хотите иметь значение — будьте Ганнон, камеристкой. Если вы хотите быть знаменитым при Людовике XV — будьте Шуазелем, министром, если хотите быть грозным — будьте Лебелем, лакеем. Бонтан, стеливший Людовику XIV постель, был более могуществен, чем Лавуа, создавший этому королю армию, и Тюренн, доставивший ему столько побед. Отнимите у Ришелье отца Жозефа, и от Ришелье почти ничего не останется. Исчезнет всякая таинственность. Красный кардинал великолепен, серый кардинал страшен. Какая сила кроется в червяке! Все Нарваэсы вкупе со всеми О'Доннелями не могут сделать того, что сделает какая-нибудь сестра Патрочиньо.
Первым условием такого могущества является ничтожество. Если вы хотите быть сильным, будьте незаметным. Будьте ничем. Свернувшаяся кольцом спящая змея является в одно и то же время символом бесконечности и нуля.
Такая змеиная удача выпала и на долю Баркильфедро.
Он прополз туда, куда стремился.
Плоские паразиты проникают всюду. В кровати Людовика XIV водились клопы, а в его политике действовали иезуиты.
В нашем мире нет ничего несовместимого.
Жизнь напоминает маятник. Тяготеть к чему-либо — значит качаться из стороны в сторону. Один полюс стремится к другому. Франциску I необходим Трибуле, Людовику XV — Лебель. Существует глубокое сходство между «высшим величием» и крайним ничтожеством.
Управляет ничтожество. Это совершенно понятно. Нити находятся в руках того, кто внизу.
Он занимает самую удобную позицию.
Он все видит, и к нему прислушиваются.
Он — око правительства.
В его распоряжении — ухо короля.
Если в вашем распоряжении ухо короля, то это значит, что вы можете по собственному усмотрению открывать и защелкивать дверь королевского сознания и всовывать туда все, что вам заблагорассудится. Ум короля — ваш шкаф. Если вы тряпичник — он превращается в вашу корзинку. Уши королей принадлежат не им, и поэтому, сказать по правде, эти бедняги не вполне ответственны за свои поступки. Тот, кто не владеет своими мыслями, не распоряжается и своими действиями. Король всегда повинуется.
Кому?
Какому-нибудь мерзавцу, который жужжит у него над ухом. Черной мухе, исчадию бездны.
В этом жужжании — приказ. Король всегда правит под чью-то диктовку.
Монарх повторяет вслух, подлинный властитель диктует шепотом.
И те, кто умеет уловить этот шепот и услышать, что именно подсказывает он королю, — настоящие историки.
Глава 40
Ненависть также сильна, как и любовь
Немало подсказчиков нашептывали на ухо королеве Анне. В том числе и Баркильфедро.
Кроме королевы, он старался воздействовать и на леди Джозиану и на лорда Дэвида, стремясь незаметно подчинить их своему влиянию. Как мы уже говорили, он нашептывал сразу в три уха. На одно ухо больше, чем Данжо. Вспомним, что Данжо нашептывал только двоим; просунув голову между Людовиком XIV, влюбленным в свою свояченицу Генриету, и Генриетой, влюбленной в Людовика XIV, и, сделавшись без ведома Генриеты секретарем Людовика и без ведома Людовика секретарем Генриеты, он оказался в центре любовной интриги двух марионеток, сам задавая вопросы и сам же отвечая на них.
Баркильфедро был таким веселым и сговорчивым, таким безобразным и злоязычным, он был так неспособен заступиться за кого-либо и проявить верность кому бы то ни было, что нет ничего странного в том, что он стал в конце концов необходим королеве. Оценив по достоинству Баркильфедро, Анна не пожелала слушать других льстецов. Он льстил ей так же, как льстили Людовику XIV, он обращал свое жало против других. «Король невежествен, — говорила госпожа де Моншеврейль, — приходится поэтому смеяться над учеными».
Отравлять постепенно, уколами — это верх искусства. Нерон любил смотреть на работу Локусты.
В королевские дворцы проникнуть нетрудно: в этих коралловых сооружениях существуют внутренние ходы, о существовании которых очень быстро догадывается полип, называемый царедворцем; найдя готовый ход, он расширяет его, а если нужно, проделывает новый. Чтобы попасть во дворец, достаточно какого-нибудь предлога.
Воспользовавшись в качестве такого предлога своей службой, Баркильфедро в очень короткое время сделался для королевы тем, чем он был и для герцогини Джозианы, — привычным и забавным домашним животным. Сорвавшееся у него однажды с языка остроумное словечко помогло ему раскусить королеву: теперь он знал, чем можно заслужить милость ее величества. Королева очень любила своего лорда-управителя Вильяма Кавендиша, герцога Девонширского, человека необычайно глупого. В одно прекрасное утро этому лорду, имевшему все ученые степени Оксфорда и писавшему с ошибками, вздумалось умереть. Придворный, умирая, совершает большую неосторожность, ибо никто больше не стесняется о нем злословить. Королева погоревала о нем в присутствии Баркильфедро и, наконец, промолвила со вздохом:
— Как жаль, что столь добродетельный человек был не очень умен!
— Да примет господь душу своего осла, — вполголоса пробормотал по-французски Баркильфедро.
Королева улыбнулась. Баркильфедро отметил эту улыбку.
Отсюда он сделал вывод: нравится, когда язвят.
Итак, ему дозволялось быть злоязычным.
С этого дня Баркильфедро дал волю своему любопытству и своей злости. Его никто не смел одернуть, все его боялись. Тот, кто смешит короля, гроза для всех остальных.
Баркильфедро стал всесильным шутом.
Ежедневно пробирался он вперед своим подземным ходом. В Баркильфедро нуждались. Некоторые вельможи до такой степени дарили его своим доверием, что в случае нужды поручали ему то или иное гнусное дело.
Двор — это целая система зубчатых колес. Включившись в эту систему, Баркильфедро стал ее двигателем. Обратили ли вы внимание на то, что в некоторых механизмах двигательное колесо очень мало?
Джозиана, как мы уже сказали, пользовалась шпионскими способностями Баркильфедро и питала к нему такое доверие, что, не задумываясь, дала ему ключ от своих покоев, с помощью которого Баркильфедро мог проникнуть к ней в любое время.
Такое чрезмерное доверие, раскрывающее интимную сторону жизни перед посторонними людьми, было в семнадцатом столетии весьма распространенным явлением. Это называлось «подарить ключ». Джозиана подарила два потайных ключа: один — лорду Дэвиду, другой — Баркильфедро.
Впрочем, в старину никто не удивлялся, если человек получал доступ в спальню. Иногда это приводило к неожиданностям. Ла Ферте например, раздвинув внезапно полог постели мадемуазель Лафон, наткнулся на черного мушкетера Сенсона.
Баркильфедро отличался особым умением раскрывать тайны, которые подчиняют великих мира сего и предают их в руки маленьких людей. Он умел бесшумно красться в потемках извилистым путем. Как всякий хороший соглядатай, он совмещал в себе жестокость палача и терпение микрографа. Он был прирожденным царедворцем, а все царедворцы — лунатики. Они бродят в ночи, называемой всемогуществом. В руке у них потайной фонарь. Лучом этого фонаря они освещают только то, что хотят, оставаясь сами в тени. Не человека ищет царедворец с этим фонарем, а животное, которое скрывается в человеке; он находит его в короле.
Королям не нравится, чтобы кто-то рядом с ними претендовал на величие. Талант Баркильфедро заключался в том, что он непрерывно умалял достоинства лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы.
Ключ, подаренный Баркильфедро, был с двумя бородками по концам, и потому им можно было открывать спальные комнаты в обеих любимых резиденциях Джовианы — в Генкервилл-Хаузе в Лондоне и в Корлеоне-Лодже в Виндзоре. Оба эти дворца входили в состав наследства лорда Кленчарли. Генкервилл-Хауз прилегал к Олдгейту. Олдгейт был воротами, ведущими в Лондон из Харвика; там стояла статуя Карла II с раскрашенным изваянием ангела над головой и фигурами льва и единорога у подножия. Восточный ветер доносил в Генкервилл-Хауз благовест из Сент-Мерильбона. Дворец Корлеоне-Лодж в Виндзоре был построен в флорентийском стиле из кирпича и камня с мраморной колоннадой и стоял на сваях; к нему вел деревянный мост; парадный двор его считался одним из самых красивых в Англии.
В этом дворце, расположенном неподалеку от Виндзорского замка, Джозиана была на виду у королевы. Тем не менее ей нравилось там жить.
Влияние Баркильфедро на королеву было незаметно со стороны, но пустило глубокие корни. Нет ничего более трудного, чем удалить такие придворные плевелы; они почти не дают ростков, и их не за что ухватить. Выполоть Роклора, Трибуле или Бреммеля — задача почти невозможная.
С каждым днем королева Анна становилась все благосклоннее к Баркильфедро.
Всем известно имя Сары Дженнингс. Имя же Баркильфедро осталось неизвестным. Никто не знает о милостивом отношении к нему королевы Анны. Его имя не дошло до истории. Не всякий крот попадает в руки кротолова.
Баркильфедро, неудачливый кандидат в священнослужители, учился всему понемногу, а потому, как это бывает обычно в подобных случаях, не знал ничего. Можно стать жертвой мнимого всезнайства. Сколько на свете таких, можно сказать, бесплодных ученых, у которых на плечах вместо головы бочка Данаид. Чем только ни набивал Баркильфедро свою голову, все напрасно — она оставалась пустой.
Ум, как и природа, не терпит пустоты. Природа заполняет пустоту любовью; ум нередко прибегает для этого к ненависти. Ненависть дает ему пищу.
Существует ненависть ради ненависти; искусство ради искусства более свойственно натуре человека, чем принято думать.
Люди ненавидят. Надо же что-нибудь делать.
Беспричинная ненависть ужасна. Это ненависть, которая находит удовлетворение в самой себе.
Медведь живет тем, что сосет свою лапу.
Но это не может длиться без конца. Лапу надо питать. Медведю необходим какой-нибудь корм.
Ненависть сладостна сама по себе, и на некоторое время ее хватает, но в конце концов она должна устремиться на определенный предмет.
Злоба беспредметная истощает, как всякое наслаждение в одиночестве. Она похожа на стрельбу холостыми патронами. Эта игра увлекает лишь в том случае, если можно пронзить чье-либо сердце.
Нельзя ненавидеть только ради того, чтобы прослыть ненавистником. Необходима цель — мужчина или женщина, кто-то, кого стремишься погубить.
Джозиана бессознательно оказала Баркильфедро эту восхитительную и ужасную услугу — она придала игре интерес и сообщила ей цель: она разожгла и направила ненависть, раздразнила охотника видом живой добычи, внушила притаившемуся стрелку надежду, что скоро прольется теплая, дымящаяся кровь, обрадовала птицелова мнимой легковерностью быстрокрылого жаворонка, пробудила в охотнике зверя, ибо, сам того не подозревая, он был создан для того, чтобы убивать.
Мысль — это снаряд. Баркильфедро с первого дня избрал Джозиану мишенью для всех черных замыслов, гнездившихся в его мозгу. Существует сходство между намерением и пищалью. Баркильфедро притаился в засаде, направив на герцогиню всю свою затаенную злобу. Это вас удивляет? Зачем вы стреляете в птицу, которая не сделала вам никакого зла? Чтобы съесть ее — отвечаете вы. Того же хотел и Баркильфедро.
Джозиану нельзя было ранить в сердце, так как трудно поразить место, где скрывается загадка, но можно было нанести ей удар в голову, уязвив ее гордость.
Именно гордость была ее слабостью, а она видела в ней свою силу.
Баркильфедро это прекрасно понял.
Если бы Джозиана могла разобраться в черной душе Баркильфедро, если бы она узнала, что скрывается за его улыбкой, эта надменная высокопоставленная особа затрепетала бы. Но сны ее были безмятежно спокойны, она даже не подозревала, что таилось в этом человеке.
Нежданное обрушивается неизвестно откуда. Страшны глубинные источники жизни. Нет малой ненависти. Ненависть всегда огромна. Она сохраняет свои размеры даже в самой ничтожной твари и остается чудовищной. Всякая ненависть сильна уже тем, что она — ненависть. Слону, которого ненавидит муравей, грозит опасность.
Еще не нанеся удара, Баркильфедро уже радостно предвкушал зло, которое собирался совершить. Он пока не знал еще, что именно он предпримет против Джозианы. Но намерение его было твердо. И одно уже такое решение значит немало.
Он не надеялся уничтожить Джозиану; это было бы слишком большой удачей. Но оскорбить ее, унизить, причинить ей горе, увидеть, как покраснеют от слез бессильной ярости эти прекрасные глаза, — вот что он считал бы удачей. И на нее он рассчитывал. Не напрасно природа одарила его такой настойчивостью, такой страстной жаждой причинять страдания другим. Он был уверен, что найдет какой-нибудь изъян в золотых доспехах Джозианы и прольет кровь этой обитательницы Олимпа. Какая же за это ждала его награда? — спросим мы. Огромная: радость отплатить злом за добро.
Кто такой завистник? Неблагодарный. Он ненавидит солнце, которое освещает и согревает его. Так Зоил ненавидит Гомера.
Подвергнуть Джозиану тому, что назвали бы теперь вивисекцией, видеть, как она корчится в судорогах на анатомическом столе, не торопясь резать ее живую на части — вот какие мечты лелеял Баркильфедро.
Чтобы достигнуть этого, он рад был бы и сам пострадать немного. Можно попасть в собственные тиски. Складывая нож, можно обрезать себе пальцы. Велика важность! Если бы, мучая Джозиану, Баркильфедро причинил боль себе, он отнесся бы к этому безразлично. Палач, орудуя раскаленным железом, обжигается сам, но не обращает на это внимания. Вы ничего не чувствуете, так как другой страдает больше. Видя, как мучится тот, кого пытают, вы не ощущаете собственной боли.
Вреди как можно больше, а там — будь что будет.
Причиняя ближнему зло, вы береге на себя ответственность. Подвергая другого опасности, вы рискуете собой, так как сцепление различных обстоятельств может привести к неожиданному крушению и вашу судьбу. Истинно злой человек не останавливается даже перед этим. Его радуют терзания страдальца. Его приятно щекочут эти муки. Веселье злодея ужасно. Он чувствует себя отлично при виде пытки. Герцог Альба грел руки у костров, на которых жгли людей. Огонь — страдание, его отблеск — радость. Невольно содрогаешься при мысли о том, какие выводы можно сделать из подобных противопоставлений. Темные стороны души непостижимы. Встречающееся у Бодена выражение «изощренная казнь» имеет, быть может, тройной ужасный смысл: утонченные пытки, страдания пытаемого, наслаждение мучителя.
«Алчность», «честолюбие» — эти слова означают, что кто-то приносится в жертву для удовлетворения аппетита другого. Как печально, что даже понятие «надежда» может быть извращено! Таить зло против кого-нибудь — значит желать ему зла. Почему не добра? Не потому ли, что наша воля устремлена преимущественно в сторону зла? Самая тяжелая задача — постоянно подавлять в своей душе желание зла, с которым так трудно бороться. Почти все наши желания, если хорошенько разобраться в них, содержат нечто такое, в чем нельзя признаться. Но у законченного злодея — а такого рода гнусное совершенство существует — вырабатывается правило: чем хуже для других, тем лучше для меня. Совесть его — мрачный вертеп.
Джозиана в избытке обладала той беспечностью, которая порождается презрительной гордостью и высокомерно-пренебрежительным отношением ко всему. Способность женщины к презрению поразительна. Джозиане была присуща бессознательная, непроизвольная, самоуверенная надменность. Баркильфедро в ее глазах был почти вещью. Она очень удивилась бы, если бы ей сказали, что у него тоже есть душа.
Она ходила, говорила, смеялась, не обращая внимания на этого человека, который исподтишка наблюдал за ней.
Он только выжидал удобного случая. И чем больше он ждал, тем больше крепло в нем решение омрачить чем-нибудь жизнь этой женщины.
Беспощадная засада…
Впрочем, объясняя себе свое поведение, он приводил весьма убедительные доводы. Не думайте, что негодяи не питают к себе уважения. Они оправдываются в своих поступках, произнося высокопарные монологи, и свысока смотрят на окружающих. Как! Эта Джозиана подала ему милостыню! Она, как нищему, швырнула ему несколько лиаров из своего несметного богатства! Она поработила его этой нелепой должностью! Если он, Баркильфедро, почти духовное лицо, человек, одаренный такими крупными и разнообразными способностями, ученый муж, имеющий все основания получить титул его преподобия, должен заниматься описью черепков вроде тех, которыми Иов соскребывал гной со своих струпьев, если он вынужден проводить свою жизнь в мерзкой канцелярии и с важностью раскупоривать глупые бутылки, покрытые слоем ила и морских ракушек, читать заплесневелые пергаменты, истлевшие бестолковые послания, грязные обрывки завещаний, какой-то неудобочитаемый вздор, — во всем этом виновата Джозиана.
И эта тварь еще смеет говорить ему «ты»!
Да неужели он не отомстит за себя, не проучит это ничтожество?
Нет, погоди! Есть еще на свете справедливость!
Глава 41
Пламя, которое можно было видеть, будь человек прозрачен
Как! Эта шалая женщина, эта похотливая мечтательница, девственница по недоразумению, этот кусок человеческого мяса, который пока еще не нашел владельца, эта бесстыжая причудница в герцогской короне, эта Диана, еще не доставшаяся первому встречному только потому, что спесива, — или, быть может, по чистой случайности; эта побочная дочь канальи-короля, у которого не хватило ума удержаться на троне, эта неизвестно откуда выпорхнувшая герцогиня, только благодаря своей знатности разыгрывающая из себя богиню, между тем как в бедности она была бы потаскухой; эта мнимая леди, эта воровка, укравшая имущество изгнанника, — эта высокомерная дрянь обнаглела до того, что когда он, Баркильфедро, оказался без крова и куска хлеба, она посадила его на нижнем конце своего стола и дала ему пристанище в одном из углов ее постылого дворца, не все ли равно где — на чердаке, в подвале? Живется ему немного лучше лакея в людской, немного хуже лошади на конюшне! Воспользовавшись его, Баркильфедро, отчаянным положением, она поторопилась оказать ему предательскую услугу, как это обычно делают богачи, чтобы унизить бедняков, и привязать их к себе, как своих такс, которых они водят на сворке! А чего стоила ей эта помощь? Цена помощи определяется ценою жертвы. У нее во дворце комнат хоть отбавляй! Она, видите ли, помогала ему, Баркильфедро! Подумаешь, как ей было это трудно! Съела ли она из-за этого хоть одной ложкой меньше черепахового супа? Лишила ли она себя хотя бы частицы своего проклятого богатства? Нет, она прибавила к своему изобилию новый повод к тщеславию, еще один предмет роскоши, — сделала доброе дело, украсившись им, как украшают палец перстнем, пришла на помощь умному человеку, взяла под свое покровительство духовное лицо! Теперь она может кичиться этим, говорить: «Я оказываю благодеяния, я кормлю писателей!» Она может разыгрывать из себя его покровительницу. «Повезло этому бедняге, что он напал на меня! Ведь я друг искусства!» И все лишь потому, что она отвела ему жалкую койку в дрянном чулане под своей крышей. Конечно, должность в адмиралтействе Баркильфедро получил благодаря Джозиане. Прекрасная должность, черт возьми! Джозиана сделала из Баркильфедро то, что он есть. Она дала ему положение, допустим. Да, но ничтожное. Меньше чем ничтожное. В этой смехотворной должности он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам, парализованным, утратившим собственный облик. Чем он обязан Джозиане? Признательностью, которую горбун питает к матери, родившей его уродом. Вот они, эти привилегированные, пресыщенные всеми благами люди, эти выскочки, баловни подлой мачехи-судьбы! А даровитый человек, Баркильфедро, вынужден вытягиваться перед ними на лестнице, кланяться лакеям, карабкаться вечером на самую вышку, быть любезным, предупредительным, обходительным, вежливым, приятным и неизменно хранить на лице почтительную улыбку! Как тут не заскрежетать зубами от ярости! А она в это время надевает на шею жемчуга и ломает любовную комедию со своим дураком, лордом Дэвидом Дерри-Мойр, негодяйка этакая!
Никогда не принимайте ничьих услуг. Вас непременно поймают на удочку. Не давайтесь благодетелям в руки в ту минуту, когда вы валитесь с ног от изнеможения. Вам окажут благодеяние. У него, Баркильфедро, не было хлеба, — эта женщина его накормила? С тех пор он стал ее лакеем! Временное чувство пустоты в желудке — и вот вы прикованы на всю жизнь! Быть кому-либо обязанным — значит попасть в рабскую зависимость. Счастливцы власть имущие пользуются моментом, когда вы протягиваете руку, чтобы сунуть вам грош, они пользуются минутой вашей слабости, чтобы превратить вас в раба, в худшую разновидность раба — в раба, облагодетельствованного милостыней, в раба, обязанного любить! Какой позор! Какая неделикатность! Какая западня для вашей гордости! И вот все кончено: вы навеки осуждены превозносить доброту этого человека, признавать красавицей эту женщину, оставаться на заднем плане, со всем соглашаться, всему рукоплескать, восхищаться, курить фимиам, натирать себе мозоли вечным коленопреклонением, рассыпаться в сладких речах, когда вас гложет ярость, когда вы готовы вопить от бешенства, когда дикая злоба разрывает вашу грудь и горькая пена клокочет в ней сильнее, чем в океане.
Вот как богачи делают бедняка своим узником.
Вы навсегда увязаете в клейкой смоле оказанного вам благодеяния, которое замарает вас на всю жизнь.
Милостыня — нечто непоправимое. Признательность — тот же паралич. Благодеяние прилипает к вам, лишает вас свободы движения. Это свойство хорошо известно ненавистным богачам, которые обрушили на вас свою жалость. Дело сделано. Вы стали вещью. Они вас купили. Чем? Костью, которую они отняли у своей собаки, чтобы бросить вам. Они швырнули эту кость вам в голову. Этой костью они больше ушибли вас, чем помогли вам. Все равно, обглодали вы эту кость или нет. Вам отвели место в конуре. Благодарите же. Будьте благодарны всю жизнь. Боготворите ваших господ. Валяйтесь в ногах у них. Благодеяние предполагает добровольное подчинение благодетельствуемого благодетелю. Благотворители требуют от вас, чтобы вы признавали себя ничтожеством, а их — богами. Ваше унижение возвеличивает их. Взглянув на ваш согбенный стан, они держатся еще прямее. В звуке их голоса слышится надменность. Их семейные события, свадьбы, крестины, беременность, появление на свет потомства — все это касается вас. У них рождается волчонок — отлично, пишите стихи на случай. На то вы и поэт, чтобы сочинять всякие пошлости. Как тут не остервенеть! Еще немного, и они заставят вас донашивать их старые башмаки!
«Кто это у вас, моя милая? Вот урод! Откуда он?» — «Сама не знаю, какой-то писака, которого я кормлю». Так разговаривают между собою эти индюшки. И даже не понижают голоса. Вы слышите это и продолжаете расточать любезности. Впрочем, если вы больны, ваши господа присылают вам врача. Не своего, конечно. При случае он осведомляется о вас. Будучи иной породы, чем вы, и находясь на недосягаемой для вас высоте, они приветливы с вами. Их высокое положение делает их доступными. Они знают, что вы не можете быть с ними на равной ноге. Презирая вас, они учтивы с вами. За столом они слегка кивают вам головой. Иногда они знают, как пишется ваше имя. Если они и дают почувствовать, что покровительствуют вам, то лишь простодушно попирая ногами все, что есть в вас наиболее уязвимого и чувствительного. Они так добры к вам!
Разве это не верх гнусности?
Конечно, следовало как можно скорее наказать Джозиану. Надо было дать ей понять, с кем она имеет дело! А-а, господа богачи, потому лишь, что вы не в состоянии поглотить все, что у вас есть, потому лишь, что излишество могло бы повлечь за собой несварение желудка (ибо ваши желудки не больше наших), потому лишь наконец, что лучше раздать объедки, чем выбросить их вон, вы великолепным жестом швыряете беднякам эти жалкие отбросы! Ах, вы даете нам хлеб, даете пристанище, одежду, занятие, и ваша дерзость, ваше безумие, ваша жестокость, ваша глупость и нелепость доходят до того, что вы верите, будто мы вам обязаны! Наш хлеб — это хлеб рабства, пристанище, которое вы нам даете, — лакейская, одежда — ливрея, должность — издевательство; правда, нам на этой должности платят, но она низводит нас на уровень скота! Ах, вы считаете себя вправе бесчестить нас за то, что дали нам кров и пищу, вы воображаете, что мы ваши должники, вы рассчитываете на нашу признательность! Отлично! Мы сожрем ваши внутренности! Отлично! Мы выпотрошим вас, красавица, проглотим вас живьем, перегрызем зубами все мышцы вашего сердца!
Ах, эта Джозиана! Чудовище! В чем ее заслуга? Велика, подумаешь, важность: появилась на свет, подтвердив этим глупость своего отца и бесстыдство своей матери; оказала нам милость, согласившись существовать, и за то, что она любезно соизволила быть публичным скандалом, ей заплатили миллионы, пожаловали земли и замки, заповедники, охоты, озера, леса — всего не перечесть! И при этом она еще кривляется. Ей пишут стихи! А он, Баркильфедро, который столько учился и работал, столько потрудился на своем веку, поглотил уйму фолиантов, забил ими свои мозги, заплесневел среди научных трактатов, он, человек выдающегося ума, он, который мог бы отлично командовать армиями и — если бы только захотел — писать трагедии, подобно Отвею и Драйдену, он, рожденный быть императором, вынужден согласиться на то, чтобы это ничтожество спасало его от голодной смерти! Могут ли простираться еще дальше узурпаторские действия богачей, ненавистных баловней случая? Притворяться великодушными и улыбаться нам, нам, готовым выпить их кровь и облизать себе губы! Не чудовищная ли это несправедливость, что какая-то гнусная придворная дама имеет право называть себя вашей благодетельницей, а человек, превосходящий ее во всех отношениях, обречен подбирать крохи, оброненные такой рукою? Как тут не схватить скатерть за все четыре конца, не швырнуть ее в потолок вместе со всем пиром, со всею оргией, обжорством и пьянством, со всеми гостями — и с теми, что развалились, опираясь локтями на стол, и с теми, что ползают под столом на четвереньках, — с наглецами, которые бросают нищему подачку, и идиотами, принимающими эту подачку, выплюнуть все это богу прямо в лицо, швырнуть в небо всю нашу землю! Ну, а пока вонзим когти в Джозиану.
Так рассуждал Баркильфедро. Дикий рык раздавался в его душе. Оправдывая себя, завистник смешивает свои личные обиды с общественным злом. В кровожадном сердце бурно кипят все виды злобных страстей. На географических картах пятнадцатого века в углу изображали большое безыменное пространство, на котором были начертаны три слова: Hie sunt leones[388]. Такие же неисследованные области есть и в душе человека. Где то внутри нас волнуются и бурлят страсти, и об этом темном уголке нашей души можно также сказать: «Hie sunt leones».
Но разве уж совершенно нелеп был хаос этих диких мыслей? Разве был он лишен всякой логики? Надо сознаться, что нет.
Страшно подумать, но наш рассудок не всегда является голосом справедливости. Суждение — нечто относительное. Справедливость — нечто безусловное. Поразмыслите над тем, какая разница между судом и правосудием.
Злодеи своевольно распоряжаются своей совестью. Существует всякого рода гимнастика лжи. Софист — фальсификатор: в случае нужды он насилует здравый смысл. Определенная логика, чрезвычайно гибкая, беспощадная и искусная, всегда готова к услугам зла: она изощреннейшим образом побивает скрытую в тени истину. Сатана наносит богу страшные удары кулаком.
Иной софист, приводящий в восхищение глупцов, только тем и славен, что покрыл синяками человеческую совесть.
Больше всего удручала Баркильфедро мысль, что дело сорвется. Он предпринял огромный труд и опасался, что в итоге причинит слишком мало вреда. Носить в своем сердце всепожирающую злобу и твердую, как алмаз, ненависть, обладать железной волей, стремиться все взорвать — и в результате ничего не сжечь, никого не обезглавить, никого не уничтожить! Быть тем, чем он был, — разрушительной силой, всепоглощающей враждебностью, палачом чужого счастья, быть созданным (ибо всегда есть создатель — дьявол или бог) по мерке, присущей только Баркильфедро, и разрядить всю свою энергию в жалком щелчке, да разве это мыслимо! Баркильфедро промахнется? Чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать в воздух скалы, — и всего-навсего посадить шишку на лоб жеманницы! Быть катапультой — и напрасно сотрясать воздух! Выполнять сизифов труд — и убедиться, что это не более как муравьиные усилия! Излить весь запас ненависти почти без всякие последствий! Не унизительно ли это, когда сознаешь себя злобной силой, могущей превратить в прах всю вселенную! Привести в движение сложную систему зубчатых колес, громыхать во мраке, как машина Марли, для того чтобы прищемить кончик розового пальчика! Своротить глыбу, чтобы вызвать на поверхности болота придворной жизни легкую рябь! Нелепое расточительство сил к лицу только богам: обвал горы иной раз кончается тем, что кротовая нора меняет свое место.
Да и кроме того, на своеобразном поле битвы, каким является двор, нет ничего опаснее, как прицелиться в своего врага и промахнуться. Во-первых, вы тем самым предстаете своему противнику без личины и вызываете его ярость, а во-вторых (и это существеннее), промахнувшись, вы возбуждаете недовольство вашего господина. Королям не очень-то нравятся неловкие люди. Смотрите, чтоб не было ни шишек, ни безобразных ссадин! Режьте всех, но не разбивайте носы в кровь. Кто убивает — тот молодец, кто только ранит — тот разиня. Короли не любят, чтобы увечили их слуг. Они сердятся, когда вы разбиваете фарфор у них на камине или калечите кого-либо из их свиты. При дворе должна быть чистота, опрятность. Разбивайте, но заменяйте новым, и все будет в порядке.
Вдобавок это превосходно согласуется со взглядом вельможных людей на злословие. Злословьте, но тумаков не давайте или, если уж зудит рука, бейте насмерть.
Вонзайте кинжал, но не царапайте. Разве только отравленной булавкой. Это — смягчающее вину обстоятельство. Вспомним, что именно таково было оружие Баркильфедро.
Всякий злобствующий пигмей — сосуд, в котором заключен сказочный дракон. Крошечный сосуд — и исполинский дракон. Чудовищно плотный сгусток, выжидающий момента, чтобы расшириться до необъятных размеров. Скучая, он утешается мыслью о грядущем взрыве. Содержимое больше вместилища. Притаившийся гигант — не странно ли это? Червяк, вынашивающий в себе гидру! Быть ужасной шкатулкой с сюрпризом, таящей в себе Левиафана, — для карлика это и пытка и наслаждение.
Итак, ничто не могло бы заставить Баркильфедро отказаться от его намерений. Он ждал своего часа. Наступит ли этот час? Что нужды! Он ждал его. У отъявленных злодеев ко всему примешивается личное самолюбие. Рыть яму и вести подкоп под карьеру придворного, стоящего выше вас, пытаться взорвать эту карьеру, рискуя собственной головой, как бы мы ни были сами укрыты под землей, повторяем, дело интересное. Такая игра может захватить. Ею можно увлечься, как сочинением эпической поэмы. Быть ничтожеством и напасть на существо в тысячу раз сильнее вас — блестящий подвиг. Приятно быть блохою на теле льва.
Гордый зверь чувствует укус и расходует свою бешеную ярость, обрушиваясь на ничтожный атом. Встреча с тигром причинила бы ему меньше досады. И вот роли переменились. Униженный лев чувствует в своем теле жало насекомого, а блоха вправе заявить: «Во мне течет львиная кровь».
Однако гордость Баркильфедро удовлетворялась этим лишь наполовину. Это было слабое утешение. Дразнить — приятно, но лучше было пытать. Назойливая мысль не давала покоя Баркильфедро; он боялся, что ему удастся только слегка задеть Джозиану, нанести поверхностную царапину. Мог ли он рассчитывать на большее, он, такое ничтожество по сравнению с этой блестящей женщиной? Нанести царапину — какая малость, когда ему хотелось содрать кожу, обнажить живое кровоточащее мясо, когда ему хотелось бы слышать дикие вопли женщины, не обнаженной, нет, а лишившейся последнего покрова — собственной кожи! Как ужасно сознавать свое бессилие, тая в душе такое стремление! Увы, на свете нет ничего совершенного.
Как бы там ни было, он покорялся своей судьбе. Не имея возможности воплотить в жизнь свои замыслы, он мечтал осуществить их хотя бы наполовину. Сыграть злую шутку — все-таки цель.
Человек, мстящий за оказанное ему благодеяние, — фигура недюжинная. Баркильфедро проявил себя здесь подлинным исполином. Обычно неблагодарность проявляется в забвении; у этого же избранника зла она проявлялась в яростной ненависти. Сердце неблагодарного человека хранит в себе только пепел. Что же было в сердце Баркильфедро? Его сердце было горнилом, полным пылающих углей. Ненависть, гнев, досада, злоба молчаливо раздували здесь то пламя, которое должно было испепелить Джозиану. Никогда еще мужчина не пылал такой беспричинной ненавистью к женщине. Это было ужасно! Джозиана стала его бессонницей, его единственной заботой, его тоской, его бешенством.
Быть может, он был в нее немного влюблен.
Глава 42
Баркильфедро в засаде
Найти уязвимое место Джозианы и нанести ей удар — таково было, по причинам, о которых мы говорили выше, непреклонное желание Баркильфедро.
Хотеть — недостаточно; надо мочь.
Как взяться за это?
В этом весь вопрос.
Мелкие негодяи тщательно разрабатывают подробный план гнусности, которую хотят совершить. Они не чувствуют в себе достаточно силы, чтобы на лету схватить первую представившуюся возможность, завладеть ею добром или насильно и подчинить ее своим целям. Этим объясняются их предварительные комбинации, которыми настоящие злодеи пренебрегают. Опытные злодеи полагаются главным образом на свой злодейский нрав: они вооружаются чем можно, заготовляют на всякий случай разного рода оружие и, подобно Баркильфедро, просто выжидают благоприятного момента. Они знают, что заранее выработанный план может не совпасть с обстоятельствами. Связав себя определенной программой действий, злодей рискует запутаться и не добиться поставленной цели. С судьбою не ведут предварительных переговоров. Завтрашний день нам не подвластен. Случай не повинуется нам. Поэтому преступники подстерегают случай и, ухватив его цепкой лапой, заставляют сразу же, без лишних слов, работать с ними заодно. Ни плана, ни чертежа, ни модели, ничего заранее обдуманного, что оказалось бы непригодным для неожиданности, как башмак, сшитый не по мерке. Они бросаются очертя голову в черную бездну. Немедленно и быстро извлекать для себя пользу из любого обстоятельства — искусство подлинного злодея, превращающее мошенника в демона.
Настоящий злодей поражает нас, как праща, первым попавшимся под руку камнем. Настоящие злодеи всегда полагаются на неожиданность, эту немую помощницу всякого преступления.
Поймать случай, прыгнуть ему на спину — вот единственное «art poetique» этого рода талантов.
А до поры до времени им необходимо выведать, с кем они имеют дело. Нащупать почву.
Для Баркильфедро этой почвой была королева Анна.
Баркильфедро все ближе подползал к королеве.
Его допускали так близко, что порою ему казалось, будто он слышит мысли ее величества.
Иногда он, как лицо, которое в счет не идет, присутствовал при разговорах двух сестер. Ему не запрещалось вставить и свое словечко. Он пользовался этим для собственного уничижения. Это был способ внушить к себе доверие.
Так, однажды в Гемптон-Корте, в саду, находясь позади герцогини, стоявшей за спиной у королевы, он услыхал, как Анна, с натугой следовавшая тогдашней моде изрекать сентенции, произнесла:
— Счастливы животные — они не рискуют попасть в ад.
— Они и без того в аду, — возразила Джозиана.
Ответ этот, внезапно подменивший религию философией, пришелся королеве не по вкусу. Пусть ответ даже был глубокомыслен, Анну он все же покоробил.
— Милая моя, — заметила она Джозиане, — мы говорим об аде как две дурочки. Спросим у Баркильфедро, что представляет собою ад. Он должен хорошо разбираться в этом.
— В качестве дьявола? — спросила Джозиана.
— В качестве животного, — ответил Баркильфедро.
И поклонился.
— Он, сударыня, — обратилась королева к Джозиане, — умнее нас с вами.
Для такого человека, как Баркильфедро, быть приближенным к королеве значило держать ее в руках. Он мог сказать: «Она в моей власти». Теперь ему надо было только найти способ заставить ее служить своим целям.
Он занял определенное место при дворе. Укрепиться при дворе — чего лучше! Только бы подвернулся благоприятный случай: уж он не упустит его. Не раз он вызывал злобную улыбку на устах королевы. Это значило, что ему дозволено охотиться.
Но не было ли при дворе какой-либо запретной дичи? Давало ли ему это разрешение право подбить крылышко или лапку, скажем, родной сестре ее величества?
Это следовало узнать в первую очередь. Любит ли королева свою сестру?
Неверный шаг мог погубить все дело. Баркильфедро стал приглядываться.
Прежде чем сделать ход, игрок смотрит в свои карты. Какие у него козыри? Баркильфедро первым делом сопоставил возраст обеих женщин: Джозиане двадцать три года, Анне — сорок один. Отлично. Карты недурные.
Момент, с которого женщина перестает вести счет годам по веснам и начинает вести его по зимам, действует на нее раздражающим образом. В ней пробуждается глухая злоба против безжалостного времени, которое она начинает чувствовать. Молодые, только что расцветшие красавицы, источающие для других благоухание, обращены к ней одними шипами, и каждая из этих роз причиняет ей укол. Ей кажется, что это они отняли у нее свежесть, что ее собственная красота вянет лишь потому, что она расцветает в других.
Воспользоваться этой тайной досадой, углубить морщины на лице сорокалетней женщины, королевы, — вот что предстояло Баркильфедро.
Зависть — отличное средство для возбуждения ревности: она выводит ее наружу, подобно тому как крыса выгоняет крокодила из его логова.
Баркильфедро сосредоточил все внимание на королеве. Он вглядывался в королеву, как вглядываются в стоячую воду. Болото иной раз бывает довольно прозрачно. В грязной воде видны пороки, в мутной — нелепости. Анна была водою мутной.
В ее тупом мозгу шевелились зародыши чувств и личинки мыслей.
Все там было неясно. Все было едва намечено. Это было тем не менее нечто реальное, хотя и бесформенное. Королева думала то-то. Королева желала того-то. Точно установить, что она думала, чего желала, — было трудно. Еле заметные превращения, происходящие в стоячей воде, не так-то легко поддаются исследованию.
Обычно вялая, королева иногда позволяла себе глупые и грубые выходки. Этими вспышками и следовало воспользоваться. Надо было поймать ее на этом.
Чего в глубине души желала Анна герцогине Джозиане? Добра или зла?
Загадка. Баркильфедро задался целью разгадать ее.
Найдя ответ, он мог бы пойти дальше.
На помощь ему пришел ряд случайностей, но главное — помогла его постоянная настороженность.
Анна приходилась по мужу дальней родственницей новой прусской королеве, супруг которой имел сто камергеров; у Анны был его портрет, писанный на эмали по способу Тюрке де Майерна. У прусской королевы тоже была незаконнорожденная младшая сестра, баронесса Дрика.
Однажды в присутствии Баркильфедро Анна стала расспрашивать прусского посланника об этой Дрике.
— Говорят, она богата?
— Очень богата, — ответил посланник.
— У нее есть дворцы?
— И даже более великолепные, чем у ее сестры — королевы.
— За кого она выходит замуж?
— За знатного вельможу, за графа Гормо.
— Он красив?
— Очарователен.
— Она молода?
— Совсем молода.
— Так же хороша, как королева?
Посланник, понизив голос, ответил:
— Еще лучше.
— Какая дерзость! — прошептал Баркильфедро.
Королева помолчала, потом воскликнула:
— Ох, уж эти незаконнорожденные!
Это множественное число не ускользнуло от Баркильфедро.
В другой раз, при выходе из часовни, где Баркильфедро стоял довольно близко от королевы, позади двух раздатчиков милостыни, лорд Дэвид Дерри-Мойр, продвигавшийся сквозь ряды королевской свиты, произвел на придворных дам сильное впечатление своей наружностью. Вслед ему раздавался хор женских восклицаний: «Как он изящен! — Как он любезен! — Какой у него величественный вид! — Какой красавец!»
— Как это неприятно! — пробормотала королева.
Баркильфедро услышал это.
Теперь он знал, что ему делать.
Можно было вредить герцогине, не опасаясь возбудить недовольство королевы.
Первая задача была решена.
Перед ним возникла вторая.
Как же повредить герцогине?
Какие средства для достижения столь трудной цели могла доставить ему его жалкая должность?
Никаких, очевидно.
Глава 43
Шотландия, Ирландия и Англия
Отметим одну подробность: у Джозианы «был диск».
Это станет понятным, если вспомнить, что она была сестрой королевы — правда, сестрой побочной, но все же особой королевской крови.
«Иметь диск» — что это значит?
Виконт Сент-Джон (иными словами — Болингброк) писал Томасу Леннарду, графу Сессексу: «Две вещи сообщают людям высокое положение. В Англии — tour, во Франции — pour». «Pour» означало во Франции следующее: когда король путешествовал, гоф-фурьер вечером, во время остановок, отводил помещение лицам, сопровождавшим его величество. Некоторые из этих вельмож пользовались огромным преимуществом перед остальными. «У них есть «pour», — читаем мы в «Историческом журнале» за 1694 год на странице 6-й, — то есть распределитель помещения пишет перед именами этих особ слово «pour» (для), например: «для принца Субиз», между тем как, отмечая помещение лица не королевской крови, он опускает предлог «для» и пишет просто: «Герцог де Жевр, герцог Мазарини» и т. д. Предлог pour, красовавшийся на дверях, указывал на то, что здесь помещается принц крови или фаворит. Фаворит — это еще хуже, чем принц. Король жаловал право на pour, как орденскую ленту или как пэрство.
«Право на диск» (tour) в Англии было менее почетно, но представляло большие выгоды. Это было знаком подлинной близости к царствующей особе. Тот, кто по праву рождения или вследствие расположения монарха мог получать от него непосредственные сообщения, имел в стене своей спальни диск с приделанным к нему звонком. Звонок звонил, диск открывался в виде дверцы, и на золотой тарелке или на бархатной подушке появлялось королевское послание, после чего диск возвращался на прежнее место; это было интимно и торжественно. Таинственное входило в повседневный обиход. Диск не имел никакого другого назначения. Звонок возвещал только о королевском послании. Тот, кто приносил послание, оставался невидимым. Впрочем, обычно это был паж короля или королевы. В царствование Елизаветы «диск» был у Лестера, в царствование Иакова I — у Бекингема. Джозиана получила «право на диск» при Анне, хотя королева и не питала к ней особой благосклонности. Получавший эту привилегию как бы входил в непосредственное сношение с небом и время от времени получал письма от бога через его почтальона. Ничему так не завидовали, как этому знаку отличия. Однако эта привилегия усиливала раболепство. Ее обладатель становился еще раболепнее других. При дворе всякое возвышение унижает. «Право на диск» обозначалось французским термином avoir le tour; эта особенность английского этикета исходила, по всей вероятности, из какого-нибудь старинного французского обычая.
Леди Джозиана, пэресса-девственница, подобно тому как Елизавета была девственницей-королевой, жила, смотря по времени года, то в городе, то в деревне и вела почти королевский образ жизни; у нее был свой собственный двор, при котором лорд Дэвид, вместе с другими лицами, играл роль придворного. Не будучи еще супругами, лорд Дэвид и леди Джозиана все же могли, не вызывая пересудов, показываться вместе на людях и охотно пользовались этим. Нередко они ездили в театр или на бега в одной карете и сидели в одной ложе. Хотя мысль о браке, в который им было разрешено и даже предписано вступить, расхолаживала их, тем не менее им было приятно встречаться друг с другом. Свободное обхождение, дозволенное помолвленным, имеет границы, которые легко переступить. Однако они воздерживались от этого, ибо чрезмерная непринужденность — признак дурного вкуса.
Самые знаменитые состязания в боксе происходили в ту пору в Ламбетском приходе, где находился дворец архиепископа Кентерберийского, хотя на этой окраине воздух вреден для здоровья; там же была и богатая библиотека архиепископа, открытая в определенные часы для всех добропорядочных людей. Однажды зимой на обнесенной оградой поляне происходило состязание между двумя боксерами, на котором присутствовала Джозиана: ее привез сюда Дэвид. Она как-то спросила его: «Разве женщины допускаются на бокс?» Дэвид ответил: «Sunt faeminae magnates». В вольном переводе это означает: «Только не мещанки», в буквальном же переводе: «Знатные дамы». Герцогини вхожи куда угодно. Потому-то леди Джозиана и присутствовала на этом зрелище.
Ей пришлось сделать только одну уступку приличиям — надеть мужской костюм, но это было вполне в обычае того времени. Женщины и не путешествовали иначе. На шесть человек, помещавшихся в виндзорском дилижансе, почти всегда приходились одна или две дамы в мужском платье. Это свидетельствовало об их принадлежности к дворянству.
Поскольку лорд Дэвид сопровождал даму, он не мог принимать непосредственного участия в состязании и вынужден был оставаться просто зрителем.
Леди Джозиана выдавала свое высокое общественное положение лишь тем, что смотрела в лорнет: на это имели право только знатные особы.
«Благородный поединок» происходил под председательством лорда Джермена, прадеда или двоюродного деда того лорда Джермена, который в конце XVIII века служил полковником, бежал с поля сражения, а затем стал военным министром и спасся от неприятельских пуль лишь для того, чтобы пасть жертвой сарказмов Шеридана, оказавшихся страшнее всякой картечи. Многие из джентльменов держали пари: Гарри Белью из Карлтона, претендент на угасшее пэрство Белла-Аква, бился об заклад с Генри, лордом Хайдом, членом парламента от местечка Денхайвед, носившего также название Лаунсестон; высокочтимый Перегрин Берти, член парламента от местечка Труро, — с сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мейдстоуна; лорд Лемирбо из Лотианской епархии — с Семюэлем Трефузисом из местечка Пенрайн; сэр Бартелемью Грейсдью из местечка Сент-Ивс — с достопочтеннейшим Чарльзом Бодвилем, который носил титул лорда Робертса и являлся custos rotulorum — мировым судьей Корнуэлского графства. Бились об заклад и многие другие.
Один боксер был ирландец из Типперери, прозванный по имени родной горы Филем-ге-Медоном, другой — шотландец Хелмсгейл. Таким образом, здесь столкнулись два национальных самолюбия. Предстояла схватка между Ирландией и Шотландией. Поэтому общая сумма пари превышала сорок тысяч гиней, не считая негласной игры.
Оба бойца были обнажены до пояса, весь костюм их состоял из коротких панталон, застегнутых на бедрах, и башмаков на подбитой гвоздями подошве, зашнурованных у щиколоток.
Шотландец Хелмсгейл был низкорослый малый, не больше девятнадцати лет от роду, но уже со швом на лбу; поэтому за него держали пари на два с третью. В прошлом месяце он переломил ребро и выбил оба глаза боксеру Сиксмайлсуотеру; этим объяснялся вызываемый им энтузиазм. Ставившие на него выиграли тогда двенадцать фунтов стерлингов. Кроме шва на лбу, у Хелмсгейла была еще повреждена челюсть. Он был легок и проворен, ростом не выше маленькой женщины, плотен, приземист, коренаст; в его фигуре было что-то угрожающее; природа, казалось, ничего не упустила, вылепив его из особого теста, и, казалось, каждый мускул его был предназначен для кулачного боя. В его крепком, лоснящемся, коричневом, как бронза, торсе была какая-то собранность. Когда он улыбался, обнаруживалось отсутствие трех зубов.
Его противник был огромен и широк, иными словами — слаб.
Это был мужчина лет сорока, шести футов роста, с грудной клеткой гиппопотама, очень кроткий на вид. Ударом кулака он мог бы проломить корабельную палубу, но не умел наносить этого удара. Ирландец Филем-ге-Медон представлял собою преимущественно удобную мишень для противника и, по-видимому, принимал участие в боксе не столько для того, чтобы наносить удары, сколько для того, чтобы получать их. Однако чувствовалось, что он продержится долго. Он напоминал недожаренный ростбиф, который трудно разжевать и невозможно проглотить. На языке боксеров таких силачей называют raw flesh — сырая говядина. У него были косые глаза. Судя по всему, он примирился со своей участью.
Эти два человека проспали всю прошедшую ночь бок о бок в одной постели. Оба выпили из одного стакана по три больших глотка портвейна. И у того и у другого были свои приверженцы, люди с суровыми физиономиями, которые в случае надобности могли припугнуть судей. В группе сторонников Хелмсгейла бросался в глаза Джон Громен, прославившийся тем, что пронес на спине целого быка, и некто Джон Брей, который однажды взвалил себе на плечи десять мешков муки по пятнадцать галлонов в каждом, да еще мельника впридачу, и прошел с этим грузом больше двухсот шагов. В числе приверженцев Филем-ге-Медона находился приведенный лордом Хайдом из Лаунсестона некто Кильтер, который жил в Зеленом Замке и метал через плечо камень весом в двадцать фунтов выше самой высокой башни этого замка. Все трое, Кильтер, Брей и Громен, были уроженцы Корнуэла — обстоятельство, делающее честь этому графству.
Остальные сторонники обоих боксеров были здоровенные парни, с широкими спинами, кривыми ногами, большими узловатыми руками, с тупыми лицами, в лохмотьях, почти все побывавшие под судом и не боявшиеся ничего на свете.
Многие из них отлично умели подпаивать полицейских. В каждой профессии должны быть свои таланты.
Поляна, выбранная для поединка, простиралась за Медвежьим садом, где некогда происходили бои медведей, быков и догов, за последними, еще не законченными городскими строениями, рядом с развалинами приорства святой Марии Овер-Рэй, разрушенного Генрихом VIII. Дул северный ветер, моросил дождь, была гололедица. Среди собравшихся джентльменов можно было сразу узнать отцов семейства по раскрытым зонтам.
На стороне Филем-ге-Медона был полковник Монкрейф в качестве арбитра и Кильтер — чтобы подставлять колено.
На стороне Хелмсгейла — достопочтенный Пьюг Бьюмери в качестве арбитра и лорд Дизертем из Килкерн — чтобы подставлять колено.
Несколько минут, пока сверялись часы, оба боксера неподвижно стояли в ограде. Затем противники подошли друг к другу и обменялись рукопожатием.
Филем-ге-Медон сказал Хелмсгейлу:
— Эх, хорошо бы уйти домой.
Хелмсгейл, как человек добропорядочный, ответил:
— Нельзя же попусту собирать благородную публику.
Они были обнажены, и им было холодно. Филем-ге-Медон весь дрожал, и у него стучали зубы.
Доктор Элинор Шарп, племянник архиепископа Йоркского, крикнул им:
— Надавайте друг другу тумаков, болваны! Сразу согреетесь.
Эти любезные слова расшевелили их.
Они бросились друг на друга.
Но они еще недостаточно разъярились. Первые три схватки прошли вяло. Преподобный доктор Гемдрайт, один из сорока членов «Коллегии всех душ», крикнул:
— Поднесите-ка им джину!
Но оба «рефери» и двое «восприемников» — все четверо судей, хотя и было очень холодно, настояли на соблюдении правил.
Послышался крик: «First blood!» — требовали «первой крови». Противников поставили лицом к лицу.
Они сошлись, вытянули руки, ощупали друг у друга кулаки, потом каждый отступил назад. Вдруг низкорослый Хелмсгейл бросился вперед. Начался настоящий бой.
Филем-ге-Медон получил удар прямо в лоб, между бровей. Кровь залила ему все лицо. Толпа заорала:
— Хелмсгейл пролил красное вино!
Раздались рукоплескания. Филем-ге-Медон, вращая руками как мельничными крыльями, принялся бить кулаками куда попало. Достопочтенный Перегрин Берти заметил:
— Ослеплен. Но еще не ослеп.
Тогда Хелмсгейл услыхал доносившиеся со всех сторон возгласы поощрения:
— Выбей ему буркалы!
Словом, оба бойца были выбраны вполне удачно, и хотя погода не благоприятствовала состязанию, всем стало ясно, что поединок не будет безрезультатным. Великан Филем-ге-Медон оказался жертвой собственных преимуществ: большой рост и вес делали его неповоротливым. Руки его были настоящими палицами, но тело — мертвым грузом. Маленький шотландец бегал, разил, прыгал, скрежетал зубами, быстротою движений удваивал свою силу, пускался на всякие уловки. С одной стороны — первобытный, дикий, некультурный, невежественный удар кулаком; с другой — удар цивилизованный. Хелмсгейл столько же бился нервами, сколько и мускулами, брал не одной лишь силой, но и злобой; Филем-ге-Медон смахивал на ленивого мясника, слегка оглушенного предварительным ударом. Искусство выступало здесь против природы. Ожесточенный человек — против варвара.
Было ясно, что побежденным окажется варвар. Однако не слишком скоро. Это и возбуждало интерес. Низкорослый против великана. Преимущество было на стороне первого. Кошка одолевает дога. Голиафы всегда бывают побеждены Давидами.
Бойцов подстегивали градом восклицаний:
— Браво, Хелмсгейл! Хорошо! Отлично, горец! — Твоя очередь, Филем!
Друзья Хелмсгейла сочувственно повторяли:
— Выбей ему буркалы!
Хелмсгейл поступил лучше. Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись волнообразным движением пресмыкающегося, он ударил Филем-ге-Медона под ложечку. Колосс зашатался.
— Незаконный удар! — крикнул виконт Барнард.
Филем-ге-Медон опустился на колено к Кильтеру и произнес:
— Я начинаю согреваться.
Лорд Дизертем, посовещавшись с рефери, объявил:
— Пятиминутная передышка!
Филем-ге-Медон был близок к обмороку. Кильтер фланелью отер ему кровь на глазах и пот на теле, затем вставил в рот горлышко фляги. Это была одиннадцатая схватка. Не считая раны на лбу, у Филем-ге-Медона была помята грудная клетка, распух живот и было повреждено темя. Хелмсгейл нисколько не пострадал. Среди джентльменов замечалось некоторое смятение.
Лорд Барнард повторил:
— Незаконный удар!
— Пари вничью! — сказал лорд Лемирбо.
— Я требую обратно мою ставку! — подхватил сэр Томас Колпепер.
А достопочтенный член парламента от местечка Сент-Ивс сэр Бартелемью Грейсдью прибавил:
— Пускай мне возвратят мои пятьсот гиней, я ухожу.
— Прекратите состязание! — крикнули арбитры.
Но Филем-ге-Медон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал:
— Продолжим поединок, но с одним условием. За мною тоже признается право нанести один незаконный удар.
Со всех сторон закричали:
— Согласны!
Хелмсгейл пожал плечами. После пятиминутной передышки схватка возобновилась. Борьба, которая для Филем-ге-Медона была сплошной мукой, казалась забавой для Хелмсгейла. Вот что значит наука! Маленький человечек нашел способ засадить великана in chancery; иначе говоря, Хелмсгейл вдруг захватил огромную голову Филем-ге-Медона под свою левую, стальным полумесяцем изогнутую руку и, держа подмышкой затылком вниз, стал правым кулаком колотить по голове противника, словно молотком по гвоздю, сверху и снизу, пока не изуродовал все лицо. Когда же Филем-ге-Медон получил, наконец, возможность поднять голову, лица у него больше не было. То, что прежде было носом, глазами и ртом, теперь казалось чем-то вроде черной губки, пропитанной кровью. Он сплюнул. На землю упало четыре зуба. Затем он свалился. Кильтер подхватил его на свое колено. Хелмсгейл почти совсем не пострадал. Он получил несколько синяков да царапину на ключице. Никто уже не чувствовал холода. За Хелмсгейла против Филем-ге-Медона ставили теперь шестнадцать с четвертью.
Гарри из Карлтона крикнул:
— Нет больше Филем-ге-Медона! Ставлю на Хелмсгейла мое пэрство Белла-Аква и мой титул лорда Белью против старого парика архиепископа Кентерберийского.
— Дай-ка твою морду, — сказал Кильтер Филем-ге-Медону и, поливая окровавленную фланель из горлышка бутылки, обмыл ему лицо джином. Показался рот. Филем-ге-Медон открыл одно веко. Виски у него, казалось, были рассечены.
— Еще одна схватка, дружище, — сказал Кильтер. — За честь нижнего города.
Валлийцы и ирландцы понимают друг друга; однако Филем-ге-Медон ничем не обнаружил, что он еще способен соображать. При поддержке Кильтера Филем-ге-Медон поднялся. Эта была двадцать пятая схватка. По тому, как этот циклоп (ибо одного глаза он лишился) стал в позицию, все поняли, что это конец; никто уже не сомневался в его неизбежной гибели.
Защищаясь, он поднял руку выше подбородка: это был промах умирающего. Хелмсгейл, только слегка вспотевший, крикнул:
— Ставлю за себя тысячу против одного.
И, занеся руку, ударил противника. Однако странное дело: упали оба. Раздалось веселое мычание.
Это Филем-ге-Медон вслух выражал свою радость.
Он воспользовался страшным ударом, который Хелмсгейл нанес ему по черепу, и сам, вопреки правилам, ударил его в живот. Хелмсгейл, лежа без чувств, хрипел.
Арбитры, увидев Хелмсгейла на земле, изрекли:
— Получил сдачу сполна.
Все захлопали в ладоши, даже проигравшие.
Филем-ге-Медон отплатил незаконным ударом за незаконный удар, но это было ему разрешено.
Хелмсгейла унесли на носилках. Все были убеждены, что он не оправится.
Лорд Роберте воскликнул:
— Я выиграл тысячу двести гиней!
Филем-ге-Медон должен был, очевидно, остаться калекой на всю жизнь.
Уходя, Джозиана оперлась на руку лорда Дэвида, что разрешалось помолвленным, и проговорила:
— Прекрасное зрелище. Но…
— Но что?
— Я думала, что оно рассеет мою скуку. Оказывается, нет.
Лорд Дэвид остановился, посмотрел на Джозиану, сжал губы, надул щеки, покачал головой, что обозначало: «Примем к сведению», затем ответил герцогине:
— Против скуки существует только одно лекарство.
— Какое?
— Гуинплен.
Герцогиня спросила:
— А что это такое — Гуинплен?
Часть V. Гуинплен и Дея
Глава 44
Лицо человека, которого до сих пор знали только по его поступкам
Природа не пожалела своих даров для Гуинплена. Она наделила его ртом, открывающимся до ушей, ушами, загнутыми до самых глаз, бесформенным носом, созданным для того, чтобы на нем подпрыгивали очки фигляра, и лицом, на которое нельзя было взглянуть без смеха.
Мы сказали, что природа щедро осыпала Гуинплена своими дарами. Но было ли это делом одной природы?
Не помог ли ей кто-нибудь в этом?
Глаза — как две узкие щелки, зияющее отверстие вместо рта, плоская шишка с двумя дырками вместо ноздрей, сплющенная лепешка вместо лица — в общем нечто, являющееся как бы воплощением смеха; было ясно, что природа не могла создать такое совершенное произведение искусства без посторонней помощи.
Но всегда ли смех выражает веселье?
Если при встрече с этим фигляром, — ибо Гуинплен был фигляром, — после того как рассеивалось первоначальное веселое впечатление, вызываемое наружностью этого человека, в него вглядывались более внимательно, на его лице замечали признаки мастерской работы. Такое лицо — не случайная игра природы, но плод чьих-то сознательных усилий. Такая законченная отделка не свойственна природе. Человек бессилен сделать из себя красавца, но обезобразить себя вполне в его власти. Вы не превратите готтентотский профиль в римский, но из греческого носа легко сделаете нос калмыка. Для этого достаточно раздавить переносицу и расплющить ноздри. Недаром же вульгарная средневековая латынь создала глагол denasare[389]. Не был ли Гуинплен в детстве столь достойным внимания, чтобы кто-то занялся изменением его лица? Возможно! Хотя бы только с целью показывать его и наживать на этом деньги. Судя по всему, над этим лицом поработали искусные фабриканты уродов. Очевидно, какая-то таинственная и, по всей вероятности, тайная наука, относившаяся к хирургии так, как алхимия относится к химии, исказила, несомненно еще в очень раннем возрасте, его природные черты и умышленно создала это лицо. Это было проделано по всем правилам науки, специализировавшейся на надрезах, заживлении тканей и наложении швов: был увеличен рот, рассечены губы, обнажены десны, вытянуты уши, переломаны хрящи, сдвинуты с места брови и щеки, расширен скуловой мускул; после этого швы и рубцы были заглажены, и на обнаженные мышцы натянута кожа с таким расчетом, чтобы навеки сохранить на этом лице зияющую гримасу смеха; так возникла в руках искусного ваятеля эта маска — Гуинплен.
С таким лицом люди не рождаются.
Как бы там ни было, маска Гуинплена удалась на славу. Гуинплен был даром провидения для всех скучающих людей. Какого провидения? Не существует ли наряду с провидением божественным и провидение дьявольское? Мы ставим этот вопрос, не разрешая его.
Гуинплен был скоморохом. Он выступал перед публикой. Ничто не могло сравниться с производимым им впечатлением. Он исцелял ипохондрию одним лишь своим видом. Людям, носившим траур, приходилось избегать Гуинплена, ибо с первого же взгляда они невольно начинали смеяться до неприличия. Однажды явился палач; Гуинплен заставил и его расхохотаться. Увидав Гуинплена, люди хватались за бока: он только раскрывал рот, как все покатывались от смеха. Он был полюсом, противоположным печали. Сплин находился на одном конце, Гуинплен — на другом. Поэтому-то на всех ярмарках и площадях за ним установилась лестная слава непревзойденного урода.
Гуинплен вызывал смех своим собственным смехом. Однако сам он не смеялся. Смеялось его лицо, но не он сам. Смеялась только эта чудовищная физиономия, созданная игрою случая или особым искусством. Гуинплен тут был ни при чем. Внешний облик его не зависел от его внутреннего состояния. Он не мог согнать со своего лба, со щек, с бровей, с губ этот непроизвольный смех. Это был смех автоматический, казавшийся особенно заразительным именно потому, что он застыл навсегда. Никто не мог устоять перед этим осклабившимся ртом. Два судорожных движения рта действуют заразительно: это смех и зевота. В результате таинственной операции, которой, по всей вероятности, подвергся Гуинплен в детстве, все черты его лица вызывали это впечатление смеха, вся его физиономия сосредоточилась только на этом выражении, подобно тому, как все спицы колеса сосредоточиваются в ступице. Какие бы чувства ни волновали Гуинплена, они только усиливали это странное выражение веселья, вернее — обостряли его; удивление, страдание, гнев или жалость только резче подчеркивали веселую гримасу этих мускулов: заплачь он, его лицо продолжало бы смеяться; что бы ни делал Гуинплен, чего бы он ни желал, о чем бы ни думал, стоило ему лишь поднять голову, как толпа, если только возле него была толпа, разражалась громовым хохотом.
Представьте себе голову веселой Медузы.
Неожиданное зрелище нарушало привычное течение мыслей и заставляло смеяться.
Некогда в древней Греции на фронтонах театров красовалась бронзовая смеющаяся маска. Маска эта называлась Комедией. Бронзовая личина как будто смеялась и вызывала смех, но вместе с тем хранила печать задумчивости. Пародия, граничащая с безумием, ирония, близкая к мудрости, сосредоточивались и сливались воедино в этом лице; заботы, печали, разочарования, отвращение к жизни отражались на этом бесстрастном челе и порождали мрачный итог — веселость; один угол рта, обращенный к человечеству, был приподнят насмешкой; другой, обращенный к богам, — кощунством; люди приходили к этому совершеннейшему образу сарказма, чтобы столкнуть с ним тот запас иронии, который каждый из нас носит в себе, и толпа, беспрерывно сменявшаяся перед этим воплощением смеха, замирала от восторга при виде застывшей издевательской улыбки.
Если бы эту мрачную маску античной Комедии надеть на лицо живого человека, можно было бы получить представление о лице Гуинплена. На плечах у него была голова, казавшаяся сатанинской смеющейся маской. Какое бремя для человеческих плеч — такой вечный смех!
Вечный смех. Объяснимся. Если верить манихеям, доброе начало отступает перед враждебным, злым началом, и у самого бога бывают перерывы в бытии. Условимся также насчет того, что такое воля. Мы не допускаем, чтобы она всегда была бессильна. Всякое существование похоже на письмо, смысл которого изменяется постскриптумом. Для Гуинплена постскриптумом было следующее: огромным усилием воли, на котором он сосредоточивал все свое внимание, когда никакое волнение не отвлекало его и не ослабляло этого напряжения, он иногда умудрялся согнать этот непрестанный смех со своего лица и набросить на него некий трагический покров. И в такие минуты его лицо вызывало у окружающих уже не смех, а содрогание ужаса.
Заметим, что Гуинплен очень редко прибегал к этому усилию, так как оно стоило ему мучительного труда и невыносимого напряжения. Достаточно было к тому же малейшей рассеянности, малейшего волнения, чтобы прогнанный на минуту, неудержимый как морской прибой, смех снова появлялся на его лице и обнаруживал себя тем резче, чем сильнее было это волнение.
За исключением таких случаев Гуинплен смеялся вечно.
Глядя на Гуинплена, люди смеялись. Но, посмеявшись, отворачивались. Особенно сильное отвращение вызывал он у женщин. И в самом деле, этот человек был ужасен. Судорожный хохот зрителей был своего рода данью, и ее выплачивали весело, но почти бессознательно. Когда же приступ смеха затихал, смотреть на Гуинплена становилось для женщин совершенно нестерпимо, они опускали глаза и старались не глядеть на него.
Между тем он был высок ростом, хорошо сложен, ловок и нисколько не уродлив, если не считать лица. Это было еще одним признаком, подтверждавшим предположение, что наружность Гуинплена была скорее делом рук человеческих, нежели произведением природы. Красоте сложения Гуинплена должна была соответствовать, по всей вероятности, и красота лица. При рождении он был несомненно таким же ребенком, как и все другие дети. Тела его не тронули, а перекроили только лицо. Гуинплен был созданием чьей-то злонамеренной воли.
По крайней мере это было очень похоже на истину.
Зубов у него не вырвали. Зубы необходимы для смеха. Они остаются и в черепе мертвеца.
Операция, произведенная над ним, должно быть, была ужасна. Он не помнил о ней, но это вовсе не доказывало, что он ей не подвергся. Такая работа хирурга-ваятеля могла увенчаться успехом только в том случае, если ее объектом был младенец, который не сознавал, что с ним происходит, и легко мог принять нанесенные раны за болезнь. К тому же в те времена, как помнит читатель, усыпляющие и болеутоляющие средства были уже известны. Только тогда это называли колдовством. В наши дни это называют анестезией.
Наделив Гуинплена такой маской, люди, взрастившие его, развили в нем задатки будущего гимнаста и атлета; путем умело подобранных акробатических упражнений его суставам была придана способность выворачиваться в любую сторону, тело получило резиновую гибкость, и сочленения двигались подобно шарнирам. Ничто не было упущено в воспитании Гуинплена для того, чтобы с малолетства подготовить его к мастерству фигляра.
Его волосы раз навсегда были выкрашены в цвет охры — секрет, вновь найденный в наши дни. Им пользуются красивые женщины, и то, что некогда, считалось уродством, теперь считается признаком красоты. У Гуинплена были рыжие волосы, а краска, очевидно едкая, сделала их жесткими и грубыми на ощупь. Под рыжей гривой, скорее похожей на щетину, чем на волосы, скрывался прекрасно развитый череп — достойное вместилище мысли. Какова бы ни была операция, уничтожившая гармонию лица и изуродовавшая его мускулы, она оказалась бессильной изменить черепную коробку. Лицевой угол Гуинплена поражал своей мощью. За этой смеющейся маской таилась душа, склонная, как и у всех людей, предаваться мечтам.
Впрочем, смех Гуинплена был настоящим талантом. Он не мог избавиться от него и потому извлекал из него пользу. Этим смехом он добывал себе пропитание.
Гуинплен — читатели, вероятно, уже догадались об этом — был тот самый ребенок, которого покинули в зимний вечер на портлендском берегу и который нашел себе приют в бедном домике на колесах в Уэймете.
Глава 45
Дея
Ребенок стал взрослым мужчиной. Прошло пятнадцать лет. Шел 1705 год. Гуинплену должно было исполниться двадцать пять лет.
Урсус оставил у себя тогда обоих детей, образовав маленькую кочующую семью.
Урсус и Гомо состарились. Урсус совсем облысел. Волк поседел. Продолжительность жизни волков не установлена с такою точностью, как продолжительность жизни собак. По данным Молена, некоторые волки достигают восьмидесятилетнего возраста, в том числе малый купар, caviae vorus, и вонючий волк, canis nubilus, описанный Сэем.
Девочка, найденная на груди мертвой женщины, превратилась теперь в шестнадцатилетнюю девушку, с бледным лицом, обрамленным темными волосами, довольно высокую, стройную и хрупкую, с таким тонким станом, что, казалось, он переломится, едва прикоснешься к нему; девушка была дивно хороша, но глаза ее, полные блеска, были незрячи.
Роковая зимняя ночь, свалившая в снег нищенку и ее младенца, нанесла сразу двойной удар: убила мать и ослепила дочь.
Темная вода навсегда сделала неподвижными зрачки ребенка, ставшего теперь взрослой девушкой. На лице ее, непроницаемом для света, эта горечь разочарования выражалась в печально опущенных углах губ. Ее большие ясные глаза отличались странным свойством: угаснув для нее, они сохранили свою лучезарность для окружающих. Таинственные светильники, озарявшие только внешний мир! Это лишенное света существо излучало свет. Потухшие глаза были исполнены сияния. Эта пленница мрака освещала тьму, в которой она жила. Из глубины безысходной темноты, из-за черной стены, именуемой слепотою, она посылала в пространство яркие лучи. Она не видела нашего солнца, но в ней отражалась сущность его. Ее мертвый взор обладал неподвижностью, свойственной небесным светилам.
Она была воплощением ночи и горела как звезда, горела в этой непроницаемой тьме, ставшей ее собственной стихией.
Урсус, помешанный на латинских именах, окрестил ее Деей. Он предварительно посоветовался с волком. «Ты представляешь человека, — сказал он, — я представляю животное, мы с тобой представители земного мира. Пусть же эта малютка будет представительницей мира небесного. Ее слабость на самом деле — всемогущество. Таким образом, в нашей лачуге будет заключена отныне вся вселенная: мир человеческий, мир животный, мир божественный».
Волк ничего не возразил, и найденыш стал называться Деей.
Что касается Гуинплена, Урсусу не пришлось ломать себе голову, чтобы придумать для него имя. В то самое утро, когда он узнал, что мальчик обезображен и что девочка слепа, он спросил:
— Как звать тебя, мальчик?
— Меня зовут Гуинпленом, — ответил ребенок.
— Что ж, Гуинплен так Гуинплен, — сказал Урсус.
Дея помогала Гуинплену в его выступлениях.
Если бы можно было подвести итог всей совокупности человеческих несчастий, он нашел бы свое воплощение в Гуинплене и Дее. Казалось, оба они явились на землю из мира теней: Гуинплен — из той его области, где царит ужас, Дея — из той, где царит тьма. Их существования были сотканы из различного рода мрака, заимствованного у чудовищных полюсов вечной ночи. Дея носила этот мрак внутри себя, Гуинплен — на своем лице. В Дее было что-то призрачное; Гуинплен был подобен привидению. Дея была окружена черной бездной, Гуинплена окружало нечто худшее. У зрячего Гуинплена была ужасная возможность, от которой слепая Дея была избавлена, — возможность сравнивать себя с другими людьми. Но в положении Гуинплена, если только допустить, что он старался дать себе в нем отчет, сравнивать значило перестать понимать самого себя. Иметь, подобно Дее, глаза, в которых не отражается внешний мир, — несчастие огромное, однако меньшее, чем быть загадкою для самого себя: чувствовать в мире отсутствие чего-то, что является тобою самим, видеть вселенную и не видеть себя в ней. На глаза Деи был накинут покров мрака, на лицо Гуинплена была надета маска. Как выразить это словами? На Гуинплене была маска, выкроенная из его живой плоти. Он не знал своих подлинных черт. Они исчезли. Их подменили другими чертами. Его истинного облика уже не существовало. Голова жила, но лицо умерло. Он не мог вспомнить, видел ли он его когда-нибудь. Для Деи, так же как и для Гуинплена, род человеческий был чем-то внешним, далеким от них. Она была одинока. Он — тоже. Одиночество Деи было мрачным: она не видела ничего. Одиночество Гуинплена было зловещим. Он видел все. Для Деи весь мир не выходил за пределы ее слуха и осязания: все существующее было ограничено, почти не имело протяженности, обрывалось в двух шагах от нее; бесконечной представлялась только тьма. Для Гуинплена жить — значило вечно видеть перед собою толпу, с которой ему никогда не суждено было слиться. Дея была изгнанницей из царства света, Гуинплен был отверженным среди живых существ. Оба они имели все основания отчаяться. И он и она переступили мыслимую черту человеческих испытаний. При виде их всякий, призадумавшись, почувствовал бы к ним безмерную жалость. Как они должны были страдать! Над ними явно тяготел злобный приговор судьбы, и рок никогда еще так искусно не превращал жизнь двух ни в чем не повинных существ в сплошную муку, в адскую пытку.
А между тем они жили в раю.
Они любили друг друга.
Гуинплен обожал Дею. Дея боготворила Гуинплена.
— Ты так прекрасен! — говорила она ему.
Глава 46
Oculos non habet, et videt — не имеет глаз, а видит
Одна только женщина на свете видела настоящего Гуинплена — слепая девушка.
Чем она была обязана Гуинплену, Дея знала от Урсуса, которому Гуинплен рассказал о своем трудном переходе из Портленда в Уэймет и обо всех ужасах, пережитых им после того, как его оставили на берегу. Она знала, что ее, крошку, умиравшую на груди умершей матери и сосавшую ее мертвую грудь, подобрало другое дитя, не намного старше ее, что это существо, отвергнутое всеми и как бы погребенное в мрачной пучине всеобщего равнодушия, услыхало ее крик и, хотя все были глухи к нему самому, не оказалось глухим к ней; что этот одинокий, слабый, покинутый ребенок, не имевший никакой опоры на земле, сам еле передвигавший ноги в пустыне, истощенный, разбитый усталостью, принял из рук ночи тяжкое бремя — другого ребенка; что несчастное существо, обездоленное при непонятном разделе жизненных благ, именуемом судьбою, взяло на себя заботу о судьбе другого существа и, будучи олицетворением нужды, скорби и отчаяния, стало провидением для найденной им малютки. Она знала, что, когда небо закрылось для нее, он раскрыл ей свое сердце; что, погибая сам, он спас ее; что, не имея ни крова, ни пристанища, он пригрел ее; что он сделался ее матерью и кормилицей; что он, совершенно одинокий на свете, ответил небесам, покинувшим его, тем, что усыновил другого ребенка; что, затерянный в ночи, он явил этот высокий пример; что, сочтя себя недостаточно обремененным собственными бедами, он взвалил себе на плечи бремя чужого несчастья; что он открыл на этой земле, где, казалось бы, его уже ничто не ждало, существование долга; что там, где всякий заколебался бы, он смело пошел вперед; что там, где все отшатнулись бы, он не отстранился; что он опустил руку в отверстую могилу и извлек оттуда ее, Дею; что, сам полуголый, он отдал ей свои лохмотья, ибо она страдала от холода, что, сам голодный, он постарался накормить и напоить ее; что ради нее этот ребенок боролся со смертью, со смертью во всех ее видах: в виде зимы и снежной метели, в виде одиночества, в виде страха, в виде холода, голода и жажды, в виде урагана; что ради нее, ради Деи, этот десятилетний титан вступил в поединок с беспредельным мраком ночи. Она знала, что он сделал все это, будучи еще ребенком, и что теперь, став мужчиной, он для нее, немощной, является опорой, для нее, нищей, — богатством, для нее, больной, — исцелением, для нее, слепой, — зрением. Сквозь густую, ей самой неведомую завесу, заставлявшую ее держаться вдали от жизни, она ясно различала эту преданность, эту самоотверженность, это мужество — во внутреннем нашем мире героизм принимает совершенно определенные очертания. Она улавливала его благородный облик: в той невыразимо отвлеченной области, где живет мысль, не освещаемая солнцем, она постигала это таинственное отражение добродетели. Окруженная со всех сторон непонятными, вечно куда-то движущимися предметами (таково было единственное впечатление, производимое на нее действительностью), замирая в тревоге, свойственной бездеятельному существу, всегда настороженно поджидающему возможную опасность, постоянно переживая, как и все слепые, чувство своей полной беззащитности в этом мире, она вместе с тем явственно ощущала где-то над собой присутствие Гуинплена — Гуинплена, никогда не знающего устали, всегда близкого, всегда внимательного, Гуинплена ласкового, доброго, всегда готового прийти ей на помощь. Дея вся трепетала от радостной уверенности в нем, от признательности к нему: ее тревога стихала, сменялась восторгом, и своими исполненными мрака глазами она созерцала в зените над окружавшей ее бездной неугасимое сияние этой доброты.
Во внутреннем мире человека доброта — это солнце. И Гуинплен ослеплял собою Дею.
Для толпы, у которой слишком много голов, чтобы она могла над чем-нибудь призадуматься, и слишком много глаз, чтобы она могла к чему-нибудь приглядеться, для толпы, которая, будучи поверхностной, останавливается только на поверхности явлений, Гуинплен был всего лишь клоуном, фигляром, скоморохом, шутом, чем-то вроде животного. Толпа знала только его маску.
Для Деи Гуинплен был спасителем, извлекшим ее из могилы и вынесшим на свет, утешителем, дававшим ей возможность жить, освободителем, руку которого она, блуждавшая в темном лабиринте, чувствовала в своей руке. Гуинплен был братом, другом, руководителем, опорой, подобием лика небесного, крылатым, лучезарным супругом, и там, где толпа видела чудовище, она видела архангела.
И это потому, что слепая Дея видела его душу.
Глава 47
Прекрасно подобранная чета влюблённых
Философ Урсус это понимал. Он одобрял ослепление Деи:
— Слепой видит незримое.
Он говорил:
— Сознавать — значит видеть.
Глядя на Гуинплена, он бормотал:
— Получудовище и полубог.
Гуинплен, со своей стороны, был опьянен Деей. Существует глаз невидимый — ум, и глаз видимый — зрачок. Гуинплен смотрел на Дею видимыми глазами. Дея была очарована идеальным образом, Гуинплен — реальным. Гуинплен был не просто безобразен, он был ужасен. В Дее он видел свою противоположность. Насколько он был страшен, настолько Дея была прелестна. Он был олицетворением уродства, она — олицетворением грации. Дея казалась воплощенной мечтой, грезой, принявшей телесные формы. Во всем ее существе, в ее воздушной фигуре, в ее стройном и гибком стане, трепетном как тростник, в ее, быть может, незримо окрыленных плечах, в легкой округлости ее форм, говорившей о ее пуле не столько чувствам, сколько душе, в почти прозрачной белизне ее кожи, в величественном спокойствии ее незрячего взора, божественно отрешенного от земного, в святой невинности ее улыбки было нечто, роднившее ее с ангелом; а между тем она была женщиной.
Гуинплен, как мы уже сказали, сравнивал себя с другими; сравнивал он и Дею.
Его жизнь представлялась ему сочетанием двух непримиримых противоположностей. Она была точкой пересечения двух лучей, черного и белого, шедших один снизу, другой — сверху. Одну и ту же крошку могут одновременно клевать два клюва: клюв зла и клюв добра, первый — терзая, второй — лаская. Гуинплен был такой крошкой, атомом; его и терзали и ласкали. Гуинплен был детищем роковой случайности, усложненной вмешательством провидения. Несчастье коснулось его своим перстом, но его коснулось и счастье. Два противоположных удела, сочетавшись, породили его необычную судьбу. На нем лежало и проклятие и благословение. Он был избранником, на котором лежало проклятие. Кто он? Он не знал этого сам. Когда он смотрел на себя в зеркало, он видел незнакомца. И незнакомец этот был чудовищем. Гуинплен жил как бы обезглавленным, с лицом, которое он не мог признать своим. Это лицо было безобразно, до того безобразно, что служило предметом потехи. Оно было настолько ужасно, что вызывало смех. Оно было жутко-смешным. Человеческое лицо исчезло, как бы поглощенное звериной мордой. Никогда еще никто не видел такого полного исчезновения человеческих черт на лице человека, никогда еще пародия на человеческий образ не достигала такого совершенства, никогда еще, даже в кошмаре, не возникала такая жуткая смеющаяся харя, никогда еще все, что может оттолкнуть женщину, не соединялось так отвратительно в наружности мужчины; несчастное сердце, скрывавшееся за этой маской и оклеветанное ею, казалось, было обречено на вечное одиночество; такое лицо было для него настоящей гробовой доской. Но нет, нет! Там, где исчерпала весь запас своих средств неведомая злоба, там в свою очередь расточила свои дары и незримая доброта. Внезапно подняв из праха поверженного, она всему, что было в нем отталкивающего, придала все, что способно было привлекать: в риф вложила магнит, внушила другой душе желание устремиться как можно скорее к обездоленному; поручила голубке утешить пораженного молнией, заставила красоту боготворить безобразие.
Для того чтобы это оказалось возможным, было необходимо, чтобы красавица не могла видеть урода. Для счастья было необходимо несчастье. И провидение сделало Дею слепой.
Гуинплен смутно сознавал себя искупительной жертвой. Но за что преследовала его судьба? Этого он не знал. За что ему пришлось понести кару? Это тоже оставалось для него загадкой. Над ним, заклейменным навеки, вдруг засиял ореол — вот и все, что он знал. Когда Гуинплен подрос настолько, что стал многое понимать, Урсус прочел и объяснил ему соответствующее место из сочинения доктора Конкеста «De denasatis» и из другого фолианта, из трактата Гуго Плагона, отрывок, начинающийся словами: «Nares habens mutilas»[390], однако Урсус предусмотрительно воздержался от всяких догадок и остерегся делать какие-либо выводы. Возможны были всякие предположения, с известной степенью вероятия удалось бы, пожалуй, установить кое-какие события, имевшие отношения к детству Гуинплена, но для Гуинплена очевидным было лишь одно: самый результат. Ему суждено было прожить всю жизнь с клеймом на лице. За что заклеймили его? На это не было ответа. Безмолвие и одиночество окружали Гуинплена. Все догадки, возникавшие в связи с трагической действительностью, были зыбки и шатки: вполне достоверным представлялся лишь сам ужасный факт. И вот в эти минуты тяжкой скорби появлялась Дея, словно небесная посредница между Гуинпленом и его отчаянием. Ласковость этой восхитительной девушки, склонявшейся к нему, уроду, трогала и как бы согревала его, черты дракона смягчались выражением счастливого изумления. Созданный для того, чтобы внушать ужас, он каким-то чудом вызывал восторг и обожание светозарного существа; он, чудовище, чувствовал, что его любовно созерцает звезда.
Гуинплен и Дея составляли отличную пару; эти трогательно-нежные сердца боготворили друг друга. Гнездо и две птички — такова была их история. Они подчинились закону, общему для всего мироздания, состоящему в том, чтобы любить, искать и находить друг друга.
Таким образом, ненависть обманулась в своих расчетах. Преследователи Гуинплена, кто бы они ни были, загадочная вражда к нему, откуда бы она ни исходила, не достигли цели. Его хотели обречь на безысходное отчаяние, а сделали счастливым человеком. Ему нанесли рану, которой суждено было затянуться, его заранее обручили с той, которая должна была пролить на нее целительный бальзам; его скорбь должна была утешить та, которая была сама воплощенной скорбью. Тиски палача незаметно превратились в ласковую руку женщины. Гуинплен был поистине ужасен, но не от природы; таким сделала его рука человека; его надеялись сперва отлучить от семьи, если только у него была семья, затем от всего человечества; еще ребенком его превратили в развалину, но природа оживила эту развалину, как она вообще оживляет развалины; в его одиночестве природа утешила его, как она вообще утешает всех одиноких; природа всегда приходит на помощь обездоленным; там, где ощущается недостаток во всем, она отдает всю себя безраздельно, она покрывает руины цветами и зеленью; для камня у нее есть плющ, для человека — любовь.
Глубокое великодушие сокрытых сил природы.
Глава 48
Лазурь среди мрака
Так жили друг другом эти два обездоленных существа. Дею поддерживала рука Гуинплена, Гуинплена — доверие Деи.
Сирота опиралась на сироту. Урод опекал калеку.
Двое одиноких нашли друг друга.
Чувство невыразимой благодарности переполняло их сердца. Они благодарили.
Кого?
Таинственную бесконечность.
Чувствовать благодарность — вполне достаточно. У благодарности есть крылья, и она несется туда, куда нужно. Ваша молитва лучше вас знает, куда ей устремиться.
Сколько людей, думая, что молятся Юпитеру, молились Иегове! Скольким верующим в амулеты внимает бесконечность! Сколько атеистов не замечают того, что их доброта и грусть — та же молитва, обращенная к богу!
Гуинплен и Дея чувствовали благодарность.
Уродство — это изгнание. Слепота — это бездна. И вот изгнанник нашел приют; бездна стала обитаема.
Гуинплен видел, как к нему по воле рока, точно сон наяву, нисходит в потоках света прекрасное белое облако, принявшее образ женщины, лучезарное видение, в котором бьется сердце, и этот призрак, почти облако и в то же время женщина, протягивает к нему объятия, это видение целует его, это сердце рвется к нему; Гуинплен забывал о своем уродстве, чувствуя себя любимым; роза пожелала вступить в брак с гусеницей, предугадывая в этой гусенице восхитительную бабочку; Гуинплен, существо отверженное, оказался избранником.
Иметь необходимое — в этом все. Гуинплен имел необходимое ему, Дея — необходимое ей.
Унизительное сознание собственного уродства перестало тяготить Гуинплена, оно постепенно рассеивалось, сменившись другими чувствами — упоением, восторгом, верою; а навстречу горькой беспомощности слепой Деи протягивалась из окружавшей ее тьмы чья-то рука.
Две скорби, поглотив одна другую, вознеслись в идеальный мир. Двое обездоленных взаимно признали друг друга. Двое ограбленных соединились, чтобы обогатить друг друга. Каждого из них связывало с другим то, чего он был лишен. Чем был беден один, тем был богат другой. В несчастье одного заключалось сокровище другого. Не будь Дея слепа, разве избрала бы она Гуинплена? Не будь Гуинплен обезображен, разве он предпочел бы Дею другим девушкам? Она, вероятно, не полюбила бы урода, так же как и он — увечную. Какое счастье для Деи, что Гуинплен был отвратителен! Какая удача для Гуинплена, что Дея была слепа! Если бы не горестное сходство их неотвратимой жестокой участи, союз между ними был бы невозможен. В основе их любви лежала неодолимая потребность друг в друге. Гуинплен спасал Дею, Дея спасала Гуинплена. Столкновение двух горестных судеб вызвало взаимное тяготение. Это было объятие двух существ, поглощенных пучиной. Нет ничего более сближающего, более безнадежного, более упоительного.
Гуинплен постоянно думал:
«Что бы сталось со мной без нее!»
Дея постоянно думала:
«Что бы сталось со мной без него!»
Двое изгнанников обрели родину; два непоправимых, роковых несчастья — клеймо Гуинплена и слепота Деи, соединив их, стали для обоих источником глубокой радости. Им ничего не надо было, кроме их близости, они не представляли себе ничего вне ее: говорить друг с другом было для них наслаждением, находиться рядом — блаженством; каждый из них непрерывно следил за малейшим душевным движением другого, и они дошли до полного единства мечтаний: одна и та же мысль возникала одновременно у обоих. При звуке шагов Гуинплена Дее казалось, что она слышит поступь божества. Они прижимались друг к другу в некоем звездном полумраке, полном благоуханий, блеска музыки, ослепительных архитектурных форм, грез; они принадлежали друг другу; они знали, что навсегда связаны общими радостями и восторгами. Ничего не могло быть более странного, чем этот рай, созданный двумя осужденными на муку существами.
Они были невыразимо счастливы.
Свой ад они превратили в небесный рай: таково твое могущество, любовь!
Дея слышала смех Гуинплена; Гуинплен видел улыбку Деи.
Так было обретено идеальное блаженство, было воплощено наяву совершенное наслаждение жизнью, была разрешена таинственная проблема счастья. И кем? Двумя обездоленными.
Для Гуинплена Дея была олицетворенным сиянием. Для Деи Гуинплен был олицетворенным присутствием высшего существа. Такое присутствие — глубокая тайна, сообщающая незримому божественные свойства и порождающая другую тайну — доверие. Во всех религиях одно лишь доверие непреложно, но его вполне достаточно: безграничное существо, без которого верующие не могут обойтись, пребывает невидимым, однако они чувствуют его.
Гуинплен был божеством Деи.
Иногда, в порыве любви, она опускалась перед ним на колени, точно прекрасная жрица, поклоняющаяся идолу в индийской пагоде.
Представьте себе бездну и среди этой бездны светлый оазис, а в нем два изгнанные из жизни существа, ослепленные друг другом.
Ничто не могло быть чище этой любви. Дея не знала, что такое поцелуй, хотя, быть может, и желала его, ибо слепота, особенно у женщин, не исключает грез: как бы слепая ни страшилась прикосновений неведомого, она не всегда избегает их. Что же касается Гуинплена, то трепетная молодость делала его задумчивым: чем сильнее он чувствовал себя опьяненным, тем застенчивее он становился; он мог бы себе позволить все с этой подругой детства, с этой девушкой, не ведавшей, что такое грех, так же как она не знала, что такое свет, с этой слепой, которая способна была видеть только одно — что она обожает его. Но он счел бы воровством взять то, что она сама отдала бы ему; с чувством грустного удовлетворения он соглашался любить ее лишь бесплотной любовью, и сознание своего уродства приводило его к еще более высокому целомудрию.
Эти счастливцы жили в идеальном мире. Там, подобно небесным сферам, они были супругами на расстоянии. Они обменивались в лазури той эманацией, которая а бесконечности есть притяжение, а на земле — пол. Они дарили друг другу поцелуи души.
Они всегда жили общей жизнью и не мыслили себе другой жизни. Детство Деи совпало с отрочеством Гуинплена. Они росли вместе. Долгое время они спали в одной постели, так как домик на колесах представлял собою не слишком просторную спальню. Они помещались на сундуке, а Урсус на полу, — таков был заведенный порядок. Потом в один прекрасный день — Дея была тогда еще совсем ребенком — Гуинплен почувствовал себя взрослым, и в нем проснулся стыд. Он сказал Урсусу: «Я тоже хочу спать на полу». И вечером растянулся на медвежьей шкуре, рядом со стариком. Тогда Дея расплакалась. Она потребовала к себе своего соседа по постели. Но Гуинплен, взволнованный, так как в нем уже зарождалась любовь, настоял на своем. С тех пор он спал на полу вместе с Урсусом. Летом, в теплые ночи, он спал на дворе вместе с Гомо. Дее минуло уже тринадцать лет, а она все еще не могла примириться с этим. Часто вечером она говорила: «Гуинплен, поди ко мне: я скорее засну». Ей необходимо было чувствовать подле себя Гуинплена для того, чтобы заснуть, и она засыпала спокойным сном невинности. Сознание наготы возникает лишь у того, кто видит себя нагим, поэтому Дея не знала наготы. Аркадская или таитянская невинность. Близость дикарки Деи делала Гуинплена нелюдимым. Случалось, что Дея, уже почти взрослой девушкой, сидя на постели в сорочке, спускавшейся с плеча и открывавшей ее уже ясно обозначавшуюся юную грудь, расчесывала волосы и настойчиво звала к себе Гуинплена. Гуинплен краснел, опускал глаза, не знал, куда спрятаться от этой невинной наготы, что-то бормотал, отворачивался, пугался и уходил: порожденный мраком Дафнис обращался в бегство перед погруженной во тьму Хлоей.
Такова была эта идиллия, расцветшая в столь трагической обстановке.
Урсус говорил им:
— Любите друг друга, скоты вы этакие!
Глава 49
Урсус наставник и Урсус опекун
Урсус прибавлял:
— Сыграю я с ними на днях шутку. Женю их.
Урсус излагал Гуинплену теорию любви. Он говорил:
— Любовь! Знаешь ли, как господь бог зажигает этот огонь? Он сближает женщину и мужчину, а между ними пристраивает дьявола, так что мужчина наталкивается на дьявола. Одной искры, иными словами, одного взгляда достаточно, чтобы все это запылало.
— Можно обойтись и без взгляда, — отвечал Гуинплен, думая о Дее.
Урсус возражал:
— Простофиля! Разве душам нужны глаза, чтобы смотреть друг на друга?
Иногда Урсус бывал благодушен. Порою Гуинплен, теряя голову от любви к Дее, становился мрачен и избегал Урсуса, как свидетеля. Однажды Урсус сказал ему:
— Ба! Не стесняйся. Влюбленный петух не прячется.
— Да, но орел уходит от посторонних взоров, — ответил Гуинплен.
Бывало, что Урсус бормотал про себя:
— Благоразумие требует вставить несколько палок в колеса Венериной колесницы. Мои голубки слишком горячо любят друг друга. Это может привести к нежелательным последствиям. Предупредим пожар. Умерим пыл этих сердец.
И, обращаясь к Гуинплену, когда Дея спала, и к Дее, когда внимание Гуинплена было чем-нибудь отвлечено, Урсус прибегал к такого рода предостережениям:
— Дея, тебе не следует слишком привязываться к Гуинплену. Жить другим человеком опасно. Эгоизм — самая надежная основа счастья. Мужчины легко уходят из-под власти женщин. К тому же Гуинплен может в конце концов возгордиться. Он пользуется таким успехом! Ты не представляешь себе, какой он имеет успех!
— Гуинплен, такое несоответствие никуда не годится. Чрезмерное уродство с одной стороны и совершенство красоты с другой — над этим стоит призадуматься. Умерь свой пыл, мой мальчик. Не приходи в такой восторг от Деи. Неужели ты серьезно считаешь себя созданным для нее? Но взгляни на свое собственное безобразие и на ее совершенство. Подумай, какое расстояние отделяет ее от тебя. У нее есть все, у нашей Деи! Какая белая кожа, какие волосы, какие губы — настоящая земляника! А ее ножка! А руки! Округлость ее плеч восхитительна, ее лицо прекрасно. Когда она ступает, от нее исходит сияние. А ее разумная речь, а ее чарующий голос! И при всем этом, подумай, ведь она женщина. Она не настолько глупа, чтобы быть ангелом. Это — совершенная красота. Подумай об этом и успокойся.
Но такие увещания только усиливали любовь Деи и Гуинплена, и Урсус удивлялся своей неудаче, подобно человеку, который говорил бы себе:
— Странная вещь, сколько ни лью я масла в огонь, никак его не погасить!
Желал ли он погасить или хотя бы только охладить их сердечный жар? Конечно, нет. Если бы это ему удалось, для него это было бы крайне неприятным сюрпризом. В глубине души эта любовь, бывшая для них пламенем, а для него теплом, восхищала его.
Но надо же иногда слегка побранить то, что нас очаровывает. Это брюзжанье и называют благоразумием.
Урсус был для Гуинплена и Деи почти что и отцом и матерью. Ворча себе под нос, он вырастил их; поругивая, вскормил их. Так как после усыновления двух детей возок стал тяжелее, Урсусу пришлось чаще впрягаться рядом с Гомо.
Следует заметить однако, что через несколько лет, когда Гуинплен стал почти взрослым, а Урсус — совсем старым, наступила очередь Гуинплена возить Урсуса.
Наблюдая за подрастающим Гуинпленом, Урсус предрек уроду его будущее.
— О твоем богатстве позаботились, — сказал он ему.
Семья, состоявшая из старика, двух детей и волка, странствуя, сплачивалась все тесней и тесней.
Такая бродячая жизнь не помешала воспитанию детей. «Скитаться — это расти», — говорил обыкновенно Урсус. Так как Гуинплен был явно предназначен для того, чтобы его «показывали на ярмарках», Урсус сделал из него хорошего фигляра, вкладывая при этом в своего ученика все те премудрости, которые только тот смог воспринять. Иногда, глядя в упор на чудовищную маску Гуинплена, он бормотал: «Да, начато было совсем неплохо». И он стремился завершить начатое, дополняя воспитание Гуинплена разнообразными философскими и научными познаниями.
Нередко повторял он Гуинплену:
— Будь философом. Быть мудрым — значит быть неуязвимым. Взгляни на меня, я никогда не плакал. А все потому, что я мудрец. Неужели ты думаешь, что если бы я захотел, у меня не нашлось бы повода поплакать?
В монологах, которым внимал только волк, Урсус говорил:
— Гуинплена я научил всему, в том числе и латыни, Дею же — ничему, ибо музыка в счет не идет.
Он выучил их обоих петь. Сам он недурно играл на маленькой старинной флейте, а также на рылях, которые хроника Бертрана Дюгесклена называет «инструментом нищих» и изобретение которых послужило толчком к развитию симфонической музыки. Эти концерты привлекали публику. Урсус показывал ей свои многострунные рыли и пояснял:
— По-латыни это называется organistrum.
Он обучил Дею и Гуинплена пению по методе Орфея и Эгидия Беншуа. Не раз прерывал он свои уроки восторженным возгласом:
— Орфей — певец Греции! Беншуа — певец Пикардии!
Эта сложная система тщательного воспитания все же не настолько поглощала досуг детей, чтобы помешать им любить друг друга. Они выросли, соединив свои сердца, подобно тому как два посаженные рядом деревца со временем соединяют свои ветви.
— Все равно, — бормотал Урсус, — я их поженю.
И брюзжал про себя:
— Надоели они мне со своей любовью.
Прошлого, даже того, о котором они могли помнить, не существовало ни для Гуинплена, ни для Деи. Они знали о нем только то, что им сообщил Урсус. Они звали Урсуса отцом.
У Гуинплена сохранилось лишь одно воспоминание раннего детства: нечто вроде вереницы демонов, пронесшихся над его колыбелью. У него осталось впечатление, будто чьи-то уродливые ноги топтали его в темноте. Было ли то нарочно или случайно, этого он не знал. Ясно до малейших подробностей помнил Гуинплен только трагические происшествия ночи, в которую его покинули на берегу моря. Но в ту ночь он нашел малютку Дею — находка, превратившая для него страшную ночь в лучезарный день.
Память у Деи была окутана еще более густым туманом, чем у Гуинплена, и в этом сумраке все исчезало. Она смутно помнила свою мать как что-то холодное. Видела ли она когда-нибудь солнце? Быть может. Она напрягала все усилия, чтобы оживить пустоту, оставшуюся позади ее. Солнце? Что это такое? Ей смутно припоминалось что-то яркое и теплое; его место занял теперь Гуинплен. Они говорили друг с другом шепотом. Нет никакого сомнения, что воркование — самое важное занятие на свете. Дея говорила Гуинплену:
— Свет — это твой голос.
Однажды Гуинплен, увидев сквозь кисейный рукав плечо Деи и не устояв, прикоснулся к нему губами. Безобразный рот и такой чистый поцелуй. Дея почувствовала величайшее блаженство. Ее щеки зарделись румянцем, Под поцелуем чудовища заря занялась на этом погруженном в вечную тьму прекрасном челе. А Гуинплен задохнулся от чего-то, похожего на ужас, и не мог удержаться, чтобы не взглянуть на райское видение — на белизну груди, приоткрытой распахнувшейся косынкой.
Дея подняла рукав и, протянув Гуинплену обнаженную выше локтя руку, сказала:
— Еще!
Гуинплен спасся тем, что обратился в бегство.
На следующий день игра возобновилась — правда, с некоторыми вариантами. Восхитительное погружение в сладостную бездну, именуемую любовью.
Это и есть те радости, на которые господь бог в качестве старого философа взирает с улыбкой.
Глава 50
Слепота даёт уроки ясновидения
Порою Гуинплен упрекал себя. Его счастье вызывало в нем нечто вроде угрызений совести. Ему казалось, что, позволяя любить себя этой девушке, которая не может его видеть, он обманывает ее. Что сказала бы она, если бы ее глаза внезапно прозрели? Какое отвращение почувствовала бы она к тому, что так ее привлекает! Как отпрянула бы она от своего страшного магнита! Как вскрикнула бы! Как закрыла бы лицо руками! Как стремительно убежала бы! Тягостные сомнения терзали его. Он говорил себе, что он, чудовище, не имеет права на любовь. Гидра, боготворимая светилом! Он считал долгом открыть истину этой слепой звезде.
Однажды он сказал Дее:
— Знаешь, я очень некрасив.
— Я знаю, что ты прекрасен, — ответила она.
Он продолжал:
— Когда ты слышишь, как все смеются, знай, что смеются надо мной, потому что я уродлив.
— Я люблю тебя, — сказала Дея.
И, помолчав, прибавила:
— Я умирала, ты вернул меня к жизни. Когда ты здесь, я ощущаю рядом с собою небо. Дай мне свою руку: я хочу коснуться бога!
Их руки, найдя одна другую, соединились. Оба не проронили больше ни слова; они молчали от полноты взаимной любви.
Урсус, нахмурившись, слушал этот разговор. На другое утро, когда они сошлись все трое, он сказал:
— Да ведь и Дея тоже некрасива.
Эта фраза не достигла своей цели. Дея и Гуинплен пропустили ее мимо ушей. Поглощенные друг другом, они редко вникали в сущность изречений Урсуса. Мудрость философа пропадала даром.
Однако в этот раз предостерегающее замечание Урсуса: «Дея тоже некрасива» изобличало в этом книжном человеке известное знание женщин. Несомненно, Гуинплен, сказав правду, допустил тем самым неосторожность. Сказать всякой другой женщине, всякой другой слепой, кроме Деи: «Я очень некрасив собою», — было опасно. Быть слепой и сверх того влюбленной — значит быть слепой вдвойне. В таком состоянии с особенной силой пробуждается мечтательность. Иллюзия — насущный хлеб мечты; отнять у любви иллюзию — все равно что лишить ее пищи. Для возникновения любви необходимо восхищение как душой, так и телом. Кроме того, никогда не следует говорить женщине ничего такого, что ей трудно понять. Она начинает над этим задумываться, и нередко мысли ее принимают дурной оборот. Загадка разрушает цельность мечты. Потрясение, вызванное неосторожно оброненным словом, влечет за собою глубокую трещину в том, что уже срослось. Иногда случается, неизвестно даже как, что под влиянием случайно брошенной фразы сердце незаметно для самого себя постепенно пустеет. Любящее существо замечает, что уровень его счастья понизился. Нет ничего страшнее этого медленного исчезновения счастья сквозь стенки треснувшего сосуда.
К счастью, Дея была вылеплена совсем из другой глины и резко отличалась от прочих женщин. Это была редкая натура. Хрупким было только тело, но не сердце Деи. Основой ее существа было божественное постоянство в любви.
Вся работа мысли, вызванная в ней словами Гуинплена, свелась лишь к тому, что однажды она затеяла с ним такой разговор:
— Быть некрасивым — что это значит? Это значит причинять кому-либо зло. Гуинплен делает только добро, значит, он прекрасен.
Затем все в той же форме вопросов, которая свойственна обычно детям и слепым, она продолжала:
— Видеть? Что называете вы, зрячие, этим словом? Я не вижу, а я знаю; Оказывается, видеть — значит многое терять.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гуинплен.
Дея ответила:
— Зрение скрывает истину.
— Нет, — сказал Гуинплен.
— Скрывает! — возразила Дея, — если ты говоришь, что ты некрасив.
И после минутного раздумья прибавила!
— Обманщик!
Гуинплену оставалось только радоваться: он признался, ему не поверили. Его совесть была теперь спокойна, любовь — тоже.
Так дожили они до той поры, когда Дее исполнилось шестнадцать лет; Гуинплену шел двадцать пятый год.
Со дня своей первой встречи они, как принято говорить теперь, «нисколько не продвинулись вперед». Даже пошли назад. Ибо читатель помнит, что они уже провели свою брачную ночь, когда Дее было девять месяцев, а Гуинплену десять лет. В их любви как бы нашло свое продолжение их безгрешное детство. Так иногда запоздалый соловей продолжает петь свою ночную песню и после того, как занялась заря.
Их ласки не шли дальше пожатия рук. Изредка Гуинплен слегка прикасался губами к обнаженному плечу Деи. Им достаточно было этого невинного любовного наслаждения.
Двадцать четыре года, шестнадцать лет. И вот однажды утром Урсус, не оставивший своего намерения «сыграть с ними шутку», объявил им:
— На днях вам придется выбрать себе вероисповедание.
— Зачем? — спросил Гуинплен.
— Чтобы пожениться.
— Да ведь мы уже женаты, — ответила Дея.
Она не понимала, что можно быть в большей мере мужем и женой, чем они.
Эта чистота желаний, это наивное упоение двух душ, не ищущих ничего за пределами настоящего, это безбрачие, принимаемое за супружескую жизнь, в сущности даже нравились Урсусу. Если он прохаживался на этот счет, то лишь потому, что нужно же было побрюзжать. Но как-человек, обладавший медицинскими познаниями, он находил Дею если не слишком юной, то во всяком случае слишком хрупкой и слишком слабой для того, что он называл «плотским браком».
Это никогда не будет поздно.
К тому же разве не были они уже супругами? Если существует на свете нерасторжимая связь, то не в союзе ли Гуинплена и Деи? Этот чудесный союз был порожден несчастьем, бросившим их в объятия друг друга. И, словно одних этих уз было недостаточно, к несчастью присоединилась, обвилась вокруг него, срослась с ним еще и любовь. Какая сила в состоянии разорвать железную цепь, скрепленную узлом из цветов?
Конечно, разлучить эту чету было невозможно.
Дея обладала красотой, Гуинплен — зрением. Каждый из них принес приданое. Они составляли не просто чету, они составляли отлично подобранную пару, которую разделяла только священная преграда невинности.
Однако, как ни старался Гуинплен жить одними мечтами, ограничиваясь только созерцанием Деи и духовной любовью к ней, он все-таки был мужчиной. Влияния роковых законов устранить нельзя. Как и все в природе, он был подвержен таинственному брожению заложенных в него сил, происходящему по воле создателя. Порою, во время представлений, он невольно смотрел на женщин, находившихся в толпе, но тотчас же отводил от них ищущий взгляд и торопился уйти со смутным чувством раскаяния.
Прибавим, что он не встречал поощрения. На лицах всех женщин, на которых он смотрел, он читал отвращение, антипатию, гадливость. Было ясно, что, кроме Деи, ни одна женщина не могла ему принадлежать. Это способствовало его раскаянию.
Глава 51
Не только счастье, но и благоденствие
Сколько правды заключено в сказках! Жгучее прикосновение незримого дьявола — это угрызение совести за дурную мысль.
У Гуинплена дурных мыслей не возникало, и поэтому совесть не мучила его. Но по временам он чувствовал какое-то недовольство собой.
Смутный голос совести.
Что это было? Ничего.
Счастье Гуинплена и Деи было полным. И теперь они даже не были бедны.
Между 1689 и 1704 годом в их положении произошла перемена.
Случалось иногда в 1704 году, что в тот или иной городок побережья под вечер въезжал тяжелый, громоздкий фургон, запряженный парой сильных лошадей. Фургон напоминал опрокинутый и поставленный на четыре колеса корпус судна: киль вместо крыши и палуба вместо пола. Колеса все были одинакового размера и величиной с колеса ломовой телеги. Колеса, дышло, фургон — все было выкрашено в зеленый цвет с постепенным переходом оттенков: от бутылочно-зеленого на колесах до ярко-зеленого на крыше. Этот зеленый цвет в конце концов заставил обратить внимание на колымагу, и она получила известность на ярмарках: ее стали называть «Зеленый ящик». В «Зеленом ящике» было всего лишь два окна, по одному на каждом конце; сзади находилась дверь с откидной лесенкой. Из трубы, торчавшей над крышей и выкрашенной, как и все остальное, в зеленый цвет, шел дым. Стенки этого дома на колесах всегда были покрыты свежим лаком и чисто вымыты. Впереди, на козлах, сообщавшихся с внутренностью фургона посредством окна вместо двери, над крупами лошадей, рядом со стариком, державшим в руке вожжи, сидели две цыганки, одетые богинями, и трубили в трубы. Горожане, разинув рты, смотрели на эту большую колымагу, важно переваливавшуюся с боку на бок, и толковали о ней.
Прежний балаган Урсуса уступил место более усовершенствованному сооружению и превратился в настоящий театр. На цепи под колымагой было привязано какое-то странное существо — не то собака, не то волк. Это был Гомо.
Старик, правивший лошадьми, был не кто иной, как наш философ.
Чем же было вызвано такое превращение жалкой повозки в олимпийскую колесницу?
Тем, что Гуинплен стал знаменитостью.
Урсус проявил настоящее чутье того, что у людей считается успехом, когда сказал Гуинплену:
— О твоем богатстве позаботились!
Как помнят читатели, Урсус сделал Гуинплена своим учеником. Неизвестные люди обработали лицо ребенка. Он же обработал его ум и постарался вложить под эту столь удачно сделанную личину возможно больший запас мысли. Как только подросший мальчик показался ему годным для роли комедианта, он вывел его на сцену, то есть на подмостки перед балаганом. Появление Гуинплена произвело необычайное впечатление. Зрители сразу же пришли в восторг. Никто еще никогда не видел ничего похожего на эту поразительную маску смеха. Никто не знал, каким способом было достигнуто это чудо: одни считали этот смех, заражавший всех окружающих, естественным, другие — искусственным; действительность обрастала догадками, и всюду на перекрестках дорог, на площадях, на ярмарках, на праздничных гуляньях толпа стремилась взглянуть на Гуинплена. Благодаря этому «блестящему аттракциону» в тощий кошелек бродячих фигляров сначала полились дождем лиары, затем су и, наконец, шиллинги. Насытив любопытство публики в одном месте, возок переезжал в другое. Для камня не велик прок — перекатываться с места на место, но домик на колесах от таких странствий богател. И вот, по мере того как шли годы, а Гуинплен, кочевавший из города в город, мужал и становился все безобразнее, пришло, наконец, предсказанное Урсусом богатство.
— Какую услугу оказали тебе, сынок! — говаривал Урсус.
Это «богатство» позволило Урсусу, руководившему успехами Гуинплена, соорудить такую колымагу, о которой он всегда мечтал, то есть фургон, достаточно просторный, чтобы вместить в себе театр, — настоящий театр, сеятель благотворных семян науки и искусства на всех перекрестках. Сверх того, Урсус получил возможность присоединить к труппе, состоявшей из него, Гомо, Гуинплена и Деи, пару лошадей и двух женщин, исполнявших, как мы уже сказали, роли богинь и обязанности служанок. В те времена для балагана фигляров было полезно иметь мифологическую вывеску.
— Мы — странствующий храм, — говаривал Урсус.
Две цыганки, подобранные философом в пестрой толпе, кочующей по городам и местечкам, были молоды и некрасивы; одна, по воле Урсуса, носила имя Фебы, другая — Венеры, или — поскольку необходимо сообразоваться с английским произношением — Фиби и Винос.
Феба стряпала, а Венера убирала храм искусства.
Кроме того, в дни представлений они одевали Дею.
За исключением тех моментов, когда фигляры, также как и государи, «показываются народу», Дея, подобно Фиби и Винос, носила флорентийскую юбку из цветной набойки и короткую кофту без рукавов. Урсус и Гуинплен носили мужские безрукавки, кожаные штаны и высокие сапоги, какие носят матросы на военных судах. Гуинплен, кроме того, надевал для работы и во время гимнастических упражнений еще и кожаный нагрудник. Он ходил за лошадьми. Что касается Урсуса и Гомо, то они заботились друг о друге сами.
Дея настолько привыкла к «Зеленому ящику», что расхаживала в нем с уверенностью зрячего человека.
Если бы чей-либо глаз, заинтересовавшись внутренним расположением и устройством этого странствующего дома, заглянул в него, он заметил бы в одном из его углов прикрепленную к стене прежнюю повозку Урсуса, вышедшую в отставку, доживавшую свой век на покое и избавленную от необходимости трястись по дорогам, так же как Гомо, который был теперь избавлен от необходимости тащить возок.
Эта развалина, загнанная в самый конец фургона, направо от двери, служила Урсусу и Гуинплену спальней и актерской уборной. В ней помещались теперь два ложа и наискосок от них — кухня.
Даже на корабле трудно было бы встретить более обдуманное и целесообразное расположение предметов, чем внутри «Зеленого ящика». Все в нем было на своем месте, точно предусмотрено, заранее рассчитано.
Фургон, разгороженный тонкими переборками, состоял из трех отделений, которые сообщались между собою завешенными материей проемами без дверей. Заднее отделение занимали мужчины, переднее — женщины, среднее было театром. Музыкальные инструменты и все приспособления, необходимые для спектаклей, хранились в кухне. На помосте, под самой крышей, помещались декорации; приподняв трап, устроенный в этом помосте, можно было увидеть лампы, предназначенные для «магических и световых эффектов».
Этими «магическими эффектами» вдохновенно распоряжался Урсус. Он же сочинял пьесы.
Он обладал самыми разнородными талантами; он показывал удивительные фокусы. Помимо того, что он подражал всевозможным голосам, проделывал самые неожиданные штуки, посредством игры света и тени вызывал внезапное появление на стене огненных цифр и слов — любых, по желанию публики, и исчезновение в полумраке разных фигур, — он удивлял зрителей множеством других диковинных вещей, между тем как сам, совершенно равнодушный к изъявлениям восторга, казалось был погружен в глубокое раздумье.
Однажды Гуинплен сказал ему:
— Отец, вы похожи на волшебника!
Урсус ответил:
— А что же, может быть я действительно волшебник.
«Зеленый ящик», сооруженный по искусным чертежам Урсуса, имел остроумное приспособление: вся средняя часть левой стенки фургона, между передними и задними колесами, была укреплена на шарнирах, и с помощью цепей и блоков ее по желанию можно было опустить, как подъемный мост. А когда ее откидывали, три подпорки на петлях, приняв вертикальное положение, опускались под прямым углом к земле, как ножки стола, и поддерживали стенку фургона, превращенную в театральные подмостки. Перед зрителями возникала сцена, для которой откинутая стенка служила авансценой. Отверстие это, по словам пуританских проповедников проходивших мимо и в ужасе отворачивавшихся от него, напоминало собой точь-в-точь вход в ад. Вероятно, именно за такое неблагочестивое изобретение Солон присудил Фесписа к палочным ударам.
Впрочем, изобретение Фесписа оказалось долговечнее, чем принято думать. Театр-фургон существует и поныне. Именно на таких кочующих подмостках в шестнадцатом и в семнадцатом столетиях в Англии ставили баллады и балеты Амнера и Пилкингтона, во Франции — пасторали Жильбера Колена, во Фландрии на ярмарках — двойные хоры Климента, прозванного лже-папой, в Германии — «Адама и Еву» Тейля, в Италии — венецианские интермедии Анимучча и Кафоссиса, сильвы Джезуальдо, принца Венузского, «Сатиры» Лауры Гвидиччони, «Отчаяние Филлена» и «Смерть Уголино» Винченцо Галилея, отца астронома, причем Винченцо Галилей сам пел свои произведения, аккомпанируя себе на виоле-да-гамба; а также все первые опыты итальянских опер, в которых с 1580 года свободное вдохновение вытесняло мадригальный жанр.
Фургон, окрашенный в цвет надежды и перевозивший Урсуса и Гуинплена со всем их достоянием, с Фиби и Винос, трубившими на козлах, как две вестницы славы, входил в состав великой бродячей литературной семьи: Феспис не отверг бы Урсуса, так же как Конгрив не отверг бы Гуинплена.
Приехав в город или деревню, Урсус в промежутках между трубными призывами Фиби и Винос давал пояснения к их музыке.
— Это — грегорианская симфония! — восклицал он. — Граждане горожане, грегорианские канонические напевы, явившиеся таким крупным шагом вперед, столкнулись в Италии с амброзианским каноном, а в Испании — с мозарабическим и восторжествовали над ними с большим трудом.
После этого «Зеленый ящик» останавливался где-нибудь в месте, облюбованном Урсусом; вечером стенка-авансцена опускалась, театр открывался, и представление начиналось.
Декорации «Зеленого ящика» изображали пейзаж, написанный Урсусом, не знавшим живописи, вследствие чего, в случае надобности, пейзаж мог сойти и за подземелье.
Занавес сшит был из квадратных шелковых лоскутьев ярких цветов.
Публика помещалась под открытым небом, располагаясь полукругом перед подмостками, на улице или на площади, под солнцем, под проливным дождем, вследствие чего дождь для тогдашних театров был явлением куда более разорительным, чем для нынешних. Если только была возможность, представления давались во дворах гостиниц, и тогда оказывалось столько ярусов лож, сколько в здании было этажей. В таких случаях театр более походил на закрытое помещение, и публика платила за места дороже.
Урсус принимал участие во всем: в сочинении пьесы, в ее исполнении, в оркестре. Винос играла на деревянных цимбалах, мастерски ударяя по клавишам палочками, а Фиби пощипывала струны инструмента, представлявшего собою разновидность гитары. Волк тоже был привлечен к делу. Его окончательно ввели в состав труппы, и при случае он исполнял небольшие роли. Когда Урсус и Гомо появлялись рядом на сцене, Урсус в плотно облегавшей его медвежьей шкуре, а Гомо в своей собственной волчьей, еще лучше пригнанной к нему, зрители нередко затруднялись определить, кто же из этих двух существ настоящий зверь; это льстило Урсусу.
Глава 52
Сумасбродство, которое люди без вкуса называют поэзией
Пьесы Урсуса представляли собой интерлюдии — литературный жанр, несколько вышедший из моды в наше время. Одна из этих пьес, не дошедшая до нас, называлась «Ursus rursus»[391]. По-видимому, Урсус исполнял в ней главную роль. Мнимый уход со сцены и сразу же вслед за ним новое, эффектное появление главного действующего лица — таков, судя по всему, был скромный и похвальный сюжет этой пьесы.
Интерлюдии Урсуса, как видит читатель, носили иногда латинские названия, стихи же в них нередко были на испанском языке. Испанские стихи Урсуса были рифмованные, как почти все кастильские сонеты того времени. Публику это не смущало. В ту эпоху испанский язык был довольно распространен, и английские моряки говорили на кастильском наречии не менее свободно, чем римские солдаты на карфагенском. Почитайте Плавта. К тому же в театре, как и во время обедни, латинский язык или какой-нибудь другой, столь же непонятный аудитории, не являлся ни для кого камнем преткновения. Чужую речь весело сопровождали знакомыми словами. Это, в частности, помогало нашей старой галльской Франции быть набожной. На голос «Immolatus»[392] верующие пели в церкви «Давайте веселиться», а на голос «Sanctus»[393] — «Поцелуй меня, дружок». Понадобилось особое постановление Тридентского собора, чтобы положить конец таким вольностям.
Урсус сочинил специально для Гуинплена интерлюдию, которой был очень доволен. Это было его лучшее произведение. Он вложил в него всю свою душу. Выразить всего себя в своем творении — существует ли большее торжество для творца? Жаба, производящая на свет другую жабу, создает шедевр. Вы сомневаетесь? Попытайтесь сделать то же.
Эту интерлюдию Урсус тщательно отделывал, стараясь довести ее до совершенства. Его детище носило название: «Побежденный хаос».
Вот содержание пьесы.
Ночь. Раздвигался занавес, и толпа, теснившаяся перед «Зеленым ящиком», сначала не видела ничего кроме темноты. В этом непроглядном мраке ползали по земле три еле различимые фигуры — волк, медведь и человек. Волка изображал волк, медведя — Урсус, человека — Гуинплен. Волк и медведь были воплощением грубых сил природы, бессознательных влечений, дикого невежества; оба они набрасывались на Гуинплена; это был хаос, боровшийся с человеком. Лиц их не было видно. Гуинплен отбивался, закутанный в саван, лицо его было закрыто густыми длинными волосами. К тому же все кругом было объято мраком. Медведь ревел, волк скрежетал зубами, человек кричал. Звери одолевали, он погибал, он молил о помощи, о поддержке, он бросал в неизвестность душераздирающий призыв. Он издавал предсмертный хрип. Зрители присутствовали при агонии первобытного человека, еще мало чем отличавшегося от дикого зверя; это было зловещее зрелище, толпа смотрела на сцену, затаив дыхание; еще мгновение — и звери восторжествуют, хаос поглотит человека. Борьба, крики, вой — и вдруг полная тишина. Во мраке раздавалось пение. Проносилось какое-то веяние, и слышался нежный голос. В воздухе реяли звуки таинственной музыки, вторившие напевам незримого существа, и вдруг неведомо откуда, неизвестно каким образом возникало белое облачко. Это белое облачко было светом, этот свет — женщиной, эта женщина — духом. И вот появлялась Дея; спокойная, чистая, прекрасная и грозная своей красотой и своей чистотой, возникала она, окруженная сиянием. Лучезарный силуэт на фоне утренней зари. Голос принадлежал ей. Нежный, глубокий, невыразимо пленительный голос. Из незримой став видимой, она пела в лучах зари. Это пение было подобно ангельскому или соловьиному. Она появлялась, и человек, ослепленный этим дивным видением, сразу вскакивал и ударами кулаков повергал обоих зверей.
Тогда видение, скользя по сцене неуловимым для публики движением, возбуждавшим ее восторг именно этой неуловимостью, начинало петь на испанском языке, чистота которого у слушателей, английских матросов, не вызывала никаких сомнений:
Ora! Ilora! De palabra Nace razon De luz el son[394].Затем Дея опускала глаза, точно увидав пропасть у себя под ногами, и продолжала:
Noche quita te de alli! El alba canta hallali[395].По мере того как она пела, человек все больше и больше выпрямлялся: он уже не был простерт на земле, он стоял теперь коленопреклоненный, протянув руки к видению, попирая коленями обоих неподвижно лежавших, как бы сраженных молнией животных. Она же продолжала, обращаясь к нему:
Еs menester a cielos ir Y tu que llorabas reir[396].Приблизившись к нему с величием светила, она продолжала:
Quebra barzon! Dexa, monstro, A tu negro Caparazon[397].И возлагала руку ему на лоб.
Тогда во мраке раздавался другой голос, более низкий и страстный, голос сокрушенный и восторженный, глубоко трогательный своей дикой робостью. Это была песнь человека в ответ на песнь звезды. Все еще стоя на коленях во мраке и пригибая к земле побежденных зверей — медведя и волка, — Гуинплен, на челе которого покоилась рука Деи, пел:
О ven! ama! Eres alma Soy corazon[398].И вдруг, прорезав пелену мрака, яркий луч света падал прямо на лицо Гуинплена.
Из тьмы внезапно возникала смеющаяся маска чудовища.
Невозможно передать словами волнение, охватывавшее при этом зрителей. Над толпою поднималось солнце смеха. Смех порождается неожиданностью, а что могло быть неожиданнее такой развязки? Впечатление, производимое на публику снопом света, ударявшего в шутовскую и вместе с тем ужасную маску, было ни с чем не сравнимо. Все хохотали кругом; всюду — наверху, внизу, в передних, в задних рядах, мужчины, женщины; лысые головы стариков, розовые детские рожицы, добрые, злые, веселые, грустные лица — все озарялось весельем; даже прохожие на улице, которым ничего не было видно, начинали смеяться, услыхав этот громовый хохот. Ликованье зрителей выражалось бурными рукоплесканиями и топотом ног. Когда занавес задергивался, Гуинплена бешено вызывали. Он имел огромный успех. «Видели вы «Побежденный хаос»?» Все спешили посмотреть Гуинплена. Приходили посмеяться люди беззаботные, приходили меланхолики, приходили люди с нечистой совестью. Этот неудержимый хохот можно было иногда принять за болезнь. Но если существует на свете зараза, которой человек не боится, то это заразительное веселье. Впрочем Гуинплен имел успех только среди бедноты. Большая толпа — это маленькие люди. «Побежденный хаос» можно было посмотреть за один пенни. Знать не посещает тех мест, где за вход платят грош.
Урсус был не совсем равнодушен к своему драматическому произведению, которое он долго вынашивал.
— Это в духе некоего Шекспира, — скромно заявлял автор «Побежденного хаоса».
Контраст между Деей и ее партнером усиливал поразительное впечатление, оказываемое на зрителей Гуинпленом. Этот лучезарный образ рядом с этим уродом вызывал чувство, которое можно было бы определить как изумление при виде божества. Толпа взирала на Дею с тайной тревогой. В ней было нечто возвышенное, она казалась девственной жрицей, не ведающей людских страстей, но познавшей бога. Видно было, что она слепа, но вместе с тем чувствовалось, что она все видит. Казалось, она стоит на пороге в мир сверхъестественного; казалось, ее освещает какой-то нездешний свет. Она опустилась из звездного мира, чтобы принести благо, но так, как это делает небо: разливая вокруг сияние зари. Она нашла отвратительное чудовище и вдохнула в него душу. Она производила впечатление созидательной силы, удовлетворенной и в то же время ошеломленной собственным творением. На ее прекрасном лице отражалось восхитительное смущение, твердая воля совершить благо и изумление перед тем, что она сделала. Чувствовалось, что она любит своего урода. Знала ли она, что он — урод? Да, — ведь она прикасалась к нему. Нет, — ведь она не отвергала его. Сочетание этих противоположностей, тьмы и света, порождало в сознании зрителя некий сумрак, в котором вырисовывались беспредельные дали. Каким путем божество соединяется с первичным веществом, как происходит проникновение души в материю, почему солнечный луч является своего рода пуповиной, как преображается урод, как бесформенное становится райски совершенным? — все эти тайны, возникавшие в виде смутных образов, внушали почти космическое волнение, усиливавшее судорожный хохот, который вызывала маска Гуинплена. Не вникая в сущность авторского замысла — ибо зритель не любит утруждать себя глубоким проникновением, — публика все-таки постигала нечто выходившее за пределы того, что она видела на подмостках: этот необычайный спектакль приподымал завесу над тайною преображения человека.
Что касается переживаний Деи, то их трудно передать словами. Она чувствовала себя окруженной большой толпою, не зная, что такое толпа. Она слышала гул — больше ничего. Толпа для нее была лишь дуновением, и по существу это действительно так. Смена поколений не что иное, как дыхание вечности. Человек делает вдох, выдох и испускает дух. В толпе Дея чувствовала себя одинокой и трепетала от страха, словно под ногами ее зияла разверстая пропасть. Но и в том состоянии смятения и скорби, когда невинное существо, возмущенное возможным падением в бездну, готово бросить упрек неведомому, Дея сохраняла присутствие духа, преодолевала сознание своего одиночества, смутную тревогу перед лицом опасности и вдруг, снова обретая уверенность и точку опоры, хваталась за спасительную нить, кинутую ей в беспредельном мире мрака, и, простирая руку, возлагала ее на могучую голову Гуинплена. Несказанная радость! Ее розовые пальцы погружались в лес курчавых волос. Прикосновение к шерсти вызывает всегда ощущение чего-то нежного. Дея ласкала густое руно, зная, что это — лев. Ее сердце было переполнено неизъяснимой любовью. Она чувствовала себя вне опасности, она нашла своего спасителя. Публике же представлялось совсем иное: для зрителей спасенным был Гуинплен, а спасительницей — Дея. «Не беда!» — думал Урсус, понимавший, что происходит в сердце Деи. И Дея, успокоенная, утешенная, восхищенная, преклонялась перед ангелом, между тем как толпа, видела перед собой чудовище и, тоже зачарованная, но совсем иначе, испытывала на себе воздействие этого титанического смеха.
Истинная любовь не знает пресыщения. Будучи всецело духовной, она не может охладиться. Пылающий уголь может подернуться пеплом, небесное светило — никогда. Каждый вечер возобновлялись для Деи эти восхитительные переживания; она готова была плакать от нежности, в то время как толпа надрывалась от смеха. Люди только веселились, Дея же испытывала счастье.
Впрочем, необузданное веселье, вызываемое внезапным появлением ошеломляющей маски Гуинплена, вовсе не входило в намерения Урсуса. Он предпочел бы этому хохоту улыбку, он хотел бы встретить у публики восхищение менее грубого свойства. Но триумф всегда служит утешением. И Урсус каждый вечер примирялся с несколько странным успехом своей пьесы, подсчитывая, сколько шиллингов составляют стопки собранных фартингов и сколько фунтов стерлингов в стопках шиллингов. Кроме того, он говорил себе, что, когда смех уляжется, «Побежденный хаос» снова всплывет перед глазами зрителей и неизбежно оставит впечатление в их душе. Он, пожалуй, не совсем ошибался. Всякое произведение искусства оставляет след в сознании людей. Действительно, простой народ, внимательно следивший за этим волком, за медведем, за человеком, за этой музыкой, за диким воем, побежденным гармонией, за этим мраком, рассеянным лучами зари, за пением, от которого исходил свет, — относился с неясной, но глубокой симпатией, даже с некоторым уважением и нежностью к драматической поэме «Побежденный хаос», к этой победе светлого начала над силами тьмы, приводившей к радостному торжеству человека.
Таковы были грубые увеселения простого народа.
Он вполне довольствовался ими. Народ не имел возможности посещать «благородные поединки», устраиваемые на потеху высокородных джентльменов, и не мог, подобно им, ставить тысячу гиней на Хелмсгейла против Филем-ге-Медона.
Глава 53
Взгляды на вещи и на людей человека, выброшенного за борт жизни
У человека всегда есть затаенное желание — отомстить за доставленное ему удовольствие. Отсюда — презрение к актеру.
Это существо пленяет меня, развлекает, забавляет, восхищает, утешает, нравственно возвышает, оно мне приятно и полезно — каким же злом отплатить ему? Унижением. Презрение — это пощечина на расстоянии. Дадим ему пощечину. Он мне нравится — значит, он подл. Он мне служит, я его за это ненавижу. Где бы найти камень, чтобы бросить в него? Священник, дай мне твой камень! Философ, дай мне свой! Боссюэ, отлучи его от церкви! Руссо, поноси его! Оратор, осыпь его градом галек, которые ты держишь во рту! Медведь, запусти в него булыжником! Побьем камнями дерево, растопчем плод и съедим его. «Браво!» и «Долой его!» Декламировать стихи поэта — значит быть зачумленным. Эй ты, фигляр! Сейчас в награду за успех мы наденем на него железный ошейник и поставим к позорному столбу. Завершим его триумф травлей. Пусть он собирает вокруг себя толпу и тем самым создает свое одиночество. Так имущие классы, которые называют высшими, изобрели для комедианта особую форму отчуждения от общества — аплодисменты.
Простой народ не так жесток. Он не питал ненависти к Гуинплену, он не презирал его. Но все же самый последний из конопатчиков самого последнего экипажа на самом последнем судне в последнем из портов Англии считал себя неизмеримо выше этого увеселителя «сброда» и был убежден, что конопатчик настолько же выше скомороха, насколько лорд выше конопатчика.
Итак, как это бывает со всеми комедиантами, Гуинплена награждали рукоплесканиями и обрекали на одиночество. Впрочем, в этом мире всякий успех — преступление, которое приходится искупать. У каждой медали есть оборотная сторона.
Для Гуинплена этой оборотной стороны не существовало, потому что и то и другое последствие его успеха были ему по душе: он был рад аплодисментам и доволен одиночеством. Аплодисменты приносили ему богатство, одиночество дарило ему счастье.
В низших слоях общества быть богатым значит всего-навсего не быть бедным. Не иметь дыр на платье, не страдать от пустоты в желудке, от отсутствия дров в очаге. Есть и пить вволю. Иметь все необходимое, включая возможность подать грош нищему. Этого-то скромного благосостояния, достаточного, чтобы чувствовать себя свободным, и достиг Гуинплен.
Но душа его обладала несметным богатством: он любил и был любим. Чего мог он еще пожелать?
Он ничего и не желал.
Единственное, что ему можно было бы, пожалуй, предложить — это избавить его от уродства. Однако с каким негодованием он отверг бы такое предложение! Сбросить с себя маску, вернуть свое подлинное лицо, снова стать таким, каким он, быть может, был, — красивым и привлекательным, — он не согласился бы ни за что. Как бы он мог тогда кормить Дею? Что сталось бы с бедной кроткой слепой, любившей его? Без этой гримасы смеха на лице, делавшей из него единственного в своем роде комедианта, он оказался бы простым скоморохом, заурядным гимнастом, подбирающим жалкие гроши на мостовой, и Дея, возможно, не каждый день ела бы хлеб! С глубокой и трогательной гордостью он сознавал себя покровителем этого беззащитного небесного создания. Мрак, одиночество, нужда, беспомощность, невежество, голод и жажда — семь разверстых пастей нищеты — зияли перед ним, а он был святым Георгием, сражающимся с этим драконом. И он побеждал нищету. Чем? Своим безобразием. Благодаря своему безобразию он был полезен, он оказывал помощь, одерживал победу за победой, стал велик. Стоило ему только показаться публике, и деньги сыпались в его карман. Он властвовал над толпой, он был ее повелителем. Он все мог сделать для Деи, Он заботился об удовлетворении ее потребностей; он исполнял все ее желания, прихоти, фантазии в тех ограниченных пределах, какие могли быть у слепой девушки. Гуинплен и Дея, как мы уже говорили, были настоящим провидением друг для друга. Он чувствовал, что она возносит его на своих крыльях; она чувствовала, что он носит ее на руках. Нет ничего приятнее, чем покровительствовать любимому существу, давать необходимое тому, кто возносит вас к звездам. Гуинплен познал это высокое блаженство. Он был обязан им своему безобразию. Это безобразие давало ему превосходство надо всем. С помощью этой уродливой маски он содержал себя и своих близких; благодаря ей он был независим, свободен, знаменит, удовлетворен и горд собою. Уродство делало его неуязвимым. Рок уже был не властен над ним: рок выдохся, вероломно нанеся жестокий удар, который, однако, принес Гуинплену торжество. Пучина бед превратилась в вершину светлого счастья. Гуинплен находился в плену у собственного уродства, но этот плен разделяла с ним Дея. Темница, мы уже говорили это, стала раем. Между двумя заключенными и всем остальным миром стояла стена. Тем лучше. Эта стена отгораживала их от других, но зато и защищала. Какой вред можно было нанести Дее или Гуинплену, когда они были так далеки от всех жизненных волнений? Отнять у него успех? Невозможно. Для этого пришлось бы наделить Гуинплена другим лицом. Отнять у него любовь Деи? Невозможно. Дея не видела его. Слепота Деи была неисцелима. Какое же неудобство представляло для Гуинплена его безобразие? Никакого. Какие оно ему давало преимущества? Все. Несмотря на свое уродство, а может быть, благодаря ему, он был любим. Уродство и увечье инстинктивно потянулись одно к другому и вступили в союз. Быть любимым — разве это не все? Гуинплен думал о своем безобразии не иначе, как с признательностью. Клеймо оказалось для него благословением. Он с радостью сознавал, что оно неизгладимо и вечно. Какое счастье, что это благо у него никак нельзя отнять! Пока существуют перекрестки, ярмарочные площади, дороги, уводящие вдаль, народ внизу и небо над головою, можно быть уверенным в завтрашнем дне. Дея ни в чем не будет нуждаться, и они будут любить друг друга. Гуинплен не поменялся бы лицом с Аполлоном. Быть уродом — в этом заключалось все его счастье.
Потому-то мы и говорили в начале повествования, что судьба щедро одарила его. Этот отверженный был ее баловнем.
Он был так счастлив, что порой даже жалел окружавших его людей, — он был сострадателен. Впрочем, его бессознательно влекло взглянуть на то, что творится кругом, ибо на свете нет совершенно замкнутого в себе человека, и природа — не отвлеченность; он был рад, что стена отгораживает его от остального мира, однако время от времени он поднимал голову и смотрел поверх ограды. И, сравнив свое положение с положением других, он с еще большей радостью возвращался к своему одиночеству, к Дее.
Что же видел он вокруг себя? Что представляли собою эти существа, которые благодаря его постоянным странствиям возникали перед ним во всем своем разнообразии, ежедневно сменяясь другими? Вечно новые люди, а в действительности — все та же толпа. Вечно новые лица — и вечно все те же несчастия. Смешение всякого рода обломков. Каждый вечер все виды неизбежных социальных бедствий тесным кольцом обступали его счастье.
«Зеленый ящик» пользовался успехом.
Низкие цены привлекают низшие классы. К Гуинплену шли слабые, бедные, обездоленные. К нему тянулись, как тянутся к рюмке джина. Приходили купить на два гроша забвения. С высоты своих подмостков Гуинплен производил смотр этой угрюмой толпе народа. Один за другим проникали в его сознание эти образы бесконечной нищеты. Лицо человека отражает на себе состояние его совести и всю его жизнь: оно — итог множества таинственных воздействий, из которых каждое оставляет на нем свой след. Не было такого страдания, такой злобы и гнева, такого бесчестья, такого отчаяния, отпечатка которых не наблюдал бы Гуинплен на этих лицах. Вот эти детские рты сегодня ничего не ели. Вот этот мужчина — отец, эта женщина — мать: образы обреченных на гибель семей. Вон то лицо принадлежит человеку, находящемуся во власти порока и идущему к преступлению; причина ясна: это невежество и нищета. Были лица, отмеченные печатью природной доброты, уничтоженной социальным гнетом и превратившейся в ненависть. На лбу седой старухи можно было прочесть слово «голод»; на лбу юной девушки — слово «проституция». Один и тот же факт имел разные последствия для молодой и для старухи, но для кого из них они были тяжелее? В этой толпе были руки, умевшие трудиться, но лишенные орудий труда; эти люди хотели работать, но работы не было. Иногда рядом с рабочим садился солдат, порою инвалид, и перед Гуинпленом вставал страшный призрак войны. Здесь Гуинплен угадывал безработицу, там — эксплуатацию, а там — рабство. На некоторых лицах он замечал явные признаки вырождения, постепенный возврат человека к состоянию животного, вызванный в низших слоях общества тяжким гнетом блаженствующей верхушки его. И в этом беспросветном мраке Гуинплен видел лишь одну светлую точку. Он и Дея, пройдя через горькие страдания, были счастливы. На всем остальном лежало клеймо проклятия. Гуинплен знал, что над ним стоят власть имущие, богатые, знатные, баловни судьбы, и чувствовал, как они бессознательно топчут его; а внизу он различал бледные лица обездоленных. Он видел себя и Дею, свое крошечное и в то же время безграничное счастье, между этими двумя мирами; вверху был мир свободных и праздных, веселых и пляшущих, беспечно попирающих других ногами; внизу — мир тех, которых попирают. Подножием блеска служит тьма — печальный факт, свидетельствующий о глубоком общественном недуге. Гуинплен отдавал себе отчет в этом печальном явлении. Какая унизительная участь! Человек способен так пресмыкаться! Такое тяготение к праху и грязи, такое отвратительное самоотречение вызывали у него желание раздавить эту мерзость ногой. Для какой же бабочки может служить гусеницей подобное существование? И перед каждым в этой голодной, невежественной толпе стоит вопросительный знак. Что ждет его — преступление или позор? Растление совести — неизбежный закон существования всех этих людей. Здесь нет ни одного ребенка, которого не ждало бы унижение, ни одной девушки, которой не пришлось бы торговать собой, ни одной розы, которой не предстояло бы быть растоптанной!
Порой Гуинплен пытался всмотреться пытливым и сочувственным взором в самые глубины этого мрака, где гибло столько бесплодных порывов, где столько сил сломилось в борьбе; он видел перед собой целые семьи, павшие жертвой общества, честных людей, искалеченных законом, раны, ставшие гнойниками из-за системы уголовных наказаний, бедняков, истощаемых налогами, умных, увлекаемых невежеством в пучину мрака; он видел тонущие плоты, усеянные голодными, войны, неурожаи, сонмы смертей. И эта душераздирающая картина всеобщих бедствий заставляла болезненно сжиматься его сердце. Он как будто воочию видел всю накипь несчастий над мрачным морем человечества. А он был надежно укрыт в гавани и лишь со стороны наблюдал это страшное кораблекрушение. Иногда он закрывал руками свое обезображенное лицо и погружался в раздумье.
Какое безумие — быть счастливым! Чего только не приходило ему в голову! В его мозгу зарождались самые нелепые мысли. Когда-то он пришел на помощь младенцу, теперь в нем рождалось страстное желание помочь всем обездоленным. Эти смутные мечты порою даже заслоняли от него действительность; он терял чувство меры до такой степени, что задавал себе вопрос: «Как же, чем же помочь этому бедному народу?» Порою он так погружался в эти мысли, что произносил эти слова вслух. Тогда Урсус пожимал плечами и пристально смотрел на него. А Гуинплен продолжал мечтать:
— Ах, будь в моих руках власть, как бы я помогал несчастным! Но что я? Жалкое ничтожество. Что я могу сделать? Ничего.
Он ошибался. Он немало делал для несчастных. Он заставлял их смеяться.
А мы уже сказали, что заставить людей смеяться — значит дать им забвение.
И разве не благодетель человечества тот, кто дарит людям забвение?
Глава 54
Гуинплен — глашатай справедливости, Урсус — глашатай истины
Философ — это соглядатай. Урсус, любитель читать чужие мысли, внимательно следил за своим питомцем. Наши безмолвные монологи отражаются у нас на лице и вполне ясны физиономисту. Поэтому от Урсуса не скрылось то, что происходило в душе Гуинплена. Однажды, когда Гуинплен был погружен в раздумье, Урсус, дернув его за полу, воскликнул:
— Ты, кажется, стал присматриваться к окружающему, глупец! Берегись, это тебя не касается! У тебя есть другое занятие — любить Дею. Ты счастлив вдвойне: во-первых, тем, что толпа видит твою рожу; во-вторых, тем, что Дея ее не видит. Ты пользуешься незаслуженным счастьем. Ни одна женщина не согласилась бы принять от тебя поцелуй, увидев твой рот. А ведь этот рот, который стал залогом твоего благополучия, эта морда, приносящая тебе богатство, — не твои. Ты родился не с таким лицом. Ты исказил свои подлинные черты гримасой, украденной в преисподней. Ты похитил у дьявола его личину. Ты отвратителен: довольствуйся же выпавшей на твою долю удачей. В нашем весьма благоустроенном мире есть счастливцы по праву и счастливцы случайные. Ты баловень случая. Ты живешь в подземелье, куда попала звезда. Эта бедная звезда досталась тебе. Не пытайся же выбраться из подземелья и держи крепко свою звезду, паук! В твоих сетях алмазом горит Венера. Сделай милость, не привередничай. Я вижу, ты задумываешься — это глупо. Послушай-ка, я буду с тобой говорить на языке настоящей поэзии: пускай Дея ест побольше говядины и бараньих котлет, и через полгода она станет толстой, как турчанка; женись на ней, не долго думая, и она родит тебе ребенка, да не одного, а двух, трех, целую кучу детей. Вот что я называю философией. Когда человек чувствует себя счастливым, это совсем не плохо. Иметь собственных детенышей — великолепное дело. Обзаведись ребятами, пеленай их, вытирай им носы, укладывай спать, умывай чумазых пачкунов, и пускай вся эта мелюзга копошится вокруг тебя; если они смеются — прекрасно; если ревут — еще лучше: кричать — значит, жить; наблюдай, как в полгода они сосут грудь, в год — ползают, в два — ходят, в пятнадцать — становятся подростками, в двадцать — влюбляются. У кого есть эти радости — у того есть все. Я упустил это счастье, вот почему я — грубое животное. Сам господь бог, сочинитель прекрасных поэм, первый литератор на свете, продиктовал своему секретарю Моисею: «Размножайтесь!» Так гласит писание. Размножайся, животное! Ну, а мир — он всегда будет таким, каков он есть; на земле все будет идти достаточно дурно и без твоего содействия. Не заботься об этом. Не занимайся тем, что происходит вокруг. Не вызывай никаких бурь. Комедиант создан для того, чтобы на него смотрели, а не для того, чтобы смотреть самому. Знаешь ли, кто верховодит на свете? Счастливцы по праву. Ты же, повторяю, счастливец случайный. Ты мошеннически завладел счастьем, которое тебе не принадлежит. Они — его законные обладатели, а ты — втируша, ты незаконно сожительствуешь с удачей. Чего тебе еще? Вот уж явное доказательство, что негодяй с жиру бесится! А ведь обзавестись потомством в союзе с Деей — приятнейшее дело. Это такое блаженство, что без плутовства до него, пожалуй, не доберешься. Те, кто получил свыше привилегию на земное счастье, не любят, чтобы существа, стоящие ниже их, позволяли себе такие радости. Если они спросят тебя, по какому праву ты счастлив, ты не сумеешь ответить. У тебя нет высочайшей грамоты на счастье, как у них. Юпитер ли, Аллах, Вишну или Саваоф — кто уж там, не знаю, выдал им разрешение на счастье. Бойся их. Не суйся в их дела, чтобы они не занялись тобой. Знаешь ли ты, несчастный, что такое счастливец по праву? Это — страшное существо, это — лорд. О, лорд!.. Вот кому, прежде чем появиться на свет в неведомом дьявольском прошлом, пришлось вести немало интриг, чтобы вступить в жизнь именно через эту дверь! Как ему, должно быть, было трудно родиться! Конечно, других забот у него не было, но, боже правый, что это был за труд! Добиться От судьбы, от этой слепой, своевольной дуры, чтобы она сразу, с колыбели, сделала вас владыкой над остальными людьми! Подкупить кассира, чтобы получить лучшее место в театре! Прочти памятку на стенке нашей вышедшей в отставку повозки, прочти этот требник моей мудрости, и ты увидишь, что такое лорд. Лорд — это человек, у которого есть все и который в своем лице воплощает все. Лорд — это существо, попирающее законы человеческой природы; лорд — это тот, кто в юности имеет права старика, а в старости — все преимущества молодости; развратник, он пользуется уважением порядочных людей; трус, он командует храбрецами; тунеядец, он пожирает плоды чужого труда; невежда, он является обладателем дипломов Кембриджского и Оксфордского университетов; глупец, он слышит в его честь славословия поэтов; урод, он получает в награду улыбки женщин; Терсит, он носит шлем. Ахилла; заяц, он облекается в львиную шкуру. Не истолковывай неправильно моих слов, я не утверждаю, что всякий лорд — обязательно невежда, трус, урод и старый дурак; я только говорю, что он может быть всем этим без всякого ущерба для себя. Напротив, лорды — повелители. Король Англии — тоже лорд, первый вельможа между вельможами; это уже много, это — все. В былое время короли именовались лордами: лорд Дании, лорд Ирландии, лорд Соединенных островов. Лорд Норвегии всего лишь триста лет назад принял титул короля. Древнейшего короля Англии, Луция, святой Телесфор называл милордом Луцием. Лорды — это пэры, иначе говоря — равные. Кому? Королю. Я не смешиваю ошибочно лордов с парламентом. Парламент — это народное собрание, которое саксы до покорения их норманнами называли wittenagemot, a покорители-норманны называли parliamentum. И мало-помалу народ выставили за дверь. В королевских приказах по созыву палаты общин некогда стояло: «ad consilium impendendum»[399], теперь же в них стоит: «ad conserittendum»[400]. Палата общин имеет право давать свое согласие. Ей разрешается говорить «да». Пэры же могут говорить «нет». Они доказали на деле, что обладают этим правом. Пэры могут отсечь голову королю, а народ не может. Казнь Карла I — нарушение не королевских прав, а пэрских привилегий, и правильно сделали, что вздернули на виселицу скелет Кромвеля. Лорды могущественны. Почему? Потому что в их руках богатства. Кто перелистывал когда-нибудь «Doomsday-book» — «Книгу страшного суда»? Эта книга — доказательство того, что Англией владеют лорды; это составленный при Вильгельме Завоевателе реестр земельных имуществ, принадлежащих английским подданным, хранящийся у лорд-канцлера казначейства. Чтобы сделать выписку из этого реестра, платят по четыре су за строку. Любопытнейшая книга! Знаешь ли ты, что я служил в качестве домашнего врача у некоего лорда Мармедьюка, который имел девятьсот тысяч французских франков годового дохода? Сообрази-ка это, дуралей! Знаешь ли ты, что одними кроликами, содержащимися в садках графа Линдсея, можно было бы накормить всю голь в Пяти Портах? А попробуй протянуть к ним руку! Все на учете. Каждого браконьера вешают. Я видел, как вздернули на виселицу отца шестерых детей только за то, что у него из ягдташа торчала пара длинных кроличьих ушей. Таковы вельможи. Кролик, принадлежащий лорду, дороже человеческой жизни. Но раз лорды существуют на свете — слышишь ты, мошенник? — мы должны находить, что это прекрасно. А если бы мы даже нашли, что это плохо, какое это может иметь для них значение? Народ против чего-то возражает! Подумайте только! Да у самого Плавта не найти ничего комичнее! Смешон был бы тот философ, который посоветовал бы этой жалкой черни возражать против гнета лордов. Да это все равно, как если бы гусеница вступила в пререкания с пятою слона. Однажды я видел, как на кротовую нору наступил гиппопотам; он все раздавил; но он был ни в чем не повинен. Этот добродушный великан даже не догадывался о том, что на свете есть кроты. Милый мой, кроты, которых давят, — это род человеческий. Давить друг друга — закон природы. А ты думаешь, что крот никого не давит? Он является великаном по отношению к клещу, который в свою очередь великан по отношению к тле. Но не будем углубляться в рассуждения. Друг мой, на свете существуют кареты. В каретах ездят лорды, неосторожные пешеходы попадают под колеса, а благоразумный человек норовит отойти в сторону. Посторонись и дай карете проехать. Что касается меня, я люблю лордов, но избегаю их. Я жил у одного из них. Этого вполне достаточно для того, чтобы у меня сохранилось о них прекрасное воспоминание. Его замок запечатлелся у меня в памяти в виде некоего сияния в облаках. Мои мечты обращены назад. Нет ничего замечательнее, чем Мармедьюк-Лодж в смысле величественности здания, соразмерности отдельных частей, пышности украшений, множества пристроек. Вообще дома, особняки, дворцы лордов — это собрание всего, что есть самого великолепного и роскошного в нашем цветущем королевстве. Я люблю наших вельмож. Я признателен им за их богатство, могущество и благосостояние. Я, прозябающий во мраке, с интересом и удовольствием взираю на клочок небесной лазури, именуемый лордом. В Мармедьюк-Лодж въезжали через огромный двор, имевший вид прямоугольника, разделенного, на восемь квадратов, из которых каждый был обнесен балюстрадой; между ними пролегала широкая дорога, посреди которой высился восхитительный восьмиугольный фонтан с двумя водоемами и прелестным ажурным куполом, поддерживаемым шестью колоннами. Там-то я и познакомился с ученым французом, аббатом Дюкро из якобинского монастыря на улице Сен-Жак. В Мармедьюк-Лодже хранится половина библиотеки Эрпениуса, другая половина которой находится на богословском факультете Кембриджского университета. Я занимался чтением, сидя под разукрашенным портиком. Такие вещи обычно обращают на себя внимание лишь немногих любознательных путешественников. Знаешь ли ты, чудак, что у сиятельного Вильяма Норта, лорда Грей-Ролстона, занимающего четырнадцатое место на баронской скамье, больше высокоствольных деревьев на принадлежащей ему горе, чем у тебя волос на твоей ужасной башке? Известно ли тебе, что у лорда Норриса Райкота, графа Эбингдона, есть четырехугольная башня высотою в двести футов с девизом: «Virtus ariete fortior», что будто бы означает: «Доблесть сильнее тарана», но что в действительности, дурак ты этакий, следует перевести: «Храбрость сильнее военных машин». Да, я чту и уважаю наших вельмож, я преклоняюсь перед ними. Ведь именно лорды вместе с его королевским величеством заботятся о том, чтобы доставить и обеспечить нации всевозможные выгоды. Их глубокая мудрость блестяще проявляется во всяких затруднительных обстоятельствах. Хотел бы я видеть, как могли бы они не первенствовать всюду и везде. Разумеется, они и первенствуют. То, что в Германии называется княжеским достоинством, а в Испании достоинством гранда, называется пэрством в Англии и Франции. Так как были все основания считать наш мир устроенным достаточно плохо, то бог, подметив в нем изъяны, решил доказать, что он умеет создавать и счастливых людей, и сотворил лордов на утешение философам. Тем самым господь исправил первоначальную ошибку и с честью вышел из ложного положения. Вельможи исполнены величия. Пэр, говоря о себе, употребляет местоимение nos[401]. Пэр — это множественное число. Король называет пэров consanguinei nostri[402]. Пэры издали целую кучу мудрых законов, в том числе закон, карающий смертной казнью всякого, кто срубит трехлетний тополь. Они настолько выше всех остальных людей, что у них есть даже свой особый язык. Так, в геральдике черный цвет, именуемый «песком» на гербе простого дворянина, обозначается словом «сатурн» на княжеском гербе и словом «алмаз» на гербе пэра. Алмазная пыль, звездная ночь — вот что такое черный цвет для счастливых. И даже между этими высокими лицами существуют тонкие различия в отношениях. Барон может совершить омовение рук перед трапезой в присутствии виконта только с разрешения этого последнего. Все это превосходно придумано и служит залогом сохранения нации. Какое счастье для народа — иметь двадцать пять герцогов, пять маркизов, семьдесят шесть графов, девять виконтов и шестьдесят одного барона, что составляет в совокупности сто семьдесят шесть пэров, из коих одних величают «ваша светлость», а других «ваше сиятельство». Велика, подумаешь, важность, если при этом кое-где и попадаются кое-какие лохмотья! Нельзя же требовать, чтобы всюду было одно лишь золото. Лохмотья так лохмотья! Зато рядом с ними — пурпур. Одно искупает другое. Велика важность, что на свете есть неимущие! Они служат строительным материалом для счастья богачей. Черт возьми! Наши лорды — наша слава. Одна лишь свора гончих Чарльза Мохена, барона Мохена, стоит столько же, сколько больница для прокаженных в Мургете или детская больница Иисуса Христа, основанная в тысяча пятьсот пятьдесят третьем году Эдуардом Шестым. Томас Осборн, герцог Лидс, расходует ежегодно на одни только ливреи для своих слуг пять тысяч золотых гиней. При испанских грандах состоит назначенный королем блюститель, который следит; чтобы они не разорились в пух и прах. Это пошло. У нас, в Англии, лорды сумасбродствуют, но зато они великолепны. Я это уважаю. Не будем же поносить их, словно мы какие-нибудь завистники. Я счастлив уже тем, что мне удается лицезреть это прекрасное видение. Пусть я — существо, лишенное света, но на меня падает отблеск чужого. Падает на мои язвы, скажешь ты? Убирайся к дьяволу! Я — Иов, счастливый тем, что созерцаю Тримальхиона. О, как прекрасна лучезарная планета там, в небесной вышине! Быть освещенным лучами луны чего-нибудь да стоит. Уничтожить лордов! Да такая мысль не пришла бы в голову даже Оресту, как ни был он безумен, Утверждать, что лорды вредны или бесполезны, — да это все равно что требовать потрясения государственных основ или утверждать, будто люди вовсе не созданы для того, чтобы жить подобно баранам, пощипывая траву и покорно перенося укусы собак. Баран оголяет луг, на котором пасется, а пастух оголяет барана, стрижет с него шерсть. Что может быть справедливее? На всякого находится своя управа. Что касается меня, то мне все равно: я — философ и за жизнь не цепляюсь. Жизнь земная — лишь временное пристанище. Подумать только, что у Генри Боуса Ховарда, графа Беркширского, в его каретном сарае стоят двадцать четыре парадных кареты, из коих одна с серебряной упряжью и одна с золотой! Боже мой, я отлично знаю, что не у всякого есть по двадцать четыре парадных кареты, но стоит ли волноваться из-за этого? Ты продрог однажды ночью — подумаешь, велика беда! Мало ли на свете бездомных! Другие тоже страдают от холода и голода. Знаешь ли ты, что не будь этого мороза, Дея не ослепла бы, а если бы она не ослепла, она не полюбила бы тебя. Поразмысли-ка об этом, дуралей! Да и хороша была бы музыка, если бы все недовольные начали жаловаться вслух! Молчание — вот правило мудрости. Я убежден, что господь бог предписывает молчать всем осужденным на вечные муки, иначе он сам был бы осужден слушать нескончаемые вопли. Олимпийское блаженство покупается ценою безмолвия Коцита. Итак, молчи, народ! А я поступаю еще лучше; я одобряю и восхищаюсь. Я только что перечислил тебе лордов, но к ним надо еще прибавить двух архиепископов и двадцать четыре епископа. Право, я прихожу в умиление, когда думаю об этом. Я вспоминаю, что видел у сборщика десятины для преподобного декана Рафоэ, который является одновременно представителем светской знати и служителем церкви, огромные скирды прекрасной пшеницы, отобранной для нужд его преосвященства у окрестных поселян; декану не пришлось трудиться, чтобы вырастить эту пшеницу, вот у него и оставалось время для молитвы. Знаешь ли ты, что лорд Мармедьюк, у которого я служил, был лорд-казначеем Ирландии и главным сенешалом Кнерсберга в графстве Иоркском? Знаешь ли ты, что лорд обер-камергер (это наследственная должность в роду герцогов Анкастерских) одевает короля в день коронации и получает в награду за свой труд сорок локтей малинового бархата да еще постель, на которой спал король, и что в процессиях ему всегда предшествует, в качестве его представителя, пристав черного жезла? Хотел бы я посмотреть, как ты станешь протестовать против того, что старейшим виконтом Англии признается сэр Роберт Брент, пожалованный в виконты Генрихом Пятым. Все титулы лордов указывают на право владения какими-нибудь землями, за исключением лорда Риверса, у которого фамилия вместе с тем и титул. Ведь это замечательно, что они имеют право облагать налогом других, взимая, как, например, нынче, по четыре шиллинга с фунта стерлингов ежегодного дохода, каковая привилегия продлена еще на год! Какое великолепное изобретение — пошлина на очищенный спирт, акциз на вино и на пиво, сборы за взвешивание и обмер товаров, налоги на сидр, на грушевую наливку, на солод, на перегонку ячменя, на каменный уголь и согни тому подобных налогов! Преклонимся перед существующим порядком! Даже духовенство находится в зависимости от лордов. Мэнский епископ — подданный графа Дерби. Лорды имеют собственных зверей, которых они помещают в свои гербы. Так как господь бог сотворил недостаточное количество зверей, то лорды изобретают новые разновидности. Они создали геральдического кабана, который настолько же выше обыкновенного, насколько тот выше свиньи или насколько знатный вельможа выше священника. Они создали грифона, этого орла среди львов и льва среди орлов, пугающего львов своими крыльями, а орлов — своей гривой. У них есть геральдический змей, единорог, саламандра, тараск, дрея, дракон, гиппогриф. Все это наводит на нас ужас, а им служит украшением. У них есть зверинец, называемый гербовником, в котором рычат невиданные чудовища. Ни в одном лесу не найдешь таких диковин, как те, что порождены их спесью. Их тщеславие полно всяких призраков, которые словно прогуливаются среди величественного мрака, вооруженные, в шлемах и панцирях, бряцают шпорами и, держа в руке имперский жезл, грозным голосом говорят: «Мы — предки!» Жуки подтачивают корни растений, а гербы — народное благосостояние. Так и надо! Стоит ли из-за этого изменять законы? Дворянство — неотъемлемая часть существующего порядка. Знаешь ли ты, что в Шотландии есть герцог, который может проскакать тридцать лье по прямой, не выходя за пределы своих владений? Знаешь ли ты, что у лорда-архиепископа Кентерберийского миллион франков ежегодного дохода? Знаешь ли ты, что его величество получает ежегодно по цивильному листу семьсот тысяч фунтов стерлингов, не считая доходов с замков, лесов, наследственных имений, ленных владений, аренд, поместий, свободных от всяких повинностей, пребенд, десятин, оброков, конфискаций и штрафов, превышающих миллион фунтов стерлингов? Те, кто недоволен этим, попросту привередничают.
— Да, — задумчиво прошептал Гуинплен, — рай богатых создан из ада бедных.
Глава 55
Урсус-поэт увлекает Урсуса-философа
Вошла Дея. Он взглянул на нее и больше уже ничего не видел. Такова любовь. Вихрь мыслей может на мгновение завладеть нами, но входит любимая женщина, и сразу исчезает все, что не имеет к ней непосредственного отношения, бесследно исчезает, и она даже не подозревает, что, быть может, уничтожила в нашей душе целый мир.
Упомянем здесь об одном незначительном обстоятельстве. В «Побежденном хаосе» Дее не нравилось слово «monstro» (чудовище), с которым она должна была обращаться к Гуинплену. Иногда, пользуясь тем небольшим знанием испанского языка, которым в то время обладали все, она самовольно заменяла это слово другим, а именно «quiero», что означает «желанный». Урсус относился к таким изменениям текста с некоторым неудовольствием. Он свободно мог бы заявить Дее, как в наши дни Моэссар сказал Виссо:
— Ты с недостаточным уважением подходишь к репертуару.
«Человек, который смеется» — такова была кличка, под которой Гуинплен приобрел известность. Под этим прозвищем исчезло его настоящее имя, почти никому неизвестное, так же, как исчезло под маской смеха его настоящее лицо. Его популярность тоже была маской.
Между тем его имя красовалось на широкой вывеске, водруженной на передней стенке «Зеленого ящика». Надпись, сочиненная Урсусом, гласила:
«Здесь можно видеть Гуинплена, брошенного в десятилетнем возрасте,
в ночь на 29 января 1690 года, злодеями компрачикосами на берегу моря в Портленде, ставшего взрослым и теперь носящего имя:
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».
Существование этих фигляров походило на существование прокаженных в лепрозории или на блаженную жизнь обитателей некоей Атлантиды. Ежедневно совершался привычный для них переход от самых шумных выступлений перед ярмарочной толпой к полной отрешенности от внешнего мира. Каждый вечер они покидали этот мир, исчезали, словно мертвецы в могильной сени, и на следующий день снова оживали. Актер — это вертящийся фонарь маяка, огонь которого то вспыхивает, то пропадает; для публики од только призрак, только проблеск в этой жизни, где свет постоянно сменяется тьмою.
За выступлением на площади следовало добровольное заточение. Как только кончалось представление и поредевшая толпа зрителей растекалась по смежным улицам, громко выражая свое одобрение, «Зеленый ящик» поднимал откидную стенку, точно крепость подъемный мост, и общение со всем остальным человечеством прерывалось. По одну сторону находилась вселенная, по другую — передвижной барак, и в этом бараке ярким созвездием сияли свобода, чистая совесть, мужество, самоотверженность, невинность, счастье, любовь.
Ясновидящая слепая и любимый ею урод садились рядом, рука сжимала руку, чело прикасалось к челу, и так, пьянея от близости, они перешептывались друг с другом.
Средняя часть «Зеленого ящика» имела двойное назначение: для публики она была сценой, для актеров — столовой.
Урсус, всегда охотно прибегавший к сравнению, пользовался этим как поводом к уподоблению средней части фургона «аррадашу» абиссинской хижины.
Урсус подсчитывал выручку, потом садились за ужин. Любовь во всем находит нечто идеальное; когда влюбленные вместе едят и пьют, это создает для них возможность украдкой обмениваться восхитительными прикосновениями, превращающими любой глоток в поцелуй. Они пьют эль или вино из одного стакана, как пили бы росу из чашечки одной лилии. Их души напоминают пару грациозных птичек. Гуинплен прислуживал Дее, нарезал ей ломтиками хлеб или мясо, наливал ей чаю, близко наклонялся к ней.
— Гм! — мычал Урсус, но его брюзжание, помимо его воли, переходило в улыбку.
Волк ужинал под столом, не обращая внимания ни на что, кроме своей кости.
Винос и Фиби разделяли общую трапезу, но никого не стесняли своим присутствием. Эти полудикарки, все еще чуждавшиеся людей, говорили между собой по-цыгански.
После ужина Дея вместе с Фиби и Винос удалялась на «женскую половину», Урсус шел привязывать Гомо на цепь под «Зеленым ящиком», а Гуинплен направлялся к лошадям, превращаясь из влюбленного в конюха, подобно гомеровскому герою или паладину Карла Великого. В полночь все уже спало, кроме волка, который, полный сознания своей ответственности, время от времени приоткрывал один глаз.
На следующее утро все сходились опять. Завтракали вместе — обычно хлебом с ветчиной, запивая его чаем, который в Англии вошел в употребление с 1678 года. Затем Дея, следуя испанскому обычаю и совету Урсуса, находившего, что она слаба здоровьем, спала несколько часов, между тем как Гуинплен и Урсус занимались внутри фургона и на дворе всеми теми мелкими работами, которых требует кочевая жизнь.
Лишь в редких случаях покидал Гуинплен «Зеленый ящик», чтобы побродить немного, да и то по пустынным дорогам и безлюдным местам. В городах он выходил лишь ночью, надвинув на глаза широкополую шляпу, чтобы его лицо не примелькалось на улице.
С открытым лицом его можно было видеть только на сцене.
Впрочем, «Зеленый ящик» не слишком часто заглядывал в города; Гуинплен в свои двадцать четыре года еще не видел городов больше Пяти Портов. Между тем слава Гуинплена росла. Она уже вышла за пределы простонародья и начинала подниматься выше. Громкая молва о человеке с необычайным лицом, кочующем с места на место и появляющемся неожиданно то здесь, «то гам, передавалась из уст в уста любителями ярмарочных чудес и охотниками до диковинок. О нем говорили, его искали, спрашивали друг друга: «Где он? Как бы его посмотреть?». «Человек, который смеется» положительно становился знаменитым. Отблеск его славы падал до некоторой степени и на «Побежденный хаос».
И вот однажды Урсус, исполненный честолюбивых замыслов, объявил:
— Надо ехать в Лондон.
Часть VI. Возникновение трещины
Глава 56
Тедкастерская гостиница
В Лондоне в ту пору был всего один мост — Лондонский мост, застроенный домами. Мост этот соединял город с Саутворком — предместьем, узкие улички и переулки которого, вымощенные галькой из Темзы, казались настоящими теснинами; подобно самому городу, Саутворк представлял собой беспорядочное нагромождение всякого рода построек, жилых домов и деревянных лачуг, бывших вполне подходящей пищей для пожаров: 1666 год доказал это.
Слово Саутворк произносили в то время как Соудрик, а в наши дни произносят приблизительно Соузуорк. Впрочем, наилучший способ произношения английских имен — это совсем не произносить их. Например, Саутгемптон выговаривайте так: Стпнтн.
Это — было время, когда Четэм произносили как Je t'aime[403].
Тогдашний Саутворк так же был похож на нынешний Саутворк, как Вожирар на Марсель. Теперь это город; тогда это был поселок, бывший, однако, весьма оживленным портом. В длинную, старую, напоминавшую циклопические сооружения стену над Темзой были вделаны кольца, к которым пришвартовывались речные суда. Стена эта называлась Эфрокской стеной, или Эфрокстоун. Когда Йорк был еще саксонским, он назывался Эфрок. Согласно преданию, у подножия этой стены утопился какой-то эфрокский герцог. В самом деле, место здесь достаточно глубокое для любого герцога. Даже во время отлива глубина тут была не менее шести брассов. Эта отличная якорная стоянка привлекала к себе морские суда, и старинная пузатая голландская шхуна «Вограат» становилась обычно на причал к Эфрок-стоуну. «Вограат» еженедельно совершала прямой рейс из Лондона в Роттердам и из Роттердама в Лондон. Другие суда отходили по два раза в день в Детфорт, в Гринич или в Гревсенд, отправляясь с отливом и возвращаясь с приливом. Переход до Гревсенда занимал шесть часов, хотя расстояние и не превышало двадцати миль.
Шхуна «Вограат» принадлежала к числу тех судов, которые можно встретить теперь только в морских музеях. Ее чрезмерно выпуклый корпус немного напоминал джонку. В ту пору Франция подражала Греции, а Голландия — Китаю. «Вограат», тяжелая двухмачтовая шхуна с водонепроницаемыми перпендикулярными переборками в трюме, имела посредине глубокую каюту, а на носу и на корме палуба была без бортов, как на теперешних железных судах, снабженных башенками. Отсутствие борта имело то преимущество, что во время бури ослаблялся напор волн, однако вместе с тем экипаж подвергался опасности: не встречая на своем пути никакой преграды, волны смывали людей прямо в море. Случаи их гибели бывали столь частыми, что от такого типа судна пришлось отказаться. Обычно «Вограат» шла прямо в Голландию, даже не останавливаясь в Гревсенде.
Вдоль подножия Эфрок-стоуна тянулся старинный каменный карниз — частью утес, частью искусственно сооруженный выступ, и это облегчало судам возможность пришвартовываться к стене при любом уровне воды. Стена эта, пересеченная в нескольких местах лестницами, представляла границу южной оконечности Саутворка. Земляная насыпь позволяла прохожим облокачиваться на гребень Эфрок-стоуна, как на парапет набережной. Отсюда открывался вид на Темзу. По другую сторону реки кончался Лондон; дальше тянулись поля.
Возле Эфрок-стоуна, у излучины Темзы, почти напротив Сент-Джемского дворца и позади Ламбет-Хауза, неподалеку от места гулянья, носившего тогда название Фокс-Холл, между горшечной мастерской, где выделывали фарфоровую посуду, и стеклянным заводом, где изготовляли цветные бутылки, находился один из тех больших, поросших сорными травами пустырей, которые во Франции были известны под названием бульваров, а в Англии — bowling-greens. Слово bowling-green, означающее «зеленая лужайка для катания шара», мы переделали в boulingrin. В наши дни такие лужайки устраивают в домах, только теперь их располагают на столе: зеленое сукно заменяет дерн, и все это называется бильярдом.
Между прочим, непонятно, почему, имея уже слово бульвар (boulevard — boule-vert), совершенно соответствующее по смыслу слову bowling-green, мы придумали еще boulingrin. Удивительно, что такая солидная особа, как словарь, позволяет себе подобную ненужную роскошь.
Саутворкская «зеленая лужайка» называлась Таринзофилд, ибо некогда она принадлежала баронам Гастингсам, носившим также титул баронов Таринзо-Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзофилд перешел к баронам Тедкастерам, которые сдавали его в аренду в качестве места для народных гуляний, подобно тому как позднее один из герцогов Орлеанских сделал своей доходной статьей Пале-Рояль. С течением времени Таринзофилд как выморочное имущество стал приходской собственностью.
Таринзофилд представлял собой нечто вроде постоянной ярмарочной площади, где выстраивались в ряд балаганы фокусников, эквилибристов, фигляров, музыкантов и где вечно толпились зеваки, «приходившие поглазеть на дьявола», как говаривал архиепископ Шарп. «Глазеть на дьявола» — значило смотреть представление. На эту празднично разукрашенную площадь выходили фасадом несколько харчевен, из которых одни отбивали публику у театров, а другие поставляли им зрителей. Харчевни эти процветали. Это были обыкновенные кабачки, открытые только днем. Вечером хозяин запирал свой кабачок, клал ключ в карман и уходил. Только одно из этих заведений носило характер гостиницы и было единственным прочным жилым помещением на всей «зеленой лужайке», ибо остальные ярмарочные постройки могли быть разобраны в любую минуту: ничто не привязывало всех этих странствующих комедиантов к одному месту. Фигляры ведут кочевой образ жизни.
Это заведение, называвшееся Тедкастерской гостиницей, по имени бывших владельцев поля, напоминало скорее постоялый двор, чем таверну, и скорее гостиницу, чем харчевню; в его довольно широкий двор можно было попасть через большие ворота.
Ворота, выходившие на площадь, были как бы парадным подъездом Тедкастерской гостиницы; рядом с ними находилась боковая дверь, которой и пользовались обычно посетители. Люди всегда и всюду предпочитают входить не с главного входа. Эта дверь служила единственным средством сообщения между площадью и харчевней. Она вела непосредственно в харчевню — просторное, но невзрачное, сплошь уставленное столами помещение с низким потолком и закоптелыми стенами. Прямо над ней, во втором этаже, было пробито окно, и на железной его решетке была прикреплена вывеска гостиницы. Ворота же, крепко запертые на засов, никогда не отпирались.
Чтобы проникнуть во двор, нужно было пройти через кабачок.
В Тедкастерской гостинице были хозяин и слуга. Хозяина звали дядюшкой Никлсом, слугу — Говикемом. Дядюшка Никлс — очевидно, Николай, превратившийся с помощью английского произношения в Никлса, — был скупой вдовец, вечно трепетавший перед законом. У него были густые брови и волосатые руки. Что касается четырнадцатилетнего мальчугана, прислуживавшего посетителям и откликавшегося на имя Говикем, то это был большеголовый подросток с всегда улыбающейся физиономией. Он носил передник и был подстрижен под гребенку в знак своего зависимого положения. Спал он в нижнем этаже, в крохотной конурке, где прежде держали собаку. Окном этой конурки служило круглое отверстие, выходившее на «зеленую лужайку».
Глава 57
Красноречие под открытым небом
Однажды вечером, в холодную и ветреную погоду, когда, казалось, никому не могла прийти охота задерживаться на улице, какой-то человек, проходивший по Таринзофилду, остановился вдруг у стен Тедкастерской гостиницы. Был конец зимы 1704–1705 года. Человек этот, судя по одежде — матрос, был хорош собой и высок ростом — качества, которые требуются от придворных, но не возбраняются и простолюдинам. Для чего он остановился? Он остановился, чтобы послушать. Что же он слушал? Голос, который раздавался по ту сторону стены, очевидно со двора; голос этот был старческим, но звучал так громко, что его слышно было на улице. И в то же время во дворе, откуда раздавался этот голос, слышался гул толпы. Голос говорил:
— Вот и я, жители и жительницы Лондона. От всего сердца поздравляю вас с тем, что вы — англичане. Вы — великий народ. Скажу точнее: вы — великое простонародье. Вы деретесь на кулачках еще лучше, чем на шпагах. У вас превосходный аппетит. Вы — нация, которая поедает другие народы. Великолепное занятие! Эта способность пожирать других ставит Англию на совершенно особое место. В своей политике и философии, в своем искусстве прибрать к рукам колонии и целые народности, в ремеслах и промышленности, в своем умении причинять другим зло, приносящее вам выгоду, вы ни с кем не сравнимы, вы изумительны! И недалек уже день, когда земной шар будет разделен на две части; на одной будет надпись: «Владения людей», на другой — «Владения англичан». Утверждаю это к вящей вашей славе — я, не имеющий отношения ни к тем, ни к другим, ибо я не англичанин и не человек: я имею честь быть медведем. Кроме того, я еще и доктор — одно не мешает другому. Джентльмены, я поучаю. Чему, спросите вы? Двум разным вещам: тому, что я знаю, и тому, чего я не знаю. Я продаю снадобья и подаю мысли. Подходите же и слушайте. Вас призывает наука. Хорошенько навострите уши; если они малы, истины попадет в них не много; если они велики, в них войдет немало глупости. Итак, внимание. Я учу науке, которая называется Pseudodoxia epidemica. У меня есть товарищ, который учит смеяться, я же учу мыслить. Мы живем с ним в одном ящике, ибо смех так же благороден, как благородно знание. Когда Демокрита спрашивали: «Как познаешь ты истину?», он ответствовал: «Я смеюсь». А если спросят меня: «Почему ты смеешься?», я отвечу на это: «Потому что познал истину». Впрочем, я вовсе не смеюсь. Я искореняю предрассудки. Я хочу прочистить ваши мозги. Они весьма засорены. Господь бог охотно дозволяет, чтобы народ обманывался и был обманут. Отбросим ложную скромность; я совершенно открыто заявляю, что верую в бога, даже тогда, когда он бывает неправ. Однако, когда я вижу мусор, — а предрассудки тот же мусор, — я выметаю его. Откуда я знаю то, что я знаю? Это уж мое дело. Каждый учится по-своему. Лактанций вопрошал бронзовую голову Вергилия, и она отвечала ему. Сильвестр Второй беседовал с птицами. Что ж, птицы говорили по-человечьи, — или, может быть, папа щебетал по-птичьи? Это не выяснено. Умерший ребенок раввина Елеазара разговаривал со святым Августином. Говоря между нами, я сильно сомневаюсь в истинности всех этих событий, кроме последнего. Допустим, что этот умерший ребенок действительно разговаривал; но под языком у него была золотая пластинка с начертаниями различных созвездий. Значит, тут плутовство. Все это вполне поддается объяснению. Как видите, я беспристрастен. Я отделяю правду от лжи. А вот вам другие заблуждения, которым вы, бедные, невежественные люди, наверное отдаете дань и от которых я хочу освободить вас. Диоскорид полагал, что бог сокрыт в белене, Хризипп находил его в черной смородине, Иосиф — в репе, Гомер — в чесноке. Все они ошибались. Не бог заключен в этих растениях, а дьявол. Я это проверил. Неверно, что у змея, соблазнившего Еву, было человеческое лицо, как у Кадма. Гарсиа де Горто, Кадамосто и Жан Гюго, архиепископ Тревский, отрицают, будто достаточно подпилить дерево, чтобы поймать слона. Я склонен согласиться с ними. Граждане, ложные убеждения возникают благодаря стараниям Люцифера. Когда находишься под владычеством князя тьмы, что удивительного в том, что заблуждения так и сыплются дождем? Добрые люди, знайте же, Клавдий Пульхр умер вовсе не от того, что куры отказались выйти из курятника; это Люцифер, предвидя кончину Клавдия Пульхра, помешал курам клевать корм. Тем, что Вельзевул дал императору Веспасиану силу исцелять калек и возвращать зрение слепым, он совершил поступок похвальный, но побуждения Вельзевула при этом были преступны. Джентльмены, не доверяйтесь шарлатанам, применяющим корень переступня и белой матицы и делающим глазные примочки из меда и крови петуха. Научитесь отличать ложь от правды. Неверно, будто Орион явился на свет вследствие того, что Юпитер удовлетворил свою естественную надобность; в действительности это светило произошло таким образом от Меркурия. Неправда, что у Адама был пуп. Когда святой Георгий убил дракона, рядом не было никакой дочери святого. У святого Иеронима в кабинете не было никаких каминных часов: во-первых, потому, что в его пещере не было никакого кабинета; во-вторых, потому, что там не было камина; в третьих, потому, что в то время еще не существовало часов. Проверяйте, проверяйте все. Милые мои слушатели, если вам скажут, будто в мозгу человека, нюхающего валерианову траву, заводится ящерица, будто бык, разлагаясь, превращается в пчелиный рой, а лошадь — в шершней, будто покойник весит больше, чем живой, будто изумруд растворяется в козлиной крови, будто гусеница, муха и паук, замеченные на одном дереве, предвещают голод, войну и чуму, будто падучую возможно излечить с помощью червя, найденного в голове косули, — не верьте этому. Все это предрассудки. Но вот вам подлинные истины: тюленья шкура предохраняет от грома; жаба питается землей, и от этого в голове, у нее образуется камень; иерихонская роза цветет в сочельник; змеи не переносят тени ясеня; у слона нет суставов, и он вынужден спать стоя, опершись о дерево; если жаба высидит куриное яйцо, из него вылупится скорпион, который родит вам саламандру; если слепой доложит одну руку на левую сторону алтаря, а другою закроет себе глаза, он пробреет; девственность не исключает материнства. Добрые люди, впитывайте в себя эти очевидные истины. А там можете верить в бога по-разному — либо как жаждущий верит в апельсин, либо как осел верит в кнут. Ну, а теперь я познакомлю вас с нашей труппой.
В это мгновение довольно сильный порыв ветра потряс оконные рамы и ставни гостиницы, стоявшей в стороне от других построек. Это было похоже на раскаты грома, донесшиеся с неба. Голос подождал минуту, затем продолжал:
— Перерыв. Что ж, не возражаю. Пусть говорит Аквилон. Джентльмены, я не сержусь. Ветер словоохотлив, как всякий отшельник. Там, наверху, ему не с кем поболтать. Вот он и отводит душу. Итак, я продолжаю. Перед вами труппа артистов. Нас четверо. A lupo principium — начинаю со своего друга; это волк. Он не возражает, чтобы на него смотрели. Смотрите же на него. Он у нас ученый, серьезный и проницательный. Как видно, провидение собиралось сделать его сначала доктором наук, но для этого требовалась некоторая доля тупоумия, а он совсем не глуп. Прибавим, что он лишен предрассудков и отнюдь не аристократ. При случае он не прочь завести знакомство и с собакой, хотя имеет все права на то, чтобы его избранница была волчицей. Потомки его, если только они существуют, вероятно премило урчат, подражая тявканью матери и вою отца. Ибо волк воет. С людьми жить — по-волчьи выть. Но он также и лает — из снисхождения к цивилизации. Такая мягкость манер — проявление великодушия. Гомо — усовершенствованная собака. Собаку следует уважать. Собака — экое странное животное! — потеет языком и улыбается хвостом. Джентльмены, Гомо не уступит по уму бесшерстному мексиканскому волку, знаменитому холойтцениски, но превосходит его добросердечием. К тому же он смирен. Он скромен, как только может быть скромен волк, сознающий пользу, которую он приносит людям. Он сострадателен, всегда готов прийти на помощь, но делает это втихомолку. Его левая лапа не ведает, что творит правая. Таковы его достоинства. О втором своем приятеле скажу только одно: это чудовище. Вы только подивитесь на него. Некогда он был покинут пиратами на берегу океана. А вот это — слепая. Разве на свете мало слепых? Нет. Все мы слепы, каждый по-своему. Слеп скупец: он видит золото, но не видит богатства. Слеп расточитель: он видит начало, но не видит конца. Слепа кокетка: она не видит своих морщин. Слеп ученый; он не видит своего невежества. Слеп и честный человек, ибо не видит плута, слеп и плут, ибо не видит бога. А бог тоже слеп — в день сотворения мира он не увидел, как в его творение затесался дьявол. Да ведь и я слеп: говорю с вами и не замечаю, что вы глухи. А вот эта слепая, наша спутница, это жрица таинственного культа. Веста могла бы доверить ей свой светильник. В ее характере есть нечто загадочное и вместе с тем нежное, как овечье руно. Думаю, что она королевская дочь, то не утверждаю этого. Мудрому свойственна похвальная недоверчивость. Что касается меня самого, то я учу и лечу. Я мыслю и врачую, Chirurgus sum[404]. Я исцеляю от лихорадки, от чумы и прочих болезней. Почти все виды воспалений и недугов не что иное, как заволоки, выводящие болезнь наружу, и если правильно лечить их, можно избавиться еще и от других болезней. И все же не советую вам обзаводиться многоголовым вередом, иными словами карбункулом. Это дурацкая болезнь, от которой нет никакого проку. От него умирают, только и всего. Не подумайте, что с вами говорит невежда и грубиян. Я высоко чту красноречие и поэзию и нахожусь с этими башнями в очень близких, хотя и невинных отношениях. Заканчиваю свою речь советом: милостивые государи и милостивые государыни, выращивайте в душе своей, в самом светлом ее уголке, такие прекрасные цветы, как добродетель, скромность, честность, справедливость и любовь. Тогда каждый из нас сможет здесь, в этом мире, украсить свое окошко небольшим горшочком с цветами. Милорды и господа, я кончил. Сейчас начнем представление.
Человек в одежде матроса, прослушавший всю эту речь на улице, вошел в низкий зал харчевни, пробрался между столами, заплатил, сколько с него потребовали, за вход и сразу же очутился во дворе, переполненном народом; в глубине двора он увидел балаган на колесах с откинутой стенкой: на подмостках стояли какой-то старик, одетый в медвежью шкуру, молодой человек с лицом, похожим на уродливую маску, слепая девушка и волк.
— Черт побери, — воскликнул матрос, — вот замечательные актеры!
Глава 58
Прохожий появляется снова
«Зеленый ящик», который читатели, конечно, узнали, недавно прибыл в Лондон. Он остановился в Саутворке, Урсуса привлекала «зеленая лужайка», имевшая то неоценимое достоинство, что ярмарка на ней не закрывалась даже зимой.
Урсусу было приятно увидеть купол святого Павла. В конце концов Лондон — это город, в котором немало хорошего. Ведь для того, чтобы посвятить собор святому Павлу, требовалось известное мужество. Настоящий соборный святой — это святой Петр. Святой Павел несколько подозрителен своим излишним воображением, а в вопросах церковных воображение ведет к ереси. Святой Павел признан святым только благодаря смягчающим его вину обстоятельствам. На небо он попал с черного хода.
Собор — это вывеска. Собор святого Петра — вывеска Рима, города догмы, так же как собор святого Павла — вывеска Лондона, города ереси.
Урсус, чье мировоззрение было настолько широко, что охватывало все на свете, был вполне способен оценить все эти оттенки, я его влечение к Лондону объяснялось, быть может, той особой симпатией, которую он питал к святому Павлу.
Урсус остановил свой выбор на Тедкастерской гостинице, обширный двор которой был как будто нарочно предназначен для «Зеленого ящика» и представлял собой уже совершенно готовый зрительный зал. Квадратный двор был отгорожен с трех сторон жилыми строениями, а с четвертой — глухой стеной, возведенной против гостиницы; к этой-то стене и придвинули вплотную «Зеленый ящик», который вкатили во двор через широкие ворота. Длинная деревянная галерея с навесом, построенная на столбах, находилась в распоряжении жильцов второго этажа; она тянулась вдоль трек стен внутреннего фасада, образуя два поворота под прямым углом. Окна первого этажа были ложами бенуара, мощеный двор — партером, галерея — бельэтажем. «Зеленый ящик», прислоненный к стене, был обращен лицом к зрительному залу. Это весьма напоминало «Глобус», где были сыграны впервые «Отелло», «Король Лир» и «Буря».
В закоулке, за «Зеленым ящиком», помещалась конюшня.
Урсус договорился обо всем с хозяином харчевни дядюшкой Никлсом, который, из уважения к закону, согласился впустить волка только за большую плату. Вывеску «Гуинплен — Человек, который смеется», снятую с «Зеленого ящика», повесили рядом с вывеской гостиницы. В зале кабачка, как уже известно читателю, была внутренняя дверь, выходившая прямо во двор. Рядом с этой дверью поставили бочку без дна, которая должна была изображать будку для «кассирши», обязанности которой поочередно выполняли Фиби и Винос. Все обстояло приблизительно так же, как в наши дни. С каждого зрителя брали плату. Под вывеской «Человек, который смеется» прибили двумя гвоздями доску, выкрашенную в белый цвет, на которой углем было выведено крупными буквами название знаменитой пьесы Урсуса — «Побежденный хаос».
В центре галереи, как раз напротив «Зеленого ящика», было устроено с помощью деревянных перегородок отделение для «благородной публики». В него входили через стеклянную дверь.
Здесь могли поместиться, усевшись в два ряда, десять человек.
— Мы в Лондоне, — сказал Урсус. — Надо быть готовым к тому, что явится и благородная публика.
По его требованию, в эту «ложу» поставили лучшие стулья, какие только нашлись в гостинице, а в середине — большое кресло, обитое утрехтским бархатом, золотистым, с вишневыми разводами, — на случай, если бы спектакль посетила жена какого-нибудь сановника.
Представления начались.
Сразу же хлынул народ.
Но отделение для знати пустовало.
Если не считать этого, успех был такой, что никто из комедиантов не мог припомнить ничего подобного. Весь Саутворк толпами сбегался поглазеть на «Человека, который смеется».
Среди скоморохов и фигляров Таринзофилда Гуинплен произвел настоящий переполох. Как будто ястреб влетел в клетку с щеглами и пожрал весь их корм. Гуинплен отбил у них всю публику.
Кроме убогих представлений, даваемых шпагоглотателями и клоунами, на ярмарочной площади бывали и настоящие спектакли. Тут был цирк с наездницами, с канатными плясуньями, откуда с утра до ночи доносились громкие звуки всевозможных инструментов: барабанов, цитр, скрипок, литавр, колокольчиков, сопелок, валторн, бубнов, волынок, немецких дудок, английских рожков, свирелей, свистулек, флейт и флажолетов.
В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться и современные пиренейские скороходы — Дульма, Борденав и Майлонга, хотя они и спускаются с остроконечной вершины Пьерфит на Лимасонское плато, что почти равносильно падению. Был там и бродячий зверинец с тигром-комиком, который, когда его хлестал укротитель, норовил вырвать у него бич и проглотить конец плети. Но Гуинплен затмил даже этого рычащего комика со страшной пастью и когтями.
Любопытство, рукоплескания, сборы, толпу — все перехватил «Человек, который смеется». Это произошло в мгновение ока. Кроме «Зеленого ящика», не признавали больше ничего.
— «Побежденный хаос» оказался хаосом-победителем, — говорил Урсус, приписывая себе половину успеха Гуинплена, или, как принято выражаться на актерском жаргоне, «оттягивая скатерть к себе».
Гуинплен имел необычайный успех. Однако это был только местный успех. Славе трудно преодолеть водную преграду. Понадобилось сто тридцать лет для того, чтобы имя Шекспира дошло из Англии во Францию: вода — стена, и если бы Вольтер, впоследствии очень сожалевший об этом, не помог Шекспиру, Шекспир и в наше время, быть может, еще находился бы по ту сторону стены, в Англии, в плещу у своей островной славы.
Слава Гуинплена не перешла через Лондонский мост. Она не приняла таких размеров, чтобы вызвать эхо в большом городе. Во всяком случае на первых порах. Но и Саутворка достаточно для честолюбия клоуна. Урсус говорил:
— Мешок с выручкой, словно согрешившая девушка, толстеет прямо у вас на глазах.
Играли «Ursus rursus», затем «Побежденный хаос».
В антрактах Урсус показывал свои способности «энгастримита», давая сеансы чревовещания: он подражал голосу любого из присутствующих, пению, крику, поражая сходством самого певшего или кричавшего, а иногда воспроизводил гул целой толпы, и при этом гудел так громко, как будто в нем одном вмещалось множество людей. Замечательный талант!
Кроме того, он, как мы видели, и ораторствовал не хуже Цицерона, и торговал снадобьями, и занимался лекарской практикой, и даже вылечивал больных.
Саутворк был покорен.
Горячий прием, оказанный в Саутворке «Зеленому ящику», доставлял Урсусу удовольствие, но не удивлял его.
— Это древние тринобанты, — говорил он.
И прибавлял:
— Что касается изысканности их вкуса, я не сравню их ни с атробатами, населяющими Беркс, ни с белгами, обитателями Сомерсета, ни с паризиями, основавшими Йорк.
На время каждого представления двор гостиницы, превращенный в партер, заполнялся бедно одетой, но восторженной публикой. Это были лодочники, носильщики, корабельные плотники, рулевые речных судов, матросы, только что сошедшие на берег и тратившие свое жалованье на пирушки и женщин. Были тут и кучера, и завсегдатаи кабаков, и солдаты, осужденные за какое-нибудь нарушение дисциплины носить красные мундиры черной подкладкой наружу и прозванные поэтому «черными гвардейцами». Весь этот народ стекался с улицы в театр, а из театра устремлялся в кабачок. И выпитые кружки отнюдь не вредили успеху спектакля.
Среди всех этих людей, которых принято называть «подонками», особенно выделялся один: он был выше других, крупнее, сильнее и шире в плечах; он казался менее бедным, чем остальные; его одежда, обычная одежда простолюдина, была, однако, опрятной и не рваной. Не зная меры в выражении своего восторга, он пролагал себе дорогу кулаками, ерошил свои вихры, ругался, кричал, зубоскалил и мог при случае подбить кому-нибудь глаз, но тотчас же поставить потерпевшему бутылку вина.
Этот завсегдатай был тот самый прохожий, у которого, как мы помним, вырвалось на улице восторженное восклицание.
Этот знаток искусства сразу же пленился «Человеком, который смеется». Ходил он не на все представления, но когда приходил, то становился «вожаком» публики; рукоплескания превращались в овации; бурные волны успеха взмывали если не до потолка (его и не было), то до облаков, которых было достаточно (из этих облаков иногда шел дождь, безжалостно поливавший гениальное произведение Урсуса, не защищенное крышей).
В конце концов Урсус заметил этого человека, и Гуинплен тоже обратил на него внимание.
В его лице они, по-видимому, нашли надежного друга.
Урсусу и Гуинплену захотелось познакомиться с ним или по крайней мере узнать, кто он такой.
Как-то вечером, столкнувшись случайно с хозяином гостиницы Никлсом, Урсус показал ему из-за кухонной двери, служившей кулисой, на незнакомца и спросил:
— Знаете вы этого человека?
— Еще бы.
— Кто он?
— Матрос.
— Как его зовут? — вмешался Гуинплен.
— Том-Джим-Джек, — ответил хозяин гостиницы.
И, спускаясь по откидной лесенке «Зеленого ящика», чтобы возвратиться в свое заведение, дядюшка Никлс обронил чрезвычайно глубокомысленное замечание:
— Какая жалость, что он не лорд. Славная из него вышла бы каналья!
Хотя труппа «Зеленого ящика» и остановилась во дворе гостиницы, она ни в чем не изменила своего обычного уклада жизни и по-прежнему держалась обособленно. Если не считать нескольких слов, которыми ее участники изредка перебрасывались с хозяином, они не вступали ни в какие сношения с обитателями гостиницы, как постоянными, так и временными, и продолжали общаться только друг с другом.
С тех пор как они прибыли в Саутворк, Гуинплен завел привычку по окончании спектакля, уже после того, как все, — и люди и лошади, — поужинают, а Урсус и Дея улягутся спать, каждый в своем отделении, выходить между одиннадцатью и двенадцатью часами на «зеленую лужайку» подышать немного свежим воздухом. Мечтательное настроение предрасполагает к ночным прогулкам под звездами; юность — вся таинственное ожидание; потому-то молодежь так охотно и бродит ночью без всякой цели. В этот поздний час на ярмарочной площади уже на было никого, кроме нескольких пьяниц, чьи колеблющиеся силуэты вырисовывались в темноте; закрывались пустые таверны, гасли огни в низком зале Тедкастерской гостиницы; только где-нибудь в углу догорала последняя свеча, освещая последнего посетителя; сквозь неплотно закрытые ставни пробивался тусклый свет, и Гуинплен, задумчивый, довольный, погруженный в мечты, ощущая в душе прилив невыразимого счастья, расхаживал взад и вперед близ приоткрытой двери. О чем думал он? О Дее, обо всем и ни о чем; он думал о самом сокровенном. Он никогда не отходил слишком далеко от гостиницы, словно какая-то нить удерживала его подле Деи. Для него было вполне достаточно пройтись около дома.
Затем он возвращался, заставал всех обитателей «Зеленого ящика» уже спящими и сам засыпал.
Глава 59
Ненависть роднит самых несходных людей
Чужого успеха не выносят, в особенности те, кому он вредит. Пожираемые редко любят пожирателей. «Человек, который смеется» стал положительно событием. Окрестные фигляры негодовали. Театральный успех — это смерч, который, засасывая толпу, оставляет вокруг пустое пространство. В балагане, стоящем напротив, начался переполох. Повышение сборов в балагане «Зеленый ящик» сразу же вызвало снижение выручки в соседних заведениях. Балаганы, которые до этого времени охотно посещались, внезапно перестали привлекать к себе зрителей. Это было как бы понижением уровня жидкости в одном из двух сообщающихся сосудов, о котором можно было судить по повышению уровня в другом. Все театры знают эти приливы и отливы: половодье в одном вызывает мелководье в другом. Ярмарочный муравейник, выставлявший напоказ на соседних подмостках свои таланты и фанфарами зазывавший к себе публику, оказался совершенно разоренным «Человеком, который смеется»; но, впав в отчаяние, он вместе с тем был ослеплен Гуинпленом. Ему завидовали все скоморохи, все клоуны, все фигляры. Ну и счастливчик же этот обладатель звериной морды! Матери-комедиантки и канатные плясуньи с досадой смотрели на своих хорошеньких ребятишек и говорили, указывая на Гуинплена:
— Какая жалость, что у тебя не такое лицо!
Некоторые из них шлепали своих малышей, злясь, что они так красивы. Немало матерей, знай они только секрет, охотно изуродовали бы лицо своих сыновей наподобие Гуинплена. Ангельское личико, не приносящее никакого дохода, ничего не стоит по сравнению с дьявольской рожей, обогащающей ее обладателя.
Как-то мать одного малютки, игравшего на сцене купидонов и прелестного словно херувим, воскликнула:
— Что за неудачные вышли у нас дети! Вот Гуинплен уродился на славу.
И, погрозив кулаком своему ребенку, прибавила:
— Знала бы я, кто твой отец, уж устроила бы я ему скандал!
Гуинплен был курицей, несущей золотые яйца. «Какое удивительное чудо!» — только и слышно было во всех балаганах. Скоморохи, скрежеща зубами, глазели на Гуинплена с восхищением и отчаянием. Когда восторгается злоба — это называется завистью. В таких случаях ее голос становится воем. Соседи «Зеленого ящика» сделали попытку сорвать успех «Побежденного хаоса»; сговорившись между собой, они начали свистеть, хрюкать, выть. Это послужило для Урсуса поводом обратиться к толпе с обличительными речами в духе Гортензия и дало возможность Том-Джим-Джеку прибегнуть к тумакам, достаточно внушительным, чтобы восстановить порядок. Кулачная расправа, учиненная Том-Джим-Джеком, окончательно привлекла к нему внимание Гуинплена и вызвала уважение Урсуса. Впрочем, только издали, так как труппа «Зеленого ящика» ни с кем не искала знакомства и держалась особняком. Что же касается Том-Джим-Джека, то он казался головой выше предводительствуемого им сброда и ни с кем, по-видимому, не был дружен и близок: буян и зачинщик всяких скандалов, он то появлялся, то исчезал, всему свету приятель и никому не товарищ.
Однако неистовые завистники Гуинплена не сочли себя побежденными после нескольких затрещин, которые закатил им Том-Джим-Джек. Когда попытка освистать пьесу провалилась, таринзофилдские комедианты подали жалобу. Они обратились к властям. Это — обычный прием. Если чей-нибудь успех становится нам поперек дороги, мы сперва натравливаем на этого человека толпу, а затем прибегаем к содействию полиции.
К фиглярам присоединились священники: «Человек, который смеется» нанес ущерб проповедникам. Опустели не только балаганы, но и церкви. Часовни пяти саутворкских приходов лишились своих прихожан. Люди удирали с проповеди, чтобы посмотреть на Гуинплена. «Побежденный хаос», «Зеленый ящик», «Человек, который смеется» — все эти языческие мерзости брали верх над церковным красноречием. Глас вопиющего в пустыне, vox damantis jn deserto, в таких случаях не бывает доволен и охотно призывает на помощь власти предержащие. Настоятели пяти приходов обратились с жалобой к лондонскому епископу, а тот в свою очередь — к ее величеству.
Комедианты исходили в своей жалобе из соображений религиозного свойства. Они заявляли, что религии нанесено оскорбление. Они обвиняли Гуинплена в чародействе, а Урсуса — в безбожии.
Священники, напротив, выдвигали доводы общественного порядка. Оставляя в стороне вопросы церковные, они ссылались на нарушение парламентских актов. Это было более хитро. Ибо дело происходило во времена Локка, скончавшегося всего за шесть месяцев до этого, 28 октября 1704 года, и скептицизм, которым Болингброк вскоре заразил Вольтера, уже начинал оказывать свое влияние на умы. Впоследствии Уэсли пришлось снова обратиться к библии, подобно тому как в свое время Лойола восстановил папизм.
Таким образом, на «Зеленый ящик» повели атаку с двух сторон: фигляры — во имя пятикнижия, и духовенство — во имя полицейских правил. С одной стороны — небо, с другой — дорожный устав, причем священники вступались за уличное движение, а скоморохи — за небо. Преподобные отцы утверждали, что «Зеленый ящик» препятствует свободному движению по дорогам, а фигляры усматривали в нем кощунство.
Был ли к этому какой-либо повод? Давал ли «Зеленый ящик» основание для обвинений? Да, давал. В чем же заключалось его преступление? А вот в чем: в труппе находился волк. Волку же в Англия жить не разрешается. Догу — можно, а волку — нельзя. Англия не возражает против собаки, которая лает, но не признает той, которая воет: такова грань между скотным двором и лесом. Настоятели и викарии пяти саутворкских приходов ссылались в своих жалобах на многочисленные королевские и парламентские статуты, объявлявшие волка вне закона. В заключение они требовали, чтобы Гуинплена заточили в тюрьму, а волка посадили в клетку или, на худой конец, изгнали обоих из прадедов Англии. По их словам, это вызывалось интересами общественного порядка, необходимостью оградить прохожих от опасности и т. п. Кроме того, они ссылались на авторитет науки. Они цитировали определение коллегии восьмидесяти лондонских медиков, ученого учреждения, существующего со времен Генриха VIII, имеющего, подобно государству, свою печать, возводящего больных в ранг подсудимых, пользующегося правом подвергать тюремному заключению всякого, кто преступит его постановления и нарушит его предписания; среди прочих направленных к охране здоровья граждан полезных открытий эта коллегия установила следующий чрезвычайно важный научный факт: «Если волк первым увидит человека, то человек охрипнет на всю жизнь. Кроме того, волк может укусить его».
Таким образом, Гомо оказался предлогом для преследования.
Благодаря хозяину гостиницы Урсус был осведомлен обо всех этих происках. Он встревожился, ибо боялся и когтей полиции и когтей правосудия. Чтобы бояться судейских чиновников, достаточно одного только страха: вовсе нет необходимости быть в чем-нибудь виновным. — Урсус совершенно не желал входить в соприкосновение с шерифами, прево, судьями или коронерами. Он отнюдь не стремился лицезреть их близко. Он так же жаждал познакомиться с представителями судебного ведомства, как заяц с борзыми.
Он уже начинал сожалеть, что приехал в Лондон.
— От добра добра не ищут, — бормотал он про себя. — Я считал эту пословицу не стоящей внимания, и ошибался. Дурацкие истины оказываются самой настоящей правдой.
Против стольких объединившихся сил, против скоморохов, вступившихся за религию, и против духовных пастырей, возмутившихся во имя медицины, бедный «Зеленый ящик», заподозренный в чародействе в лице Гуинплена и в водобоязни в лице Гомо, имел только один козырь — бездеятельность местных властей, являющуюся в Англии большой силой. Из этой-то бездеятельности и родилась английская свобода. В Англии свобода ведет себя так же, как ведет себя в Англии море. Она подобна морскому приливу. Обычай вздымается мало-помалу все выше и выше, поглощая в своей пучине страшное законодательство. Однако свирепый кодекс еще и поныне проступает сквозь прозрачную гладь свободы, — такова Англия.
«Человек, который смеется», «Побежденный хаос» и Гомо могли восстановить против себя фигляров, проповедников, епископов, палату общин, палату лордов, ее величество, Лондон, всю Англию — и оставаться тем не менее спокойными, пока за них стоял Саутворк. «Зеленый ящик» был излюбленным развлечением пригорода, а местные власти относились к нему, по-видимому, равнодушно. В Англии безразличие властей равносильно их покровительству. И пока шериф графства Серрей, в состав которого входит Саутворк, оставался в бездействии, Урсус мог дышать свободно, а Гомо — спать крепким сном.
Поскольку ненависть, внушаемая обитателями «Зеленого ящика», не достигала своей цели, она только способствовала их успеху. «Зеленому ящику» покуда жилось от этого ничуть не хуже. Даже напротив. В публику проникли слухи об интригах и подкопах, и «Человек, который смеется» стал еще популярнее. Толпа чутьем угадывает донос и принимает сторону жертвы. Быть предметом травли — значит вызывать сочувствие. Народ инстинктивно берет под защиту все, на что направлен угрожающий перст власти. Жертва доноса — запретный плод и от этого лишь кажется милее. Да и рукоплескания, неугодные высокому начальству, весьма приятны. Провести весело вечер, выражая в то же время сочувствие притесняемому и возмущение притеснителями, — кому же это не понравится? Ты покровительствуешь угнетаемому и вместе с тем развлекаешься. Прибавим, что владельцы балаганов продолжали, по взаимному уговору, свистать и шикать «Человеку, который смеется». Ничто не могло в большей мере содействовать его успеху. Когда враги поднимают шум, это только увеличивает и подчеркивает триумф. Друг скорее устанет хвалить, нежели враг поносить. Хула не причиняет вреда. Этого не понимают враги. Они не могут удержаться от оскорблений, и в этом их польза. Они неспособны молчать и тем самым постоянно подогревают интерес публики. Толпа валом валила посмотреть «Побежденный хаос».
Урсус хранил про себя все, что сообщал ему дядюшка Никлс об интригах и жалобах, поданных высокому начальству, и не затоваривал об этом с Гуинпленом, не желая лишать его спокойствия, необходимого актеру. Если нагрянет беда, об этом всегда успеешь узнать.
Глава 60
Жезлоносец
Впрочем, однажды Урсус счел необходимым отказаться от этой осторожности и во имя осторожности потревожить Гуинплена. Правда, он считал, что на этот раз речь идет о вопросе более важном, нежели происки ярмарочных фигляров и служителей церкви. Как-то раз, подобрав с полу фартинг, упавший при подсчете выручки, Гуинплен принялся внимательно рассматривать его; пораженный тем, что на этой монете, являвшейся как бы символом народной нищеты, изображена королева Анна, олицетворявшая паразитическое великолепие трона, он позволил себе в присутствии хозяина гостиницы весьма резкое суждение по этому поводу. Его слова, подхваченные Никлсом, передавались из уст в уста и в конце концов, через Фиби и Винос, дошли до Урсуса. Урсуса бросило в жар и в холод. Крамольные слова! Оскорбление ее величества! Он жестоко разбранил Гуинплена.
— Заткни ты свою омерзительную пасть. Закон сильных мира сего — бездельничать; закон маленьких людей — молчать. У бедняка только один друг — это молчание. Он должен произносить лишь односложное «да». Все принимать, со всем соглашаться — вот его единственное право. Отвечать «да» судье. Отвечать «да» королю. Знатные люди могут, если им вздумается, избивать нас — меня самого били не раз — такова уж их привилегия, и они ничуть не умаляют своего величия, ломая нам кости. Костолом — это разновидность орла. Преклонимся же перед скипетром: он — первый среди палок. Почтение не что иное, как осторожность, безропотное подчинение — самозащита. Тот, кто оскорбляет короля, подвергает себя той же опасности, что и девушка, отважившаяся отрезать гриву у льва. Мне передавали, будто ты болтал какие-то глупости насчет фартинга, который по существу совершенно то же, что и лиар, и что ты отозвался неуважительно об этой монете с изображением высочайшей особы — монете, за которую нам на рынке дают осьмушку соленой селедки. Берегись. Будь серьезнее. Вспомни, что на свете есть наказания. Проникнись уважением к закону. Ты находишься в стране, где человека, срубившего трехлетнее дерево, преспокойно ведут на виселицу, где охотникам божиться попусту надевают на ноги колодки. Пьяницу помещают в бочку с выбитым дном с отверстием для головы и с отверстиями по бокам для рук, так что ходить он может, но лечь не в состоянии. Ударивший кого-либо в зале Вестминстерского аббатства подлежит пожизненному заключению в тюрьме и конфискации имущества. У того же, кто сделает это в королевском дворце, отрубают правую руку. Щелкни кого-нибудь по носу так, чтобы у него пошла кровь, — и вот ты уже без руки. Уличенного в ереси сжигают на костре по приговору епископского суда. За пустячную провинность колесовали Кетберта Симпсона. Всего три года назад, в тысяча семьсот втором году, — как видишь, совсем недавно, — поставили к позорному столбу некоего злодея, Даниэля Дефо, за то, что он имел наглость напечатать имена членов палаты общин, которые накануне выступали с речами в парламенте. У человека, который предал ее величество, рассекают грудь, вырывают сердце и этим сердцем хлещут его по щекам. Вдолби себе в голову эти основные понятия права и справедливости. Никогда не позволять себе лишнего слова и при малейшей тревоге быть готовым к отлету — в этом вся моя отвага; советую и тебе поступать так же. Будь храбр, как птица, и болтлив, как рыба. Помни, Англия тем и хороша, что ее законодательство отличается поразительной мягкостью.
После этого внушения Урсус еще долго не мог успокоиться, Гуинплен же нисколько не встревожился: молодость неопытна, а потому бесстрашна. Однако, невидимому, Гуинплен имел все основания сохранять спокойствие, ибо несколько недель протекло без всяких волнений и его слова о королеве как будто не повлекли за собой никаких последствий. Урсус, как известно, не отличался беспечностью и, подобно косуле, все время был настороже.
Однажды, несколько дней спустя после заданной Гуинплену головомойки, Урсус выглянул в слуховое окно, выходившее на площадь, и побледнел.
— Гуинплен!
— Что?
— Погляди.
— Куда?
— На площадь.
— Ну, и что же?
— Видишь этого прохожего?
— Человека в черном?
— Да.
— С дубинкой в руке?
— Да.
— Ну так что же?
— Так вот, Гуинплен, этот человек — wapentake.
— Что это такое — wapentake?
— Это жезлоносец, окружной пристав.
— А что значит окружной пристав?
— Это значит praepositus hundredi.
— Кто он такой, этот praepositus hundredi?
— Очень страшное должностное лицо, начальник сотни.
— А что у него в руке?
— Это — iron-weapon.
— Что такое iron-weapon?
— Железный жезл.
— А что он с ним делает?
— Прежде всего приносит на нем присягу. Потому-то его и зовут жезлоносец.
— А затем?
— А затем прикасается им к кому-либо.
— Чем?
— Железным жезлом.
— Жезлоносец прикасается железным жезлом?
— Да.
— Что это означает?
— Это означает: следуйте за мной.
— И нужно за ним идти?
— Да.
— Куда?
— Почем я знаю?
— Но сам-то он говорит, куда?
— Нет.
— А спросить у него можно?
— Нет.
— Как это так?
— Он ничего не говорит, и ему ничего не говорят.
— Но…
— Он дотрагивается до тебя железным жезлом, и этим все сказано. Ты должен идти за ним.
— Но куда?
— Куда он поведет.
— Но куда же?
— Куда ему вздумается, Гуинплен.
— А если отказаться?
— Повесят.
Урсус снова высунул голову в окошко, вздохнул всей грудью и сказал:
— Слава богу, прошел мимо! Это не к нам.
Урсус, по-видимому больше, чем следовало, страшился сплетен и доносов, которые могли последовать за неосторожными словами Гуинплена.
Дядюшке Никлсу, в чьем присутствии они были сказаны, не было никакой выгоды навлечь подозрение властей на бедных обитателей «Зеленого ящика». «Человек, который смеется» приносил немалый доход ему самому. «Побежденный хаос» оказался залогом двойного преуспеяния: в то время как в «Зеленом ящике» торжествовало искусство, в кабачке процветало пьянство.
Глава 61
Мышь на допросе у котов
Урсусу пришлось пережить еще одну тревогу, и достаточно страшную. На этот раз дело касалось непосредственно его. Он получил предложение явиться в Бишопсгейт, в комиссию, состоящую из трех пренеприятных лиц. Это были доктора, официальные блюстители порядка: один был доктор богословия, представитель вестминстерского декана; другой — доктор медицины, представитель Коллегии восьмидесяти, третий — доктор истории и гражданского права, представитель Грешемской коллегии. На этих трех экспертов in omni re scibili[405] был возложен надзор за всеми речами, произносимыми публично на всей территории ста тридцати приходов Лондона, семидесяти трех приходов Миддлсекского графства, а заодно уж и пяти саутворкских. Эти богословские судилища существуют в Англии еще и поныне и беспощадно расправляются с провинившимися. 23 декабря 1868 года решением Арчского суда, получившим утверждение тайного совета лордов, преподобный Маконочи был приговорен к порицанию и возмещению судебных издержек за то, что зажег свечи на простом столе. Литургия шутить не любит.
Итак, в один прекрасный день Урсус получил от трех ученых докторов письменный вызов в суд, который, к счастью, был вручен ему лично, так что он мог сохранить дело в тайне. Не говоря никому ни слова, он отправился по этому вызову, трепеща при мысли, что в его поведении что-то могло подать повод заподозрить его, Урсуса, в какой-то дерзости. Для него, столько раз советовавшего другим помалкивать, это было жестоким уроком. Garrule, sana te ipsum[406].
Три доктора — три официальных блюстителя законов — заседали в Бишопсгейте, в глубине зала первого этажа, в трех черных кожаных креслах. Над их головами стояли бюсты Миноса, Эака и Радаманта, перед ними — стол, в ногах — скамейка.
Войдя в зал в сопровождении степенного и строгого пристава и увидав ученых мужей, Урсус сразу же мысленно окрестил каждого из них именем того страшного судьи подземного царства, чье изображение красовалось у него над головой.
Первый из трех, Минос, официальный представитель богословия, знаком велел ему сесть на скамейку.
Урсус поклонился учтиво, то есть до земли, и, зная, что медведя можно задобрить медом, а доктора — латынью, произнес, почти не разгибая спины — из уважения к присутствующим:
— Tres faciunt capitulum[407].
И с опущенной головой (смирение обезоруживает) сел на скамейку.
Перед каждым из трех докторов лежала на столе папка с бумагами, которые они перелистывали.
Допрос начал Минос:
— Вы выступаете публично?
— Да, — ответил Урсус.
— По какому праву?
— Я — философ.
— Это еще не дает вам права.
— Кроме того, я — скоморох, — сказал Урсус.
— Это другое дело.
Урсус вздохнул с облегчением, но еле слышно. Минос продолжал:
— Как скоморох вы можете говорить, но как философ вы должны молчать.
— Постараюсь, — сказал Урсус.
И подумал: «Я могу говорить, но должен молчать. Сложная задача».
Он был сильно напуган.
Представитель богословия продолжал:
— Вы высказываете неблагонамеренные суждения. Вы оскорбляете религию. Вы отрицаете самые очевидные истины. Вы распространяете возмутительные заблуждения. Например, вы говорили, что девственность исключает материнство.
Урсус кротко поднял глаза.
— Я не говорил этого. Я только сказал, что материнство исключает девственность.
Минос задумался и пробормотал:
— В самом деле, это нечто прямо противоположное.
Это было одно и то же. Но первый удар был отражен.
Размышляя над ответом Урсуса, Минос погрузился в бездну собственного тупоумия, вследствие чего наступило молчание.
Официальный представитель истории, тот, которого Урсус мысленно назвал Радамантом, постарался прикрыть поражение Миноса, обратившись к Урсусу со следующими словами:
— Обвиняемый, всех ваших дерзостей и заблуждений не перечислить. Вы отрицали тот факт, что Фарсальская битва была проиграна потому, что Брут и Кассий встретили по дороге негра.
— Я говорил, — пролепетал Урсус, — что это объясняется также тем, что Цезарь был более талантливым полководцем.
Представитель истории сразу перешел к мифологии:
— Вы оправдывали низости Актеона.
— Я полагаю, — осторожно возразил Урсус, — что увидеть обнаженную женщину не позор для мужчины.
— И вы заблуждаетесь, — строго заметил судья.
Радамант опять вернулся к истории:
— В связи с несчастьями, постигшими конницу Митридата, вы оспаривали всеми признанные свойства некоторых трав и растений. Вы утверждали, что от травы securiduca у лошадей не могут отвалиться подковы.
— Простите, — ответил Урсус, — я только говорил, что подобным свойством обладает лишь трава sferra-cavallo. Я не отрицаю достоинств ни в одном растении.
И вполголоса прибавил:
— И ни в одной женщине.
Последними словами Урсус хотел доказать самому себе, что, невзирая на свою тревогу, он не обезоружен. Несмотря на владевший им страх, Урсус не терял присутствия духа.
— Я настаиваю на этом, — продолжал Радамант. — Вы заявили, что Сципион поступил глупо, когда, желая отворить ворота Карфагена, он прибегнул к траве Aethlopis, ибо, по вашему мнению, трава Aethlopis не обладает способностью взламывать замки.
— Я просто сказал, что он поступил бы лучше, если бы воспользовался травой Lunaria.
— Ну, это еще вопрос, — пробормотал Радамант, задетый в свою очередь.
И представитель истории умолк.
Представитель богословия Минос, придя в себя, снова стал допрашивать Урсуса. За это время он успел просмотреть тетрадь с заметками.
— Вы отнесли аурипигмент к мышьяковым соединениям и говорили, что аурипигмент может служить отравой. Библия отрицает это.
— Библия отрицает, — со вздохом возразил Урсус, — зато мышьяк доказывает.
Особа, которую Урсус мысленно называл Эаком и которая в качестве официального представителя медицины не проронила до сих пор ни слова, теперь вмешалась в разговор и, надменно полузакрыв глаза, с высоты своего величия поддержала Урсуса. Она изрекла:
— Ответ не глуп.
Урсус поблагодарил Эака самой льстивой улыбкой, на какую только был способен.
Минос сделал страшную гримасу.
— Продолжаю, — сказал он. — Отвечайте. Вы говорили, что неправда, будто василиск царствует над змеями под именем Кокатрикса.
— Ваше высокопреподобие, — промолвил Урсус, — я нисколько не хотел умалить славы василиска и даже утверждал, как нечто, не подлежащее сомнению, что у него человеческая голова.
— Допустим, — сурово возразил Минос, — но вы прибавили, что Пэрий видел одного василиска с головою сокола. Можете вы доказать это?
— С трудом, — ответил Урсус.
Здесь он почувствовал, что теряет почву под ногами.
Минос, воспользовавшись его замешательством, продолжал:
— Вы говорили, что еврей, перешедший в христианство, дурно пахнет.
— Но я прибавил, что христианин, перешедший в иудейство, издает зловоние.
Минос бросил взгляд на тетрадь с обличительными записями.
— Вы распространяете самые вздорные бредни. Вы говорили, будто Элиан видел, как слон писал притчи.
— Нет, ваше высокопреподобие. Я просто сказал, что Оппиан слышал, как гиппопотам обсуждал философскую проблему.
— Вы заявили, что на блюде из букового дерева не могут сами собой появиться любые яства.
— Я сказал, что таким свойством может обладать лишь блюдо, подаренное вам дьяволом.
— Подаренное мне?!
— Нет, мне, ваше преподобие! Нет, никому! Я хотел сказать: всем!
И про себя Урсус подумал: «Я и сам уж не знаю, что говорю». Но, несмотря на то, что он сильно волновался, он почти ничем не выдавал своего волнения. Он продолжал бороться.
— Все это, — возразил Минос, — отчасти предполагает веру в дьявола.
Урсус не смутился.
— Ваше высокопреподобие, я верю в дьявола. Вера в дьявола — оборотная сторона веры в бога. Одна доказывает наличие другой. Кто хоть немного не верит в черта, не слишком верит и в бога. Кто верит в солнце, должен верить и в тень. Дьявол — это ночь господня. Что такое ночь? Доказательство существования дня.
Урсус импровизировал, преподнося своим судьям непостижимую смесь философии с религией. Минос снова задумался и еще раз погрузился в молчание.
Урсус опять вздохнул с облегчением.
И вдруг он подвергся неожиданной атаке. Эак, официальный представитель медицины, только что высокомерно защитивший его от богослова, внезапно из союзника превратился в нападающего. Положив кулак на внушительный ворох испещренных записями бумаг, он сразил Урсуса в упор:
— Доказано, что хрусталь — результат естественной возгонки льда, и алмаз — результат такой же возгонки хрусталя; установлено, что лед становится хрусталем через тысячу лет, а хрусталь становится алмазом через тысячу веков. Вы это отрицали.
— Нет, — меланхолически возразил Урсус. — Я только говорил, что за тысячу лет лед может растаять и что тысячу веков не так-то легко счесть.
Допрос продолжался; вопросы и ответы звучали как сабельные удары.
— Вы отрицали, что растения могут говорить.
— Ничуть. Но для этого нужно, чтобы они росли под виселицей.
— Признаете вы, что мандрагора кричит?
— Нет, но она поет.
— Вы отрицали, что безымянный палец левой руки обладает свойством исцелять сердечные болезни?
— Я только сказал, что чихнуть налево — дурная примета.
— Вы дерзко и оскорбительно отзывались о фениксе.
— Ученейший судья, я всего-навсего говорил, что, утверждая, будто мозг феникса — вкусное блюдо, вызывающее, однако, головную боль, Плутарх зашел слишком далеко, так как феникса никогда не существовало.
— Возмутительные речи. Каннамалка, который вьет себе гнездо из палочек корицы, дубоноса, из которого Паризатида изготовляла свои отравы, манукодиату, которая не что иное, как райская птица, и семенду с тройным клювом ошибочно принимали за феникса; но феникс существовал.
— Я не возражаю.
— Вы осел.
— Вполне этим удовлетворен.
— Вы признали, что бузина излечивает грудную жабу, но вы прибавили, что это происходит вовсе не потому, что у нее на корне есть волшебный нарост.
— Я объяснял целебные свойства бузины тем, что на ней повесился Иуда.
— Суждение, близкое к истине, — пробормотал Минос, довольный тем, что может в свою очередь подпустить шпильку медику Эаку.
Задетое высокомерие сразу переходит в гнев. Эак пришел в ярость:
— Бродяга, ваш ум блуждает так же, как и ваши ноги. У вас подозрительные и странные наклонности. Вы занимаетесь чем-то близким к чародейству. Вы состоите в сношениях с неведомыми зверями. Вы говорите простонародью о вещах, существующих лишь в вашем воображении и природа которых никому не известна, например, о гемороусе.
— Гемороус — гадюка, которую видел Тремеллий.
Этот ответ поверг свирепого доктора Эака в некоторое замешательство.
Урсус прибавил:
— В существовании гемороуса так же не может быть сомнений, как в существовании пахучей гиены или циветты, описанной Кастеллом.
Эак вышел из затруднения, выпустив решительный заряд:
— Вот ваши подлинные, поистине дьявольские слова. Слушайте.
Заглянув в свои записи, Эак прочел:
— «Два растения, фалагсигль и аглафотис, светятся с наступлением темноты. Днем они цветы, ночью — звезды».
Он пристально посмотрел на Урсуса.
— Что вы можете сказать в свое оправдание?
Урсус ответил:
— Каждое растение — лампада. Его благоухание — свет.
Эак перелистал несколько страниц.
— Вы отрицали, что железы выдры выделяют жидкость, тождественную бобровой струе.
— Я ограничился замечанием, что, быть может, в этом вопросе не следует доверять Аэцию.
Эак рассвирепел.
— Вы занимаетесь медицинской практикой?
— Я практикую в этой области, — робко вздохнул Урсус.
— На живых людях?
— Предпочитаю на живых, нежели на покойниках, — сказал Урсус.
Урсус отвечал серьезно и вместе с тем заискивающе; в этом удивительном сочетании двух интонаций преобладала вкрадчивость. Он говорил с такой кротостью, что Эак почувствовал потребность оскорбить его.
— Что вы там воркуете? — грубо сказал он.
Урсус растерялся и ограничился тем, что ответил:
— Воркуют молодые люди, старики же только кряхтят. Увы, я могу лишь кряхтеть.
Эак продолжал:
— Предупреждаю вас: если вы возьметесь лечить больного и он умрет, вы будете казнены.
Урсус отважился задать вопрос:
— А если он выздоровеет?
— В таком случае, — ответил доктор более мягким тоном, — вы также будете казнены.
— Невелика разница, — заметил Урсус.
Доктор продолжал:
— В случае смерти больного карается невежество, в случае выздоровления — дерзость. В обоих случаях вас ждет виселица.
— Я не знал этой подробности, — пролепетал Урсус. — Благодарю вас за разъяснение. Ведь не всякому известны все тонкости нашего замечательного законодательства.
— Берегитесь!
— Буду свято беречься, — промолвил Урсус.
— Мы знаем, чем вы занимаетесь.
«А я, — подумал Урсус, — знаю это не всегда».
— Мы могли бы отправить вас в тюрьму.
— Я вижу, милостивейшие государи.
— Вы не в состоянии отрицать ваши проступки и своевольные действия.
— Как философ, прошу прощения.
— Вам приписывают целый ряд дерзких суждений.
— Это страшная ошибка.
— Говорят, что вы излечиваете больных.
— Я — жертва клеветы.
Три пары бровей, устрашающе направленных на Урсуса, нахмурились; три ученые физиономии наклонились одна к другой; послышался шепот. Урсусу померещилось, будто над тремя головами трех официальных представителей науки высится один дурацкий колпак; многозначительно-таинственное бормотание этой троицы длилось несколько минут, в течение которых его от ужаса бросало то в жар, то в холод; наконец Минос, председатель, повернулся к нему и с бешенством прошипел:
— Убирайтесь вон!
Урсус почувствовал приблизительно то же, что чувствовал Иона, когда кит извергнул его из своего чрева.
Минос продолжал:
— На этот раз вас отпускают.
Урсус подумал:
«Уж больше я им не попадусь! Прощай, медицина!»
И прибавил в глубине души:
«Отныне я предоставлю больным полную свободу околевать».
Согнувшись в три погибели, он отвесил поклоны во все стороны: докторам, бюстам, столу, стенам, и, пятясь, отступил к дверям, чтобы исчезнуть, подобно рассеявшейся тени.
Он вышел из зала медленно, как человек с чистой совестью, но очутившись на улице, кинулся бежать опрометью, как преступник. При ближайшем знакомстве представители правосудия производят столь страшное и непонятное впечатление, что, даже будучи оправданным, человек норовит поскорее унести ноги.
Убегая, Урсус ворчал себе под нос:
— Я дешево отделался. Я — ученый дикий, они — ученые ручные. Доктора преследуют настоящих ученых. Ложная наука — отброс науки подлинной, и ею пользуются для того, чтобы губить философов. Философы, создавая софистов, сами роют себе яму. На помете певчего дрозда вырастает омела, выделяющая клей, при помощи которого ловят дроздов. Turdus sibi malum cacat[408].
Мы не хотим изобразить Урсуса чрезмерно щепетильным. Он имел дерзость употреблять выражения, вполне передававшие его мысль. В этом отношении он стеснялся не более, чем Вольтер.
Вернувшись в «Зеленый ящик», Урсус объяснил дядюшке Никлсу свое опоздание тем, что ему попалась на улице какая-то хорошенькая женщина; ни словом не обмолвился он о своем приключении.
Только вечером он шепнул на ухо Гомо:
— Знай: я одержал победу над трехголовым псом Цербером.
Глава 62
По каким причинам может затесаться золотой среди медяков?
Произошло неожиданное событие.
Тедкастерская гостиница все более и более становилась очагом веселья и смеха. Нигде нельзя было встретить более жизнерадостной суматохи. Владелец гостиницы и его слуга разрывались на части, без конца наливая посетителям эль, стаут и портер. По вечерам в низенькой зале светились все окна и не оставалось ни одного свободного столика. Пели, горланили; старинный камин с железной решеткой, доверху набитый углем, пылал ярким пламенем. Харчевня казалась вместилищем огня и шума.
Во дворе, то есть в театре, толпа была еще гуще.
Вся публика пригорода, все население Саутворка валом валило на «Побежденный хаос», так что к моменту поднятия занавеса, иными словами — когда опускалась подъемная стенка «Зеленого ящика», все места были заняты, окна битком набиты зрителями, галерея переполнена. Не видно было ни одной плиты на мощеном дворе: сплошная масса голов скрывала все.
Только ложа для знати по-прежнему оставалась пустой.
Вот почему в том месте, где находился как бы центр балкона, зияла черная дыра — на актерском языке это называется «провалом». Ни души. Всюду толпа, а здесь — никого.
И вот однажды вечером здесь кто-то появился.
Это было в субботу — в день, когда англичане спешат развлечься в предвидении воскресной скуки. В зале яблоку негде было упасть.
Мы говорим «в зале». Шекспир тоже долгое время давал представления во дворе гостиницы и называл его залом.
В ту минуту, когда раздвинулся занавес и начался пролог «Побежденного хаоса», Урсус, находившийся в это время на сцене вместе с Гомо и Гуинпленом, по обыкновению окинул взором публику и поразился.
Отделение «для знати» было занято.
Посреди ложи в кресле, обитом утрехтским бархатом, сидела женщина.
Рядом с ней не было никого, и казалось, она одна наполняет собой ложу.
Есть существа, которые излучают сияние. Так же как и Дея, эта женщина вся светилась, но совсем по-иному. Дея была бледна, эта женщина — румяна. Дея была занимающимся рассветом, эта женщина — багряной зарей. Дея была прекрасна, эта женщина — ослепительна. Дея была вся невинность, целомудрие, белизна, алебастр; эта женщина была пурпуром, и чувствовалось, что она не боится краснеть. Излучаемый ею свет как бы изливался за пределы ложи, а она неподвижно сидела в самом центре ее, торжественная, невозмутимая, словно идол.
В этой грязной толпе она сверкала точно драгоценный карбункул, она распространяла вокруг себя такой блеск, что все остальное тонуло во мраке: она затмевала собою тусклые лица окружающих. Перед ее великолепием меркло все.
Все глаза были устремлены на нее.
Среди зрителей находился и Том-Джим-Джек. Он, как и все другие, исчезал в сиянии ослепительной незнакомки.
Женщина, приковавшая к себе сначала внимание публики, отвлекла ее от спектакля и этим несколько помешала первому впечатлению от «Побежденного хаоса».
Хотя тем, кто сидел близко от нее, она и казалась видением, это была самая настоящая женщина. Быть может, даже слишком женщина. Она была высока, довольно полна; ее плечи и грудь были обнажены, насколько это позволяло приличие. В ушах сверкали крупные жемчужные серьги с теми странными подвесками, которые называются «ключами Англии». Платье на ней было из сиамской кисеи, затканной золотом, — чрезвычайная роскошь, ибо такое платье стоило тогда не менее шестисот экю. Большая алмазная застежка придерживала сорочку, по нескромной моде того времени еле прикрывавшую грудь; сорочка была из тончайшего фрисландского полотна, из которого Анне Австрийской шили простыни, свободно проходившие сквозь перстень. Незнакомка была как бы в панцире из рубинов, среди которых было несколько неграненых; юбка ее тоже сверкала множеством нашитых на ней драгоценных каменьев. Ее брови были подведены китайской тушью, а руки, локти, плечи, подбородок, ноздри, края век, мочки ушей, ладони, кончики пальцев нарумянены, и это обилие красноватых тонов придавало ей что-то чувственное и вызывающее. Во всей ее наружности проглядывало непреклонное желание быть прекрасной. И она в самом деле была прекрасна, прекрасна до ужаса. Это была пантера, способная притвориться ласковой кошечкой. Один глаз у нее был голубой, другой — черный.
Гуинплен, так же как и Урсус, не спускал глаз с этой женщины.
«Зеленый ящик» являл собой в известной мере зрелище фантастическое. «Побежденный хаос» воспринимался скорее как сновидение, чем как театральное представление.
Урсус и Гуинплен уже привыкли к тому, что для публики они — нечто вроде видения; теперь видение являлось им самим; призрак был в зрительном зале; настала их очередь испытать смятение. Они, которые завораживали других, теперь были заворожены сами.
Женщина смотрела на них, и они смотрели на нее.
Благодаря значительному расстоянию, отделявшему их от нее, и полумраку в «театральном зале», ее очертания терялись в световой дымке; казалось, это галлюцинация. Да, без сомнения, это была женщина, но не пригрезилась ли она им? Это вторжение света в их мрачное существование ошеломило их. Казалось, неведомая планета залетела к ним из неких блаженных миров. Она казалась очень большой, благодаря исходящему от нее сиянию. Женщина вся сверкала, как сверкает Млечный Путь на ночном небе. Драгоценные камни на ней казались звездами. Алмазная застежка была как будто одной из Плеяд. Великолепные очертания ее груди представлялись чем-то сверхъестественным. При одном только взгляде на это звездное существо мгновенно возникало леденящее ощущение близости к сферам вечного блаженства. Как будто с райских высот склонялось это непреклонное и спокойное лицо над убогим «Зеленым ящиком» и его жалкими зрителями. Острое любопытство к тому, что она видит, и снисхождение к любопытству черни отражались на этом лице небожительницы. Сойдя с горних высот, она позволяла земным тварям взирать на себя.
Урсус, Гуинплен, Винос, Фиби, толпа — все затрепетали, ослепленные этим блеском; только Дея, погруженная в вечную ночь, ни о чем не знала.
Эта женщина вызывала мысль о призраке, хотя в ее наружности не было ничего такого, что обычно связывают с этим словом: ничего призрачного, ничего таинственного, ничего воздушного, никакой дымки; это было розовое, свежее, цветущее здоровьем привидение, и, однако, свет падал на нее таким образом, что с того места, где находились Урсус и Гуинплен, она казалась им чем-то нереальным. Такие упитанные призраки действительно существуют: они именуются вампирами. Иная королева, которая тоже кажется толпе прелестным видением и пожирает по тридцати миллионов в год, высасывая их из народа, отличается таким же завидным здоровьем.
Позади этой женщины в полумраке стоял ее грум, el mozo[409], маленький человечек с детским личиком, бледный, хорошенький и серьезный. Очень юные и вместе с тем очень степенные слуги были в то время в моде. Грум был одет с головы до ног в бархат огненно-красного цвета; на его обшитой золотом шапочке красовался пучок вьюрковых перьев, что было отличительным признаком челяди знатных домов и свидетельствовало о высоком положении его госпожи.
Лакей — неотъемлемая часть господина, и потому в тени этой женщины нельзя было не заметить ее пажа-шлейфоносца. Наша память нередко удерживает многое без нашего ведома; Гуинплен и не подозревал, что пухлые щеки, важный вид и обшитая галуном, украшенная перьями шапочка маленького пажа запечатлелись в его памяти. Впрочем, грум вовсе не старался привлечь к себе чьи-либо взоры: обращать на себя внимание — значит быть непочтительным; он невозмутимо стоял в глубине ложи, около самой двери, держась как можно дальше от своей госпожи.
Хотя ее muchacho[410], ее паж, и находился при ней, казалось, что женщина в ложе совершенно одна: слуги в счет не идут.
Как ни велико было впечатление, произведенное незнакомкой, появление которой, казалось, входило в спектакль, развязка «Побежденного хаоса» потрясла зрителей еще сильнее. Эффект, как всегда, был неотразим. Быть может, благодаря присутствию в зале блистательной зрительницы (ведь зритель иногда является участником спектакля) публика была особенно наэлектризована. Смех Гуинплена в этот вечер казался заразительнее, чем когда бы то ни было. Все присутствующие покатывались от хохота в неописуемом припадке судорожного веселья, и среди всех голосов резко выделялся зычный смех Том-Джим-Джека.
И только незнакомка, просидевшая весь вечер неподвижно, как статуя, глядя на сцену пустыми глазами призрака, ни разу не улыбнулась. Да, это был призрак, но призрак яркий, будто солнечный спектр.
Когда представление окончилось и стенка фургона была поднята, обитатели «Зеленого ящика» собрались, по обыкновению, в своем тесном кругу, и Урсус высыпал из мешка на уже приготовленный для ужина стол всю выручку. И вдруг в куче медных монет засверкала испанская золотая унция.
— Она! — воскликнул Урсус.
Среди позеленевших медных грошей золотая унция действительно сияла, подобно той женщине среди серой толпы.
— Она заплатила за свое место квадрупль! — продолжал восхищенный Урсус.
В эту минуту в «Зеленый ящик» вошел хозяин гостиницы; просунув руку в заднее окошко фургона, он отворил в стене форточку, о которой мы упоминали и которая находилась на уровне окна, благодаря чему из нее видна была вся площадь. Он молча поманил к себе Урсуса и знаками показал ему, чтобы тот взглянул на площадь. От харчевни быстро отъезжала нарядная карета с роскошной упряжкой и лакеями в шляпах, разукрашенных перьями, и с факелами в руках.
Почтительно придерживая большим и указательным пальцами квадрупль, Урсус показал его дядюшке Никлсу и произнес:
— Это богиня.
Затем его взор упал на карету, заворачивавшую за угол, на крышке которой свет от факелов освещал восьмиконечную корону.
Тогда он воскликнул:
— Это больше, чем богиня! Это герцогиня!
Карета скрылась из виду. Стук колес замер вдали.
Несколько мгновений Урсус стоял неподвижно, восторженно воздевая кверху руку с квадруплем, словно дарохранительницу, — тем самым жестом, каким возносят святые дары.
Потом положил монету на стол и, не сводя с нее глаз, заговорил о «госпоже». Хозяин гостиницы отвечал на его вопросы. Да, это герцогиня. Ее титул известен. А имя? Имени никто не знает. Но Никлс рассмотрел вблизи карету с гербами и лакеев в шитых золотом ливреях. На кучере парик — точь-в-точь как у лорд-канцлера. Карета редко встречающегося образца, который в Испании называется «повозка-гробница», — великолепный экипаж с верхом, напоминающим по форме крышку гроба, увенчанную короной. Грум был такой крошечный, что вполне свободно помещался на подножке кареты с наружной стороны дверцы. Эти миловидные существа носят обычно шлейфы знатных дам; иногда же им поручают носить и любовные послания. Заметил ли кто пучок вьюрковых перьев на его шапочке? Вот бесспорный признак знатности его госпожи. Всякий, кто, не имея на то права, украсит головной убор своего слуги такими, перьями, платит штраф. Никлс видел вблизи и самое даму. Настоящая королева. Такое богатство не может не красить человека. И кожа становится белей, и взгляд более гордым, и поступь благороднее, и движения уверенней. Ничто не в состоянии сравниться с надменным изяществом вечно праздных рук. Никлс описывал великолепие этой белой с голубыми жилками кожи, шею, плечи незнакомки, ее румяна, жемчужные серьги, прическу, волосы, припудренные золотым порошком, несчетное множество драгоценных камней, рубинов, алмазов.
— Они блестят не так ярко, как ее глаза, — пробормотал Урсус.
Гуинплен молчал.
Дея слушала.
— И знаете, что удивительнее всего? — сказал трактирщик.
— Что? — спросил Урсус.
— Я видел, как она садилась в карету.
— Ну и что?
— Она села не одна.
— Вот как!
— С ней сел еще один человек.
— Кто?
— Угадайте.
— Король? — сказал Урсус.
— Прежде всего, — заметил дядюшка Никлс, — у нас теперь нет короля. Нами правит королева. Угадайте же, кто сел в карету этой герцогини.
— Юпитер, — сказал Урсус.
Трактирщик ответил:
— Том-Джим-Джек.
— Том-Джим-Джек? — вырвалось у Гуинплена, не проронившего до этой минуты ни слова.
Все были поражены. Наступило молчание. И в этой тишине вдруг раздался тихий голос Деи:
— Нельзя ли больше не пускать сюда эту женщину?
Глава 63
Признаки отравления
«Призрак» больше не возвращался.
Он не вернулся в ложу, но снова возник в душе Гуинплена.
Гуинплен был в некотором смятении.
Ему показалось, что он впервые в жизни увидал женщину.
И, сразу же отдавшись необычным грезам, он наполовину совершил грехопадение. Надо остерегаться, грез, овладевающих нами против нашей воли. Мечта обладает таинственностью и неуловимостью аромата. По отношению к мысли она — то же, что благоухание туберозы. Порою она одурманивает, словно ядовитый аромат, и проникает в мысли, словно угар. Грезами можно отравиться так же, как цветами. Упоительное самоубийство, восхитительное и ужасное!
Дурные мысли — самоубийство души. В них-то и заключается отрава. Мечта привлекает вас, обольщает, заманивает, затягивает в свои сети, затем превращает вас в своего сообщника: она делает вас соучастником в обмане совести. Она одурманивает, а потом развращает. О ней можно сказать то же, что об азартной игре. Сперва человек бывает жертвой мошенничества, затем начинает плутовать сам.
Гуинплен предался мечтам.
Он никогда не видел Женщины.
Он видел лишь тень ее в женщинах простонародья и видел душу ее в Дее.
Теперь он увидел настоящую женщину.
Он увидел теплую, нежную кожу, под которой чувствовалось биение пылкой крови; очертания тела, пленяющие четкостью мрамора и плавными изгибами волны; высокомерно-бесстрастное лицо, выражающее одновременно и призыв и отказ, лицо с ослепительно прекрасными чертами; волосы, точно озаренные отблеском пожара; изящество наряда, пробуждающего трепет сладострастия; обольстительную полунаготу; надменное желание воспламенять вожделения завороженной толпы, но только издали; неотразимое кокетство; влекущую неприступность; искушение, идущее рука об руку с предвидением гибели; обещание чувствам и угрозу рассудку; сложное чувство тревоги, порожденное страстным влечением и страхом. Он только что видел все это. Он только что видел женщину.
То, что он только что видел, было и больше и меньше, чем женщина. То была влекущая женская плоть — и в то же время богиня Олимпа. Олицетворенная чувственность и красота небожительницы.
Ему воочию предстала тайна пола.
И где? За пределами досягаемого.
В бесконечном отдалении от него.
Какая насмешка судьбы: душу, эту небесную сущность, он держал в руках, она принадлежала ему, — это была Дея; женскую плоть, эту сущность земную, он только видел издали, на недосягаемой высоте, — это была та женщина.
Герцогиня!
«Больше, чем богиня», — так сказал о ней Урсус.
Какая высота!
Даже в мечтах было бы страшно взобраться на такую крутизну.
Неужели он так безрассуден, что думает об этой незнакомке? Он старался побороть эти чары.
Он вспоминал все, что рассказывал ему Урсус о жизни этих высоких, почти царственных особ; разглагольствования философа, казавшиеся ему до сих пор не заслуживающими внимания, теперь становились вехами его размышлений, — наша память нередко бывает прикрыта лишь тончайшей пеленой забвения, сквозь которую в нужную минуту нам удается разглядеть то, что погребено под нею; Гуинплен старался представить себе высший свет, мир знати, к которому принадлежала эта женщина, этот мир, стоящий неизмеримо выше мира низшего, мира простого народа, к которому принадлежал он сам. Да и принадлежал ли он к народу? Не был ли он, скоморох, ниже даже тех, кто находится в самом низу? Впервые с тех пор, как он стал мыслить, у него сжалось сердце от сознания своего низкого положения, от того, что теперь мы назвали бы чувством унижения. Картины, набросанные Урсусом, его восторженные лирические описания замков, парков, фонтанов и колоннад, его подробные рассказы о богатстве и могуществе знати оживали в памяти Гуинплена, наполняясь образами, в которых действительность смешивалась с фантазией. Он был одержим видениями этих заоблачных высот. Ему казалось химерой, что человек может быть лордом. А между тем такие люди существуют. Невероятно, просто невероятно! На свете есть лорды! Созданы ли они из плоти и крови, как все люди? Вряд ли. Он чувствовал, что находится в глубоком мраке, что он окружен со всех сторон стеною; словно человек, брошенный на дно колодца, он видел там, в зените, над самой головой, ослепительное смешение лазури, света и видений — обиталище олимпийцев, и в самом центре этого лучезарного мира сияла она, герцогиня.
Он испытывал к этой женщине какое-то странное чувство, в котором непреодолимое влечение было неотделимо от сознания ее недоступности. И он без конца мысленно возвращался к этой вопиющей нелепости: ощущать душу близ себя, рядом с собой, тесно соприкасаясь с ней на каждом шагу, плоть же видеть только в идеальной сфере, в области недосягаемого.
Ни одна из этих мыслей не была совершенно четкой. Это был какой-то туман, где все было зыбко, где все ежеминутно меняло очертания. Это было глубокое смятение чувств.
Впрочем, ему ни разу не приходило в голову сделать попытку приблизиться к герцогине. Даже в мечтах не разрешил бы он себе подняться на такую высоту. И это было его счастьем.
Ведь стоит лишь раз поставить ногу на ступень этой лестницы, чтобы ее дрожание навсегда помутило ваш рассудок: думаешь, что восходишь на Олимп, а попадаешь в Бедлам. Явственное вожделение привело бы Гуинплена в ужас. Но ничего подобного он не испытывал.
Да и увидит ли он еще когда-нибудь эту женщину? По всей вероятности, никогда. Влюбиться в зарницу, вспыхнувшую на горизонте, — на такое безумие не способен никто. Плениться звездой — это все-таки еще понятно: ее увидишь снова, она опять появится в небе на том же месте. Но можно ли загореться страстью к промелькнувшей молнии?
В его душе одна мечта сменялась другою. В них то возникал, то вновь исчезал образ этого божества, этой величественной, лучезарной женщины, сияющей из глубины ложи. Он то думал о ней, то забывал, то отвлекался чем-нибудь другим, и снова возвращался все к тем же мыслям. Они будто баюкали его, но не могли усыпить.
Это не давало ему спать в течение нескольких ночей. Бессонница, как и сон, полна видений.
Нет почти никакой возможности выразить точными словами неясные процессы, протекающие в нашем мозгу. Слова неудобны именно тем, что очертания их резче, чем контуры мысли. Не имея четких контуров, мысли зачастую сливаются друг с другом; слова — иное дело. Поэтому какая-то смутная часть нашей души всегда ускользает от слов. Слово имеет границы, у мысли их нет.
Наш внутренний мир так смутен и необъятен, что происходившее в душе Гуинплена не имело почти никакого отношения к Дее. Дея оставалась средоточием его помыслов, она была священной; ничто не могло коснуться ее.
А между тем, — душа человека вся соткана из таких противоречий, — в нем происходила борьба. Сознавал ли он это? Вероятно, только смутно догадывался.
В самой глубине души, в наиболее уязвимом ее месте, там, где у каждого легко может возникнуть трещина, он чувствовал столкновение противоположных желаний. Для Урсуса все это было бы ясно. Гуинплену было трудно разобраться в этом.
Два инстинкта боролись в нем: влечение к идеалу и влечение к женщине. На мосту, перекинутом через бездну, подобные поединки между ангелом белым и ангелом черным происходят нередко.
Наконец черный ангел был низвергнут.
Однажды как-то сразу Гуинплен перестал думать о незнакомке.
Борьба двух начал, схватка между земной и небесной сущностью Гуинплена произошла в тайниках его души, на такой ее глубине, что почти не достигла его сознания.
Несомненным было лишь одно: ни на мгновение не переставал он обожать Дею.
Когда-то давно — чудилось ему — он пережил какое-то смятение, его кровь кипела, но теперь с этим было покончено. Осталась только Дея.
Гуинплен даже удивился бы, если б ему сказали, что Дея хотя одну минуту была в опасности.
Неделю или две спустя призрак, который, казалось, угрожал этим двум существам, исчез бесследно.
Сердце Гуинплена снова пламенело одной любовью к Дее.
К тому же, как мы уже говорили, герцогиня больше не возвращалась.
Урсус находил это в порядке вещей. «Дама с квадруплем» — явление необычное. Такое существо входит однажды, платит за место золотой, потом исчезает бесследна. Жизнь была бы слишком хороша, если б это повторялось.
Что касается Деи, она ни разу даже не упомянула больше о той женщине, отошедшей в прошлое. Она, вероятно, прислушивалась к разговорам; вздохи Урсуса и время от времени вырывавшиеся у него многозначительные восклицания: «Не каждый же день получать золотые унции!» пробудили в ней смутный страх. Она теперь больше никогда не заговаривала о незнакомке. В этом сказывался глубокий инстинкт. Порою душа безотчетно принимает меры предосторожности, тайна которых ей не всегда бывает ясна. Когда молчишь о ком-нибудь, кажется, что этим отстраняешь его от себя. Расспрашивая о нем, боишься привлечь его. Можно оградить себя молчанием, как ограждаешь себя, запирая дверь.
Происшествие было забыто.
Следовало ли придавать ему какое-либо значение? Произошло ли это на самом деле? Можно ли было сказать, что между Гуинпленом и Деей промелькнула какая-то тень? Дея не знала об этом, а Гуинплен уже забыл. Нет. Ничего и не было. Образ герцогини растаял в отдалении, словно только померещился им. Просто Гуинплен замечтался на минуту, а теперь очнулся от грез. Рассеявшиеся мечты, как и рассеявшийся туман, не оставляют следов, и после того, как туча пронеслась мимо, любовь в душе испытывает не больше ущерба, чем солнце в небе.
Глава 64
Abyssus abyssum vocat — бездна призывает бездну
Исчезло и другое лицо — Том-Джим-Джек. Он вдруг перестал появляться в Тедкастерской гостинице.
Люди, которым их общественное положение позволяло видеть обе стороны великосветской жизни лондонской знати, вероятно заметили, что в то же самое время в «Еженедельной газете», между двумя выписками из приходских метрических книг, появилось известие об «отъезде лорда Дэвида Дерри-Мойр, коему, согласно повелению ее величества», предстояло снова принять командование фрегатом, крейсирующим в составе «белой эскадры» у берегов Голландии.
Урсус заметил, что Том-Джим-Джек больше не посещает «Зеленый ящик»; это очень занимало его. Том-Джим-Джек не показывался с того дня, как уехал в одной карете с дамой, заплатившей квадрупль. Конечно, этот Том-Джим-Джек, похищавший герцогинь, был загадкой. Как было бы интересно углубиться в исследование такого происшествия! Сколько тут возникало вопросов! Сколько можно было бы высказать по этому поводу замечаний! Именно потому Урсус и не обмолвился ни словом.
Немало повидав на своем веку, он знал, как жестоко можно обжечься на дерзком любопытстве. Любопытство всегда должно соразмеряться с положением любопытствующего. Подслушивая — рискуешь ухом, подсматривая — рискуешь глазом. Ничего не видеть и ничего не слышать — самое благоразумное. Том-Джим-Джек сел в княжескую карету, хозяин гостиницы видел, как он садился. Матрос, занявший место рядом с леди, казался каким-то чудом, и это заставило Урсуса насторожиться. Прихоти знатных людей должны быть священны для лиц низкого звания. Всем этим существам, пресмыкающимся во прахе, всем, кого высокородные люди называют чернью, не остается ничего лучшего, как забиться в свою нору, когда они замечают что-нибудь необычайное. Лишь тот в безопасности, кто сидит смирно. Закройте глаза, если вам не посчастливилось родиться слепым; заткните уши, если, на свою беду, вы не глухи; крепко держите язык за зубами, если вы не настолько совершенны, чтобы быть немым. Великие мира сего становятся тем, чем им хочется быть, малые — чем могут; посторонимся же перед неведомым. Не будем тревожить мифологию, не будем доискиваться смысла видимых явлений; почтительно преклонимся перед их показной стороной. Оставим досужие толки об угасании или рождении светил, происходящем в высоких сферах по причинам, нам неизвестным. Для нас, ничтожных людишек, это по большей части оптический обман. Метаморфозы — дело богов; внезапные превращения и исчезновения случайно встреченных знатных особ, парящих где-то в высоте над нами, — туманные события, понять которые невозможно, а изучать опасно. Излишнее внимание раздражает олимпийцев, занятых своими развлечениями и причудами; берегитесь, удар грома может разъяснить вам лучше слов, что бык, к которому вы слишком пристально присматриваетесь, не кто иной, как Юпитер. Не будем же распахивать складки серой мантии, облекающей страшных властителей наших судеб. Равнодушие — это благоразумие. Не шевелитесь — в этом ваше спасение. Притворитесь мертвым, и вас не убьют. К этому сводится мудрость насекомого. Урсус следовал ей.
Хозяин гостиницы, чрезвычайно заинтригованный, однажды обратился к Урсусу:
— А знаете, Том-Джим-Джек что-то больше не показывается.
— Вот как? — ответил Урсус. — А я и не заметил.
Никлс пробормотал что-то, должно быть не слишком почтительное, насчет близости Том-Джим-Джека к герцогской карете, но так как его слова показались Урсусу слишком неосторожными, старик притворился, будто не расслышал их.
Однако Урсус был слишком артистической натурой, чтобы не-сожалеть о Том-Джим-Джеке. Он был до известной степени разочарован. Своими впечатлениями он поделился только с Гомо, единственным наперсником, в чьей скромности он был уверен. Он шепнул на ухо волку:
— С тех пор, как Том-Джим-Джек больше не приходит, я ощущаю пустоту как человек и холод как поэт.
Излив свою печаль дружескому сердцу, Урсус почувствовал некоторое облегчение.
Он ни звуком не обмолвился об этом в разговоре с Гуинпленом, а тот в свою очередь ни разу не упомянул о Том-Джим-Джеке.
В самом деле, Гуинплен был всецело поглощен Деей, и его мало интересовал Том-Джим-Джек.
С каждым днем Гуинплен все больше забывал о незнакомке. Что касается Деи, она и не подозревала о смятении, овладевшем на короткий срок душою ее возлюбленного. К этому же времени прекратились и всякие слухи о заговоре против «Человека, который смеется», о каких бы то ни было жалобах на него. Ненавистники, по-видимому, успокоились. Все волнения улеглись и в «Зеленом ящике» и вокруг него. Комедианты и священники точно сквозь землю провалились. Замерли последние раскаты грома. Успеху бродячей труппы уже не грозило ничто. Иногда в человеческой судьбе внезапно наступает такая полоса безмятежной тишины. Ни малейшая тень не омрачала в это время безоблачного счастья Гуинплена и Деи. Мало-помалу оно дошло до той точки, где останавливается всякий рост. Есть слово, обозначающее такое состояние, — апогей. Подобно морскому приливу, счастье порою достигает своего высшего уровня. Единственное, что еще тревожит вполне счастливых людей, — это мысль о том, что за приливом неизбежно следует отлив.
Опасности можно избежать двумя способами: либо стоять очень высоко, либо очень низко. Второй способ едва ли не лучше первого. Инфузорию раздавить труднее, чем настигнуть стрелою орла. Если кто-нибудь на земле мог благодаря своему скромному положению чувствовать себя в безопасности, — это были, как мы уже сказали, Гуинплен и Дея: никогда это чувство безопасности не было полнее, чем в ту пору. Они все больше и больше жили друг другом, отражаясь — он в ней, она в нем. Сердце впитывает в себя любовь, словно некую божественную соль, сохраняющую его; этим объясняется нерасторжимая связь двух существ, полюбивших друг друга на заре жизни, и свежесть любви, продолжающейся и в старости. Любовь как бы бальзамируется. Дафнис и Хлоя превращаются в Филемона и Бавкиду. Такая старость, когда вечерняя заря походит на утреннюю, невидимому ждала Гуинплена и Дею. А пока они были молоды.
Урсус наблюдал эту любовь, как медик, производящий наблюдения в клинике. У него был, как выражались в то время, «гиппократовский взгляд». Он останавливал на хрупкой и бледной Дее свой проницательный взор и бормотал себе под нос:
— Какое счастье, что она счастлива!
Другой раз он говорил:
— Она счастлива, это необходимо для ее здоровья!
Он покачивал головой и иногда принимался читать Авиценну в переводе Вописка Фортуната, изданном в Лувене в 1650 году, — старинный фолиант, в котором его интересовал раздел, трактующий о «сердечных недугах».
Дея быстро уставала, часто у нее выступала испарина, она легко впадала в дремоту и, как помнит читатель, всегда отдыхала днем. Однажды, когда она опала на медвежьей шкуре, а Гуинплена не было в «Зеленом ящике», Урсус осторожно наклонился над ней и приложил ухо к ее груди в том месте, где находится сердце. Он послушал несколько мгновений, потом, выпрямившись, прошептал:
— Малейшее потрясение для нее опасно. Болезнь быстрыми шагами пошла бы вперед.
Толпа продолжала стекаться на представления «Побежденного хаоса». Успех «Человека, который смеется» казался нескончаемым. Все опешили посмотреть Гуинплена, и теперь это были уже не только жители Саутворка, но в какой-то мере и Лондона. Публика теперь собиралась смешанная: она не состояла уже из одних только матросов и возчиков; по мнению дядюшки Никлса, бывшего знатоком всякого сброда, в толпе зрителей бывали теперь и дворяне и даже баронеты, переодетые простолюдинами. Переодевание — одно из излюбленных развлечений знати; в то время оно было в большой моде. Появление аристократии среди черни было хорошим признаком и свидетельствовало о том, что «Человек, который смеется» завоевывает и Лондон. Положительно, слава Гуинплена уже проникала в круги высокородной публики. В этом не было никаких сомнений. В Лондоне только и говорили, что о «Человеке, который смеется». О нем говорили даже в «Могок-клубе», где бывали только лорды.
В «Зеленом ящике» об этом не подозревали; его обитатели довольствовались собственным счастьем. Для Деи было высшим блаженством каждый вечер прикасаться к курчавым, непокорным волосам Гуинплена. В любви главное — привычка. В ней сосредоточивается вся жизнь. Ежедневное появление солнца — привычка вселенной. Вселенная — влюбленная женщина, и солнце — ее возлюбленный.
Свет — ослепительная кариатида, поддерживающая весь мир. Каждый день — это длится только одно божественное мгновение — земля, еще в покрове ночи, опирается на восходящее солнце. Слепая Дея испытывала такое же чувство возврата тепла и возрождения надежды в ту минуту, когда прикасалась рукой к голове Гуинплена.
Быть двумя безвестными, боготворящими друг друга; любить в совершенном безмолвии — да так и целая вечность прошла бы незаметно!
Однажды вечером, по окончании спектакля, Гуинплен, изнемогая от избытка блаженства, от которого, как от опьяняющего аромата цветов, сладостно кружится голова, бродил, как обычно, по лугу, неподалеку от «Зеленого ящика». Бывают часы, когда сердце до того переполнено чувствами, что уже не в силах вместить их. Ночь была темна и безоблачна; в небе ярко сияли звезды. Площадь была безлюдна; сон и забвение безраздельно царили в деревянных бараках, разбросанных по всему пространству Таринзофилда.
В одном лишь месте горел огонь: это был фонарь Тедкастерской гостиницы, полуоткрытая дверь которой поджидала возвращения Гуинплена.
На колокольнях пяти саутворкских приходских церквей только что пробило полночь; на каждой колокольне бой часов не совпадал по времени с остальными и отличался от них по звуку.
Гуинплен думал о Дее. Да и о чем другом мог он еще думать? Но в этот вечер он чувствовал какое-то странное смятение; весь во власти очарования, к которому примешивалась и тревога, он думал о Дее иначе, чем всегда, он думал о ней, как думает мужчина о женщине. Он упрекал себя за это. Ему казалось, что это принижает его любовь. В нем глухо начинало бродить желание. Сладостное и повелительное нетерпение. Он переходил незримую границу, по одну сторону которой — девственница, а по другую — женщина. Он тревожно вопрошал себя, он как бы внутренне краснел. Прежний Гуинплен мало-помалу изменился; сам того не сознавая, он возмужал. Прежде стыдливый юноша, он испытывал теперь смутное, волнующее влечение. У нас есть ухо, обращенное к свету, — им мы внемлем голосу разума, — и другое, обращенное в сторону тьмы, которым мы прислушиваемся к тому, что говорит инстинкт; именно в это ухо, служившее рупором мрака, неведомые голоса настойчиво шептали что-то Гуинплену. Как бы ни был чист душою юноша, мечтающий о любви, между ним и его мечтою встанет в конце концов некий телесный образ женщины. Грезы его теряют свою безгрешность. Им овладевают стремления, внушаемые самой природой, в которых он сам боится себе признаться. Гуинплена страстно влекло к живой, телесной прелести женщины, которая является источником всех наших искушений и которой недоставало бесплотному образу Деи. В горячке, казавшейся ему чем-то опасным, он преображал, быть может не без некоторого страха, ангельский облик Деи, придавая ему черты земной женщины. Ты нужна нам, женщина!
Излишек райской невинности в конце концов перестает удовлетворять любовь. Она жаждет лихорадочно горячей руки, трепета жизни, испепеляющего поцелуя, после которого уже нет возврата, беспорядочно разметавшихся волос, страстных объятий. Звездная высота мешает. Эфир слишком тягостен для нас. В любви избыток небесного — то же, что избыток топлива в очаге: пламя не может разгореться. Теряя рассудок, Гуинплен отдавался во власть упоительно-страшного видения: перед ним возникал образ Деи, доступной обладанию, Деи покорной, отдающейся в минуту головокружительной близости, связующей два существа тайной зарождения новой жизни. «Женщина!» Он слышал в себе этот зов, идущий из самых недр природы. Словно новый Пигмалион, создающий Галатею из лазури, он в глубине души дерзновенно изменял очертания целомудренного облика Деи — облика, слишком небесного и недостаточно райского; ибо рай — это Ева, а Ева была женщиной, рождающей желание, матерью, кормилицей земного, в чьем священном чреве таились все грядущие поколения, в чьих сосцах не иссякало молоко, чья рука качала колыбель новорожденного мира. Женская грудь и ангельские крылья несовместимы. Девственность — лишь обетование материнства. Однако до сих пор в мечтах Гуинплена Дея стояла выше всего плотского. Теперь же, в смятении, он мысленно пытался низвести ее, ухватившись за ту нить, которая всякую девушку связывает с землею. Эта нить — пол. Ни одной из этих легкокрылых птиц не дано реять на свободе. Дея, подобно всем остальным, была подвластна законам природы, и Гуинплен, лишь наполовину сознаваясь себе в этом, жаждал, чтоб она им подчинилась. Это желание возникало в нем помимо его воли, и он все время боролся с ним. В воображении он наделял Дею чертами земной женщины. Он дошел до того, что представлял себе нечто невозможное: Дею — существом, вызывающим не только экстаз, но и страсть, Дею, склоняющую голову к нему на подушку. Он стыдился этих кощунственных видений; какая-то сила внутри его пыталась унизить образ Деи; он сопротивлялся наваждению, отворачивался от этих картин, потом снова к ним возвращался; ему казалось, что он покушается на целомудрие девушки. Дея была для него как бы в облаке. Весь трепеща, он раздвигал это облако, точно приподымал покровы. Стоял апрель.
Спинной мозг тоже грезит на свой лад.
Гуинплен шагал наудачу, рассеянно, слегка раскачиваясь, как это иногда делают люди, неторопливо прогуливаясь в одиночестве. Когда рядом нет никого, это предрасполагает к безрассудным мечтаниям. Куда устремлялась его мысль? Он сам не решился бы признаться себе. К небу? Нет. К брачному ложу. И вы еще глядели на него, звезды!
Почему говорят: «влюбленный»? Надо было бы говорить: «одержимый». Быть одержимым дьяволом — исключение; быть одержимым женщиной — общее правило. Всякий мужчина подвержен этой потере собственной личности. Какая волшебница — красивая женщина! Настоящее имя любви — плен!
Женщина пленяет нас душой. Но и плотью. И порой плотью больше, чем душой. Душа — возлюбленная, плоть — любовница!
На дьявола клевещут. Не он искушал Еву. Это Ева ввела его в искушение. Почин принадлежал женщине.
Люцифер преспокойно шел мимо. Он увидел женщину и превратился в Сатану.
Тело — внешняя оболочка неведомого. И — странное дело — оно пленяет своей стыдливостью. Нет ничего более волнующего. Подумать только: оно, бесстыдное, стыдится!
В ту минуту именно такое неодолимое влечение к телесной красоте волновало и подчиняло Гуинплена. Страшное мгновение, когда мы вожделеем к наготе. Ничего не стоит поскользнуться и нравственно пасть. Сколько мрака кроется в белизне Венеры!
Что-то внутри Гуинплена громко призывало Дею, Дею — девушку, Дею — подругу, Дею — плоть и пламя, Дею — с обнаженной грудью. Он был готов прогнать ангела. Таинственный кризис, переживаемый всяким влюбленным и грозящий опасностью идеалу. Извечный закон мироздания.
Миг помрачения небесного света в душе.
Любовь Гуинплена к Дее обращалась в любовь супружескую. Целомудренная любовь — только переходная ступень. Настала неизбежная минута. Гуинплен страстно желал эту женщину.
Он страстно желал женщину.
Он скользил по этой наклонной плоскости, обрывавшейся на первом же шагу.
Невнятный зов природы необорим.
Какая бездна — женщина!
К счастью для Гуинплена, близ него не было женщины, кроме Деи. Единственной женщины, которую он желал. Единственной, которая могла желать его.
Гуинплен весь был охвачен неясным трепетом: сама жизнь властно взывала в нем о своих правах.
Прибавьте к этому еще и влияние весны. Он вбирал в себя неизъяснимые токи звездной ночи. Он шел без цели, в каком-то упоительном забытьи.
Рассеянный в воздухе аромат весенних соков, хмельные запахи, которыми пропитан сумрак ночи, благоухание распускавшихся вдали ночных цветов, согласный щебет, доносящийся из укрытых где-то маленьких гнезд, журчанье вод и шелест листьев, вздохи со всех сторон, свежесть, теплота — все это таинственное пробуждение природы не что иное, как властный голос весны, нашептывающий о страсти, дурманящий призыв, и душа отвечает ему лишь бессвязным лепетом, сама уже не понимая собственных слов.
Всякий, кто увидел бы в эту минуту Гуинплена, подумал бы: «Смотри-ка! Пьяный!»
Действительно, он еле держался на ногах под бременем своего отягощенного сердца, под бременем весны и ночи. Кругом было безлюдно и тихо, и Гуинплен порою громко разговаривал сам с собой.
Когда знаешь, что тебя никто не слышит, охотно говоришь вслух.
Он медленно шел, опустив голову, заложив руки за спину, держа левую в правой и не сжимая ладони.
Вдруг он почувствовал, как будто что-то скользнуло ему в руку.
Он быстро обернулся.
В руке у него была бумага, а перед ним стоял какой-то человек.
Очевидно, этот человек, неслышно, как кошка, подкравшись к нему сзади, сунул ему в руку бумагу.
Бумага оказалась письмом.
Человек, насколько его можно было рассмотреть при свете звезд, был маленького роста, круглолиц, совсем юн, но очень важен и одет в огненного цвета ливрею, видневшуюся между длинными полами серого плаща, называемого в то время capenoche — испанское сокращенное слово, означающее «ночной плащ». На голове у него была ярко-малиновая шапочка, похожая на кардинальскую шапочку, но с галуном, указывавшим на то, что ее носитель — слуга. К шапочке был прикреплен пучок вьюрковых перьев.
Мальчик неподвижно стоял перед Гуинпленом. Он походил на фигуру, привидевшуюся во сне.
Гуинплен узнал в нем слугу герцогини.
И, прежде чем Гуинплен успел вскрикнуть от удивления, он услыхал тоненький, не то детский, не то женский, голосок пажа, который говорил ему:
— Будьте завтра в этот же час у Лондонского моста. Я буду там и провожу вас.
— Куда? — спросил Гуинплен.
— Туда, где вас ждут.
Гуинплен перевел глаза на письмо, которое продолжал машинально держать в руке.
Когда он снова поднял их, грума уже не было. Вдали, на ярмарочной площади, двигался темный силуэт, быстро уменьшавшийся в размерах. Это уходил маленький слуга. Он завернул за угол и исчез из виду.
Гуинплен посмотрел на удалявшегося грума, потом на письмо. В жизни человека бывают мгновения, когда случившееся с ним как будто не случилось; оцепенение некоторое время не дает ему осознать происшедшее. Гуинплен поднес письмо к глазам, как будто хотел прочесть его, но только тут заметил, что не может сделать это по двум причинам: во-первых, конверт еще не был распечатан, во-вторых, было темно. Прошло несколько минут, прежде чем он сообразил, что в гостинице горит фонарь. Он ступил два-три шага, но в сторону, как бы не зная, куда идти. Так двигался бы лунатик, получив письмо из рук призрака.
Наконец он очнулся от изумления и почти бегом направился к гостинице, остановился против приоткрытой двери и еще раз посмотрел при свете на запечатанное письмо. На печати не было никакого оттиска, а на конверте стояло только одно слово: «Гуинплену». Он сломал печать, разорвал конверт, развернул письмо, поднес его ближе к свету и прочел:
«Ты безобразен, а я красавица. Ты скоморох, а я герцогиня. Я — первая, ты — последний. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Приди».
Часть VII. Подземный застенок
Глава 65
Искушение святого Гуинплена
Иной огонь едва прорезывает окружающую темноту, иной же может воспламенить вулкан.
Бывают искры, которые могут вызвать пожар.
Гуинплен прочел письмо, затем перечитал его. Он ясно видел эти слова: «Я люблю тебя».
Страшные мысли одна за другой проносились в его мозгу.
Первой была мысль о том, что он сошел с ума. Он помешался. В этом нет сомнения. Он видит то, чего на самом деле не существует. Призраки ночи сделали его, несчастного, своей игрушкой. Красный человечек только померещился ему. Иногда ночью болотный пар, уплотнившись, становится блуждающим огоньком и дразнит вас. Так и теперь: поиздевавшись, обманчивое видение исчезло, оставив позади себя обезумевшего Гуинплена. Чего только не померещится в темноте!
Вторая мысль была еще страшней: он понял, что находится в полном рассудке.
Привидение? Какой вздор! А это письмо? Оно у него в руках. Вот и конверт, печать, бумага, исписанная чьим-то почерком. Он знает, от кого это письмо. Ничего загадочного в этом приключении нет. Взяли перо, чернила, написали письмо. Зажгли свечу, запечатали конверт сургучом. Разве на конверте не стоит его имя: «Гуинплену»? Бумага надушена, Все ясно. И человечка он знает. Этот карлик — ее грум. Блуждающий огонек — ливрея. Грум назначил Гуинплену свидание на завтра, в этот же час, у въезда на Лондонский мост. Разве и Лондонский мост обман чувств? Нет, нет, все это вполне вяжется одно с другим. Это ничуть не похоже на бред. Это — действительность. Гуинплен находится в здравом уме. Это не мираж, постепенно рассеивающийся в воздухе и исчезающий бесследно, это нечто вполне реальное. Гуинплен не сумасшедший; ему это вовсе не снится. И он снова и снова перечитывал письмо.
Ну да, конечно. Но что же это? Ведь тогда… Но ведь это непостижимо.
Женщина желает его! Если так, пускай отныне никто не произносит слова: «невероятно». Женщина желает его! Женщина, которая видела его лицо! А между тем она не слепая. Кто же она, эта женщина? Урод? Нет, красавица. Цыганка? Нет, герцогиня.
Что же под этим кроется и что же это значит? Как опасно такое торжество! И все же — как не устремиться очертя голову ему навстречу?
Как? Это та женщина, сирена, видение, леди, сияющий мрачным блеском призрак, зрительница в ложе! Да, это она, конечно она.
В груди Гуинплена запылал пожар. Это она — та странная незнакомка! Та самая, что смутила его покой! Волнующие мысли, словно распаленные этим темным огнем, снова овладели Гуинпленом, мысли, впервые возникшие в нем при виде этой женщины. Забвение не что иное, как палимпсест. Случайность — и все, казалось уже стертое навеки, вдруг снова оживает между строками в изумленной памяти. Гуинплену казалось, что он изгнал этот образ из сердца, и вот он опять перед ним: он в нем запечатлелся, оставил, вопреки его воле, неизгладимый след в мозгу Гуинплена, обуреваемого мечтами. Без его ведома эти черты глубоко врезались ему в душу. Теперь зло было уже непоправимо, и он с увлечением снова отдался во власть неодолимым грезам.
Как! Он — предмет вожделения? Как! Принцесса сходит со ступенек трона, кумир спускается с алтаря, изваяние — со своего пьедестала, призрак — с облаков? Как! Из недр невозможного возникла химера? Как! Эта нимфа с плафона, это воплощение лучезарности, эта нереида, вся переливающаяся блеском драгоценных камней, эта недосягаемо-величественная красавица со своей ослепительной высоты склоняется к Гуинплену? Как! Остановив над его головой свою, запряженную горлицами и драконами, колесницу Авроры, она говорит ему: «Приди!» Как! Ему, Гуинплену, выпал ужасный и славный жребий — унизить, низведя на землю, эмпирей? Эта женщина, если можно назвать женщиной обитательницу иной, более совершенной планеты, эта женщина предлагает себя Гуинплену, отдается ему! Непостижимо! Богиня Олимпа — гетера, призывающая на ложе любви! И кого? Его, Гуинплена! Окруженные ореолом, ему раскрывались объятия блудницы, чтобы прижать его к груди богини. И это ничуть не позорит ее. К этим высшим существам не пристает никакая грязь. Свет омывает богов. И богиня, спускающаяся к нему, знает, что она делает. Ей известно чудовищное уродство Гуинплена. Она видела маску, заменявшую ему лицо! И эта маска не отталкивает ее! Гуинплен любим, несмотря на свое безобразие!
Это превосходило самые дерзкие мечты: он любим за свое безобразие! Маска не отвращает богиню — напротив, привлекает ее. Гуинплен не только любим — он вызывает страсть. Она не только снизошла к нему — она его избрала. Он — ее избранник!
Как! В царственной среде, окружавшей эту женщину, в среде блестящих, беспечных и могущественные людей, были принцы — она могла избрать принца; там были лорды — она могла выбрать лорда; были красивые, обворожительные, великолепные мужчины — она могла выбрать Адониса. И кем она соблазнилась? Гнафроном! Там, где одни метеоры и молнии, она могла выбрать себе шестикрылого серафима, а остановила свой выбор на жалкой личинке, пресмыкающейся в тине. С одной стороны — сплошь высочества и сиятельства, величие, роскошь, слава, с другой — скоморох. И скоморох одержал верх над всеми! Какие же весы были в сердце этой женщины? Чем взвешивала она свою любовь? Эта женщина сняла с себя диадему герцогини и швырнула ее на подмостки клоуна. Эта женщина сняла со своего чела ореол богини Олимпа и увенчала им щетинистую голову гнома. Этот вверх дном перевернувшийся мир, где насекомые оказались в заоблачных сферах, а созвездия — внизу, засасывал Гуинплена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окруженного сиянием среди клоаки. Всемогущая, возмутившись против красоты и роскоши, отдавала себя осужденному на вечный мрак, предпочитала Гуинплена Антиною: охваченная любопытством при виде тьмы, она спускалась в нее, и это отречение богини возводило ничтожное существо в царское достоинство, чудесным образом венчало его на царство. «Ты безобразен. Я люблю тебя». Эти слова льстили гордости Гуинплена с худшей ее стороны. Гордость — ахиллесова пята всех героев. Гуинплен познал тщеславие урода. Его полюбили именно за его безобразие. Он в такой же мере, как Юпитер и Аполлон, а быть может и больше, чем они, был исключением. Он сознавал себя существом сверхчеловеческим и благодаря еще невиданному уродству — равным божеству. Ужасное ослепление.
Но что же это за женщина? Что он знал о ней? Все и ничего. Она — герцогиня, он это знал. Он знал, что она красива, богата, что у нее есть ливрейные лакеи, пажи, скороходы с факелами, сопровождающие украшенную короной карету. Он знал, что она влюблена в него, по крайней мере она ему об этом писала. Остального он не знал. Он знал ее титул, но не знал ее имени. Он знал ее мысли, но не знал ее жизни. Кто она: замужняя женщина, вдова или девушка? Свободна ли она или связана какими-нибудь узами долга? К какой семье она принадлежит? Не грозят ли ей западни, ловушки, тайные происки? Гуинплен и не подозревал, какая распущенность царит в высших, совершенно праздных слоях общества, он не думал, что на этих вершинах есть вертепы, где жестокие волшебницы предаются грезам среди жалких остатков былых любовных увлечений, не догадывался, на какие ужасные по своему цинизму опыты толкает скука женщину, полагающую, что она выше мужчины; он не имел ни малейшего представления об этом, ибо общественные низы плохо осведомлены о том, что происходит в высших сферах. Тем не менее он предчувствовал что-то дурное. Он отдавал себе отчет в мрачной природе этого блеска. Понимал ли он? Нет. Догадывался ли? Еще меньше! Что скрывалось за этим письмом? Распахнутая настежь дверь и в то же время какая-то внушающая тревогу преграда. С одной стороны — признание. С другой — загадка.
Признание и загадка — два голоса; привлекая и угрожая, они произносят одно и то же слово: «Дерзай».
Никогда еще коварный случай не действовал более умело, никогда еще искушение не приходило так кстати. Гуинплен, волнуемый весенним пробуждением природы, наливавшейся буйными соками, находился во власти чувственных мечтаний. Неистребимый, древний, как мир, инстинкт, которого никому из нас еще не удалось победить, просыпался в этом юноше, сохранившем до двадцати четырех лет всю целомудренную чистоту отрока. Именно в такое мгновение, в самую тягостную минуту кризиса, он получил любовное признание, и ему предстала ослепительная в своей наготе грудь сфинкса. Молодость — это наклонная плоскость. Гуинплен скользил по ней, кто-то толкал его. Кто? Весна. Кто? Ночь. Кто? Эта женщина. Не будь апреля, люди были бы гораздо добродетельнее. Кустарники в цвету — шайка сообщников; любовь — воровка; весна — укрывательница.
Гуинплен был в смятении.
Дурному поступку предшествует нечто вроде испарений зла, от которых задыхается совесть. Искушаемую честность мутит от зловония преисподней. Пары, вырывающиеся оттуда, служат предупреждением для сильных и дурманом для слабых. Гуинплен испытывал это таинственное недомогание.
Перед ним, быстро сменяя друг друга, возникали неотвязные вопросы. Упорно соблазнявший его проступок принимал определенные очертания. Завтра в полночь, Лондонский мост, паж. Пойти? «Да!» — кричала плоть. «Нет!» — кричала душа.
Однако, как это ни странно на первый взгляд, надо сказать, что Гуинплен ни разу отчетливо не поставил перед собою вопроса: пойти ли ему? Соблазны влекут к себе украдкой, таясь от совести. Они напоминают чересчур крепкую водку, которую нельзя выпить одним духом. Рюмку отодвигают — подождем немного, уже и от первого глотка кружится голова.
Одно было несомненно: он чувствовал, как что-то толкает его навстречу неведомому.
Он весь трепетал. Он видел, что стоит на краю пропасти. Он отступал назад, чуя со всех сторон угрозу. Он закрывал глаза. Он всячески старался уверить себя, что ничего не случилось, старался снова внушить себе, что потерял рассудок. Конечно, это было бы самым лучшим выходом из положения. Самое благоразумное — это считать себя сумасшедшим.
Роковая болезнь! Каждый, кто хоть раз был жертвой неожиданного, пережил минуты такой мрачной тревоги. Человек, сознательно относящийся к тому, что с ним происходит, всегда с ужасом прислушивается к глухим ударам тарана, которые судьба вдруг обрушивает на его совесть.
Увы, Гуинплен колебался! Но там, где нет никаких сомнений, в чем состоит наш долг, колебаться — значит потерпеть поражение.
Впрочем, — и это следует отметить, — беззастенчивая откровенность письма, которая, вероятно, смутила бы человека испорченного, совершенно ускользнула от Гуинплена. Он не знал, что такое цинизм. Мысль о разврате в тех формах, о которых говорилось выше, не приходила ему в голову. Он даже не был в состоянии этого понять. Он был слишком чист, чтобы столь сложным способом объяснить себе происшедшее. В этой женщине он видел только величие. Увы, он был польщен! Тщеславие заставило его обратить внимание только на победу. Для того же, чтобы заметить, что он оказался не столько предметом любви, сколько предметом бесстыдного любопытства, ему надо было обладать тем опытом, который отнюдь не свойствен невинности. Рядом со словами «Я люблю тебя» он не заметил ужасной приписки: «Я хочу тебя». Животная сущность богини ускользала от него.
Рассудок порою подвергается нашествию. У души есть свои вандалы — дурные мысли, совершающие опустошительные набеги на нашу добродетель. Тысяча самых противоположных мыслей одна за другой овладевали Гуинпленом, иногда они обрушивались на него все сразу. Затем все в нем успокаивалось. Тогда он сжимал голову руками, мрачно прислушиваясь к тому, что происходило в нем, точно созерцая ночной пейзаж.
Вдруг он заметил, что уже ни о чем не думает. Размышляя, он постепенно дошел до того черного провала, в котором все исчезает. Он вспомнил, что давно пора вернуться домой. Было около двух часов ночи.
Он положил письмо, доставленное пажом, в боковой карман, но, сообразив, что так оно будет лежать прямо у сердца, вынул послание обратно, небрежно смяв, сунул его как попало в карман штанов и направился к гостинице. Он бесшумно вошел, не разбудив Говикема, который, ожидая его, заснул у стола, подложив руки под голову; запер дверь, зажег свечу о фонарь харчевни, задвинул засовы, повернул ключ в замке, машинально принимая все предосторожности человека, поздно возвращающегося домой, затем поднялся по лесенке «Зеленого ящика», прокрался в старый возок, служивший ему теперь спальней, посмотрел на спящего Урсуса, задул свечу, но не лег.
Так прошел целый час. Наконец, усталый, воображая, что постель и сон одно и то же, он, не раздеваясь, положил голову на подушку и, уступая темноте, закрыл глаза; но буря чувств, волновавших его, не унималась ни на минуту. Бессонница — это насилие ночи над человеком. Гуинплен очень страдал. В первый раз за всю свою жизнь он был недоволен собой. К его удовлетворенному тщеславию примешивалась тайная боль. Что делать? Наступило утро. Он так и не нашел покоя. Он слышал, как поднялся Урсус, но глаз не открывал. Он думал. Слова письма снова возникали перед ним в хаотическом беспорядке. При сильном душевном смятении наша мысль становится похожей на волну. Она бурлит, куда-то рвется, порождая звуки, напоминающие глухой рокот моря. Прилив, отлив, толчки, водовороты, временами задержка у подножия утеса, град и дождь, тучи, в просветы которых прорывается луч, жалкие брызги никому не нужной пены, безумные взлеты, за которыми следует немедленное падение, огромные, попусту затраченные усилия, угроза кораблекрушения, со всех сторон мрак и гибель — все, что мы видим в морской пучине, можно наблюдать и в душе человека. Такую бурю переживал Гуинплен.
И вот, когда терзания его достигли высшего предела, Гуинплен, все еще лежавший с закрытыми глазами, услыхал близ себя сладостный голос:
— Ты спишь, Гуинплен?
Он сразу открыл глаза и присел на постели; дверь его каморки была приотворена, и на пороге стояла Дея. Ее глаза и губы улыбались неизъяснимо прелестной улыбкой. Она возникла очаровательным видением, окруженная лучезарным ореолом, о котором сама и не догадывалась. Это было божественное мгновение. Гуинплен пристально всматривался в нее и, ослепленный ею, затрепетал и очнулся. Очнулся от чего? От сна? Нет, от бессонницы. Это была она, это была Дея! И вдруг он почувствовал в глубине своего существа не выразимое никакими словами внезапное успокоение бури и дивное торжество добра над злом; взгляд, устремленный на него с неба, совершил чудо; кроткая носительница света, слепая одним только своим присутствием рассеяла мрак, царивший в его душе; туманная завеса, застилавшая его духовный взор, упала, точно сорванная невидимой рукой, и — о, священный восторг! — Гуинплен почувствовал, как возвращаются к нему утраченные ясность и спокойствие. Благодаря этому ангелу он снова стал сильным, добрым, невинным Гуинпленом. В человеческой душе, как и во всем мироздании, бывают такие таинственные столкновения противоположностей. Оба молчали: она — свет, он — бездна; она — благая тишина, он — умиротворение; и над бурным сердцем Гуинплена, словно звезда морей, неизъяснимым блеском сияла Дея.
Глава 66
От сладостного к суровому
Как просто иногда совершается чудо. В «Зеленом ящике» настало время завтрака, и Дея просто пришла узнать, почему Гуинплен не идет к столу.
— Ты?! — воскликнул Гуинплен, и этим все было сказано.
Для него уже не существовало никаких других горизонтов, ничего другого, кроме неба, где была Дея.
Кто не видел улыбки моря, непосредственно следующей за ураганом, тот не может представить себе картину такого умиротворения. Ничто не успокаивается быстрее, чем пучина. Это объясняется легкостью, с какою она все поглощает. Таково и человеческое сердце. Впрочем, не всегда.
Стоило появиться Дее, как все, что было светлого в душе юноши, устремилось к ней, и все призраки бежали прочь от ослепленного Гуинплена. Какая великая сила любовь!
Несколько мгновений спустя оба сидели друг против друга, Урсус между ними, Гомо — у их ног. Чайник, над которым горела лампочка, стоял на столе. Фиби и Винос были чем-то заняты во дворе.
Завтракали, так же как и ужинали, в среднем отделении фургона. Узенький стол был расположен таким образом, что Дея сидела спиною к окну, служившему также и входной дверью «Зеленого ящика». Гуинплен наливал Дее чай. Колени их соприкасались.
Дея грациозно дула в свою чашку. Вдруг девушка чихнула. Это произошло как раз в то мгновение, когда над лампой рассеивался дымок и что-то вроде листка бумаги рассыпалось пеплом. От этого-то дымка и чихнула вдруг Дея.
— Что это? — спросила она.
— Ничего, — ответил Гуинплен.
И улыбнулся.
Он только что сжег письмо герцогини.
Совесть любящего мужчины — ангел-хранитель любимой им женщины.
Уничтожив письмо, Гуинплен почувствовал странное облегчение. Он ощутил свою честность, как орел ощущает мощь своих крыльев.
Ему показалось, что с этим дымком улетучивается и соблазн, что вместе с клочком бумаги обратилась в пепел и сама герцогиня.
Путая свои чашки, беря одну вместо другой, они без умолку говорили. Лепет влюбленных — чириканье воробышков. Ребячество, достойное Матушки-Гусыни и Гомера. Беседа двух влюбленных сердец — вершина поэзии, звук поцелуев — вершина музыки.
— Знаешь что?
— Нет.
— Гуинплен, мне снилось, будто мы звери и будто у нас крылья.
— Раз крылья — значит, мы птицы, — шепотом произнес Гуинплен.
— А звери — значит, ангелы, — буркнул Урсус.
Разговор продолжался.
— Если б тебя не было на свете, Гуинплен…
— Что тогда?
— Это значило бы, что нет бога.
— Чай очень горячий. Ты обожжешься, Дея.
— Подуй на мою чашку.
— Как ты сегодня хороша!
— Знаешь, мне надо так много сказать тебе.
— Скажи.
— Я люблю тебя!
— Я обожаю тебя!
Урсус бормотал про себя:
— Вот славные люди, ей-богу!
В любви особенно восхитительны паузы. Как будто в эти минуты накопляется нежность, прорывающаяся потом сладостными излияниями.
Помолчав немного, Дея воскликнула:
— Если б ты знал! Вечером во время представления, когда я дотрагиваюсь до твоего лба… — о, у тебя благородное чело, Гуинплен! — в ту минуту, когда я чувствую под своими пальцами твои волосы, меня охватывает трепет, я испытываю неизъяснимую радость, я говорю себе: в этом мире вечной ночи, окружающей меня, в этой вселенной, где я обречена на одиночество, в необъятном, мрачном хаосе, в котором я нахожусь и где все так обманчиво-зыбко во мне и вне меня, существует только одна точка опоры. Это он, — это ты.
— О, ты любишь меня, — промолвил Гуинплен. — У меня тоже нет на земле никого, кроме тебя. Ты для меня все. Потребуй от меня чего угодно, Дея, и я сделаю. Чего бы ты желала? Что мне надо сделать для тебя?
Дея ответила:
— Не знаю. Я счастлива.
— О да, — подхватил Гуинплен, — мы счастливы.
Урсус строго повысил голос:
— Ах, так! Вы счастливы? Это почти преступление. Я уже предупреждал вас. Вы счастливы? Тогда старайтесь, чтобы вас никто не видел. Занимайте как можно меньше места. Счастье должно забиваться в самый тесный угол. Съежьтесь еще больше, станьте еще незаметнее. Чем незначительнее человек, тем больше счастья перепадет ему от бога. Счастливые люди должны прятаться, как воры. Ах, вы сияете, жалкие светляки, — ладно, вот наступят на вас ногой, и отлично сделают! Что это за дурацкие нежности? Я не дуэнья, которой по должности положено смотреть, как целуются влюбленные голубки. Вы мне надоели в конце концов. Убирайтесь к черту!
И, чувствуя, что его суровый тон все смягчается, становится почти нежным, он, скрывая свое волнение, заворчал еще громче.
— Отец, — сказала Дея, — почему у вас такой сердитый голос?
— Это потому, — ответил Урсус, — что я не люблю, когда люди слишком счастливы.
Тут Урсуса поддержал Гомо. У ног влюбленной пары послышалось рычанье волка.
Урсус наклонился и положил руку на голову Гомо.
— Ну вот, ты тоже не в духе. Ты ворчишь. Вон как ощетинилась шерсть на твоей волчьей башке! Ты не любишь любовного сюсюканья. Это потому, что ты умен. Но все равно молчи. Ты поговорил, ты высказал свое мнение. Теперь — ни гу-гу.
Волк снова зарычал.
Урсус заглянул под стол.
— Смирно, говорю тебе, Гомо. Ну, не упрямься, философ.
Но волк вскочил на ноги и, глядя на дверь, оскалил клыки.
— Что с тобой? — спросил Урсус и схватил Гомо за загривок.
Дея, не обращая внимания на ворчанье волка, вся погруженная в собственные мысли, наслаждалась звуком голоса Гуинплена и молчала в том свойственном одним лишь слепым состоянии экстаза, порою дающего им возможность слышать пение, которое звучит у них в душе и заменяет им какой-то неведомой музыкой недостающий свет. Слепота — мрак подземелья, откуда слышна глубокая, вечная гармония.
В то время как Урсус, уговаривая Гомо, опустил голову, Гуинплен поднял глаза.
Он поднес ко рту чашку чая, но не стал пить ее; с медлительностью ослабевшей пружины он поставил ее обратно на стол, его пальцы так и остались разжатыми, он весь замер и, не дыша, устремил глаза в одну точку.
В дверях, за спиною Деи, стоял какой-то человек.
Незнакомец был одет в длинный черный плащ с капюшоном. Его парик был надвинут до самых бровей, в руках он держал железный кованый жезл и короной на обоих концах. Жезл был короткий и массивный.
Вообразите себе Медузу, просунувшую голову между двумя ветвями райского дерева.
Урсус почувствовал, что кто-то вошел; не выпуская Гомо, он поднял голову и узнал страшного гостя. Он задрожал всем телом.
— Это жезлоносец, — шепнул он на ухо Гуинплену.
Гуинплен вспомнил.
Он чуть было не вскрикнул от удивления, но удержался. Железный жезл с короной на концах был iron-weapon.
Это тот знаменитый жезл, на котором городские судьи, вступая в должность, приносили присягу и от которого прежние полицейские в Англии получили свое название.
Позади человека в парике вырисовывалась в полумраке фигура перепуганного хозяина гостиницы.
Человек, не произнося ни слова и как бы олицетворяя собой немую Фемиду древних хартий, протянул правую руку над головой улыбающейся Деи и, дотронувшись железным жезлом до плеча Гуинплена, в то же время большим пальцем левой руки указал на дверь «Зеленого ящика». Двойной этот жест, казавшийся еще повелительнее благодаря молчанию жезлоносца, означал: «Следуйте за мной».
«Pro signo exeundj, sursum trahe»[411], — говорится в нормандском своде монастырских грамот.
Тот, на кого опускался железный жезл, терял все права, кроме права повиноваться. Никаких возражений против безмолвного приказания не разрешалось. Английское законодательство грозило ослушнику самыми беспощадными карами.
Почувствовав на себе суровую длань закона, Гуинплен вздрогнул, потом сразу точно окаменел.
Сильный удар по голове оглушил бы его не больше, чем это простое прикосновение железного жезла к плечу. Он видел, что ему приказано следовать за полицейским. Но почему? Этого он не понимал.
Урсус, тоже как громом пораженный, все-таки довольно ясно отдавал себе отчет в происшедшем. Он думал о своих конкурентах, фиглярах и проповедниках, о доносах на «Зеленый ящик», о преступнике-волке, о своих препирательствах с тремя бишопсгейтскими инквизиторами и — как знать? — последнее было ужаснее всего — о непристойных и крамольных словах Гуинплена насчет королевской власти. Он был сильно испуган.
А Дея улыбалась.
Ни Гуинплен, ни Урсус не проронили ни слова. У обоих возникла одна и та же мысль: не тревожить Дею. Волк, должно быть, решил поступить так же, ибо перестал ворчать. Правда, Урсус продолжал держать его за загривок.
Впрочем, Гомо в некоторых случаях соблюдал осторожность. Кому не приходилось замечать, как сдержанно проявляется иногда беспокойство у животных?
Быть может, в той мере, в какой волк способен понимать людей, Гомо чувствовал себя преступником.
Гуинплен встал.
Он знал, что сопротивляться немыслимо, он помнил слова Урсуса, что никаких вопросов задавать нельзя. Он вытянулся перед представителем закона во весь рост.
Пристав снял с его плеча железный жезл и повелительным жестом простер его вперед; в те времена этот жест полицейского был понятен всякому и означал:
«Этот человек один пойдет со мною. Все остальные пусть остаются на своих местах. Ни звука».
Вопросов не допускалось. Полиция во все времена с особым рвением пресекала праздные разговоры. Этот вид ареста назывался «секвестром личности».
Пристав одним движением, точно заводная кукла, вращающаяся вокруг собственной оси, повернулся спиной и важным, размеренным шагом направился к выходу. Гуинплен посмотрел на Урсуса.
Урсус ответил ему сложной мимикой: поднял плечи, прижал локти к бокам и, отставив руки, взметнул кверху брови, что должно было означать: «Покоримся неведомой судьбе».
Гуинплен взглянул на Дею. Она о чем-то задумалась; Улыбка застыла на ее лице.
Он приложил пальцы к губам и послал ей невыразимо нежный поцелуй.
Как только пристав повернулся к Урсусу спиной, тот, набравшись смелости, воспользовался этим мгновением, чтобы шепнуть на ухо Гуинплену:
— Если тебе дорога жизнь, не открывай рта, молчи, пока не спросят.
Стараясь не производить ни малейшего шума, как человек, находящийся в комнате больного, Гуинплен снял со стены шляпу и плащ, завернулся в него до самых глаз, а шляпу низко надвинул на лоб; так как накануне он лег не раздеваясь, на нем был рабочий костюм и кожаный нагрудник; он еще раз взглянул на Дею; пристав, дойдя до наружной двери «Зеленого ящика», поднял кверху жезл и стал спускаться по откидной лесенке; Гуинплен пошел за ним, точно тот тащил его на невидимой цепи; Урсус посмотрел вслед уходящему Гуинплену; в эту минуту волк принялся жалобно выть, но Урсус сразу призвал его к порядку, шепнув: «Он скоро вернется».
На дворе Никлс, видимо желая угодить полицейскому, гневным жестом велел замолчать вопившим от ужаса Винос и Фиби: с отчаянием смотрели они, как человек в черном плаще и с железным жезлом уводит Гуинплена.
Девушки стояли словно каменные, словно вдруг обратились в сталактиты.
Ошеломленный Говикем, вытаращив глаза, глядел в полурастворенное окно.
Пристав, не оборачиваясь, шел на несколько шагов впереди Гуинплена с тем ледяным спокойствием, которое дается человеку сознанием, что он олицетворяет собою закон.
В гробовом молчании они прошли через двор, затем через зал кабачка и вышли на площадь. Перед дверью гостиницы толпилась кучка прохожих, и стоял наряд полиции во главе с судебным приставом. Пораженные зрелищем зеваки, не проронив ни звука, расступились перед жезлом констебля с дисциплинированностью, свойственной каждому англичанину; пристав направился узкими переулками, которые тянулись вдоль Темзы; Гуинплен, конвоируемый с обеих сторон отрядом полицейских, бледный, не делая никаких движений, кроме тех, которых требует ходьба, закутавшись в плащ, точно в саван, медленно удалялся от гостиницы, безмолвно шествуя за молчаливым человеком, подобно статуе, которая сопровождала бы призрак.
Глава 67
Lex, rex, fex — закон, король, чернь
Арест без объяснения причин, который сильно удивил бы нынешнего англичанина, был приемом весьма частым в полицейской практике тогдашней Великобритании. К нему прибегали еще в царствование Георга II, невзирая на habeas corpus, особенно в тех щекотливых случаях, в каких во Франции пускали в ход тайные повеления об арестах, так называемые lettres de cachet; одно из обвинений, предъявленных Уолполу, заключалось в том, что он допустил или даже сам распорядился задержать Нейгофа именно таким образом. Обвинение это было, по всей вероятности, недостаточно обосновано, ибо Нейгоф, корсиканский король, был посажен в тюрьму своими кредиторами.
Безмолвные аресты, нашедшие себе широкое применение в практике фемгерихта, допускались германским обычаем, легшим в основу доброй половины английских законов, и в некоторых случаях поощрялись обычаем нормандским, дух которого сказывается в другой их половине. Начальник дворцовой стражи Юстиниана именовался «императорским блюстителем молчания» — silentiarius imperialis. Английская магистратура, прибегавшая к подобным арестам, опиралась на многочисленные нормандские тексты: Canes latrant, sergentes silent. — Sergenter agere, id est tacere[412]. Она ссылалась на параграф 16 статута Ландульфа Сагакса: Facit imperator silentium[413]. Она цитировала хартию короля Филиппа от 1307 года: Multos tenebimus bastonerios qui, obmutescentes, sergentare valeant[414]. Она приводила выдержки из главы LIII статута Генриха I, короля Англии: Surge signo jussus. Taciturnior esto. Hoc est esse in captione regis[415]. Особенно охотно пользовалась она предписанием, которое рассматривалось ею как одна из наиболее старинных феодальных привилегий Англии и которое гласило: «Под началом виконтов состоят военные сержанты, каковые обязаны карать по всей строгости законов всех вступивших в злонамеренные общества, всех обвиненных в каком-либо тяжком преступлении, людей беглых и однажды присужденных к изгнанию… обязаны применять столь внушительные меры тайного устрашения, чтобы мирное население продолжало жить спокойно, а злоумышленники были обезврежены…» Быть задержанным на основании этого постановления значило быть схваченным вооруженной стражей (Vetus Consuetude Normanniae, MS.[416], часть I, раздел I, глава II). Юрисконсульты, кроме того, приводили главу о servientes spathae из Charta Ludovici Hutini pro normannis[417]. Servientes spathae по мере приближения вульгарной латыни к современному разговорному языку превратились в sergentes spadae[418].
Безмолвные аресты были противоположностью крику «Держи его» и указывали на то, что надлежит соблюдать молчание, покуда не будут выяснены некоторые обстоятельства.
Они были предупреждением: никаких вопросов!
Когда полиция производила такие аресты, это указывало, что они производились по государственным соображениям.
К арестам этого рода прилагался правовой термин private, то есть «при закрытых дверях».
Именно таким образом, по свидетельству некоторых историков, Эдуард III подверг Мортимера задержанию в постели своей матери Изабеллы Французской. Впрочем, этот факт отнюдь не бесспорен, ибо есть сведения, что Мортимер выдержал в своем городе целую осаду, прежде чем его захватили.
Уорик, «делатель королей», охотно пользовался этим способом «привлечения людей к суду».
Кромвель тоже применял его, особенно в Коннауте: именно так, соблюдая молчание, был арестован в Кильмеко родственник графа Ормонда — Трейли-Аркло.
Личное задержание по молчаливому знаку представителя правосудия являлось скорее вызовом в суд, нежели арестом.
Иногда оно было всего-навсего способом производства дознания, и в самом молчании, налагаемом на всех присутствующих, проявлялось стремление оградить в какой-то мере интересы арестованного.
Однако народу, плохо разбиравшемуся в таких тонкостях, эти безмолвные аресты представлялись особенно страшными.
Не следует забывать, что в 1705 году, и даже значительно позднее, Англия была не та, что теперь. Весь ее внутренний уклад был крайне сумбурен и порою чрезвычайно тягостен для населения. В одном из своих произведений Даниэль Дефо, который на собственном опыте узнал, что такое позорный столб, характеризует общественный строй Англии словами: «железные руки закона». Страшен был не только закон, страшен был произвол. Вспомним хотя бы Стиля, изгнанного из парламента; Локка, прогнанного с кафедры; Гоббоа и Гиббона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям Чарльза Черчилля, Юма и Пристли; посаженного в Тауэр Джона Уилкса. Если начать перечислять все жертвы статута seditious libel[419], список окажется длинным. Инквизиция проникла во все углы Европы; ее приемы сыска стали школой для многих. В Англии было возможно самое чудовищное посягательство на основные права ее обитателей; пусть вспомнят хотя бы о «газетчике в панцире». В середине восемнадцатого века, по приказу Людовика XV, на Пикадилли хватали неугодных ему писателей. Правда, и Георг III арестовал во Франции в зале Оперы претендента на престол. Это были две чрезвычайно длинные руки: рука французского короля дотягивалась до Лондона, а рука английского короля — до Парижа. Такова была свобода.
Прибавим, что власть охотно прибегала к казням в стенах тюрьмы; к казни примешивался обман. То был омерзительнейший способ действий, к которому Англия возвращается в наши дни, являя тем самым всему миру чрезвычайно странное зрелище: в поисках лучшего эта великая держава избирает худшее и, стоя перед выбором между прошлым, с одной стороны, и прогрессом, с другой, — допускает жестокую ошибку, принимая ночь за день.
Глава 68
Урсус выслеживает полицию
Как мы уже говорили, по суровым законам того времени обращенное к кому-либо требование следовать за жезлоносцем являлось для всех присутствующих при этом приказанием не двигаться с места.
Тем не менее кое-кто из любопытных этому требованию не подчинился и издали сопровождал группу полицейских, уводивших Гуинплена. В числе их был и Урсус.
В первое мгновение он окаменел, как только может окаменеть человек. Но столько раз уже приходилось ему сталкиваться со случайностями бродячей жизни, со всякими неожиданными злоключениями, что, подобно военному судну, на котором в минуту тревоги вызывается к боевым постам весь экипаж, он объявил сам себе аврал, призвав на помощь весь свой разум.
Он поспешил сбросить с себя оцепенение и стал размышлять. В беде нельзя поддаваться панике, беде надо смотреть прямо в лицо; это долг каждого, если только он не дурак.
Не доискиваться долго смысла события, но действовать. Действовать немедленно. Урсус задал себе вопрос; «Что делать?»
Теперь, когда Гуинплена увели, перед Урсусом встал трудный выбор: страх за судьбу Гуинплена гнал его за ним, страх за самого себя подсказывал решение не трогаться с места.
Урсус обладал отвагой мухи и стойкостью мимозы. Его объял неописуемый трепет. Однако он героически поборол все колебания и решил, вопреки закону, пойти за жезлоносцем, — до такой степени он был встревожен тем, что могло произойти с Гуинпленом. Видно, он очень перепугался, если проявил такое мужество. На какие только отважные поступки не толкает порою зайца смертельный страх! Испуганная серна способна перескочить через пропасть. Полное забвение осторожности — одна из форм страха.
Гуинплена скорее похитили, чем арестовали. Полиция действовала так быстро, что на ярмарочной площади, еще малолюдной в этот ранний час, арест Гуинплена прошел незаметно. В балаганах Таринзофилда почти никто и не знал о том, что жезлоносец приходил за «Человеком, который смеется». Вот почему кучка людей, сопровождавших шествие, была очень невелика.
Благодаря плащу и войлочной шляпе, закрывавшим все лицо Гуинплена, кроме глаз, прохожие не узнавали его.
Прежде чем пойти за Гуинпленом, Урсус принял меры предосторожности. Отозвав в сторону Никлса, Говикема, Фиби и Винос, он строго-настрого приказал им хранить обо всем полное молчание при Дее, которая так ни о чем и не подозревала; ни единым словом не проговориться при ней о случившемся и для того, чтобы она ни о чем не догадалась, объяснить отсутствие Гуинплена и Урсуса хлопотами по театральным делам; скоро наступит час ее предобеденного сна, и, прежде чем она проснется, Урсус возвратится вместе с Гуинпленом, ибо все это сплошное недоразумение, mistake, как говорится в Англии; им обоим, ему и Гуинплену, без малейшего труда удастся все разъяснить суду и полиции, они докажут властям их ошибку, и оба вскоре вернутся домой.
Урсусу удалось следовать за Гуинпленом совсем незаметно, ибо он старался держаться как можно дальше от него; и все же он умудрился не потерять его из виду. Смелое подглядывание — храбрость робких.
В конце концов, несмотря на всю торжественность, с которой арестовали Гуинплена, быть может его вызвали в полицию из-за какого-нибудь маловажного проступка. Урсус успокаивал себя, что вопрос может быть разрешен без проволочки.
Кое-что выяснится тут же в зависимости от того, в какую сторону направится отряд полицейских, когда дойдет до конца Таринзофилда и вступит в один из переулков Литтл-стренда.
Если он повернет налево, то это значит, что Гуинплена ведут в Саутворкскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьезного не приходится: какое-нибудь пустячное нарушение городских постановлений; выговор судьи, два-три шиллинга штрафа. Гуинплена отпустят, и представление «Побежденного хаоса» состоится в тот же вечер в обычное время. Никто ничего не заметит.
Если же отряд повернет направо — дело серьезное; в этом направлении находились грозные места.
Когда жезлоносец, возглавлявший двойную шеренгу полицейских, конвоировавших Гуинплена, дошел до Литтл-стренда, Урсус, затаив дыхание, впился в него главами. Бывают моменты, когда все силы человека сосредоточиваются в его взгляде.
Куда же они повернут?
Отряд повернул направо.
Урсус зашатался от ужаса и прислонился к стене, чтобы не упасть.
Нет ничего лицемернее слов, с которыми в иные минуты человек обращается к самому себе: «Надо узнать, в чем дело». В глубине души он совсем этого не желает. В нем говорит один лишь страх. К тревоге присоединяется еще и смутное опасение сделать какие-либо выводы. Человек сам себе в этом не сознается, но он уже охотно попятился бы обратно и, ступив шаг вперед, уже упрекает себя в этом.
Так было и с Урсусом. Он с трепетом подумал: «Дело принимает дурной оборот. Я всегда успел бы узнать об этом. Зачем я пошел за Гуинпленом?»
Придя к такому заключению, он — ибо всякий человек соткан из противоречий — ускорил шаг и, преодолевая страх, поспешил нагнать полицейских, чтобы в лабиринте саутворкских улиц не разорвалась нить, соединявшая его с Гуинпленом.
Полицейский отряд не мог двигаться быстрее из-за торжественности шествия.
Шествие открывалось жезлоносцем.
Оно замыкалось судебным приставом.
Все это требовало известной медлительности.
Все величие, какое только способно воплощать в себе должностное лицо, сказывалось в наружности этого замыкавшего шествие судебного пристава. Его костюм представлял собой нечто среднее между роскошным одеянием оксфордского доктора музыки и скромным черным платьем кембриджского доктора богословия. Из-под длинного годберга, то есть мантии, подбитой мехом норвежского зайца, выглядывал камзол дворянина. Внешность у этого человека была наполовину средневековая: на голове парик, как у Ламуаньона, а рукава широкие, как у Тристана Отшельника. Его большие круглые глаза по-совиному уставились на Гуинплена. Выступал он мерным шагом. Вряд ли можно было встретить более свирепого малого.
Урсус немного сбился с пути среди извилистых переулков, но у церкви святой Марии Овер-Рэй ему удалось нагнать шествие, которое, к счастью, задержала драка между мальчишками и собаками — обычная сцена на улицах тогдашнего Лондона; в старинных полицейских протоколах, отводящих собаке место впереди детей, она значилась под рубрикой «dogs and boys» — «собаки и мальчишки».
Человек, которого под конвоем полиции вели к судье, был в то время самым заурядным явлением, и так как у каждого были свои собственные дела, кучка любопытных вскоре разбрелась. Один только Урсус продолжал идти по следам Гуинплена.
Миновали две часовни, стоявшие одна против другой и принадлежавшие двум сектам, существующим еще и в наши дни: общине «Религиозного отдыха» и «Лиге аллилуйи».
Затем шествие, извиваясь, переходило из переулка в переулок, выбирая по преимуществу еще не застроенные улицы, поросшие травой, безлюдные проходы между домами, и делая много поворотов. Наконец оно остановилось. Это был глухой переулок. Никаких жилых строений, кроме двух-трех лачуг в самом начале его. Переулок пролегал между двумя стенами — низкой слева и высокой каменной стеной справа. Эта почерневшая от времени стена саксонской кладки с зубцами была укреплена железными «скорпионами» и прорезана узенькими отдушинами, закрытыми толстой решеткой. Ни одного окна; только кое-где отверстия, служившие некогда амбразурами для камнеметов и старинных пищалей. В самом низу стены виднелась маленькая калитка, похожая на дверцу мышеловки.
Эта калитка с решетчатым оконцем была проделана в полукруглом углублении массивного свода и висела на узловатых прочных петлях; она была заперта на большой замок, снабжена тяжелым молотком, сплошь усеяна гвоздями и словно покрыта панцирем из металлических пластинок и блях: в ней было больше железа, чем дерева.
В переулке — ни души. Ни лавок, ни прохожих. Но откуда-то поблизости доносился непрерывный шум, как будто рядом с переулком протекал бурный поток. Это был гул голосов и грохот экипажей. Возможно, что по другую сторону почерневшего здания проходила большая улица, вероятно главная улица Саутворка, упиравшаяся одним концом в Кентерберийскую дорогу, а другим — в Лондонский мост.
На всем протяжении переулка случайный наблюдатель мог бы обнаружить, кроме конвоя, окружавшею Гуинплена, только одно человеческое лицо — смертельно бледный профиль Урсуса, который рискнул наполовину высунуться из тени, падавшей от стены. Он притаился в одном из коленчатых изгибов переулка, смотрел и боялся увидеть.
Отряд выстроился перед калиткой.
Гуинплен находился в центре, но теперь жезлоносец со своим железным жезлом стоял позади него. Судебный пристав поднял молоток и постучал три раза. Оконце открылось. Судебный пристав произнес:
— По указу ее величества.
Тяжелая дубовая, окованная железом дверь повернулась на петлях, открылся темный, холодный проем, напоминавший вход в пещеру. Страшный свод терялся во мраке.
Урсус видел, как Гуинплен исчез под этим сводом.
Глава 69
Ужастное место
Жезлоносец вошел вслед за Гуинпленом. За жезлоносцем — судебный пристав. За ним — весь отряд. Калитка захлопнулась.
Тяжелая дверь вплотную прилегла к каменному косяку, и не было видно, ни кто открыл ее, ни кто ее запер. Казалось, засовы сами собой вошли в скобы. В некоторых очень давней постройки смирительных домах еще существуют подобные механизмы, служившие в старину для вящего устрашения преступника. Дверь, привратник которой оставался незримым. Это придавало тюремным воротам сходство с вратами ада.
Эта калитка была задним ходом Саутворкской тюрьмы.
В этом покрытом плесенью угрюмом здании не было ни одной детали, которая шла бы вразрез с мрачным видом, свойственным всякой тюрьме.
Языческий храм, воздвигнутый некогда катьюкланами в честь могонов, древних божеств Англии, ставший впоследствии дворцом для Этелульфа и крепостью для Эдуарда Святого, а в 1199 году превращенный Иоанном Безземельным в место заключения, — вот что представляла собою Саутворкская тюрьма. Это сооружение, вначале пересеченное улицей, подобно тому как Шенонсо пересекается рекой, в течение одного или двух столетий было тем, что по-английски называется gate, то есть укрепленной заставой городского предместья; затем проезд заложили. В Англии еще сохранилось несколько тюрем этого типа: в Лондоне — Ньюгейт, в Кентербери — Вестгейт, в Эдинбурге — Кенонгейт. Французская Бастилия на первых порах тоже служила заставой.
Почти все английские тюрьмы имели один и тот же внешний вид: снаружи — высокая стена, внутри — целый улей тюремных камер. Трудно представить себе что-либо мрачнее этих готических тюрем, в которых паук и правосудие ткали свою паутину и куда в то время не проник еще, подобно солнечному лучу, Джон Ховард. Все они, подобно старинной брюссельской «геенне», могли бы быть названы «домом слез».
Глядя на эти угрюмые здания, люди испытывали ту же щемящую тоску, какую чувствовали древние мореплаватели, проезжая мимо ада рабов, упоминаемого Плавтом, мимо островов железного лязга, ferricrepiditae insulae, при приближении к которым слышен был звон цепей.
В Саутворкскую тюрьму, старинное место пыток и изгнания бесов, вначале сажали преимущественно колдунов, как на то указывало полустершееся двустишие, высеченное на камне над калиткой:
Sunt arreptitii vexati daemone multo.
Est energumenus quem daemon possidet unus[420].
Эти стихи устанавливают тонкое различие между одержимым и бесноватым.
Над этой надписью была прибита к стене виселичная лестница — символ высшего правосудия; она была когда-то сделана из дерева, но окаменела, будучи зарыта в землю близ Вобурнского аббатства, в Асплей-Говисе, почва которого обладает свойством все превращать в камень.
Саутворкская тюрьма, ныне уже разрушенная, выходила на две улицы, сообщавшиеся между собой в те времена, когда она служила воротами; в ней было два входа: один, парадный, с главной улицы, предназначавшийся для властей, другой — с переулка, «скорбный вход», для всех прочих смертных, а также для покойников, ибо когда в тюрьме умирал заключенный, его труп выносили в эту калитку. Это было тоже своего рода освобождение. Смерть — свобода, даруемая вечностью.
Этим «скорбным входом» Гуинплена ввели в тюрьму.
Переулок, как мы уже говорили, представлял выложенную камнем узкую дорожку, сжатую с обеих сторон стенами. В Брюсселе есть такой переулок, именуемый «Улицей для одного прохожего». Стены были неравной высоты: высокая стена была стеной тюрьмы, низкая — оградой кладбища. Эта ограда, за которой окончательно превращалось в прах тело, наполовину сгнившее в тюрьме, была не выше человеческого роста. Ее ворота приходились как раз напротив тюремной калитки. Покойнику только и было труда, что перебраться через улицу. Достаточно было сделать двадцать шагов вдоль стены, чтобы очутиться на кладбище. К высокой стене была прибита виселичная лестница; напротив, на кладбищенской ограде, красовалось изваяние черепа. Одна стена нисколько не ослабляла мрачного впечатления от другой.
Глава 70
Какие судебные чины скрывались под париками того времени
Если бы кто-нибудь в эту минуту посмотрел, что творится по другую сторону тюрьмы — со стороны ее фасада, он увидел бы главную улицу Саутворка и мог бы заметить у монументального парадного подъезда здания дорожную карету с крытыми козлами, напоминавшую нынешние кабриолеты. Ее окружала кучка любопытных. Карета была разукрашена гербами, и толпа видела, как из нее вышел человек, который исчез затем в дверях тюрьмы; вероятно, судья, — решили присутствовавшие, ибо в Англии судьи часто бывали из дворян и имели «право на герб». Во Франции герб и судейская мантия почти всегда исключали друг друга; герцог Сен-Симон, говоря о судьях, как-то выразился: «люди этого сословия». В Англии же звание судьи нисколько не бесчестило дворянина.
В Англии существуют должности выездных судей; они называются «окружными судьями», и не было ничего проще, как принять эту карету за экипаж судьи, совершающего объезд. Несколько необычным казалось только то, что предполагаемый судья вышел не из самой кареты, а сошел с козел, где хозяин обычно не сидит. Другая странность: в ту эпоху в Англии путешествовали либо в дилижансе, уплачивая по шиллингу за каждые пять миль, либо верхом, с оплатой по три су за милю и по четыре су форейтору после каждого перегона; тот, кто позволял себе путешествовать на перекладных в собственной карете, платил за каждую лошадь и за каждую милю столько шиллингов, сколько су платил ехавший верхом; карета же, остановившаяся у подъезда Саутворкской тюрьмы, была запряжена четверкой лошадей и управлялась двумя форейторами — княжеская роскошь. Наконец больше всего возбуждало любопытство и сбивало с толку то обстоятельство, что карета была тщательно закрыта со всех сторон. Верх был поднят. Окошечки были защищены ставнями; все отверстия, куда только мог проникнуть глаз, заслонены; снаружи нельзя было видеть того, что было внутри экипажа, и, вероятно, изнутри точно так же не было видно ничего из происходившего снаружи. Впрочем, судя по всему, в карете никого не было.
Так как Саутворк входил в состав Серрейского графства, то Саутворкская тюрьма была подведомственна серрейскому шерифу. Такое разграничение подсудности было в Англии явлением обычным. Так, например, лондонский Тауэр считался расположенным вне территории какого-либо графства, то есть, с точки зрения юридической, как бы висел в воздухе. Тауэр не признавал никаких судебных властей, кроме своего констебля, носившего звание custos turris[421]. Тауэр имел свою собственную юрисдикцию, свою церковь, свой суд, свое особое управление. Власть кустода, или констебля, простиралась и за пределы Лондона на двадцать одно селение.
В Великобритании существует множество юридических несообразностей: так, в частности, должность главного канонира Англии подчинена лондонскому Тауэру.
Другие обычаи, получившие силу закона, кажутся еще более странными. Например, английский морской суд руководствуется в своей практике законами Родоса и Олерона (французского острова, некогда принадлежавшего англичанам).
Шериф графства был весьма важным лицом. Он всегда был эсквайром, а иногда и рыцарем. В старинных хартиях он именуется spectabilis — человеком, на которого надлежит смотреть. Этот титул занимал среднее место между illustris и clarissimus[422]: он был ниже первого и выше второго. Шерифы графств некогда избирались народом; но с тех пор как Эдуард II я вслед за ним Генрих VI сделали назначение на эту должность прерогативой короны, шерифы, стали представителями королевской власти. Все они назначались его величеством, за исключением шерифа уэстморлендского, должность которого являлась наследственной, а также шерифов Лондона и Мвддлсекса, избиравшихся самим населением в Commonhall. Шерифы Уэльса и Честера пользовались известными правами фискального характера. Все эти должности существуют в Англии и поныне, но мало-помалу, испытав на себе влияние новых обычаев и новых идей, уже утратили свои прежние характерные особенности. На шерифе графства лежала, между прочим, обязанность сопровождать выездных судей и при случае оказывать им покровительство. Подобно тому, как у человека две руки, у шерифа было два помощника; правой его рукой был собственно помощник шерифа, а левой — судебный пристав. При содействии окружного пристава, именуемого жезлоносцем, судебный пристав арестовывал, допрашивал и под ответственность шерифа подвергал тюремному заключению воров, убийц, бунтовщиков, бродяг и всяких мошенников, подлежавших суду окружных судей. Разница между помощником шерифа и судебным приставом, которые оба были подчинены шерифу, состояла в том, что помощник шерифа сопровождал его, а судебный пристав помогал ему в отправлении его должности. Шериф возглавлял два суда: суд постоянный, окружной, County court, и суд выездной, Sheriff-turn, воплощая, таким образом, в своем лице единство и вездесущность судебной власти. В качестве судьи он мог требовать в сомнительных случаях содействия и разъяснений от ученого юриста, так называемого sergens coifae, присяжного законоведа, который под черной шапочкой носил колпачок из белого кембрика. Шериф «разгружал» места заключения: прибыв в один из городов подведомственного ему графства, он имел право наскоро, огулом, решить судьбу всех арестованных, либо освободив их совсем, либо отправив на виселицу, что называлось очисткой тюрьмы, goal delivery. Шериф предлагал составленный им обвинительный акт двадцати четырем присяжным заседателям; если они соглашались с ним, то писали на нем; bilta vera[423]; если не соглашались, делали надпись: ignoramus[424]; во втором случае обвинение отпадало, я шериф имел право уничтожить обвинительный акт. Если во время судебного следствия один из присяжных умирал, каковое обстоятельство по закону влекло за собой признание обвиняемого невиновным, шерифу, имевшему право арестовать обвиняемого, предоставлялось право освободить его из-под стражи. Особенное уважение и особый страх, внушаемые шерифом, объяснялись тем, что на его обязанности лежало исполнение «всех приказаний его величества» — чрезвычайно опасная широта полномочий. Такие формулы таят в себе неограниченную возможность произвола. Шерифа сопровождали чиновники, именовавшиеся verdeors (лесничими) и коронеры; торговые приставы обязаны были оказывать ему содействие; кроме того, у него была прекрасная свита из конных и пеших слуг, одетых в ливреи. «Шериф, — говорит Чемберлен, — это жизнь правосудия, закона и графства».
В Англии все законы и обычаи в результате незаметно протекающего разрушительного процесса подвергаются постепенному измельчанию и уничтожению. В наше время, повторяем, ни шериф, ни жезлоносец, ни судебный пристав уже не могли бы отправлять свою должность так, как они отправляли ее прежде. В старинной Англии существовало некоторое смешение отдельных видов власти, и недостаточная определенность полномочий влекла за собой вторжение в сферу чужой деятельности — явление, в наши дни уже невозможное. Тесной связи между полицией и правосудием положен ныне конец. Наименования должностей сохранились, но функции их уже стали иными. Нам кажется, что даже самый смысл слова wapentake изменился. Прежде оно обозначало судейскую должность, теперь оно обозначает территориальное подразделение; прежде так назывался кантонный пристав, ныне же — самый кантон.
В описываемую нами эпоху шериф графства соединял и сосредоточивал в своем лице в качестве городской власти и представителя короля, правда с некоторыми добавочными полномочиями и ограничениями, обязанности двух чиновников, носивших некогда во Франции звание главного гражданского судьи города Парижа и полицейского судьи. Главного судью города Парижа довольно четко характеризует запись в одном из полицейских протоколов того времени: «Господин гражданский судья не враг семейных раздоров, потому что это всегда для него грабительская пожива» (22 июля 1704 года). Что же касается полицейского судьи, особы, опасной многообразием и неопределенностью своих функций, то этот тип нашел себе наиболее полное выражение в личности Рене д'Аржансона, в котором, по словам Сен-Симона, сочетались черты трех судей Аида.
Эти судьи, как уже видел читатель, заседали и в лондонской Бишопсгейтской тюрьме.
Глава 71
Трепет
Услыхав, как заскрипела всеми петлями и захлопнулась входная дверь, Гуинплен содрогнулся. Ему показалось, что эта только что закрывшаяся за ним дверь была рубежом между светом и мраком, между миром земных радостей и царством смерти, что все, что освещает и согревает солнце, осталось позади, что он переступил пределы жизни, очутился вне ее. Сердце у него болезненно сжалось. Что с ним намерены сделать? Что все это значит?
Где он?
Он ничего не видел вокруг себя; его окружала непроглядная тьма. Как только закрылась дверь, он как будто мгновенно ослеп. Оконце тоже захлопнулось. Не было ни отдушины, ни фонаря — обычная мера предосторожности в старинные времена. Запрещалось освещать внутренние ходы тюрьмы, чтобы вновь прибывшие не могли их приметить.
Гуинплен протянул руки в стороны и нащупал справа и слева стены; это был какой-то коридор. Мало-помалу бог весть откуда сочившийся в высокое подземелье сумеречный свет, к которому, расширяясь, приспособился зрачок, позволил Гуинплену различить неясные очертания тянувшегося перед ним коридора.
О суровых карательных мерах Гуинплен знал только со слов все преувеличивавшего Урсуса, и теперь ему чудилось, будто его схватила чья-то огромная незримая рука. Ужасно, когда нами распоряжается неведомый нам закон. Можно сохранять присутствие духа при всяких обстоятельствах и все-таки растеряться перед лицом правосудия. Почему? Потому, что человеческое правосудие — потемки, и судьи бродят в них ощупью. Гуинплен помнил, что Урсус говорил ему о необходимости соблюдать молчание; ему хотелось живым вернуться к Дее; он сознавал, что находится во власти чьего-то произвола, и боялся раздражать тех, от кого он теперь всецело зависел. Иногда желание выяснить положение только ухудшает его. С другой стороны, все происходившее с ним так тяготило его, что в конце концов он не удержался и спросил:
— Господа, куда вы ведете меня?
Никто не ответил ему.
Сохранение полного молчания было одним из основных правил при безмолвном аресте, и текст нормандского закона не допускал в подобных случаях никаких послаблений: «A silentiarils ostio praepositis introducti sunt»[425].
От этого молчания кровь застыла в жилах Гуинплена. До сих пор он считал себя сильным; он не нуждался ни в чьей поддержке; не нуждаться ни в чьей поддержке — значит быть необоримым. Он жил одиноким, воображая, что одиночество — верный залог неуязвимости. И вот внезапно он почувствовал на себе гнет некоей ужасной безликой силы. Каким способом бороться с чем-то страшным, жестоким, неумолимым — с законом? Он изнемогал под бременем этой загадки. Неведомый прежде страх прокрался к нему в душу, отыскав слабое место в защищавшей его броне. К тому же он совсем не спал и ничего не ел; он еле прикоснулся к чашке чая. Всю ночь он метался в каком-то бреду, его и теперь лихорадило. Его мучила жажда, быть может и голод. Пустой желудок дурно влияет на наше душевное состояние. Со вчерашнего дня на Гуинплена обрушивалось одно нежданное событие за другим. Его поддерживало только терзавшее его волнение: не будь урагана, парус висел бы тряпкой. Он чувствовал себя именно таким беспомощным лоскутом, который ветер напрягает до тех пор, пока не превратит в лохмотья. Он чувствовал, что силы покидают его. Неужели он упадет без сознания на эти каменные плиты? Обморок — средство защиты для женщин и позор для мужчины. Он старался взять себя в руки, и все-таки дрожал.
Он испытывал ощущение человека, у которого почва уходит из-под ног.
Глава 72
Стон
Процессия тронулась.
Пошли по коридору.
Никаких предварительных опросов. Никакой канцелярии, никакой регистрации. Тюремное начальство того времени не занималось излишним бумагомаранием. Оно ограничивалось тем, что захлопывало за человеком двери, нередко даже не зная, за что его заточили. Тюрьма вполне довольствовалась тем, что она тюрьма и что у нее есть узники.
Коридор был узким, и шествию пришлось растянуться. Шли почти гуськом: впереди жезлоносец, за ним Гуинплен, за Гуинпленом судебный пристав, за судебным приставом полицейские, двигавшиеся вереницей вдоль всего коридора. Проход сужался все больше и больше: теперь Гуинплен уже касался локтями обеих стен; в своде, сооруженном из залитого цементом мелкого камня, на равном расстоянии один от другого были гранитные выступы, и здесь потолок нависал еще ниже; приходилось наклоняться, чтобы пройти; бежать по коридору было невозможно. Даже тот, кто вздумал бы спастись бегством, был бы вынужден двигаться тут шагом; узкий коридор извивался, как кишка; внутренность тюрьмы так же извилиста, как и внутренности человека. Местами, то направо, то налево, чернели четырехугольные проемы, защищенные толстыми решетками, за которыми виднелись лестницы — одни поднимались вверх, другие спускались вниз. Дошли до запертой двери, она отворилась, переступили через порог, и она снова закрылась; затем встретилась еще одна дверь, тоже пропустившая шествие, потом третья, также повернувшаяся на петлях. Двери открывались и закрывались как бы сами собой. По мере того как коридор сужался, свод нависал все ниже и ниже, так что можно было двигаться, только согнув спину. На стенах выступала сырость; со свода капала вода, каменные плиты, которыми был выложен коридор, были покрыты липкой слизью, точно кишки. Какой-то бледный, рассеянный сумрак заменял свет; уже не хватало воздуха. Но всего страшнее было то, что галерея шла вниз.
Впрочем, заметить это можно было, только внимательно приглядевшись. Отлогий скат в темноте становился чем-то зловещим. Нет ничего чудовищнее неизвестности, которой идешь навстречу, спускаясь по едва заметному склону.
Спуск — это вход в ужасное царство неведомого.
Сколько времени шли они таким образом? Гуинплен не мог бы сказать этого.
Тревожное ожидание, словно прокатный вал, удлиняет каждую минуту до бесконечности.
Вдруг шествие остановилось.
Кругом был непроглядный мрак.
Коридор тут немного расширился.
Гуинплен услышал рядом с собой звук, похожий на звон китайского гонга, — как будто удар в диафрагму бездны.
Это жезлоносец ударил жезлом в железную плиту.
Плита оказалась дверью.
Дверь не поворачивалась на петлях, а поднималась и опускалась наподобие подъемной решетки.
Раздался резкий скрип в пазах, и глазам Гуинплена внезапно предстал четырехугольный просвет.
Это скользнула кверху и ушла в щель, проделанную в своде, железная плита, точь-в-точь как поднимается дверца мышеловки.
Открылся пролет.
Свет, проникавший оттуда, не был дневным светом, а тусклым мерцанием. Но для расширенных зрачков Гуинплена эти слабые лучи были ярче внезапной вспышки молнии.
Некоторое время он ничего не видел; различить что-нибудь в ослепительном сиянии так же трудно, как и во мраке.
Затем мало-помалу его зрачки приспособились к свету, также как ранее они приспособились к темноте; и Гуинплен стал постепенно различать то, что его окружало: свет, показавшийся ему вначале таким ярким, постепенно ослабел и перешел в полумрак; Гуинплен отважился взглянуть в зиявший перед ним пролет, и то, что он увидел, было ужасно.
У самых ног его почти отвесно спускалось в глубокое подземелье десятка два крутых, узких и стершихся ступеней, образуя нечто вроде лестницы без перил, высеченной в каменной стене. Ступени шли до самого низа.
Подземелье было круглое, со стрельчатым покатым сводом, покоившимся на осевших устоях неравной высоты, как это обычно бывает в подвалах, устроенных под слишком массивными зданиями.
Отверстие, служившее входом и обнаружившееся, только когда поднялась кверху железная плита, было пробито в каменном своде в том месте, где начиналась лестница, так что с этой высоты взор погружался в подземелье, точно в колодец.
Подземелье занимало большое пространство, и если оно когда-то служило дном колодца, то колодец этот был циклопических размеров. Старинное выражение «яма» могло быть применено к этому каменному мешку, только если представить его себе в виде рва для львов или тигров.
Подземелье не было вымощено ни плитами, ни булыжником. Полом служила сырая, холодная земля, какой она бывает в глубоких погребах.
Посредине подземелья четыре низкие уродливые колонны поддерживали каменный стрельчатый навес, четыре ребра которого сходились в одной точке, образуя нечто, напоминавшее митру епископа. Этот навес, вроде тех балдахинов, под которыми некогда ставились саркофаги, упирался вершиной в самый свод, образуя в подземелье как бы отдельный покой, если можно назвать покоем помещение, открытое со всех сторон и имеющее вместо четырех стен четыре столба.
К замочному камню навеса был подвешен круглый медный фонарь, защищенный решеткой, словно тюремное окно. Фонарь отбрасывал на столбы, на своды, на круглую стену, смутно видневшуюся за столбами, тусклый свет, пересеченный полосами тени.
Это и был тот свет, который в первую минуту ослепил Гуинплена. Теперь он казался ему мерцающим красноватым огоньком.
Другого освещения в подземелье не было. Ни окна, ни двери, ни отдушины.
Между четырьмя столбами, как раз под фонарем, на месте, освещенном ярче всего, лежала на земле какая-то белая, страшная фигура.
Она была простерта на спине. Можно было ясно разглядеть лицо с закрытыми глазами; туловище исчезало под какой-то бесформенной грудой; руки и ноги, растянутые в виде креста, были привязаны четырьмя цепями к четырем столбам, а цепи прикреплены к железным кольцам у подножия каждой колонны. Человеческая фигура, неподвижно застывшая в ужасной позе четвертуемого, синевато-бледным цветом кожи походила на труп. Это было обнаженное тело мужчины.
Окаменев, Гуинплен стоял на верхней ступени лестницы.
Вдруг он услыхал хрип.
Значит, это был не труп. Это был живой человек.
Немного поодаль от этого страшного существа, под одной из стрельчатых арок навеса, по обе стороны, большого кресла, водруженного на широком каменном подножия, стояло двое людей в длинных черных хламидах, а в кресле сидел одетый в красную мантию бледный неподвижный старик со зловещим лицом, держа в руке букет роз.
Человек более сведущий, чем Гуинплен, взглянув на букет, сразу сообразил бы, в чем дело. Право судить, держа в руке пучок цветов, принадлежало чиновнику, представлявшему одновременно и королевскую и муниципальную власть. Лорд-мэр города Лондона и поныне отправляет судейские функции с букетом в руке. Назначением первых весенних роз было помогать судьям творить суд и расправу.
Старик, сидевший в кресле, был шериф Серрейского графства.
Он застыл в величественной позе, напоминая собою римлянина, облеченного верховной властью.
Кроме кресла, в подземелье не было других сидений.
Рядом с креслом стоял стол, заваленный бумагами и книгами; на нем лежал длинный белый жезл шерифа.
Люди, недвижимо стоявшие по обе стороны кресла, были доктора: один — доктор медицины, другой — доктор права; последнего можно было узнать по шапочке, надетой на парик. Оба были в черных мантиях. Представители обеих этих профессий носят траур по тем, кого они отправляют на тот свет.
Позади шерифа, на выступе каменной плиты, служившей подножием, сидел с пером в руке и, видимо, собирался писать секретарь в круглом парике; на коленях у него лежала папка с бумагами, а на ней лист пергамента; подле него на плите стояла чернильница.
Чиновник этот принадлежал к числу так называемых «мешкохранителей», на что указывала сумка, лежавшая у его ног. Такая сумка, некогда бывшая непременным атрибутом судебного процесса, называлась «мешком правосудия».
Прислонившись к одному из столбов, со скрещенными на груди руками, стоял человек в кожаной одежде. Это был помощник палача.
Все эти люди, замершие в мрачных позах вокруг закованного в цепи человека, казались зачарованными. Ни один не двигался; никто не произносил ни слова.
Кругом царила зловещая тишина.
Место, которое видел перед собой Гуинплен, было застенком. Таких застенков в прежней Англии было великое множество. Подземелье башни Бошана долгое время служило для этой цели, так же как подвалы тюрьмы Лоллардов. До наших дней сохранилось в Лондоне подземелье, известное под названием «склепа леди Плейс». В этом помещении находится камин, где накаливались щипцы.
Во всех тюрьмах, выстроенных при короле Иоанне, — а Саутворкская тюрьма была типичной тюрьмой той эпохи, — имелись застенки.
То, о чем сейчас будет рассказано, в ту пору часто происходило в Англии и могло бы, строго говоря, происходить и теперь, ибо все законы того времени существуют и поныне. Англия представляет собою любопытное явление в том отношении, что варварское законодательство прекрасно уживается в ней со свободой. Что и говорить, чета образцовая.
Однако некоторое недоверие к ней было бы нелишним. Случись какая-нибудь смута — и прежние карательные меры могли бы легко возродиться. Английское законодательство — прирученный тигр. Лапа у него бархатная, но когти прежние; они только спрятаны.
Обрезать эти когти было бы вполне разумно.
Английские законы почти совсем не признают права. По одну сторону — система карательных мер, по другую — принципы человечности. Философы протестуют против такого порядка, но пройдет еще немало времени, прежде чем человеческое правосудие сольется со справедливостью.
Уважение к закону характерно для англичан. В Англии к законам относятся с таким почтением, что их никогда не упраздняют. Из этого нелегкого положения, впрочем, находят выход: законы чтут, но их не исполняют. С устаревшими законами происходит то же, что с состарившимися женщинами; никто не думает насильственно пресекать существования тех или других; на них просто перестают обращать внимание — вот и все. Пусть себе думают на здоровье, что они все еще красивы и молоды. Никто не позволит себе сказать им, что они отжили свой век. Подобная учтивость и называется уважением к закону.
Нормандское обычное право изборождено морщинами; это, однако, не мешает многим английским судьям строить ему глазки. Англичане любовно оберегают всякие древние жестокости, если только они нормандского происхождения. Есть ли что-нибудь более жестокое, чем виселица? В 1867 году одного человека[426] приговорили к четвертованию, с тем чтобы его растерзанный труп преподнести женщине — королеве.
Впрочем, в Англии пыток никогда не существовало. Ведь именно так утверждает история. Что ж, у нее немалый апломб.
Мэтью Вестминстерский, констатируя, что «саксонский закон, весьма милостивый и снисходительный», не наказывал преступников смертной казнью, присовокупляет: «Ограничивались только тем, что им отрезали носы, выкалывали глаза и вырывали части тела, являющиеся признаками пола». Только-то!
Гуинплен, растерянно остановившись на верхней ступеньке лестницы, дрожал всем телом. Им овладел страх. Он старался вспомнить, какое преступление мог он совершить. Молчание жезлоносца сменилось картиной пытки. Это был шаг вперед, но шаг трагический. Мрачный облик угрожавшего ему закона принимал все более и более загадочные очертания.
Человек, лежавший на полу, снова захрипел.
Гуинплен почувствовал, что кто-то слегка толкнул его в плечо.
Это был жезлоносец.
Гуинплен понял, что ему приказывают сойти вниз.
Он повиновался.
Нащупывая ногой ступеньки, он стал спускаться с лестницы.
Ступени были узкие и крутые, высотой в восемь-девять дюймов. Перил не было. Спускаться можно было только с большой осторожностью. За Гуинпленом на расстоянии двух ступенек от него следовал жезлоносец, держа прямо перед собой железный жезл, и на таком же расстоянии позади жезлоносца — судебный пристав.
Спускаясь по этим ступеням, Гуинплен чувствовал, что теряет последнюю надежду на спасение. Казалось, он шаг за шагом приближается к смерти. Каждая пройденная ступень угашала в нем какую-то частицу света. Бледнея все больше и больше, он достиг конца лестницы.
Распластанный на земле и прикованный к четырем столбам призрак продолжал хрипеть.
В полумраке послышался голос:
— Подойдите!
Это сказал шериф.
Гуинплен сделал шаг вперед.
— Ближе, — произнес голос.
Гуинплен сделал еще шаг.
— Еще ближе, — повторил шериф.
Судебный пристав прошептал Гуинплену на ухо с таким внушительным видом, что шепот прозвучал торжественно:
— Вы находитесь перед шерифом Серрейского графства.
Гуинплен подошел почти вплотную к пытаемому, распростертому на полу посреди подземелья. Жезлоносец и судебный пристав остановились поодаль.
Когда Гуинплен, очутившись под навесом, увидал вблизи несчастное существо, на которое он до сих пор смотрел только издали, его страх перешел в беспредельный ужас.
Человек, лежавший скованным на земле, был совершенно обнажен, если не считать целомудренно прикрывавшего его отвратительного лоскута, который можно было бы назвать фиговым листом пытки и который у римлян назывался succingulum, у готов — christipannus — слово, из которого наше древнегалльское наречие образовало слово cripagne. Тело распятого на кресте Иисуса тоже было прикрыто только обрывком ткани.
Осужденному на смерть преступнику, которого видел перед собой Гуинплен, было лет пятьдесят — шестьдесят. Он был лыс. На подбородке у него торчала редкая седая борода. Глаза были закрыты, широко открытый рот обнажал все зубы. Худое, костлявое лицо походило на череп мертвеца. Руки и ноги, прикованные цепями к четырем каменным столбам, образовали букву X. Грудь и живот были у него придавлены чугунной плитой, на которой лежало пять-шесть огромных булыжников. Его хрип иногда переходил в едва слышный вздох, иногда же — в звериное рычание.
Шериф, не расставаясь со своим букетом роз, свободной рукой взял со стола белый жезл и, подняв его, произнес:
— Повиновение ее величеству.
Затем положил жезл обратно на стол.
Потом медленно, точно отбивая удары похоронного колокола, сохраняя ту же неподвижность, что и пытаемый, шериф заговорил:
— Человек, закованный здесь в цепи, внемлите последний раз голосу правосудия. Вас вывели из вашей темницы и доставили сюда. На вопросы, предложенные вам с соблюдением всех требований формальностей, formaliis verbis pressus, вы, не обращая внимания на прочитанные вам документы, которые вам будут предъявлены еще раз, побуждаемый злобным духом противного человеческой природе упорства, замкнулись в молчании и отказываетесь отвечать судье. Это — отвратительное своеволие, заключающее в себе все признаки наказуемого по закону отказа от дачи показаний суду и запирательства.
Присяжный законовед, стоявший справа от шерифа, перебил его с зловещим равнодушием и произнес:
— Overhernessa. Законы Альфреда и Годруна. Глава шестая.
Шериф продолжал:
— Закон уважают все, кроме разбойников, опустошающих леса, где лани рождают детенышей.
И, словно колокол, вторящий колоколу, законовед подтвердил:
— Qui faciunt vastum in foresta ubi damae solent founinare.
— Отказывающийся отвечать на вопросы судьи, — продолжал шериф, — может быть заподозрен во всех пороках. Он способен на всякое злодеяние.
Снова раздался голос законоведа:
— Prodigus, devorator, profusus, salax, ruffianus, ebriosus, luxuriosus, simulator, consumptor patrimonii elluo, ambro, et gluto[427].
— Все пороки, — говорил шериф, — предполагают возможность любых преступлений. Кто все отрицает, тот во всем сознается. Тот, кто не отвечает на вопросы судьи — лжец и отцеубийца.
— Mendax et parricida, — подхватил законовед.
Шериф продолжал:
— Человек, прикрываться молчанием воспрещается, Своевольно уклоняющийся от суда наносит тяжелое оскорбление закону. Он подобен Диомеду, ранившему богиню. Молчание на суде есть сопротивление власти. Оскорбление правосудия — то же, что оскорбление величества. Это самое отвратительное и самое дерзкое преступление. Уклоняющийся от допроса крадет истину. Законом это предусмотрено. В подобных случаях англичане во все времена пользовались правом воздействовать на преступника, прибегая к яме, к колодкам и к цепям.
— Anglica charta[428] тысяча восемьдесят восьмого года, — пояснил законовед.
И с той же деревянной торжественностью прибавил:
— Ferrum, et fossam, et furcas, cum alliis libertatibus[429].
Шериф продолжал:
— Вследствие этого, подсудимый, поскольку вы не пожелали нарушить свое молчание, хотя находитесь в здравом уме и отлично понимаете, чего требует от вас правосудие, поскольку вы обнаружили дьявольское упорство, вас надлежало бы сжечь живым, но вы, в соответствии с точными указаниями уголовных статутов, были подвергнуты пытке, именуемой «допросом с наложением тяжестей». Вот что было сделано с вами. Закон требует, чтобы я лично сообщил вам это. Вас привели в это подземелье, вас раздели донага и положили на спину, растянув вам руки и ноги и привязав их к четырем колоннам — к столпам закона, — на грудь вам положили чугунную плиту, а на нее столько камней, сколько вы оказались в состоянии выдержать. «И даже сверх того», как говорит закон.
— Plusque[430], — подтвердил законовед.
Шериф продолжал:
— Прежде чем подвергнуть вас дальнейшему испытанию, я, шериф графства Серрейского, обратился к вам, когда вы уже находились в таком положении, вторично предложив вам отвечать и говорить, но вы с сатанинским упорством хранили молчание, невзирая на то, что на вас надеты цепи, колодки, ошейник и кандалы.
— Attachiamenta legalja[431], — произнес законовед.
— Ввиду вашего отказа и запирательства, — сказал шериф, — а также ввиду того, что справедливость требует, чтобы настойчивость закона не уступала упорству преступника, испытание было продолжено в порядке, установленном эдиктами и сводом законов. В первый день вам не давали ни есть, ни пить.
— Hoc est superjejunare[432], — пояснил законовед.
Наступило молчание. Слышно было только ужасное хриплое дыхание человека, придавленного грудой камней.
Законовед дополнил свое пояснение:
— Adde augmentum abstinentiae ciborum diminutione. Consuetude britannica[433], статья пятьсот четвертая.
Оба, шериф и законовед, говорили попеременно; трудно представить себе что-либо мрачнее этого невозмутимого однообразия; унылый голос вторил голосу зловещему; можно было подумать, что священник и дьякон, представители некоего культа пыток, служат кровожадную обедню закона.
Шериф снова начал:
— В первый день вам не давали ни пить, ни есть. На второй день вам дали есть, но не дали пить; вам положили в рот три кусочка ячменного хлеба. На третий день вам дали пить, но не дали есть. Вам влили в рот в три приема тремя стаканами пинту воды, почерпнутой из сточной канавы тюрьмы. Наступил четвертый день — сегодняшний. Если вы и теперь не будете отвечать, вас оставят здесь, пока вы не умрете. Этого требует правосудие.
Законовед, не упуская случая подать реплику, монотонно произнес:
— Mors rei homagium est bonae legi[434].
— И в то время, как вы будете умирать самым жалким образом, — подхватил шериф, — никто не придет к вам на помощь, хотя бы у вас кровь хлынула горлом, выступила из бороды, из подмышек, из всех отверстий тела, начиная со рта и кончая чреслами.
— A throtebolla, — подтвердил законовед, — et pabus et subhircis, et a grugno usque ad crupponum.
Шериф продолжал:
— Человек, выслушайте меня внимательно, ибо последствия касаются вас непосредственно. Если вы откажетесь от своего гнусного молчания и сознаетесь во всем, то вас только повесят, и вы получите право на meldefeoh, то есть на известную сумму денег.
— Damnum confitens, — подтвердил законовед, — habeat le meldefeoh. Leges Inae[435].
— Каковая сумма, — подчеркнул шериф, — будет выплачена вам дойткинсами, сускинсами и галихальпенсами, которые в силу статута, изданного в третий год царствования Генриха Пятого, отменившего эти деньги, могут иметь хождение только в данном случае; кроме того, вы будете иметь право на scortum ante mortem[436], после чего вас удавят на виселице. Таковы выгоды признания. Угодно вам отвечать суду?
Шериф умолк в ожидании ответа. Пытаемый даже не пошевельнулся.
Шериф продолжал:
— Человек, молчание — это прибежище, в котором больше риска, чем надежды на спасение. Запирательство пагубно и преступно. Кто молчит на суде, тот изменник короне. Не упорствуйте в своем дерзостном неповиновении. Подумайте о ее величестве. Не противьтесь нашей всемилостивейшей государыне. Отвечайте ей в моем лице. Будьте верным подданным.
Пытаемый захрипел.
Шериф продолжал:
— Итак, по истечении первых трех суток испытания наступили четвертые. Человек, это — решительный день. Очная ставка законом предусмотрена на четвертый день.
— Quarta die, frontem ad frontem adduce[437], — пробормотал законовед.
— Мудрость законодателя, — продолжал шериф, — избрала этот последний час для получения того, что наши предки называли «решением смертного хлада», поскольку в такое мгновение принимается на веру бездоказательное утверждение или отрицание.
Законовед снова пояснил:
— Judicium pro frodmortell, quod homines credensi sint per suum ya et per suum na. Хартия короля Адельстана. Том первый, страница сто семьдесят третья.
Шериф выждал минуту, затем наклонил к пытаемому свое суровое лицо:
— Человек, простертый на земле…
Он сделал паузу.
— Человек, слышите ли вы меня? — крикнул он.
Пытаемый не шевельнулся.
— Во имя закона, — приказал шериф, — откройте глаза.
Веки допрашиваемого по-прежнему оставались закрытыми.
Шериф повернулся к врачу, стоявшему налево от него.
— Доктор, поставьте ваш диагноз.
— Probe, da diagnosticum, — повторил законовед.
Врач, сохраняя торжественность каменного изваяния, сошел с плиты, приблизился к простертому на земле, нагнулся, приложил ухо к его рту, пощупал пульс на руке, подмышкой и на бедре, потом снова выпрямился.
— Ну как? — спросил шериф.
— Он еще слышит, — ответил медик.
— Видит он?
— Может видеть.
По знаку шерифа судебный пристав и жезлоносец приблизились. Жезлоносец поместился у головы пытаемого; судебный пристав стал позади Гуинплена.
Врач, отступив на шаг, стал между колоннами.
Тогда шериф, подняв букет роз, словно священник кропило, обратился громким голосом к допрашиваемому; он стал страшен.
— Говори, о несчастный! — крикнул он. — Закон заклинает тебя, прежде чем уничтожить. Ты хочешь казаться немым, подумай о немой могиле; ты притворяешься глухим, подумай о страшном суде, который глух к мольбам грешника. Подумай о смерти, которая еще хуже, чем ты. Подумай, ведь ты навеки останешься в подземелье. Выслушай меня, подобный мне, ибо и я — человек. Выслушай меня, брат мой, ибо я христианин. Выслушай меня, сын мой, ибо я старик. Страшись меня, ибо я властен над твоим страданием и буду беспощаден. Ужас, воплощенный в лице закона, сообщает судье величие. Подумай! Я сам трепещу перед собой. Моя собственная власть повергает меня в смятение. Не доводи меня до крайности. Я чувствую в себе священную злобу судьи карающего. Исполнясь же, несчастный, спасительным и достодолжным страхом перед правосудием и повинуйся мне. Час очной ставки наступил, и тебе надлежит отвечать. Не упорствуй. Не допускай непоправимого. Вспомни, что кончина твоя в моих руках. Внемли мне, полумертвец! Если только ты не хочешь умирать здесь в течение долгих часов, дней и недель, угасая в мучительной, медленной агонии, среди собственных нечистот, терзаемый голодом, под тяжестью этих камней, один в этом подземелье, покинутый всеми, забытый, отверженный, отданный на съедение крысам, раздираемый на части всякой тварью, водящейся во мраке, меж тем как над твоей головой будут двигаться люди, занятые своими делами, куплей, продажей, будут ездить кареты; если только ты не хочешь стенать здесь от отчаяния, скрежеща зубами, рыдая, богохульствуя, не имея подле себя ни врача, который смягчил бы боль твоих ран, ни священника, который божественной влагой утешения утолил бы жажду твоей души, о, если только ты не хочешь чувствовать, как будет выступать на губах твоих предсмертная пена, — то молю и заклинаю тебя: послушайся меня! Я призываю тебя помочь самому себе; сжалься над самим собой, сделайте, что от тебя требуют, уступи настояниям правосудия, повинуйся, поверни голову, открой глаза и скажи, узнаешь ли ты этого человека?
Пытаемый не повернул головы и не открыл глаз.
Шериф посмотрел сначала на судебного пристава, потом на жезлоносца.
Судебный пристав снял с Гуинплена шляпу и плащ, взял его за плечи и поставил лицом к свету так, чтобы закованный в цепи мог видеть его. Черты Гуинплена внезапно выступили из темноты во всем своем ужасающем безобразии.
В то же время жезлоносец нагнулся, схватил обеими руками голову пытаемого за виски, повернул ее к Гуинплену и пальцами раздвинул сомкнутые веки. Показались дико выкатившиеся глаза.
Пытаемый увидел Гуинплена.
Тогда, уже сам приподняв голову и широко раскрыв глаза, он стал всматриваться в него.
Содрогнувшись всем телом, как только может содрогнуться человек, которому на грудь навалили целую гору, он вскрикнул:
— Это он! Да, это он!
И разразился ужасным смехом.
— Это он! — повторил пытаемый.
Его голова снова упала на землю, глаза закрылись.
— Секретарь, запишите, — сказал шериф.
До этой минуты Гуинплен, несмотря на свой испуг, кое-как владел собою. Но крик пытаемого: «Это он!» потряс его. При словах же шерифа: «Секретарь, запишите» — у него кровь застыла в жилах. Ему показалось, что лежащий перед ним преступник увлекает его за собою в пропасть по причинам, о которых он, Гуинплен, даже не догадывался, и что непонятное для него признание этого человека железным ошейником замкнулось у него на шее. Он представил себе, как их обоих — его самого и этого человека — прикуют рядом к позорному столбу. Охваченный ужасом, потеряв всякую почву под ногами, он попробовал защищаться. Глубоко взволнованный, сознавая свою полную непричастность к какому бы то ни было преступлению, он бормотал что-то бессвязное и, весь дрожа, утратив последнее самообладание, выкрикивал все, что ему приходило на ум, — подсказанные смертельной тревогой слова, напоминающие пущенные наудачу снаряды.
— Неправда! Это не я! Я не знаю этого человека! Он не может знать меня, потому что я не знаю его! Меня ждут; у меня сегодня представление. Чего от меня хотят? Отпустите меня на свободу! Все это ошибка! Зачем привели меня в это подземелье? Неужели не существует никаких законов? Скажите тогда прямо, что никаких законов не существует. Господин судья, повторяю, это не я! Я не виновен ни в чем решительно. Я это твердо знаю. Я хочу уйти отсюда. Это несправедливо! Между этим человеком и мною нет ничего общего. Можете навести справки. Моя жизнь у всех на виду. Меня схватили точно вора. Зачем меня задержали? Да разве я знаю, что это за человек? Я — странствующий фигляр, выступающий на ярмарках и рынках. Я — «Человек, который смеется». Немало народу перевидало меня. Мы помещаемся на Таринзофилде. Вот уже пятнадцать лет, как я честно занимаюсь своим ремеслом. Мне пошел двадцать пятый год. Я живу в Тедкастерской гостинице. Меня зовут Гуинплен. Сделайте милость, господа судьи, прикажите выпустить меня отсюда. Не надо обижать беспомощных, обездоленных людей. Сжальтесь над человеком, который ничего дурного не сделал, у которого нет ни покровителей, ни защитников. Перед вами бедный комедиант.
— Передо мною, — сказал шериф, — лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, пэр Англии.
Шериф встал и, указывая Гуинплену на свое кресло, прибавил:
— Милорд, не соблаговолит ли ваше сиятельство присесть?
Часть VIII. Море и судьба послушны одним и тем же ветрам
Глава 73
Прочность хрупких предметов
Порою судьба протягивает нам чашу безумия. Из неизвестного появляется вдруг рука и подает нам темный кубок с неведомым дурманящим напитком.
Гуинплен ничего не понял.
Он оглянулся, чтобы посмотреть, к кому обращается шериф.
Слишком высокий звук неуловим для слуха; слишком сильное волнение непостижимо для разума. Существуют определенные границы, как для слуха, так и для понимания.
Жезлоносец и судебный пристав приблизились к Гуинплену, взяли его под руки, и он почувствовал, как его сажают в то кресло, с которого поднялся шериф.
Он безропотно подчинился, не пытаясь понять, что означает все это.
Когда Гуинплен сел, судебный пристав и жезлоносец отступили на несколько шагов и, вытянувшись, стали позади кресла.
Шериф положил свой букет на выступ каменной плиты, надел очки, которые подал ему секретарь, извлек из-под груды дел, лежавших на столе, пожелтелый, покрытый пятнами, позеленевший, изъеденный плесенью и местами разорванный пергамент, исписанный с одной: стороны и хранивший на себе следы многочисленных сгибов. Подойдя поближе к фонарю, шериф поднес пергамент к глазам и, придав своему голосу всю торжественность, на какую только был способен, принялся читать:
«Во имя отца и сына и святого духа,
Сего двадцать девятого января тысяча шестьсот девяностого года по рождестве христовом,
На безлюдном побережье Портленда был злонамеренно покинут десятилетний ребенок, обреченный тем самым на смерть от голода и холода в этом пустынном месте.
Ребенок этот был продан в двухлетнем возрасте по повелению его величества, всемилостивейшего короля Иакова Второго.
Ребенок этот — лорд Фермен Кленчарли, законный и единственный сын покойного лорда Кленчарли, барона Кленчарли-Генкервилла, маркиза Корлеоне Сицилийского, пэра Английского королевства, ныне покойного, и Анны Бредшоу, его супруги, также покойной.
Ребенок этот — наследник всех владений и титулов своего отца. Поэтому, в соответствии с желанием его величества, всемилостивейшего короля, его продали, изувечили, изуродовали и объявили пропавшим бесследно.
Ребенок этот был воспитан и обучен с целью сделать из него фигляра, выступающего на ярмарках и рыночных площадях.
Он был продан двух лет от роду, после смерти отца, причем королю было уплачено десять фунтов стерлингов за самого ребенка, а также за различные уступки, попущения и льготы.
Лорд Фермен Кленчарли в двухлетнем возрасте был куплен мною, нижеподписавшимся, а изувечен и обезображен фламандцем из Фландрии, по имени Хардкванон, которому был известен секрет доктора Конкеста.
Ребенок был нами предназначен стать маскою смеха — masca ridens.
С этой целью Хардкванон произвел над ним операцию Bucca fissa usque ad aures[438], запечатлевающую на лице выражение вечного смеха.
Способом, известным одному только Хардкванону, ребенок был усыплен и изуродован незаметно для него, вследствие чего он ничего не знает о произведенной над ним операции.
Он не знает, что он лорд Кленчарли.
Он откликается на имя «Гуинплен».
Это объясняется его малолетством и недостаточным развитием памяти, ибо он был продан и куплен, когда ему едва исполнилось два года.
Хардкванон — единственный человек, умеющий делать операцию Bucca fissa, и это дитя — единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена.
Операция эта столь своеобразна и неповторима, что если бы этот ребенок превратился в старика и волосы его из черных стали бы седыми, Хардкванон все-таки сразу узнал бы его.
В то время, как мы пишем это, Хардкванон, которому доподлинно известны все упомянутые события, ибо он принимал в них участие в качестве главного действующего лица, находится в тюрьме его высочества принца Оранского, ныне именуемого у нас королем Вильгельмом Третьим. Хардкванон был задержан и взят под стражу по обвинению в принадлежности к шайке компрачикосов, или чейласов. Он заточен в башню Четэмской тюрьмы.
Ребенок, согласно повелению короля, был продан и выдан нам последним слугой покойного лорда Линнея в Швейцарии, близ Женевского озера, между Лозанной и Веве, в том самом доме, где скончались отец и мать ребенка; слуга умер вскоре после своих господ, так что это злодеяние в настоящее время является тайной для всех, кроме Хардкванона, заключенного в Четэмской тюрьме, и нас, обреченных на смерть.
Мы, нижеподписавшиеся, воспитали и держали у себя в течение восьми лет купленного нами у короля маленького лорда, рассчитывая извлечь из него пользу для нашего промысла.
Сегодня, покинув Англию, чтобы не разделить участи Хардкванона, мы, из опасений и страха перед суровыми карами, установленными за подобные деяния парламентом, с наступлением сумерек оставили одного на Портлендском берегу упомянутого маленького Гуинплена, лорда Фермена Кленчарли.
Сохранить это дело в тайне мы поклялись королю, но не господу.
Сегодня ночью, по воле провидения, застигнутые в море сильной бурей и находясь в совершенном отчаянии, преклонив колени перед тем, кто один в силах спасти нам жизнь и, быть может, по милосердию своему спасет и наши души, уже не ожидая ничего от людей, а страшась гнева господня и видя якорь спасения и последнее прибежище в глубоком раскаянии, примирившись со смертью и готовые радостно встретить ее, если только небесное правосудие будет этим удовлетворено, смиренно каясь и бия себя в грудь, — мы делаем это признание и вверяем его бушующему морю, чтобы оно воспользовалось им во благо, согласно воле всевышнего. Да поможет нам пресвятая дева! Аминь. В чем и подписуемся».
Шериф прервал чтение и сказал:
— Вот подписи. Все сделаны разными почерками.
И снова стал читать:
«Доктор Гернардус Геестемюнде. — Асунсион». — Крест, и рядом: «Барбара Фермой с острова Тиррифа, что в Эбудах. — Гаиздорра, капталь. — Джанджирате. — Жак Катурз, по прозвищу Нарбоннец. — Люк-Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы».
Шериф опять остановился и сказал:
— Следует приписка, сделанная тем же почерком, каким написан текст, очевидно учиненная тем лицом, которому принадлежит первая подпись.
Он прочел:
«Из трех человек, составлявших экипаж урки, судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже: — Гальдеазун. — Аве-Мария, вор».
Перемежая чтение своими замечаниями, шериф продолжал:
— Внизу листа помечено: «В море, на борту «Матутины», бискайской урки из залива Пасахес».
— Этот лист, — прибавил шериф, — канцелярский пергамент с вензелем короля Иакова Второго. На полях есть еще приписка, сделанная тою же рукою:
«Настоящее показание написано нами на оборотной стороне королевского приказа, врученного нам в качестве оправдательного документа при покупке ребенка. Перевернув лист, можно прочесть приказ».
Шериф перевернул пергамент и, держа его в правой руке, поднес ближе к свету. Все увидели чистую страницу, если только выражение «чистая страница» применимо к полусгнившему лоскуту; посредине можно было разобрать три слова: два латинских — jussu regis[439] и подпись «Джеффрис».
— Jussu regis, Джеффрис, — произнес шериф во всеуслышание, но уже без всякой торжественности.
Гуинплен был подобен человеку, которому свалилась на голову черепица с крыши волшебного замка.
Он заговорил, словно в полузабытьи:
— Гернардус… да, его называли «доктор». Всегда угрюмый старик. Я боялся его. Гаиздорра, капталь, это значит — главарь. Были и женщины: Асунсион и еще другая. Потом был провансалец — Капгаруп. Он пил из плоской фляги, на которой красными буквами было написано имя.
— Вот она, — сказал шериф.
И положил на стол какой-то предмет, который секретарь вынул из «мешка правосудия».
Это была оплетенная ивовыми прутьями фляга с ушками. Она, несомненно, перевидала всякие виды и, должно быть, немало времени провела в воде. Ее облепили раковины и водоросли. Она была сплошь испещрена ржавым узором — работой океана. Затвердевшая смола на горлышке свидетельствовала о том, что фляга была когда-то герметически закупорена. Ее распечатали и откупорили, потом снова заткнули вместо пробки втулкой из просмоленного троса.
— В эту бутылку, — сказал шериф, — люди, обреченные на смерть, вложили только что прочитанное мною показание. Это послание к правосудию было честно доставлено ему морем.
Сообщив своему голосу еще большую торжественность, шериф продолжал:
— Подобно тому, как гора Харроу родит отличную пшеницу, из которой получается прекрасная мука, идущая на выпечку хлеба для королевского стола, точно так же и море оказывает Англии всевозможные услуги, и когда исчезает лорд, оно его находит и возвращает обратно.
Он прибавил:
— На этой фляге действительно красными буквами выведено чье-то имя.
Возвысив голос, он повернулся к преступнику, лежавшему неподвижно:
— Здесь стоит ваше имя, злодей! Неисповедимы пути, которыми истина, поглощаемая пучиной людских деяний, снова всплывает на поверхность.
Взяв в руки флягу, шериф поднес ее к свету той стороной, которая была очищена, — вероятно, для расследования. В ивовые прутья была вплетена извилистая красная полоска тростника, местами почерневшая от действия воды и времени. Несмотря на то, что кое-где она была повреждена, можно было совершенно ясно разобрать все десять букв, составлявших имя Хардкванон.
Шериф опять повернулся к преступнику и снова заговорил тем не похожим ни на какой другой тоном, который можно назвать голосом правосудия:
— Хардкванон! Когда эта фляга с вашим именем была нами, шерифом, предъявлена вам в первый раз, вы сразу же добровольно признали ее своею; затем, по прочтении вам пергамента, находившегося в ней, вы не пожелали ничего прибавить к своим предшествующим показаниям и отказались отвечать на какие бы то ни было вопросы, вероятно рассчитывая, что пропавший ребенок не найдется и что вы, таким образом, избегнете наказания. Вследствие этого я к вам применил «длительный допрос с наложением тяжестей», и вам вторично прочитали вышеупомянутый пергамент, содержащий в себе показания и признание ваших сообщников. Это не привело ни к чему. Сегодня, на четвертый день, — день, назначенный по закону для очной ставки, — очутившись лицом к лицу с тем, кто был брошен в Портленде двадцать девятого января тысяча шестьсот девяностого года, вы убедились в крушении всех своих греховных надежд и, нарушив молчание, признали в нем свою жертву…
Преступник открыл глаза, приподнял голову и необычно громким для умирающего голосом, в котором вместе с предсмертным хрипом звучало какое-то странное спокойствие, с зловещим выражением произнес несколько слов; при каждом слове ему приходилось подымать всей грудью кучу наваленных на «его камней, могильной плитою пригнетавших его к земле.
— Я поклялся хранить тайну и действительно хранил ее до последней возможности. Темные люди — люди верные; честность существует и в аду. Сегодня молчание уже бесполезно. Пусть будет так. И потому я говорю. Ну, да. Это он. Таким его сделали мы вдвоем с королем: король — своим соизволением, я — своим искусством.
Взглянув на Гуинплена, он прибавил:
— Смейся же вечно.
И сам захохотал.
Этот смех, еще более страшный, чем первый, звучал как рыдание.
Смех прекратился, голова Хардкванона откинулась назад, веки опустились.
Шериф, предоставив преступнику возможность высказаться, заговорил снова:
— Все это подлежит внесению в протокол.
Он дал секретарю время записать слова Хардкванона и продолжал:
— Хардкванон, по закону, после очной ставки, приведшей к положительному результату, после третьего чтения показаний ваших сообщников, подтвержденных ныне вашим собственным откровенным признанием, после вашего вторичного свидетельства вы сейчас будете освобождены от оков, чтобы, с соизволения ее величества, быть повешенным, как плагиатор.
— Как плагиатор, — отозвался законовед, — то есть как продавец и скупщик детей. — Вестготский закон, книга седьмая, глава третья, параграф Usurpaverit[440]; и Салический закон, глава сорок первая, параграф второй; и закон фризов, глава двадцать первая — «De Plagio»[441]. Александр Неккам говорит также: «Qui pueros vendis, plagiarius est tibi nomen»[442].
Шериф положил пергамент на стол, снял очки, снова взял букет и произнес:
— Суровый длительный допрос с пристрастием прекращается. Хардкванон, благодарите ее величество.
Судебный пристав сделал знак человеку в кожаной одежде.
Человек этот, подручный палача, «виселичный слуга», как он назывался в старинных хартиях, подошел к пытаемому, снял один за другим лежавшие на животе камни, убрал чугунную плиту, из-под которой показались расплющенные ее тяжестью бока несчастного, освободил кисти рук и лодыжки от колодок и цепей, приковывавших его к четырем столбам.
Преступник, избавленный от всякого груза и от оков, все еще лежал на полу с закрытыми глазами, раскинув руки и ноги, точно распятый, которого только что сняли с креста.
— Встаньте, Хардкванон! — сказал шериф.
Преступник не шевелился.
«Виселичный слуга» взял его за руку, подержал ее, потом опустил, — она безжизненно упала. Другая рука, которую он приподнял вслед за первой, упала точно так же. Подручный палача схватил сначала одну, затем другую ногу преступника; когда он отпустил их, они ударились пятками о пол. Пальцы обеих ног остались неподвижными, точно одеревенели. У лежащего плашмя на земле голые ступни всегда как-то странно торчат кверху.
Подошел врач, вынул из кармана маленькое стальное зеркальце и приложил его к раскрытому рту Хардкванона, затем пальцем приподнял ему веки. Они уже больше не опустились. Остекленевшие зрачки не дрогнули.
Врач выпрямился и сказал:
— Он мертв.
Затем прибавил:
— Он засмеялся, и это его убило.
— Это уже не имеет значения, — заметил шериф. — После того как он сознался, вопрос о его жизни или смерти — пустая формальность.
И, указав на Хардкванона букетом роз, он отдал распоряжение жезлоносцу:
— Труп убрать отсюда сегодня же ночью.
Жеэлоносец почтительно наклонил голову.
Шериф прибавил:
— Тюремное кладбище — напротив.
Жезлоносец опять наклонил голову.
Секретарь писал протокол.
Шериф, держа в левой руке букет, взял в правую руку свой белый жезл, стал прямо перед Гуинпленом, все еще сидевшим в кресле, отвесил ему глубокий поклон, потом с не меньшей торжественностью откинул назад голову и, глядя в упор на Гуинплена, сказал:
— Вам, здесь присутствующему, мы, кавалер Филипп Дензил Парсонс, шериф Серрейского графства, в сопровождении Обри Доминика, эсквайра, нашего клерка и секретаря, наших обычных помощников, получив надлежащим образом прямые и специальные на этот счет приказания ее величества, в силу данного нам поручения, со всеми вытекающими из него правами и обязанностями, сопряженными с нашей должностью, а также с разрешения лорд-канцлера Англии, на основании протоколов, актов, сведений, сообщенных адмиралтейством, после проверки документов и сличения подписей, по прочтении и выслушании показаний, после очной ставки, учинения всех требуемых законом процедур, приведших к благополучному и справедливому завершению дела, — мы удостоверяем и объявляем вам, чтобы вы могли вступить в обладание всем, принадлежащим вам по праву, что вы — Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский и пэр Англии. И да хранит господь ваше сиятельство.
И он поклонился.
Законовед, врач, судебный пристав, жезлоносец, секретарь — все присутствующие, за исключением палача, последовали его примеру и поклонились Гуинплену еще более почтительно, чуть не до самой земли.
— Что это такое? — крикнул Гуинплен. — Да разбудите же меня!
И, смертельно бледный, вскочил с кресла.
— Я и пришел для того, чтобы разбудить вас, — проговорил чей-то голос, который прозвучал здесь в первый раз.
Из-за каменного столба выступил человек. Так как никто не спускался в подземелье с той минуты, когда железная плита, поднявшись, открыла доступ в застенок полицейскому шествию, было ясно, что этот человек проник сюда и спрятался в тени еще до появления Гуинплена, что ему поручили наблюдать за всем происходившим и что в этом заключалась его обязанность. Это был тучный человек в придворном парике и дорожном плаще, скорее старый, чем молодой, державшийся весьма пристойно. Он поклонился Гуинплену почтительно, непринужденно; с изяществом хорошо вышколенного лакея, а на с неуклюжестью судейского чина.
— Да, — сказал он, — я пришел разбудить вас. Вот уже двадцать пять лет, как вы спите. Вы видите сон, и вам пора очнуться. Вы считаете себя Гуинпленом, тогда как вы — Кленчарли. Вы считаете себя простолюдином, между тем как вы — знатный дворянин. Вы считаете, что находитесь в последнем ряду, между тем как стоите в первом. Вы считаете себя скоморохом, в то время как вы — сенатор. Вы считаете себя бедняком, в действительности же вы — богач. Вы считаете себя ничтожным, между тем как вы принадлежите к сильным мира сего. Проснитесь, милорд!
Слабым голосом, в котором звучал неподдельный ужас, Гуинплен прошептал:
— Что значит все это?
— Это значит, милорд, — ответил толстяк, — что меня зовут Баркильфедро, что я — чиновник адмиралтейства; что эта выброшенная волнами фляга Хардкванона была найдена на берегу моря; что она была доставлена мне, ибо распечатывание таких сосудов входит в круг моих обязанностей; что я откупорил ее в присутствии двух присяжных, состоящих при отделе Джетсон, двух членов парламента, Вильяма Блетуайта, представителя города Бата, и Томаса Джервойса, представителя города Саутгемптона; что они описали и удостоверили содержимое фляги и вместе со мною скрепили протокол своими подписями; что о находке я доложил ее величеству; что, по повелению королевы, все требуемые законом формальности были выполнены с соблюдением тайны, необходимой в столь щекотливом деле, и что последняя из этих формальностей — очная ставка — только что имела место; это значит, что у вас миллион годового дохода, что вы — лорд Соединенного королевства Великобритании, законодатель и судья, верховный судья и верховный законодатель, облаченный в пурпур и горностай, что вы стоите на одной ступени с принцами и почти равны императору, что ваша голова увенчана пэрской короной и что вы женитесь на герцогине, дочери короля.
Потрясенный этим превращением, поразившим его подобно удару грома, Гуинплен лишился чувств.
Глава 74
То, что плывёт, достигает берега
Все случившееся явилось следствием того, что некий солдат нашел на берегу моря бутылку.
Расскажем, как это случилось.
Каждое происшествие должно рассматривать лишь как звено в цепи других обстоятельств.
Как-то раз один из четырех канониров, составлявших гарнизон Келшорского замка, подобрал во время отлива на песке оплетенную ивовыми прутьями флягу, выброшенную на берег волнами. Фляга эта, сплошь покрытая плесенью, была закупорена просмоленной втулкой. Солдат отнес находку в замок полковнику, а тот отослал ее адмиралу Англии. Адмиралу — значит, в адмиралтейство; в адмиралтействе же предметами, выброшенными на берег, ведал Баркильфедро. Баркильфедро, распечатав и откупорив бутылку, доставил ее королеве. Королева сразу взялась за дело. Она сообщила о находке и предложила высказаться двум важнейшим своим советникам — лорд-канцлеру, который по закону является «блюстителем совести английского короля», и лорд-маршалу, «знатоку в вопросах геральдических и родословных». Томас Ховард, герцог Норфолькский, пэр-католик, наследственный гофмаршал Англии, передал через своего представителя графа-маршала Генри Ховарда, графа Биндона, что он заранее соглашается с мнением лорд-канцлера. Лорд-канцлером был тогда Вильям Коупер. Не надо смешивать его с его однофамильцем и современником Вильямом Коупером, анатомом и комментатором Бидлоу, выпустившим в Англии свой «Трактат о мускулах» почти в то же самое время, когда во Франции Этьен Абейль напечатал «Историю костей»; между хирургом и лордом существует некоторая разница. Лорд Вильям Коупер стяжал себе известность фразой, сказанной по поводу дела Талбота Иелвертона, виконта Лонгвиля: «Для конституции Англии восстановление в правах пэра имеет большее значение, чем реставрация короля». Найденная в Келшоре фляга чрезвычайно заинтересовала лорд-канцлера. Всякий, высказавший какое-либо принципиальное суждение, рад отучаю применить его на деле. А тут как раз представился случай восстановить пэра в его правах. Принялись за розыски человека, выступавшего под именем Гуинплена; найти его оказалось делом нетрудным. Хардкванона тоже. Он был еще жив. Тюрьма может сгноить человека, но вместе с тем сохранить его, если только содержать под стражей значит сохранять. Заключенных в крепости тревожили редко. Темницу не меняли так же, как не меняют мертвецам гроба. Хардкванон все еще сидел в Четэмской тюрьме. Оставалось только взять его оттуда. Его перевезли из Четэма в Лондон. Одновременно с этим навели справки в Швейцарии. Все факты полностью подтвердились. В соответствующих учреждениях в Лозанне и Веве нашли брачное свидетельство лорда Линнея, относящееся к периоду его изгнания, метрическую запись о рождении ребенка, акты о смерти отца и матери; со всех этих бумаг сняли «на всякий случай» по две засвидетельствованные копии. Все это было выполнено с соблюдением строжайшей тайны в чрезвычайно короткий срок, как говорилось тогда, «с королевской быстротой» и с сохранением глубочайшего «рыбьего молчания», рекомендованного и применявшегося Беконом, а позднее возведенного Блекстоном в обязательное правило при производстве дел верховной канцелярии и государственных дел, а также при рассмотрении вопросов, именовавшихся в ту пору «сенаторскими».
Надпись «Jussu regis» и подпись «Джеффрис» были признаны подлинными. Для того, кто изучал патологический характер королевских прихотей, именовавшихся «соизволением его или ее величества», это «Jussu regis» не представляет ничего удивительного. Почему Иаков II, которому, казалось бы, следовало скрывать подобные деяния, запечатлел их в документах, рискуя даже повредить успеху предприятия? Ведь это цинизм. Высокомерное презрение ко всему на свете. Ах, вы думаете, что только непотребные женщины, бывают бесстыдны? Государственная политика тоже не отличается стыдливостью. Et se cupit ante videri[443]. Совершить преступление и хвастаться им — к этому сводится вся история. Король делает себе татуировку, точно каторжник. Надо бы спастись от жандарма и от суда истории, но в то же время жаль расстаться с такой интересной приметой: ведь хочется, чтоб тебя знали и запомнили. Взгляните на мою руку, обратите внимание на этот рисунок с изображением храма любви и пылающего сердца, пронзенного стрелой, — это я, Ласнер. «Jussu regis» — это я, Иаков Второй. Совершить злодеяние — и приложить к нему свою печать. Проявить бесстыдство, сознательно выдать самого себя, выставить напоказ свое преступление — в этом и заключается наглая похвальба злодея. Христина велит схватить Мональдески, вырвать у него признание, умертвить его и при этом говорит: «Я — королева Швеции и пользуюсь гостеприимством короля Франции». Не все тираны поступают одинаково: одни прячутся, как Тиберий, другие тщеславно хвастаются, как Филипп II. Одни ближе к скорпиону, другие — к леопарду. Иаков II принадлежал ко второй разновидности. Лицо у него, как известно, в противоположность Филиппу II, было открытое и веселое. Филипп II был мрачен, Иаков II — жизнерадостен. Это не мешало ему быть жестоким. Иаков II был тигр добродушный, но, подобно Филиппу, спокойно относился к своим преступлениям. Он был извергом «милостью божией». Потому-то ему ничего не приходилось скрывать и затушевывать: его убийства находили себе оправдание в его «божественном праве». Он тоже готов был оставить после себя Симанкасские архивы, в которых хранились бы пергаменты с подробным перечнем всех его злодеяний, перенумерованные, разложенные по отделам, снабженные ярлыками, в полном порядке, каждый на своей полке, словно яды в лаборатории аптекаря. Подписываться под своими преступлениями — жест, достойный короля.
Всякое совершенное деяние — вексель, выданный на великого неизвестного предъявителя. По векселю со зловещей передаточной надписью «jussu regis» наступил срок платежа.
Королева Анна, умевшая, в отличие от большинства женщин, прекрасно хранить тайну, предложила лорд-канцлеру представить ей по этому важному делу тайный доклад, так называемый «доклад королевскому уху». Такого рода доклады были в большом ходу во всех монархических странах. В Вене был даже особый «советник уха», в звании советника двора. Эта почетная должность, учрежденная во времена Каролингов, соответствовала auricularius[444] старинных палатинских хартий — лицу, близкому к императору и имевшему право нашептывать ему на ухо.
Вильям Коупер, канцлер Англии, пользовавшийся доверием королевы на том основании, что был близорук, как и она, если не больше, составил докладную записку, начинавшуюся так: «У Соломона к его услугам были две птицы: удод «худбуд», говоривший на всех языках, и орел «симурганка», покрывавший тенью своих крыльев караван из двадцати тысяч человек. Точно так же, хотя и в несколько иной форме…» и т. д. Лорд-канцлер признавал доказанным тот факт, что наследственный пэр был похищен, изувечен и впоследствии найден. Он не порицал Иакова II, который как-никак приходился королеве родным отцом. Он даже приводил доводы в его оправдание. Во-первых, испокон веков существуют известные монархические принципы. E senioratu eripimus. In roturagio cadut[445]. Во-вторых, королю принадлежит право изувечения его подданных. Чемберлен это признавал. «Corpora et bona nostrorum subjectorum nostra sunt»[446], — изрек преславной и преблагой памяти Иаков I. «Для блага государства» выкалывали глаза герцогам королевской крови. Некоторые принцы, слишком близкие к трону, в полезных для него целях были удушены между двумя тюфяками, прячем их смерть приписывалась апоплексии. Удушить же — дело более серьезное, чем изуродовать. Король тунисский вырвал глаза своему отцу, Муллей-Ассему, тем не менее его послы были приняты императором. Итак, король может приказать лишить своего подданного какой-либо части тела точно так же, как лишают прав состояния и т. п., — это вполне законно. Но одно законное действие не уничтожает другого. «Если человек, которого утопят по приказанию короля, выплывет на поверхность живым, это означает, что бог смягчил королевский приговор. Если найден наследственный пэр, должно ему возвратить пэрскую корону. Так было с лордом Алла, королем Нортумбрии, который тоже был фигляром. Так должно поступить и с Гуинпленом, который тоже король, то есть лорд. Низкое ремесло, которым ему пришлось заниматься в силу непреодолимых обстоятельств, не позорит герба; тому свидетельством Абдолоним, который, будучи королем, был вместе с тем и садовником, или святой Иосиф, который был плотником, или, наконец, Аполлон, который был богом и в то же время пастухом». Короче, ученый канцлер приходил к выводу, что необходимо восстановить Фермена, лорда Кленчарли, ложно именуемого Гуинпленом, во всех его имущественных правах и титулах, но «под непременным условием, чтобы ему была дана очная ставка с преступником Хардкваноном и чтобы упомянутый Хардкванон признал его». Этим заключением канцлер, конституционный блюститель королевской совести, окончательно успокаивал эту совесть.
В особой приписке лорд-канцлер напоминал, что в случае упорного запирательства Хардкванона к нему следует применить «длительный допрос с пристрастием», причем очная ставка должна произойти лишь на четвертый день, когда для преступника настанет час «смертного хлада», о котором говорит хартия короля Адельстана. В этом было, конечно, некоторое неудобство: а именно — пытаемый мог умереть на второй или на третий день, что затруднило бы очную ставку; тем не менее приходилось подчиняться закону. Применение закона всегда встречает известные трудности.
Впрочем, по мнению лорд-канцлера, можно было быть вполне уверенным, что Хардкванон признает Гуинплена.
Анна, с одной стороны, в достаточной мере осведомленная об уродстве Гуинплена, с другой — не желая обижать сестру, к которой перешли все поместья Кленчарли, с радостью согласилась на брак герцогини Джозианы с новым лордом, то есть с Гуинпленом.
Восстановление в правах лорда Фермена Кленчарли не представляло никаких затруднений, ибо он являлся прямым и законным наследником. В сомнительных случаях, когда трудно бывало доказать родство или когда пэрство in abeyance[447] оспаривалось родственниками по боковой линии, закон требовал перенесения вопроса в палату лордов. Не обращаясь к более отдаленным временам, укажем, что в 1782 году здесь был разрешен вопрос о праве Елизаветы Перри на Сиднейское баронство; в 1789 году — о праве Томаса Степльтона на Бомонтское баронство; в 1803 году — о праве достопочтенного Таимвела Бриджеса на баронство Чандос; в 1813 году — о праве генерал-лейтенанта Ноллиса на пэрство и на графство Бенбери и т. д. В данном случае не было ничего подобного. Никакой тяжбы. Незачем было тревожить палату, и для признания нового лорда было вполне достаточно одного волеизъявления королевы в присутствии лорд-канцлера.
Заправлял всем Баркильфедро.
Благодаря ему дело велось с такими предосторожностями, тайна охранялась так тщательно, что ни Джозиана, ни лорд Дэвид даже не подозревали о том, как искусно под них подкапываются. Высокомерную Джозиану, державшуюся в стороне от всех, обойти было нетрудно. Что же касается лорда Дэвида, то его отправили в плавание к берегам Фландрии. Ему предстояло лишиться титула лорда, а он об этом и не догадывался. Отметим здесь одну подробность. В десяти лье от места стоянки флотилии, которой командовал лорд Дэвид, капитан Хелибертон разбил французский флот. Граф Пемброк, председатель совета, предложил наградить капитана Хелибертона чином контр-адмирала. Анна вычеркнула фамилию Хелибертон и внесла вместо нее в список имя лорда Дэвида Дерри-Мойр, для того чтобы к тому моменту, когда он узнает о потере пэрства, лорд Дэвид мог по крайней мере утешиться адмиральским чином.
Анна чувствовала себя вполне удовлетворенной. Сестре — безобразный муж, лорду Дэвиду — прекрасный чин. С одной стороны — злорадство, с другой — благоволение.
Ее величеству предстояло насладиться ею же самой придуманной комедией. К тому же она убедила себя в том, что исправляет несправедливость, допущенную ее августейшим отцом, возвращает сословию пэров одного из его членов, то есть действует, как подобает великой монархине, что, по воле божией, она защищает невинность, что провидение в благих и неисповедимых путях своих… и т. д. Нет ничего приятнее, чем поступать справедливо, когда тем самым причиняешь огорчение тому, кого ненавидишь.
Впрочем, для королевы было достаточно уже одного сознания, что у ее красавицы-сестры будет уродливый муж. В чем именно состоит уродство Гуинплена, каково это безобразие, — Баркильфедро не счел нужным сообщить королеве, а сама она не соблаговолила расспросить его об этом. Подлинно королевское пренебрежение. Да и не все ли равно? Палата лордов могла быть только признательна ей. Лорд-канцлер, официальный оракул, выразил общее мнение. Восстановить пэра — значит поддержать все пэрское сословие. Королевская власть в этом случае выступала как верная и надежная заступница пэрских привилегий. Какова бы ни была внешность нового пэра, она не может явиться препятствием, поскольку речь идет о законном праве на наследство. Анна, вполне удовлетворенная своими доводами, пошла прямо к цели — к великой, женской и королевской цели, состоящей в том, чтобы поступать так, как ей заблагорассудится.
Королева жила в то время в Виндзоре, поэтому придворные интриги не сразу получили огласку.
Только лица, без которых никак нельзя было обойтись, были осведомлены о предстоящих событиях.
Баркильфедро торжествовал, и это придавало его лицу еще более зловещее выражение. Порою радость бывает самым отвратительным чувством.
Ему первому выпало на долю удовольствие откупорить флягу Хардкванона. Он не выказал при этом особого удивления, ибо удивляются только ограниченные люди. К тому же — не правда ли? — это было для него вполне заслуженной наградой, — он так долго ждал счастливого случая. Должна же была, наконец, судьба улыбнуться ему.
Это nil mirari[448] было одной из отличительных черт его поведения. Однако, надо сознаться, в глубине души он был поражен. Тому, кто мог бы сорвать с него личину, под которой он скрывал свою душу даже перед богом, представилась бы такая картина: именно в это время Баркильфедро начинал приходить к убеждению, что он, человек ничтожный и вместе с тем так близко стоящий к блистательной герцогине Джозиане, не в силах нанести ей хоть какой-нибудь удар. Это вызвало в нем безумный взрыв затаенной ненависти. Он дошел до полного отчаяния. Чем больше терял он надежду, тем сильнее становилась его ярость. «Грызть удила» — как верно передают эта слова состояние духа злого человека, которого гложет сознание собственного бессилия. Баркильфедро был, пожалуй, готов отказаться если не от желания причинить зло Джозиане, то от своих мстительных планов; если не от бешеной вражды к ней, то от намерения ужалить ее. Но какой это позор для него — выпустить из рук добычу! Затаить в себе злобу, как прячут в ножны кинжал, годный лишь для музея! Какое горчайшее унижение!
И вдруг, как раз в это самое время (хаос, господствующий во вселенной, любит такие совпадения!) фляга Хардкванона, перепрыгивая с волны на волну, попадает в руки Баркильфедро. В неведомом сокрыты какие-то силы, всегда готовые выполнять веления зла. В присутствии двух равнодушных свидетелей, двух чиновников адмиралтейства Баркильфедро открывает флягу, находит в ней пергамент, разворачивает его, читает… Представьте себе только его сатанинскую радость!
Странно подумать, что море, ветер, водные пространства, приливы и отливы, бури, штили могут прилагать столько усилий с единственной целью доставить счастье злому человеку. Однако именно такой заговор осуществлялся целых пятнадцать лет. Непостижимая тайна! В течение пятнадцати лет океан беспрерывно работал над этим. Волны передавали одна другой всплывшую на поверхность флягу, подводные камни сделали все, чтобы она не разбилась о них и на стекле не появилось ни одной трещины, пробка осталась цела, морские водоросли не разъели ивовой плетенки, раковины не стерли слова «Хардкванон», вода не проникла внутрь сосуда, плесень не покрыла пергамента, сырость не уничтожила написанного — сколько забот приняла на себя морская пучина! И вот в конечном итоге то, что Гернардус бросил во тьму, тьма отдала Баркильфедро: послание, предназначенное богу, попало в руки к дьяволу. Беспредельность злоупотребила доверием человека; по мрачной иронии судьбы торжество справедливости — превращение покинутого ребенка, Гуинплена, в лорда Кленчарли — осложнилось победой адской злобы; судьба совершила благое дело, прибегнув к дурному средству, и заставила правосудие послужить несправедливости. Отнять жертву у Иакова II — и отдать ее в руки Баркильфедро. Возвысить Гуинплена только для того, чтобы унизить Джозиану. Баркильфедро достиг успеха — и для этого в продолжение стольких лет волны, бурные валы и шквалы бросали, терзали — и уберегли стеклянную флягу, в которой тесно переплелись жребии стольких людей! Для этого вступили между собою в сердечное согласие ветры, приливы и бури! Необъятный, вечно волнующийся океан сотворил это чудо в угоду мерзавцу! Бесконечность оказалась помощницей жадного червя! Какие мрачные прихоти бывают порою у судьбы!
Баркильфедро почувствовал прилив титанической гордости. Он говорил себе, что все было сделано ради него одного. Ему казалось, что он — центр и цель происшедшего.
Он ошибался. Отдадим справедливость случаю. Не в этом заключался истинный смысл замечательного происшествия, которым воспользовался в своей ненависти Баркильфедро. Дело обстояло совсем иначе. Океан, заменив сироте отца и мать, наслал бурю на его палачей, разбил урку, оттолкнувшую от себя ребенка, поглотил тех, кто находился на ней, не внимая их мольбам о пощаде и соглашаясь принять от них только раскаяние; буря получила залог из рук смерти; прочное судно, хранящее преступления, заменила собою хрупкая фляга, внутри которой был документ, долженствовавший восстановить поруганную справедливость; море, подобно пантере, ставшей кормилицей, взяло на себя новую роль: оно принялось укачивать не самого ребенка, а его жребий, в то время как ребенок рос, не подозревая о том, что совершает для него морская пучина; волны, в которые была брошена бутылка, неусыпно бодрствовали над этим осколком прошлого, заключавшим в себе грядущее; ураган осторожно проносился над хрупким сосудом, течения несли его зыбкими путями среди бездонных глубин; водоросли, буруны, утесы, кипящие пеной волны взяли под свое покровительство невинное существо; океанский вал оказался непоколебим, как совесть; хаос восстанавливал порядок; мрак стремился к торжеству света; тьма содействовала восходу солнца истины; изгнанник, лежавший в могиле, получил утешение, наследник — законное наследство: преступное решение короля отменялось, предначертанное свыше воплощалось в жизнь, беспомощный, брошенный ребенок обрел опекуна в лице самой бесконечности. Вот что мог бы увидеть Баркильфедро в событии, приводившем его в такой восторг. Но ничего этого он не видел. Ему и в голову не приходило, что все это совершилось ради Гуинплена; он решил, что все было сделано для него, Баркильфедро, и что он вполне заслужил это. Таковы сатанинские натуры.
Тот, кто удивился бы, что такой хрупкий предмет, как стеклянная фляга, мог уцелеть, проплавав пятнадцать лет, лишь обнаружил бы недостаточное знакомство с океаном, который очень кроток по природе. 4 октября 1867 года в Морбигане, между островом Груа, оконечностью Гаврского полуострова и утесом Странников, рыбаки из Порт-Луи нашли римскую амфору четвертого века, которую море разрисовало своими арабесками. Эта амфора проплавала полторы тысячи лет.
Как ни старался Баркильфедро напустить на себя равнодушный вид, его изумление могло сравниться только с его радостью.
Все само давалось ему в руки, все было словно нарочно подготовлено. Все составные части события, которое должно было насытить его ненависть, оказались к его услугам. Ему оставалось только сблизить их еще больше и соединить между собой. Такая пригонка — приятное занятие. Чеканная работа.
Гуинплен! Это имя было ему известно. Masca ridens. Как и все, он ходил смотреть на «Человека, который смеется». Он прочитал вывеску у Тедкастерской гостиницы, как читают всякую театральную афишу, привлекающую к себе внимание толпы; он заметил ее и теперь сразу припомнил ее до мельчайших подробностей, которые, впрочем, позднее проверил; эта афиша возникла перед его умственным взором с быстротою электрической искры, заняла место в его сознании рядом с пергаментом, обнаруженным в бутылке, как ответ на вопрос, как разгадка загадки, и слова вывески: «Здесь можно видеть Гуинплена, покинутого в десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года на берегу моря в Портленде» — внезапно озарились для него апокалиптическим светом. Перед ним на ярмарочной вывеске вспыхнула огромными буквами надпись — «Мене, текел, фарес». Все сложное сооружение, каким была по существу жизнь Джозианы, сразу рухнуло. Обвал произошел с молниеносной быстротой. Дэвид Дерри-Мойр терял все. Пэрство, богатство, могущество, высокое положение — все переходило от лорда Дэвида к Гуинплену. Все — замки, охоты, леса, особняки, дворцы, поместья, — все, в том числе и Джозиана, доставалось отныне Гуинплену. А Джозиана! Какой финал! Кто теперь был предназначен ей? Ей, прославленной, высокомерной герцогине — площадной шут. Ей, привередливой красавице — урод. Кто мог бы этого ожидать? Говоря по правде, Баркильфедро был в восторге. Неожиданные прихоти судьбы, неистощимой на дьявольские выдумки, иногда превосходят самые злобные замыслы людей. Действительность порой творит настоящие чудеса. Теперь Баркильфедро казались глупыми и жалкими его недавние мечты. Его ожидало нечто лучшее.
Если бы предстоящая перемена даже послужила ему во вред, он все равно, продолжал бы к ней стремиться. Есть злые насекомые, которые жалят, не только не извлекая из укуса никакой пользы для себя, но даже зная, что сами умрут от этого. Баркильфедро принадлежал к их числу.
Но в этот раз он действовал не бескорыстно. Лорд Дэвид Дерри-Мойр не был ему обязан ничем, тогда как лорд Фермен Кленчарли должен был стать его неоплатным должником. Из покровительствуемого Баркильфедро становился покровителем. И чьим покровителем? Пэра Англии. У него будет свой собственный лорд — лорд, созданный им! Баркильфедро твердо рассчитывал, что сразу же приберет его к рукам. И этот лорд будет морганатическим зятем королевы! Своим уродством он столько же будет приятен королеве, сколько противен Джозиане. Благодаря ему и он, Баркильфедро, облачившись в скромную, солидную одежду, может стать значительной персоной. Он всегда чувствовал влечение к духовной карьере. Ему так хотелось сделаться епископом.
А пока он был вполне счастлив настоящим.
Какой блестящий успех! Простая случайность, и как все отлично сложилось! Волны медленно, но верно доставили ему возможность мщения: он называл это своим мщением! Не напрасно подстерегал он удачу.
Он, Баркильфедро, был подводным утесом, а Джозиана — потерпевшим крушение судном. Джозиана разбилась о Баркильфедро! Он испытывал неописуемый злобный восторг.
Он обладал так называемым даром внушения, который состоит в том, что в уме другого человека делают как бы надрез, куда влагают собственную мысль; держась в стороне и не вмешиваясь явно ни во что, Баркильфедро устроил так, чтобы Джозиана поехала в «Зеленый ящик» и увидела Гуинплена. Это никак не могло повредить планам Баркильфедро. Напротив, показать фигляра в окружавшей его унизительной обстановке — это было совсем неплохо придумано и позднее должно было оказаться острой приправой к тому, что ожидало Джозиану впереди.
Он заранее потихоньку подготовил все. Он хотел, чтобы события разразились внезапно. Проделанную им работу можно было обозначить только необычным определением: он стремился вызвать удар грома.
Покончив с предварительными приготовлениями, он позаботился о том, чтобы все требуемые законом формальности были выполнены. Однако дело не получило огласки, ибо закон предписывал соблюдать в подобных случаях строгую тайну.
Произошла очная ставка Хардкванона с Гуинпленом; Баркильфедро присутствовал при этом. Чем она окончилась, читателю известно.
В тот же самый день за леди Джозианой, находившейся в Лондоне, неожиданно приехала посланная королевой карета, чтобы отвезти герцогиню в Виндзор, где пребывала в это время Анна. Джозиана, у которой были свои планы, с удовольствием ослушалась бы приказания ее величества или по крайней мере отложила бы свою поездку на один день, но придворный этикет не допускает такого своеволия. Ей пришлось немедленно отправиться в дорогу и переменить свою лондонскую резиденцию, Генкервилл-Хауз, на виндзорскую — Корлеоне-Лодж.
Герцогиня Джозиана покинула Лондон как раз в ту самую минуту, когда жезлоносец явился в Тедкастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гуинплена и отвести его в саутворкское подземелье пыток.
Когда она приехала в, Виндзор, пристав черного жезла, дежуривший у дверей в приемную королевы, сообщил Джозиане, что ее величество слушает доклад лорд-канцлера и может принять ее только на следующий день; поэтому она должна ждать в Корлеоне-Лодже распоряжений ее величества, которые будут переданы ей лично завтра же утром. Джозиана, весьма раздосадованная, вернулась к себе, была за ужином в дурном расположении духа и, почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг, кроме своего пажа, потом отпустила и его и легла спать еще засветло.
Уже дома она узнала, что завтра в Виндзоре ожидают лорда Дэвида Дерри-Мойр, который получил в море приказание королевы немедленно прибыть ко двору.
Глава 75
Всякий, кого в одно мгновение перебросили из Сибири в Синегал, лишился бы чувств (Гумбольдт)
Нет ничего удивительного в том, что даже самый крепкий и выносливый мужчина теряет сознание под влиянием внезапной перемены судьбы. Неожиданность оглушает человека, как мясник оглушает обухом быка. Франциск д'Альбескола, тот самый, что разрывал голыми руками железные цепи в турецких гаванях, целый день пролежал в обмороке, когда его избрали папой. А ведь расстояние, отделяющее кардинала от папы, меньше расстояния, отделяющего скомороха от пэра Англии.
Ничто не действует так сильно, как нарушение равновесия.
Когда Гуинплен открыл глаза и пришел в себя, была уже ночь. Он сидел в кресле посреди просторной комнаты, где стены и потолок были обтянуты пурпурным бархатом, а пол устлан мягким ковром. Рядом стоял без шляпы и в дорожном плаще человек с толстым животом — тот, который вышел из-за колонны в саутворкском подземелье. Кроме него и Гуинплена, никого в комнате не было. По обеим сторонам от кресла, так близко, что Гуинплен мог достать до них рукой, стояли два стола, а на них — канделябры с шестью зажженными восковыми свечами. На одном из столов находились какие-то бумаги и шкатулка; на другом — золоченое блюдо с закуской: холодная дичь, вино и бренди.
В высоком, от самого пола до потолка, окне на светлом фоне ночного апрельского неба вырисовывались колонны, обступившие полукругом парадный двор с тремя воротами: одними очень широкими и двумя поуже; средние ворота — для карет — были очень большие, ворота направо — для всадников — поменьше, а налево — для пешеходов — еще меньше. Все ворота запирались решетками с блестящими остриями на концах прутьев. Средние ворота были украшены лепкой. Колонны были, по-видимому, из белого мрамора, так же как и блестевшие, точно снег, плиты, которыми был вымощен двор; они окаймляли белым полем какой-то мозаичный узор, еле выделявшийся в полумраке; при дневном свете этот узор, вероятно, оказался бы гербом, выложенным по флорентийскому образцу из разноцветных плиток. Балюстрады, то поднимавшиеся зигзагами кверху, то спускавшиеся вниз, были не чем иным, как перилами лестниц, соединявших между собою террасы. Над двором высилось громадное здание замка, очертания которого расплывались в ночной мгле; вверху, на усеянном звездами небе, выступал резкий силуэт кровля. Видна была огромная крыша, щипец с завитками, мансарды, похожие на шлемы с забралами, дымовые трубы, напоминавшие башни, и карнизы со статуями богов и богинь. В полумраке между колоннами взлетали кверху брызги одного из тех волшебных водометов, которые, переливаясь с тихим журчанием из бассейна в бассейн, ниспадают то мелким дождем, то сплошными каскадами, похожи на ларцы, из которых высыпались драгоценности, и с безрассудной щедростью разбрасывают во все стороны свои алмазы и жемчуга, словно для того, чтобы развеять скуку окружающих их статуй. В простенках длинного ряда окон виднелись барельефы в виде щитов с доспехами и бюсты на подставках. На цоколях фронтона военные трофеи и каменные шишаки с султанами чередовались с изображениями богов.
В глубине комнаты, где находился Гуинплен, был с одной стороны громадный, упиравшийся в самый потолок, камин, а с другой, под балдахином, — одна из тех непомерно высоких и широких кроватей средневекового стиля, на которые надо взбираться по ступенькам помоста и где свободно можно улечься поперек. К помосту этого ложа была придвинута скамейка. Остальная мебель состояла из кресел, выстроившихся вдоль стен, и расставленных перед ними стульев. Потолок имел форму купола; в камине, на французский лад, пылал жаркий огонь; по яркости пламени, по его розовато-зеленым языкам знаток сразу определил бы, что горят ясеневые дрова — большая роскошь в те времена; комната была так велика, что два канделябра еле освещали ее. Несколько дверей, одни с опущенными, другие с приподнятыми портьерами, вели в смежные комнаты. Вся обстановка, прочная и массивная, носила на себе отпечаток несколько устаревшей, но великолепной моды времен Иакова I. Точно так же, как ковер и обивка стен, все в этой комнате было из красного бархата: полог, балдахин, покрывало кровати, занавеси, скатерти на столах, кресла, стулья. Никакой позолоты, кроме как на потолке. Там, в самой середине, блестел огромный чеканной работы круглый щит с ослепительными геральдическими украшениями; среди них, на двух расположенных рядом гербах, выделялись баронская корона в виде обруча и корона маркиза. Из чего были сделаны все эти эмблемы? Из позолоченной меди? Из позолоченного серебра? Определить было трудно. Они казались золотыми. С темного свода роскошного потолка этот мрачно сверкающий щит сиял, словно солнце на ночном небе.
Выросший на воле человек, который дорожит своей свободой, испытывает во дворце почти то же чувство беспокойства, что и в тюрьме. Это пышное зрелище вызывает тревогу. Всякое великолепие внушает страх. Кто обитатель этого царского чертога? Какому исполину принадлежит этот дворец? Гуинплен все еще не мог прийти в себя, и сердце его сжималось.
— Где я? — произнес он вслух.
Человек, стоявший перед ним, ответил:
— Вы у себя дома, милорд.
Глава 76
Чары
Для того чтобы всплыть со дна на поверхность, требуется некоторое время.
Гуинплен был ввергнут в такую глубокую пучину изумления, что сразу прийти в себя он не мог.
Невозможно в одно мгновение освоиться с неведомым.
Мысли иногда приходят в расстройство точно так же, как войско на войне, и их так же трудно собрать, как разбежавшихся солдат. Человек чувствует себя как бы расчлененным на части. Он присутствует при каком-то странном распаде собственной личности.
Бог — рука, случай — праща, человек — камень. Попробуйте остановиться, когда вас метнули ввысь.
Гуинплена — да простят нам это сравнение — как бы швыряло от одного поразительного события к другому. После любовного письма герцогини — открытие в саутворкском подземелье.
Когда вы вступаете в полосу неожиданностей, готовьтесь к тому, что они обрушатся на вас одна за другой. Как только перед вами распахнулась эта страшная дверь, в нее сразу устремляются неожиданности. Как только в стене пробита брешь, события сразу же врываются в этот пролом. Необычайное не приходит только один раз.
Необычайное — это мрак. Этот мрак окутывал Гуинплена. То, что с ним случилось, казалось ему непостижимым. Он видел все сквозь туман, который заволакивает наше сознание после пережитого нами глубокого потрясения подобно тому, как после обвала еще стоит в воздухе облако пыли. Это было действительно сильное потрясение. Он не мог разобраться в окружающем. Но мало-помалу воздух становится прозрачнее. Пыль оседает. С каждой минутой ослабевает удивление. Гуинплен напоминал человека, спящего с открытыми глазами и старающегося разглядеть то, что происходит с ним во сне. Он то разгонял это облако, то опять давал ему сгущаться, то терял рассудок, то снова обретал его. Под влиянием неожиданности он переживал те колебания разума, которые бросают нас из стороны в сторону, заставляя переходить от понимания к полной растерянности. Кому не случалось наблюдать это качание маятника в собственном мозгу?
Постепенно мысль Гуинплена стала осваиваться с мраком загадочного события, подобно тому как ранее его глаза освоились с мраком саутворкского подземелья. Трудность заключалась в том, что надо было как-то распутать все эти сбившиеся в один клубок впечатления. Для того чтобы воспринять нагромождение событий, нужна передышка. Здесь же ее не было: события обрушивались одно за другим, не давая ни минуты отдыха. Входя в ужасное саутворкское подземелье, Гуинплен ожидал, что его закуют в кандалы, как каторжника, а его увенчали короной. Как это могло случиться? Между тем, чего опасался Гуинплен, и тем, что с ним произошло в действительности, промежуток времени был слишком мал, все следовало слишком быстро одно за другим, его испуг чересчур скоро сменился иными чувствами, и он не мог прийти в себя. Противоположности были слишком разительны. Они как тисками сдавили рассудок Гуинплена, и он всеми силами старался высвободить его.
Он молчал. Мы не в достаточной мере отдаем себе отчет, насколько силен инстинкт, заставляющий нас прибегать к молчанию, когда мы чем-нибудь поражены до глубины души. Тот, кто не говорит ничего, способен противостоять всему. Одно случайно оброненное слово может иногда погубить все.
Бедняк живет в вечном страхе быть раздавленным. Толпа всегда боится, что ее кто-то растопчет. А Гуинплен с младенческих лет был частью этой толпы.
Бывает странное состояние тревоги, выражающееся словами «что-то надвигается». Гуинплен находился именно в таком состоянии, когда человек чувствует, что положение еще не определилось окончательно, когда выжидаешь чего-то, что еще должно произойти. Смутно настораживаешься. «Что-то надвигается». Что? — Неизвестно. Кто? Всматриваешься в даль.
Человек с большим животом повторил:
— Вы у себя дома, милорд.
Гуинплен озирался. Когда человек изумлен, он сперва оглядывается кругом, чтобы удостовериться, что все по-прежнему стоит на своем месте, затем ощупывает самого себя, чтобы убедиться в собственном существовании. Да, действительно обращались к нему, но он уже был не он. На нем уже не было его рабочего костюма, его кожаного нагрудника. На нем был камзол из серебряной парчи и, судя по ощущению, атласный, расшитый золотом кафтан, в кармане камзола туго набитый кошелек; поверх узкого, в обтяжку, трико клоуна — широкие бархатные панталоны, а на ногах башмаки с высокими красными каблуками. Его не только перенесли во дворец, его переодели с головы до ног.
Человек продолжал:
— Соблаговолите запомнить, ваша милость, что меня зовут Баркильфедро. Я чиновник адмиралтейства. Это я вскрыл флягу Хардкванона и извлек из нее ваш жребий. Так в арабских сказках рыбак выпускает из бутылки великана.
Гуинплен устремил глаза на улыбающееся лицо говорившего.
Баркильфедро продолжал:
— Кроме этого дворца, милорд, вам принадлежит Генкервилл-Хауз — тот дворец еще роскошнее. Вам принадлежит Кленчарли-Касл, дающий вам титул пэра и представляющий собою крепость времен Эдуарда Старого. Вы владеете девятнадцатью округами со всеми входящими в них деревнями и поселянами. Это дает вам возможность собрать под вашим знаменем лорда и дворянина около восьмидесяти тысяч вассалов и тяглых людей. В Кленчарли вы — полновластный судья и господин над всем — над имуществом и над людьми; там вы можете править свой баронский суд. У короля только то преимущество перед вами, что он чеканит монету. Король, который в нормандских законах именуется chief signer[449], имеет право суда и право чеканки. За исключением последнего, вы такой же король в своих поместьях, как он в своем королевстве. Как барон, вы в Англии имеете право на виселицу о четырех столбах, и в Сицилии, как маркиз, — на виселицу о семи столбах; у простого дворянина виселица о двух столбах, у ленного владельца — о трех, а у герцога — о восьми. В старинных хартиях Нортумбрии вы именуетесь государем. Вы состоите в родстве с виконтами Валеншиа (они же Поуэр) в Ирландии и с графами Эмфревиль (они же Ангус) в Шотландии. Вы являетесь главою клана, так же как Кемпбел, Ардманах и Мак-Каллумор. У вас восемь родовых поместий: Рикелвер, Бекстон, Хелл-Кертерс, Хомбл, Морикемб, Гемдрайт, Тренуордрайт и еще другие. Вам принадлежит право на торфяные разработки в Пилинморе и на алебастровые ломки в Тренте; кроме того, в вашем владении находится вся Пенетчейзская область и гора с расположенным на ней старинным городом. Город называется Вайнкаунтон, а гора — Мойл-Энли. Все это дает вам сорок тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода, то есть в сорок раз больше тех двадцати пяти тысяч франков, которыми довольствуется какой-нибудь французский маркиз.
В то время как Баркильфедро говорил, изумление Гуинплена все возрастало, и он припоминал многое. Воспоминание — пучина, которую одно слово может всколыхнуть до дна. Все названия замков и поместий, которые перечислил Баркильфедро, были знакомы Гуинплену. Они занимали несколько строк внизу двух надписей, украшавших стены возка, в котором протекло его детство; долгие годы взор его машинально скользил по ним, он невольно заучил их наизусть. Придя покинутым сиротою в передвижной балаган Урсуса, он нашел в нем опись ожидавшего его наследства; просыпаясь по утрам, бедный мальчик первым делом устремлял свой беспечный и рассеянный взгляд на перечень своих владений и титулов. Удивительное совпадение, присоединившееся ко всем неожиданностям, уготованным ему судьбою: в течение пятнадцати лет он, клоун бродячей труппы, кочевавшей с одного перекрестка на другой, он, с трудом зарабатывавший себе изо дня в день на пропитание, собиравший гроши и живший впроголодь, странствовал, все время имея перед глазами перечень своих богатств.
Баркильфедро дотронулся указательным пальцем до шкатулки, стоявшей на столе.
— Милорд, в этой шкатулке две тысячи гиней, которые ее величество, всемилостивейшая королева, посылает вам на первые расходы.
Гуинплен сделал движение.
— Это будет для моего отца Урсуса, — сказал он.
— Хорошо, милорд, — ответил Баркильфедро. — Для Урсуса, что живет в Тедкастерской гостинице. Присяжный законовед, сопровождавший нас сюда, сейчас отправляется обратно: он и отвезет ему эти деньги. Быть может, и я поеду в Лондон. В таком случае я возьму это поручение на себя.
— Я сам отвезу их, — возразил Гуинплен.
Баркильфедро перестал улыбаться и сказал:
— Невозможно.
Есть интонации, которые подчеркивают слова. Баркильфедро прибегнул именно к такой интонации. Он остановился, как будто для того, чтобы поставить точку. Потом продолжал тем почтительным и полным значения тоном, каким говорят слуги, чувствующие себя господами:
— Милорд, вы находитесь в двадцати трех милях от Лондона, в Корлеоне-Лодже, вашей придворной резиденции, смежной с Виндзорским королевским замком. Никому не известно, что вы здесь. Вас привезли сюда в закрытой карете, которая ждала вас у ворот Саутворкской тюрьмы. Люди, доставившие вас в этот дворец, вас не знают, но они знают меня, и этого довольно. Мы могли попасть в это помещение лишь благодаря тому, что у меня есть секретный ключ. В доме спят, и сейчас неудобно будить слуг. Поэтому я успею дать вам некоторые объяснения, тем более что сказать мне остается немного. Сейчас изложу суть дела. У меня есть поручение от ее величества.
Продолжая говорить, Баркильфедро принялся перелистывать пачку бумаг, лежавших рядом со шкатулкой.
— Милорд, вот ваша грамота на звание пэра. Вот другая грамота на титул сицилийского маркиза. Вот документы ваших восьми баронств, с печатями одиннадцати королей, начиная с Бальдрета, короля Кентского, и до Иакова Шестого и Первого, короля Англии и Шотландии. Вот документ на право председательствования в разных учреждениях. Вот арендные договоры на получение доходов, акты на право владения и подробные описания ваших ленов, поместий, земель и вотчин. Вот в щите над вашей головой изображены две короны — баронская с жемчугами и зубчатая корона маркиза. Рядом с этой комнатой, в гардеробной, висит ваша пурпурная, отороченная горностаем, бархатная мантия пэра. Сегодня, всего лишь несколько часов тому назад, лорд-канцлер и депутат — граф-маршал Англии, узнав о результате вашей очной ставки с компрачикосом Хардкваноном, получали распоряжения ее величества. Королева Анна соизволила своей подписью скрепить соответствующий приказ, что равносильно закону. Все формальности соблюдены. Не позднее, чем завтра, вы вступите в качестве полноправного члена в палату лордов; там уже несколько дней идет обсуждение представленного короною билля об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов, то есть на два с половиной миллиона французских ливров, годичного содержания герцогу Кемберлендскому, супругу королевы; вы можете принять участие в прениях.
Баркильфедро остановился, медленно перевел дух и продолжал:
— Однако дело еще не доведено до конца. Нельзя стать пэром Англии помимо своего желания. Если вы не захотите понять, что от вас требуется, все может рухнуть и погибнуть безвозвратно. В политике бывают случаи, когда назревающее событие так и не воплощается в жизнь. Милорд, о перемене в вашем положении пока еще никому не известно. Палата лордов узнает об этом только завтра. Все ваше дело хранилось в тайне по соображениям государственного порядка, и соображения эти настолько серьезны, что те немногие высокопоставленные лица, которые в настоящее время осведомлены о вашем существовании и ваших правах, немедленно же забудут о них, если того потребуют государственные интересы. То, что сохраняется сейчас в тайне, может остаться скрытым навсегда. Устранить вас ничего не стоит. Это тем более легко, что у вас есть брат, побочный сын вашего отца и женщины, которая впоследствии, во время его изгнания, стала любовницей короля Карла Второго, благодаря чему и ваш брат занимает при дворе видное положение; ваше пэрство может перейти к нему, хотя он и незаконный сын. Хотите вы этого? Не думаю. Итак, все зависит от вас. Надо повиноваться королеве. Вы покинете этот дворец только завтра и отправитесь в карете ее величества прямо в палату лордов. Милорд, желаете вы быть пэром Англии, да или нет? Королева имеет на вас виды. Она намерена соединить вас браком с особой почти королевской крови. Лорд Фермен Кленчарли, настала решительная минута в вашей жизни; Судьба никогда не открывает одной двери, не захлопнув в то же время другой. Сделав несколько шагов вперед, уже нельзя отступить ни на шаг. Перевоплощение неизбежно предполагает исчезновение прежней личности, Милорд! Гуинплен умер. Вы все поняли?
Гуинплен задрожал с головы до ног, потом овладел собой.
— Да, — сказал он.
Баркильфедро улыбнулся, поклонился и, спрятав шкатулку под плащ, вышел.
Глава 77
Человеку кажется, что он вспоминает, между тем он забывает
Что за странные перемены совершаются порою в человеческой душе!
Гуинплен в одно и то же время был вознесен на вершину и низвергнут в пропасть.
У него кружилась голова.
Кружилась вдвойне.
Кружилась от взлета и от падения.
Роковое сочетание.
Он чувствовал, как подымается, но не ощущал своего падения.
Новый горизонт всегда пугает нас.
Перспектива помогает найти направление. Не всегда правильное.
Перед Гуинпленом в облаках открылся волшебный просвет — не западня ли это? — и сквозь него проглянула густая синева. Такая густая, что ее можно было принять за тьму.
Он стоял на горе, с которой видны все земные царства. Гора эта тем страшнее, что в действительности ее не существует. Те, кто находится на этой вершине, погружены в сон. Тут искушает бездна, и она так сильна, что ад надеется совратить здесь рай и дьявол возносит сюда бога. Обольстить вечность — какая странная надежда! Каково же бороться человеку там, где сатана искушает Иисуса?
Дворцы, замки, могущество, богатство, все блага земные, мир безграничных наслаждений, нечто вроде лучезарной карты обоих полушарий, средоточием которых являешься ты сам, — какой опасный мираж!
Вообразите же себе смятение души перед таким видением, возникшим внезапно и без предварительно пройденных ступеней, без предупреждения, без всяких переходов.
Гуинплен был подобен человеку, заснувшему в кротовой норе, а проснувшемуся на шпиле колокольни Страсбургского собора.
Головокружение — это своего рода ясновидение. В особенности то, которое, слагаясь из двух противоположных вращательных движений, увлекает вас одновременно и к свету и к мраку.
Видишь и слишком много и слишком мало.
Видишь все и не видишь ничего.
Испытываешь состояние, которое автор этой книги назвал где-то состоянием «ослепленного светом слепого».
Оставшись один, Гуинплен взволнованно зашагал взад и вперед по комнате. Вспышка всегда предшествует взрыву.
Обуреваемый нахлынувшими мыслями, он не в силах был усидеть на месте. Эта вспышка уничтожала все его прошлое. Он вызывал в своей памяти картины минувшего. Странно: оказывается, мы прекрасно слышим то, к чему почти не прислушиваемся. Прочитанное шерифом в саутворкском подземелье показание погибших на урке теперь до малейших подробностей всплыло в его мозгу; он припоминал каждое слово; этот документ раскрыл ему тайну его детства.
Вдруг он остановился, заложив руки за спину, и поглядел на потолок или на небо — словом, куда-то вверх.
— Возмездие! — воскликнул он.
Он походил на человека, вынырнувшего из воды. Ему казалось, что он видит все: и прошедшее, и настоящее, и будущее, озаренные внезапным светом.
«Ах! — мысленно воскликнул он, ибо можно восклицать и мысленно. — Так вот в чем дело! Я, значит, родился лордом. Теперь все ясно. Меня похитили, продали, лишили наследства, покинули, обрекли на смерть! Пятнадцать лет труп моей судьбы носился по морю и, наконец, воспрянул и ожил. Я возрождаюсь. Я рождаюсь вновь! Я всегда чувствовал, что под моими лохмотьями бьется сердце не простого фигляра, и когда я обращался к людям, я сознавал, что если они стадо, то я не собака, а пастух! Пастырями народов, предводителями, правителями и властелинами, — вот кем были мои предки; и я могу быть тем же! Я дворянин — у меня есть шпага; я барон — у меня есть шлем; я маркиз — у меня есть шляпа с перьями; я пэр — у меня есть корона. Ах! Все это отняли у меня. Я был рожден для света, меня низвергли во тьму. Изгнавшие отца продали ребенка. Когда скончался мой отец, они вынули из-под его головы камень изгнания, служивший ему изголовьем, они повесили этот камень мне на шею и бросили меня в помойную яму. Эти разбойники, мучившие меня в детстве, как живые стоят передо мной, я снова вижу их. Я был куском мяса, который клевала на могиле стая воронов. Я истекал кровью, я кричал от ужаса перед этими кошмарными призраками. Ах, так вот куда меня кинули — под ноги прохожим, чтобы меня попирали все, кому не лень; меня сделали последним из последних, ниже крепостного, ниже лакея, ниже каторжника, ниже раба, — меня швырнули туда, где хаос превращается в смрадную клоаку, где все исчезает. И вот я выхожу из нее! Я воскресаю! Я здесь! Вот оно, возмездие!»
Он сел, снова вскочил, сжал голову руками и опять принялся ходить, продолжая свой бурный монолог:
«Где я? На высоте! Куда я попал? На вершину! Эта вершина, этот купол мира, это величие и всемогущество — мой родной дом. Я один из богов, обитающих в этом воздушном недосягаемом храме! Я в нем живу. Эта вершина, на которую я смотрел снизу, лучи которой так ослепляли меня, что я закрывал глаза, этот неприступный замок, эта несокрушимая крепость счастливцев — я вхожу в нее! Я поднялся к ней. Я здесь. О решающий поворот колеса судьбы! Я был внизу — и очутился наверху. Наверху — и навсегда! Я — лорд, у меня будет пурпурная мантия, зубчатая корона, я буду присутствовать при коронации королей, принимать их присягу, буду судить министров и принцев, я буду жить своей настоящей жизнью. Из бездны, куда низвергли меня, я возношусь к самому зениту. У меня есть дворцы в городе и за городом, сады, охотничьи угодья, леса, кареты, миллионы, я буду давать пиры, буду писать законы, буду наслаждаться всеми радостями жизни; бродяга Гуинплен, не имевший права сорвать полевой цветок, будет срывать с неба звезды!».
Печально вторжение мрака в человеческую душу! В том Гуинплене, который был раньше героем, да и теперь, пожалуй, не перестал быть им, произошло вытеснение величия морального жаждой величия материального, Пагубная перемена. Уничтожение добродетели сонмом налетевших демонов. Неожиданность, поражающая человека в самое слабое его место. Все низменное, что обычно считается высоким, — честолюбие, нечистые инстинкты, страсти, вожделения, изгнанные из души Гуинплена благотворным влиянием несчастья, — теперь бурной толпой нахлынуло на него и завладело этим великодушным сердцем. Что же было виною этому? Находка пергамента во фляге, выброшенной на берег Англии. Такое растление совести нежданной удачей бывает довольно часто.
Гуинплен упивался гордостью, и душа его становилась при этом все мрачнее и мрачнее. Таково воздействие этого рокового напитка.
У него кружилась голова; ошеломляющая перемена захватила все его существо; он не только принял ее, но и наслаждался ею. Слишком долго не мог он утолить жажды. Разве не добровольно жертвуем мы рассудком, прикасаясь устами к чаше безумия? Он всегда смутно желал этого. Его взор был всегда устремлен на великих мира сего, а смотреть — значит желать. Недаром орленок родился в орлином гнезде.
Он — лорд; теперь это начинало казаться ему совершенно естественным.
Прошло только несколько часов, а как далеко от него все вчерашнее!
Гуинплен встретил на своем пути западню: лучшее оказалось врагом хорошего.
Горе тому, про кого говорят: «Счастливец)»
С несчастьем справиться легче, чем со счастьем. Невзгоды менее пагубны для человека, чем благополучие. Бедность — Харибда, богатство — Сцилла. Те, что устояли под ударами грома, падают, ослепленные внезапным блеском молнии. Ты, не страшившийся пропасти, бойся быть унесенным в облака легионами крылатых мечтаний. Высота может унизить тебя. Зловещая опасность падения кроется в апофеозе.
Трудно познать себя в счастье. Случай всегда рад надеть на себя личину. Нет ничего обманчивее его. Что он: провидение или злой рок?
Не всякий огонь есть свет. Ибо свет — истина, а огонь может быть вероломным. Вы думаете, что он освещает, а он испепеляет.
Ночь. Чья-то рука ставит зажженную свечу на окно, распахнутое в темноту. Жалкая сальная свеча кажется во мраке звездою, и мотылек летит на нее.
Его ли это вина?
Огонь зачаровывает мотылька так же, как взгляд змеи зачаровывает птицу.
Могут ли мотылек и птица устоять перед этим? Может ли листок не поддаться ветру? Может ли камень не подчиниться закону притяжения?
Все это вопросы материальные, но они имеют и моральное значение.
После письма герцогини Гуинплену удалось взять себя в руки. В нем оказалось достаточно сил, чтобы устоять перед соблазном. Но буря, утихнув на одном краю горизонта, начинает бушевать на другом; судьба впадает в не меньшее ожесточение, чем природа. Первый порыв ветра сотрясает дерево, второй вырывает его с корнем.
Увы! Не так ли падают могучие дубы?
И вот тот, кто десятилетним ребенком, оставшись один на Портлендском утесе, бесстрашно смотрел в глаза противникам, с которыми ему предстояло схватиться, — и буре, уносившей корабль, на котором он собирался плыть, и морю, поглотившему доску, по которой он хотел взбежать на корабль, и зияющей пустоте, грозно отступавшей перед ним, и земле, отказавшей ему в приюте, и зениту, отказавшему ему в путеводной звезде, и безжалостному одиночеству, и непроглядному мраку, и океану, и небу — словом, всем силам, заключенным в одной беспредельности, и всем загадкам, заключенным в другой; тот, кто не задрожал и не пал духом перед беспощадной враждебностью неведомого рока; тот, кто еще малым ребенком не убоялся ночи, как древний Геркулес не убоялся смерти; тот, кто в этой неравной борьбе бросил вызов и взял на свое попечение другого ребенка; тот, кто взвалил на себя, несмотря на слабость и усталость, лишнее бремя и стал еще более уязвим, но сорвал своей рукой намордники с чудовищ мрака, подстерегавших его со всех сторон; тот, кто, чуть не с колыбели вступив в поединок с собственной судьбой, стал укротителем диких зверей; тот, кому явное превосходство сил противника все же не помешало сразиться с ним; тот, кто, невзирая на одиночество, в котором он очутился, когда все покинули его, мужественно принял этот жребий и гордо продолжал свой путь; тот, кто храбро боролся с холодом, жаждой и голодом; тот, кто, будучи пигмеем по росту, оказался исполином душой, — тот самый Гуинплен, который победил свирепое дыхание двуликой бездны — бури и несчастья, теперь пошатнулся под дуновением тщеславия.
И вот, когда рок, обрушив на человека все несчастья, бедствия, бури, катастрофы и смертные муки, видит, что тот все-таки устоял, и начинает ему улыбаться, человек, внезапно охмелев, валится с ног.
Улыбка рока! Можно ли представить себе что-нибудь более страшное? Это — последнее средство, к которому прибегает безжалостный искуситель человеческих душ. Судьба, словно тигр, протягивает иногда бархатную лапу. Коварные приготовления. Омерзительна ласковость этого чудовища.
Каждый знает по себе, как часто возвышение совпадает с упадком сил. Слишком быстрый рост нарушает равновесие и вызывает лихорадку.
Бесчисленное множество новых мыслей с головокружительной быстротой проносилось в мозгу Гуинплена; в нем совершались таинственные превращения, непостижимое столкновение прошлого с будущим; это была встреча двух Гуинпленов, это было как бы его раздвоение; позади — ребенок в лохмотьях, вышедший из мрака, бездомный голодный бродяга, дрожащий от холода и вызывающий смех; впереди — блистательный, гордый, пышный вельможа, ослепляющий своим великолепием весь Лондон. Он сбрасывал старую оболочку и срастался с новой. Он расставался с существованием фигляра и становился лордом. Меняя внешний облик, порой меняют душу. Минутами все это казалось слишком похожим на сон. Это было так сложно, это было и дурно и хорошо. Он думал о своем отце. Как мучительно думать об отце, которого не знаешь! Он старался себе представить его. Он думал о брате, о котором ему только что сказали. Итак, у него есть семья. Как? Семья — у него, у Гуинплена! Он терялся в фантастических догадках. Воображение рисовало ему великолепные картины, перед ним, как облака, проходили величественные шествия; ему чудились трубные звуки.
«И к тому же, — думал он, — я буду красноречив».
И он представлял себе свое торжественное вступление в палату лордов. Он входит туда, полный новых идей. Сколько надо ему сказать! Как много накопилось у него мыслей! Какое огромное преимущество имеет он перед ними — он, человек, столько видевший, столько испытавший, столько переживший, столько страдавший, человек, который может крикнуть им: «Все то, от чего вы так далеки, мне было близко!» Этим патрициям, живущим в искусственном, ложном мире, он бросит в лицо голую правду, и они затрепещут, ибо он ничего не скроет, и они станут рукоплескать ему, потому что он будет велик. Он будет головою выше этих всесильных людей, могущественнее их всех; он предстанет перед ними носителем света, ибо явит им истину, и меченосцем, ибо откроет им справедливость. Какое торжество!
И в то время как эти совершенно отчетливые и вместе с тем смутные мысли проносились в мозгу Гуинплена, он беспрерывно двигался, как бы в бреду: опускался в первое попавшееся кресло, впадал в минутное забытье и вдруг снова вскакивал. Он ходил взад и вперед по комнате, глядел на потолок, рассматривал короны, изучал непонятные ему изображения на гербе, ощупывал бархатную обивку стен, передвигал стулья, разворачивал свитки грамот, разбирал титулы — Бекстон, Хомбл, Гемдрайт, Генкервилл, Кленчарли, сравнивал между собою сургучные оттиски королевских печатей, дотрагивался до их шелковых шнурков, подходил к окну, прислушивался к журчанию водомета; устремлял взор на статуи, с терпением лунатика пересчитывал мраморные колонны и говорил: «Да, все это явь».
Ощупывая свой атласный кафтан, он спрашивал себя:
— Я ли это?
И сам же отвечал:
— Да, я.
В нем все еще бушевала буря.
В этом вихре чувств, наполнявшем все его существо, чувствовал ли он слабость, усталость? Утолял ли он жажду и голод, спал ли он? Если да, то бессознательно. При сильном душевном потрясении человек удовлетворяет свои физические потребности без всякого участия мысли. К тому же мысли Гуинплена рассеивались, как дым. Разве в ту минуту, когда черное пламя вырывается из клокочущего кратера, вулкан отдает себе отчет в том, что на траве, у его подножия, пасутся стада?
Часы проходили за часами.
Занялась заря, наступило утро. Луч света проник в комнату, а вместе с тем и в сознание Гуинплена.
— А Дея? — напомнил он Гуинплену.
Часть IX. Личины Урсуса
Глава 78
Что говорит человеконенавистник
Увидав, как Гуинплен скрылся за дверью Саутворкской тюрьмы, Урсус, растерявшись, так и замер в закоулке, откуда он наблюдал за всем происходившим. В ушах у него еще долго раздавались скрип замков и лязг засовов, похожие на радостный визг тюрьмы, поглотившей еще одного несчастного. Он ждал. Чего? Он высматривал. Что? Эти неумолимые двери, однажды замкнувшись, распахиваются уже не скоро; они кажутся окаменевшими, навсегда застывшими неподвижно во мраке и с трудом поворачиваются на своих петлях, в особенности когда надо кого-нибудь выпустить; войти — можно, выйти — дело другое. Урсус знал это. Но человек так устроен, что он ждет иногда помимо своей воли, даже зная, что ждать уже нечего. Чувства, толкающие нас на какие-нибудь действия, продолжают проявляться вовне, как бы в силу инерции, даже тогда, когда предмета, на который они были направлены, уже нет, и заставляют нас еще в течение какого-то времени стремиться к исчезнувшей цели. Бесполезное ожидание, бессмысленное стояние, потеря времени, когда внимание приковано к предмету, уже скрывшемуся из виду, — все это каждому не раз приходилось переживать. Продолжаешь чего-то выжидать с безотчетным упорством. Сам не знаешь почему, но остаешься на том же месте. То, что было начато сознательно, продолжаешь по какой-то инерции. Такое упорство истощает и приводит к упадку сил. Хотя Урсус во многом отличался от других людей, однако и он все еще стоял как вкопанный: он погрузился в состояние настороженного раздумья, охватывающего нас перед лицом огромного события, перед которым мы бессильны. Он смотрел на черные стены — то на низкую, то на высокую, смотрел на калитку, на прибитую над нею виселичную лестницу, на ворота, над которыми красовалось изображение черепа; он был как бы зажат в тиски между тюрьмой и кладбищем. В этой пустынной улице, которую все старались обойти, было так мало прохожих, что Урсуса никто не замечал.
Наконец он вышел из своего закоулка — из каменной ниши, где стоял на карауле, и медленно поплелся назад. Уже вечерело, — так долго он пробыл здесь. Он то и дело оборачивался и смотрел на страшную калитку, за которой скрылся Гуинплен. Взгляд у него был тупой и застывший. Он добрел до конца переулка, повернул за угол, прошел один переулок, потом другой, смутно припоминая дорогу, которая несколько часов тому назад привела его сюда. Он то и дело оглядывался, как будто мог увидать тюремную калитку, хотя улица, где находилась тюрьма, осталась далеко позади. Мало-помалу он приближался к Таринзофилду. Переулки, прилегавшие к ярмарочной площади, представляли собой пустынные тропинки между оградами садов. Он шел, согнувшись, вдоль изгородей и рвов. Но вдруг он остановился и воскликнул:
— Тем лучше!
Тут он дважды хлопнул себя по лбу и по бедрам — жест, свидетельствующий о том, что человек понял, наконец, в чем дело.
Он продолжал идти, то бормоча себе под нос, то повышая голос:
— Отлично! Ах, негодяй! Разбойник! Шалопай! Бездельник! Бунтовщик! Конечно, он мятежник! И я укрывал у себя мятежника. Ну, теперь я избавился от него. Он осрамил нас. Его упекли на каторгу! И поделом! На то и законы. Ах, неблагодарный! А я-то воспитывал его! Вот и старайся тут! Кто тянул его за язык? Туда же, рассуждать! Совать нос в государственные дела! Скажите пожалуйста! У самого в кармане ломаный грош, а он разглагольствует о налогах, обо всем, что нисколько его не касается! Позволять себе высказывать суждения о пенни! Глумиться над королевской медной монетой! Оскорблять ее величество! Разве фартинг не то же самое, что королева? На нем ее изображение, черт возьми, ее священное изображение! Есть у нас королева или нет? Ну, так изволь уважать ее позеленевшие медяки. В государстве все связано одно с другим. Это надо зарубить себе на носу. Я-то пожил на свете. Я знаю жизнь. Мне, пожалуй, скажут: вы, значит, отрекаетесь от политики? Ну, разумеется. Политика, друзья мои, интересует меня, как прошлогодний снег. Однажды меня ударил тростью один баронет. Я сказал себе: «Довольно с меня, теперь я понял, что такое политика». Королева отбирает у народа последний грош, и народ ее благодарит. Нет ничего проще. Остальное касается лордов. Их сиятельств, вельмож духовных и светских. А Гуинплена под замок! А Гуинплена на галеры! Так и надо, это справедливо. Это вполне резонно, великолепно, заслуженно и законно. Сам виноват. Не болтай лишнего. Что ты — лорд, что ли, дурак этакий? Жезлоносец арестовал его, судебный пристав увел, шериф держит в своих руках. Теперь, должно быть, его, как петуха, ощипывает какой-нибудь законовед. О, это молодцы! Они тебя выведут на чистую воду! Законопатили тебя, голубчика! Тем хуже для тебя, тем лучше для меня. Ей-богу, я очень рад. Скажу по совести, мне везет. Какую глупость я сделал, подобрав этого мальчишку и девчонку! Нам с Гомо жилось так спокойно. И зачем только эти негодяи приплелись ко мне в балаган? Мало я возился с ними, когда они были еще малышами! Мало я таскал их за собою! Стоило спасать их! Его, такого урода, ее — слепую на оба глаза! Вот и отказывай себе во всем! Сколько пришлось голодать из-за них! И вот они вырастают, да еще и влюбляются друг в дружку! Любовь двух калек! Вот до чего мы докатились! Жаба и крот — идиллия, нечего сказать! И все это творилось у меня под носом. Это и должно было кончиться вмешательством правосудия. Жаба заквакала о политике — очень хорошо! Теперь у меня руки развязаны. Когда явился жезлоносец, я сперва ошалел, сразу не поверил собственному счастью; мне казалось, что это мне померещилось, что это невозможно, что это кошмар, что это мне во сне приснилось. Но нет, это не игра воображения. Так оно и есть. Гуинплен в самом деле сидит в тюрьме. Само провидение позаботилось об этом. Этот урод наделал такого шуму, что обратил внимание властей на мое заведение и на моего бедного волка. И вот Гуинплена больше нет. Я могу считать себя избавленным от обоих сразу. Одним выстрелом двух зайцев убили. Ведь Дея умрет от всего этого. Когда она больше не увидит Гуинплена — а она его видит, идиотка! — она решит, что ей незачем жить, она скажет себе: «Что мне делать на этом свете?» — и тоже уберется прочь. Счастливого пути! К черту обоих! Я всегда терпеть их не мог! Подыхай же, Дея! Ах, как я доволен!
Глава 79
И как он поступает
Он вернулся в Тедкастерскую гостиницу. Пробило половина седьмого, «половина после шести», как выражаются англичане. Еще только начинало смеркаться.
Дядюшка Никлс стоял на пороге входной двери. Ему так и не удалось согнать с лица выражение испуга, пережитого утром.
Заметив Урсуса еще издали, он крикнул ему:
— Ну, что?
— Как что?
— Вернется Гуинплен? Давно уже пора. Скоро соберется публика. Будет сегодня выступать «Человек, который смеется»?
— «Человек, который смеется» — это я, — сказал Урсус.
И, взглянув на содержателя харчевни, оглушительно захохотал.
Потом поднялся на второй этаж, распахнул ближайшее к вывеске гостиницы окно, высунулся в него, протянул руку, сорвал доски с надписями: «Гуинплен — Человек, который смеется» и «Побежденный хаос», взял их подмышку и спустился вниз.
Дядюшка Никлс следил за ним глазами.
— Зачем вы снимаете это?
Урсус снова разразился хохотом.
— Чему это вы радуетесь? — спросил хозяин.
— Я решил жить сам для себя.
Никлс понял и приказал своему помощнику Говикему объявлять всем, кто придет, что сегодня вечером представления не будет. Он убрал от дверей бочку, служившую будкой кассирше, и откатил ее в дальний угол низкого зала.
Минуту спустя Урсус поднялся в «Зеленый ящик».
Он поставил в угол обе вывески и вошел в отделение фургона, которое он называл «женской половиной».
Дея спала.
Она лежала на постели одетая, только расстегнув платье, как делала обычно во время дневного отдыха.
Подле нее сидели, погруженные в задумчивость, Винос и Фиби, одна на табуретке, другая прямо на полу.
Несмотря на поздний час, они не надели костюмов, в которых изображали богинь, что свидетельствовало о глубоком унынии. Они так и остались в корсажах из грубой шерсти и в холщовых юбках.
Урсус посмотрел на Дею.
— Она готовится к более долгому сну, — пробормотал он.
И обратился к Фиби и Винос:
— Эй, вы, послушайте! Кончена музыка! Можете спрятать ваши трубы в ящик. Хорошо сделали, что не вырядились богинями. Конечно, в своем естественном виде вы достаточно уродливы, но все-таки поступили умно. Щеголяйте в своих отрепьях. Представления не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Нет больше Гуинплена. Сам черт его теперь не сыщет.
И он снова устремил глаза на Дею.
— Какой это будет для нее удар! Она погаснет сразу, как свеча.
Он набрал в грудь воздуха и дунул:
— Фу! — и кончено.
И засмеялся сухим смешком.
— Не будет у нас Гуинплена, не будет ничего. Это все равно, как если бы я лишился Гомо. Даже хуже. Она почувствует себя более одинокой, чем всякая другая. Слепые тяжелее переживают горе, чем мы.
Он подошел к окошечку в глубине фургона.
— Как прибавляется день! Уже семь часов, а еще довольно светло. Все-таки зажжем свечу.
Он высек огнивом искру и зажег фонарь, спускавшийся с потолка «Зеленого ящика». Затем наклонился над Деей.
— Она простудится. Вы ее слишком легко одели. Французы говорят:
Апрель еще не май -
Фуфайки не снимай.
Заметив, что на полу блестит булавка, он поднял ее и воткнул себе в рукав. Потом, жестикулируя, стал ходить взад и вперед по фургону.
— Я не потерял присутствия духа. Я нахожусь в здравом уме более, чем когда-либо. По-моему, данное событие в порядке вещей, и я одобряю то, что происходит. Как только она проснется, я выложу ей все без утайки. Катастрофа разразится немедленно. Гуинплена больше нет. Значит, прощай, Дея! Как хорошо все устроилось. Гуинплен в тюрьме, Дея на кладбище. Как раз друг против друга. Настоящая пляска смерти. Две человеческие судьбы сходят со сцены. Спрячем костюмы. Захлопнем чемодан, то есть гроб. Это была чета неудачников. Дея без глаз, Гуинплен без лица. Там, на небесах, господь возвратит Дее зрение, а Гуинплену красоту. Смерть все приводит в порядок. Все отлично. Фиби, Винос, повесьте на стену ваши тамбурины. Ваш, с позволения сказать, музыкальный талант теперь зачахнет, мои красавицы. Ни играть, ни трубить больше не придется. «Побежденный хаос» побежден. «Человеку, который смеется» — крышка. Великому шуму и грохоту конец. А Дея все спит. И хорошо делает. На ее месте я бы и не просыпался. Впрочем, она скоро опять заснет. Долго ли помереть такой худышке? Вот что значит удариться в политику. Какой урок! И как правительства правы! Гуинпленом занялся шериф. Деей займется могильщик, Поучительная симметрия. Надеюсь, хозяин харчевни плотно запер дверь. Сегодня мы умрем в тесном семейном кругу. Впрочем, ни я, ни Гомо. Одна только Дея. Я буду по-прежнему разъезжать в фургоне. Я рожден для бродячей жизни. Отпущу обеих женщин. Ни одной у себя не оставлю. У меня есть наклонность сделаться старым развратником. Служанка у распутника — все равно что хлеб на столе. Не желаю искушений. Не по возрасту это мне. Turpe senilis amor[450]. Теперь опять стану бродить один с Гомо. Вот кто удивится — так это он: где Гуинплен, где Дея? Мы снова вдвоем, старый товарищ. Я в восторге, черт побери! Поперек горла стояла у меня их идиллия. А этот негодяй Гуинплен и не думает возвращаться. Он бросил нас. Прекрасно. Теперь очередь за Деей. Ну, эта не заставит себя долго ждать. Я люблю законченность во всем. Пальцем о палец не ударю, чтобы помешать ей умереть. Околевай, слышишь! Ах, черт, она просыпается!
Дея открыла глаза (слепые часто спят с закрытыми глазами). Ее нежное, невинное лицо озарилось улыбкой.
— Она улыбается, — пробормотал Урсус, — а я смеюсь. Все идет прекрасно.
Она позвала:
— Фиби! Винос! Пора, должно быть, начинать представление. Я, кажется, очень долго спала. Оденьте меня.
Ни Фиби, ни Винос не шевельнулись.
Между тем взгляд Деи, в котором было нечто невыразимое, свойственное всем слепым, встретился с глазами Урсуса. Старик вздрогнул.
— Ну, — закричал он, — чего вы ждете? Фиби, Винос, разве вы не слышите, что говорит Дея? Оглохли вы, что ли? Живее! Представление сейчас начнется.
Обе женщины с крайним удивлением смотрели на Урсуса.
Урсус заорал:
— Разве вы не видите, что публика уже собирается? Фиби, одевай Дею! Винос, бей в тамбурин!
Фиби была само послушание, Винос — пассивность. Вдвоем они олицетворяли собою безропотную покорность. Их хозяин всегда был для них загадкой. Кого не понимают, тому обычно слепо повинуются. Они просто решили, что он сошел с ума, но исполнили его приказание. Фиби сняла с гвоздя костюм, Винос схватила тамбурин.
Фиби принялась одевать Дею. Урсус опустил завесу «женской половины» и уже по ту сторону ее продолжал:
— Смотри-ка, Гуинплен! Почти полон двор народу. У входа настоящая давка. Ну и толпа! Хороши Фиби и Винос, им и дела нет. До чего глупы эти цыганки! Что за дурачье живет в Египте! Не подымай занавески. Будь скромен: Дея одевается.
Он сделал паузу, и вдруг послышалось восклицание:
— Как прекрасна Дея!
Это был голос Гуинплена. Фиби и Винос вздрогнули и обернулись. Это был голос Гуинплена в устах Урсуса.
Выглянув из-за занавески, он знаком запретил им выражать свое удивление.
Потом продолжал голосом Гуинплена:
— Ангел!
И возразил уже своим голосом:
— Это Дея-то ангел? Ты рехнулся, Гуинплен. Из всех млекопитающих летают только летучие мыши.
И прибавил:
— Вот что, Гуинплен, ступай-ка, отвяжи Гомо. Это будет умнее.
И легкой походкой Гуинплена он быстро побежал по приставной лесенке «Зеленого ящика». Он подражал шагам Гуинплена в расчете, что Дея услышит этот топот.
На дворе он увидел Говикема, которого так занимало все происходящее, что он не мог заняться никаким другим делом.
— Подставь обе руки, — шепотом сказал Урсус.
И насыпал ему целую пригоршню медных монет.
Такая щедрость растрогала Говикема.
Урсус шепнул ему на ухо:
— Останься во дворе, прыгай, пляши, стучи, вой, реви, свисти, ори, бей в ладоши, топай, хохочи, сломай что-нибудь.
Дядюшка Никлс, оскорбленный и огорченный тем, что публика, пришедшая посмотреть на «Человека, который смеется», поворачивала назад и направлялась в другие балаганы на ярмарочной площади, запер дверь харчевни; желая избежать докучных расспросов, он даже отказался торговать в этот вечер напитками. Оставшись без дела из-за несостоявшегося представления, он смотрел с галереи на двор, держа в руке свечу. Урсус: поднеся обе руки ко рту, чтобы его слышал только Никлс, обратился к нему:
— Джентльмен, возьмите пример с вашего слуги: визжите, вопите, рычите!
Вернувшись в «Зеленый ящик», он приказал волку:
— Гомо, вой как можно громче.
И, повысив голос, произнес:
— Слишком много народу. Боюсь, что стены не выдержат.
Винос тем временем ударила в тамбурин.
Урсус продолжал:
— Дея одета. Можно будет сейчас начать. Жалко, что столько напустили публики. Какая уйма их набилась! Посмотри-ка, Гуинплен! Какая сумасшедшая давка! Бьюсь об заклад, что нынче у нас будет самый большой сбор за все время. Ну-ка, бездельницы, принимайтесь за свою музыку! Ступай сюда, Фиби, возьми свой рожок. Хорошо. Винос, колоти в тамбурин. Задай ему встряску, да покрепче! Фиби, стань в позу богини славы. Милостивые государыни, вы, по-моему, недостаточно оголились. Сбросьте безрукавки. Накиньте газ. Публика не прочь полюбоваться на женские формы. Пускай моралисты мечут громы и молнии. Черт возьми, можно себе позволить маленькую нескромность. Больше страсти! Огласите воздух бешеными мелодиями. Трубите, гудите, дудите, трещите, бейте в тамбурины! Сколько народу… Гуинплен!
Он перебил себя:
— Помоги мне, Гуинплен. Откинем стенку.
Тем временем он развернул носовой платок.
— А я пока прочищу как следует нос.
И он энергично высморкался — необходимое приготовление к чревовещанию.
Спрятав платок в карман, он привел в движение систему блоков, заскрипевших как обычно, и откинул стенку фургона.
— Гуинплен, не отдергивай занавеса! Пускай он будет закрыт до начала представления. Иначе мы окажемся на виду у всех. Фиби, Винос, ступайте обе на авансцену. Ну-ка, сударыни! Бум! Бум! Публика у нас подобралась на диво. Самые что ни на есть подонки! Господи, сколько народу!
Цыганки, привыкшие к безропотному повиновению, разместились по обе стороны откинутой стенки.
Тут Урсус превзошел самого себя. Это был уже не один человек, а целая толпа. Задавшись целью изобразить двор, переполненный народом, на том месте, где зияла абсолютная пустота, он призвал на помощь свои удивительные способности чревовещателя. Со всех сторон сразу раздались голоса людей и животных. Он превратился в целый легион. Закрыв глаза, можно было подумать, что находишься на какой-нибудь площади, где волнуется праздничная или мятежная толпа. Вихрь криков и восклицаний вырывался из груди Урсуса: он пел, лаял, горланил, кашлял, харкал, гикал, нюхал табак, чихал, вел диалоги, задавал вопросы, отвечал, и все это одновременно. Обрывки фраз сталкивались, перерезали друг друга. В безлюдном дворе звучали голоса мужчин, женщин, детей. Сквозь смутный гомон и смешанный гул голосов прорывалась, точно сквозь дымную завесу, странная какофония, кудахтанье, мяуканье, плач грудных детей. Слышались хриплый говор пьяниц, недовольное ворчанье собак, которым зрители наступали на лапы. Голоса раздавались вблизи, доносились издали, сверху, снизу, справа, слева. Все в совокупности было рокотом, каждый звук в отдельности был криком. Урсус стучал кулаками, топал ногами, кричал то из глубины двора, то откуда-то из-под земли. Это было что-то бурное и хорошо знакомое. Он переходил от шепота к шуму, от шума к грохоту, от грохота к реву урагана. Он был самим собою и в то же время всеми. Это были то монологи, то хор голосов. Так же, как существует зрительный обман, существует и слуховой. Тем же, чем был Протей для взора, был Урсус для слуха. Ничего не могло быть искуснее такого подражания толпе. Время от времени он раздвигал занавес и смотрел на Дею. Дея слушала.
Говикем тоже бесновался во дворе.
Винос и Фиби добросовестнейшим образом дули в трубы и отчаянно барабанили.
Единственный зритель, дядюшка Никлс, так же как и они, решил, что Урсус сошел с ума; это, впрочем, было только лишним мрачным штрихом на фоне его меланхолии. «Какое безобразие!» — бормотал себе под нос этот славный трактирщик. Он сохранял серьезность, как всякий, кто не забывает, что над ним бдит закон.
Говикем, в восторге, что может принять участие в этом гаме, неистовствовал не меньше Урсуса. Это забавляло его. Кроме того, он ведь зарабатывал деньги.
Гомо был задумчив.
Производя весь этот шум, Урсус умудрялся произносить еще отдельные фразы:
— Как всегда, Гуинплен, против нас заговор. Опять конкуренты стараются подорвать наш успех. Но шиканье только придает ему остроту. Кроме того, народу набралось слишком много. Зрителям тесно. Когда тебя толкает локоть соседа, это не вызывает восторга. Только бы они не поломали скамеек. Ах, если бы наш друг Том-Джим-Джек был здесь! Но он не приходит больше. Посмотри, целое море голов! У этой части публики, которая стоит, не слишком довольный вид, хотя, по словам великого ученого Галена, стоячее положение укрепляет организм. Мы сократим спектакль; так как на афише значится только «Побежденный хаос», то мы не будем играть «Ursus rursus». Хоть на этом выгадаем. Какой кавардак! До чего сумасбродна эта буйная толпа. Уж чего-нибудь они да натворят! Однако это не может так продолжаться. Ведь такой шум заглушает все происходящее на сцене. Надо обратиться к ним с речью, чтобы они успокоились. Гуинплен, раздвинь немного занавес! Граждане…
Тут Урсус прервал самого себя, крикнув резким и пронзительным голосом:
— Долой старика!
И уже своим голосом продолжал:
— Кажется, публика меня оскорбляет. Цицерон прав: plebs, fex urbis[451]. Ничего, попробуем уговорить чернь. Трудно будет заставить их слушать. Однако я все-таки попытаюсь. Человек, исполни свой долг. Посмотри-ка, Гуинплен, на эту мегеру! Как она скрежещет зубами!
Урсус сделал паузу и заскрежетал зубами. Гомо, введенный в заблуждение, последовал его примеру. Говикем присоединился к ним обоим.
Урсус продолжал:
— Женщины куда хуже мужчин. Момент не особенно подходящий. Все равно, испытаем силу слова… Красноречие никогда не помешает. Послушай, Гуинплен, как я буду их увещевать. Гражданки и граждане! Я — (медведь. Чтобы говорить с вами, я снимаю свою голову. Покорнейше прошу вас соблюдать тишину.
Изображая возглас в толпе, Урсус крикнул:
— Брюзга!
И продолжал:
— Я глубоко уважаю свою аудиторию. Брюзга — обращение ничуть не хуже всякого другого. Привет тебе, буйная толпа! Я нисколько не сомневаюсь в том, что все вы бездельники. Но от этого мое уважение к вам ничуть не меньше. Уважение вполне сознательное. Я отношусь с искренним почтением к господам жуликам, оказавшим мне честь явиться сюда. Среди вас есть уроды, но для меня это безразлично. Хромые и горбатые — явление естественное. Верблюд горбат; у бизона нарост на спине; у барсука обе левых ноги короче правых; об этом упоминает еще Аристотель в своем трактате о походке животных. Те из вас, у кого есть две рубашки, одну носят на теле, а другую несут к ростовщику. Я знаю, что это дело обычное. Альбукерк закладывал свои усы, а святой Денис — свой нимб. Ростовщики ссужали деньги даже под нимб. Достойные примеры. Иметь долги — значит уже кое-что иметь. В вашем лице я чту нищету.
Урсус прервал свою речь, крикнув низким басом:
— Втройне осел!
И ответил самым вежливым тоном:
— Согласен. Я ученый. Приношу в этом свое извинение. С научной точки зрения я и сам презираю науку. Невежество есть нечто такое, чем можно снискать себе пропитание; наука же заставляет голодать. В общем, приходится выбирать: либо быть ученым и худеть, либо быть ослом и пощипывать травку. О граждане, пощипывайте травку! Наука не стоит ни одного вкусного кусочка. Я предпочитаю есть бифштекс, нежели знать, как он называется по-латыни. Я обладаю только одним достоинством: у меня глаза не на мокром месте. Я никогда не плакал. Надо вам сказать, что и доволен я никогда не был. Никогда. Даже самим собой. Я презираю себя. Но прошу присутствующих здесь представителей оппозиции принять во внимание, что если Урсус всего-навсего ученый, то Гуинплен — настоящий артист.
Он снова фыркнул:
— Брюзга!
— Опять брюзга! Это — серьезное возражение. И тем, не менее я пропускаю его мимо ушей. А рядом с Гуинпленом, милостивые государи и милостивые государыни, вы увидите другого артиста, личность мохнатую и благородную, странствующую с нами, господина Гомо — некогда дикую собаку, а ныне цивилизованного пса и верноподданного ее величества. Гомо — мимический актер, одаренный замечательным талантом. Будьте внимательны и сосредоточьтесь. Сейчас вы увидите игру Гомо и Гуинплена, а к искусству должно относиться с почтением. Это пристало великим нациям. Не в лесу же вы выросли? А если бы и так, то sylvae sunt consule dignae[452]. Два артиста стоят одного консула. Прекрасно. В меня запустили капустной кочерыжкой, но она не задела меня. Это не помешает мне говорить. Напротив. Опасность, которой удалось избежать, предрасполагает к болтливости — garrula pericula, как говорит Ювенал. Зрители, среди вас есть пьяницы, — мужчины и женщины. Отлично. Пьяные мужчины мерзки, пьяные женщины омерзительны. Правда, у вас немало веских причин собираться здесь: праздность, лень, свободное время между двумя-тремя кражами, портер, эль, стаут, солодовые напитки, водка, джин, влечение одного пола к другому. Чудесно. Игривый ум нашел бы себе здесь отличное применение. Но я воздерживаюсь. Любострастие — пускай! Однако и в оргии надо соблюдать известное приличие. Вы весело настроены, но слишком шумны. Вы превосходно подражаете крикам разных животных, но что сказали бы вы, если бы я прервал вашу любовную беседу в укромном уголке с какой-нибудь леди и вдруг стал бы лаять по-собачьи? Это несколько помешало бы вам. Ну так вот, и ваш галдеж нам мешает. Разрешаю вам замолчать. К искусству должно относиться с не меньшим уважением, чем к разврату. Я говорю с вами, как порядочный человек.
Он тут же накинулся на себя:
— Задуши тебя лихорадка, вместе с твоими бровями, торчащими, как ржаные колосья.
И немедленно возразил:
— Милостивые государи, оставим в покое ржаные колосья. Грешно оскорблять растения, сравнивая их с людьми или животными. Кроме того, лихорадка не душит, а трясет. Неудачная метафора. Прошу вас, помолчите! Простите за откровенность, но вам не хватает величия, свойственного настоящим английским джентльменам. Я замечаю, что те из вас, у которых из дырявых башмаков вылезают большие пальцы, пользуются этим, чтоб класть ноги на плечи сидящих впереди; это позволяет дамам делать вывод, что подошвы всегда протираются в самом выдающемся месте плюсны. Показывайте немного поменьше ваши ноги и побольше — руки. Я вижу отсюда мошенников, ловко запускающих пальцы в карманы дураков-соседей. Дорогие карманники, будьте чуть-чуть скромнее. Награждайте своего ближнего тумаками, если желаете, но не обкрадывайте его. Он меньше разозлится на вас, если вы подобьете ему глаз, чем если вы сопрете у него медный грош. Так и быть, разбивайте носы. Мещанин больше дорожит деньгами, чем красотой. Впрочем, примите уверения в моем искреннем расположении к вам. Я отнюдь не такой педант, чтобы порицать мошенников. Зло действительно существует. Каждый страдает от него, и каждый его творит. Всех нас одолевают грехи. Сейчас я имею в виду лишь тот грех, о котором говорил раньше. Разве не испытывает каждый из нас этот зуд? Бог — и тот почесывается, когда его жалит дьявол. Я и сам впадал в ошибки. Plaudite, cives![453]
Здесь Урсус изобразил продолжительный рев толпы, затем закончил речь следующими словами:
— Милорды и господа, я вижу, что моя речь имела счастье вам не понравиться. На одну минуту я расстанусь с вашим шиканьем и свистом. Сейчас надену свою голову, и представление начнется…
Оставив ораторский тон, он заговорил обыкновенным голосом:
— Задерни занавес, передохнем. Я был медоточив. Я говорил хорошо. Я назвал их милордами и господами. Вкрадчивый, но бесполезный язык. Что скажешь ты насчет этих бездельников, Гуинплен? Как ясно видишь все, что выстрадала Англия за последние сорок лет, когда посмотришь на этот озлобленный и лукавый сброд. В старину англичане были воинственны, теперь же они угрюмы, задумчивы и кичатся своим презрением к закону и королевской власти. Я сделал все, на что только способно человеческое красноречие. Я щедро расточал метонимии, прелестные, как цветущие ланиты отрока. Смягчило ли это их? Сомневаюсь. Чего можно ждать от людей, которые поглощают невероятное количество пищи и отравляют себя табаком до такой степени, что даже писатели пишут свои сочинения, не выпуская трубки изо рта? Ну, была не была, начнем пьесу.
Кольца, на которых двигался занавес, с визгом заскользили по проволоке. Цыганки перестали бить в тамбурины. Урсус снял со стены свои рыли, сыграл прелюдию и произнес вполголоса:
— Каково, Гуинплен? До чего все это таинственно!
Затем вступил в борьбу с волком.
Одновременно с рылями Урсус снял с гвоздя косматый парик и бросил его на пол, неподалеку от себя.
Представление «Побежденного хаоса» шло почти так же, как и всегда, не было только голубого освещения и «магических эффектов». Волк играл вполне добросовестно. В надлежащую минуту появилась Дея и своим чудным трепетным голосом окликнула Гуинплена. Она протянула руку вперед, ища его голову…
Урсус кинулся к парику, взбил его, напялил на себя и, удерживая дыхание, тихими шагами приблизившись к Дее, подставил ей свою голову.
Затем он призвал на помощь все свое искусство и, подражая голосу Гуинплена, спел с выражением неизъяснимой любви арию чудовища в ответ на зов светлого духа.
Он подражал так искусно, что и в этот раз обе цыганки принялись искать глазами Гуинплена, испуганные тем, что, не видя его, слышат его голос.
Восхищенный Говикем затопал ногами, захлопал в ладоши, производя невероятный шум и один хохоча, как целое сборище богов. Мальчик, повторяем, оказался на редкость талантливым зрителем.
Фиби и Винос, как два автомата, которых заводил Урсус, начали изо всех сил трубить и бить в тамбурины; под эти оглушительные звуки обычно заканчивался спектакль и расходилась публика.
Урсус поднялся на ноги, весь обливаясь потом.
Он шепнул Гомо:
— Понимаешь, надо было выиграть время. Кажется, нам это удалось. Я неплохо вышел из положения, хотя было из-за чего потерять голову. Гуинплен, быть может, еще вернется завтра. Зачем же было преждевременно убивать Дею? Тебе-то я могу объяснить, в чем дело.
Он снял парик и отер лоб.
— Я гениальный чревовещатель, — пробормотал он. — Как я все это великолепно проделал! Пожалуй, я перещеголял Брабанта, чревовещателя короля Франциска Первого. Дея убеждена, что Гуинплен здесь.
— Урсус, — сказала Дея, — а где Гуинплен?
Урсус вздрогнул и обернулся.
Дея продолжала стоять в глубине сцены, под фонарем, спускавшимся с потолка. Она была бледна как смерть.
Она продолжала с неповторимой улыбкой, в которой было отчаяние:
— Я знаю. Он нас покинул. Он исчез. Я знала, что у него есть крылья.
И, подняв к небу свои невидящие глаза, она прибавила:
— Когда же мой черед?
Глава 80
Осложнения
Урсус совершенно растерялся.
Ему не удалось ввести Дею в заблуждение.
Было ли тут виною его искусство чревовещателя? Конечно, нет. Ему удалось обмануть зрячих Фиби и Винос, но слепую Дею он не смог обмануть. Ведь Фиби и Винос смотрели только глазами, тогда как Дея видела сердцем.
Он не был в состоянии ответить ни слова. Он только подумал про себя: Bos in lingu[454]. У растерявшегося человека точно бык подвешен к языку.
Когда человек находится во власти сложных переживаний, он прежде всего испытывает приступ самоуничижения. Урсус пришел к печальному выводу:
— Напрасно я столько труда потратил на звукоподражание!
Как и всякий мечтатель, потерпевший неудачу, он принялся горько сетовать:
— Полный провал! Я воспроизводил все эти голоса впустую. Что же будет теперь с нами?
Он взглянул на Дею. Она стояла молча, не шевелясь и все больше и больше бледнея. Ее неподвижный, слепой взор был устремлен куда-то в пространство.
На помощь Урсусу пришел случай.
Урсус увидел во дворе дядюшку Никлса, который, держа в руке свечу, делал ему знаки.
Дядюшка Никлс не дождался конца фантастической комедии, единственным исполнителем которой был Урсус, так как кто-то постучал в двери харчевни. Дядюшка Никлс пошел отворить. В дверь стучали дважды, и хозяин дважды уходил. Урсус, поглощенный своим стоголосым монологом, ничего не заметил.
Увидав, что Никлс машет ему рукой, Урсус спустился во двор.
Он подошел к хозяину гостиницы.
Урсус приложил палец к губам.
Дядюшка Никлс тоже приложил палец к губам.
Они смотрели друг на друга.
Каждый из них словно говорил другому: «Поговорим, но не здесь».
Никлс тихо отворил дверь в нижний зал. Они вошли. Кроме них, в комнате не было никого. Входная дверь с улицы и окна были наглухо закрыты.
Хозяин захлопнул дверь во двор перед самым носом любопытного Говикема.
Потом поставил свечу на стол.
Начался разговор. Вполголоса, почти шепотом!
— Мистер Урсус…
— Мистер Никлс?
— Я, наконец, понял.
— Вот как!
— Вы хотели убедить эту бедную слепую, что все идет как обычно.
— Закон не запрещает чревовещания.
— У вас настоящий талант.
— Вовсе нет.
— Удивительно, до какой степени вы умеете воспроизводить все, что вам хочется.
— Уверяю вас, нет.
— А теперь мне нужно поговорить с вами.
— Это разговор о политике?
— Как сказать.
— О политике я и слушать не хочу.
— Вот в чем дело. В то время как вы играли, изображая один и актеров и публику, в дверь стучались.
— Стучались в дверь?
— Да.
— Мне это не нравится.
— Мне тоже не нравится.
— Что же дальше?
— Я отворил.
— Кто же стучал?
— Человек, который вступил со мной в разговор.
— Что он вам сказал?
— Я выслушал его.
— Что вы ему ответили?
— Ничего. Я вернулся смотреть на вашу игру.
— Ну?
— Ну, и в дверь постучали вторично.
— Кто? Тот же самый?
— Нет, другой.
— Он тоже с вами говорил?
— Нет, этот не сказал ни слова.
— Я это предпочитаю.
— А я нет.
— Объяснитесь, мистер Никлс.
— Угадайте, кто говорил со мной в первый раз?
— Мне некогда разыгрывать роль Эдипа.
— Это был хозяин цирка.
— Соседнего?
— Да, соседнего.
— Того, где гремит такая бешеная музыка?
— Да. Ну так вот, мистер Урсус, он делает вам предложение.
— Предложение?
— Предложение.
— Почему?
— Да потому.
— У вас передо мной одно преимущество, мистер Никлс; вы только что разгадали мою загадку, а я никак не могу разгадать вашу.
— Хозяин цирка поручил мне передать вам, что он видел, как приходили полицейские, и что он, хозяин цирка, желая доказать вам свою дружбу, предлагает купить у вас за пятьдесят фунтов стерлингов наличными ваш фургон «Зеленый ящик», обеих лошадей, трубы вместе с дующими в них женщинами, вашу пьесу вместе со слепой, которая в ней играет, и вашего волка с вами в придачу.
Урсус высокомерно улыбнулся.
— Содержатель Тедкастерской гостиницы, передайте хозяину цирка, что Гуинплен вернется.
Трактирщик взял со стула что-то темное и повернулся к Урсусу, подняв обе руки и держа в одной плащ, в другой кожаный нагрудник, войлочную шляпу и рабочую куртку.
И сказал:
— Человек, который постучал вторым, был полицейский; он вошел и вышел, не произнеся ни слова, и передал мне вот это.
Урсус узнал кожаный нагрудник, рабочую куртку, шляпу и плащ Гуинплена.
Глава 81
Moenibus surdis, campana muta — стены глухи, колокол нем
Урсус ощупал войлок шляпы, сукно плаща, саржу куртки, кожу нагрудника — никаких сомнений быть не могло; коротким повелительным жестом, не произнеся больше ни слова, он показал хозяину на дверь гостиницы.
Тот открыл ее.
Урсус опрометью выбежал на улицу.
Дядюшка Никлс следил за ним глазами. Урсус бежал так быстро, как только позволяли ему ноги, в том направлении, в каком утром вели Гуинплена. Четверть часа спустя запыхавшийся Урсус был уже в том переулке, куда выходила калитка Саутворкской тюрьмы и где он провел столько часов на своем наблюдательном посту.
Этот переулок был безлюден не только в полночь. Но если днем он нагонял тоску, то ночью внушал тревогу. Никто не отваживался появляться в нем позже определенного часа. Казалось, каждый боялся, как бы тюрьма и кладбище не сдвинулись со своих мест и, приди им только фантазия обняться, не раздавили его в этом объятии. Все это — ночные страхи. В Париже подстриженные ивы на улице Вовер тоже пользовались дурной славой. Поговаривали, будто по ночам эти обрубки деревьев превращаются в громадные руки и хватают прохожих.
Население Саутворка, как мы уже говорили, инстинктивно избегало этого переулка между тюрьмой и кладбищем. В прежнее время поперек него протягивали на ночь железную цепь. Излишняя предосторожность, ибо самой лучшей цепью, преграждавшей вход в переулок, был внушаемый им ужас.
Урсус решительно свернул в него.
Какую цель преследовал он? Никакой.
Он пришел в этот переулок, чтобы выведать что-нибудь. Собирался ли он постучаться в тюремную дверь? Конечно, нет. Это страшное и бесполезное средство ему и в голову не приходило. Попытаться проникнуть в тюрьму, чтобы расспросить о Гуинплене? Какое безумие! Тюремные двери так же трудно отворяются для тех, кто хочет войти в них, как и для тех, кто хочет выйти. Их можно отпереть только именем закона. Урсус это понимал. Зачем же он пришел сюда? Чтобы увидать. Что именно? Он и сам не знал. Что удастся. Очутиться против калитки, за которой скрылся Гуинплен, — и то уже хорошо. Иногда самая мрачная и угрюмая стена приобретает дар речи, и из щелей между ее камнями вырывается наружу сноп лучей. Порою из наглухо запертого темного здания пробивается тусклый свет. Внимательно рассмотреть оболочку таинственного — значит потерять время — не напрасно. Мы все инстинктивно стараемся быть поближе к тому, что нас интересует. Вот почему Урсус вернулся в переулок, куда выходила задняя дверь тюрьмы.
В ту минуту, когда он вступил в него, он услыхал один удар колокола, потом второй.
«Неужели уже полночь?» — подумал он.
И машинально принялся считать:
«Три, четыре, пять».
Он подумал:
«Какие большие промежутки между ударами! Как медленно бьют эти часы! — Шесть, семь».
Потом мысленно воскликнул:
«Какой заунывный звон! — Восемь, девять. — Впрочем, все очень понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. — Десять. — Да, здесь и кладбище рядом. Этот колокол отмеряет живым время, а мертвым — вечность. — Одиннадцать. — Увы! Тем, кто лишен свободы, он тоже отмеряет вечность. — Двенадцать».
Он остановился.
«Да, полночь».
Колокол ударил тринадцатый раз.
Урсус вздрогнул.
«Тринадцать!»
Раздался четырнадцатый удар, потом пятнадцатый.
«Что это значит?»
Удары продолжали раздаваться через большие промежутки. Урсус слушал.
«Это не часы. Это колокол mutus[455]. Недаром я говорил: как медленно бьет полночь. Это не бой часов, а звон церковного колокола. Что же предвещает этот унылый звон?»
Во всех тюрьмах того времени, как и во всех монастырях, был так называемый колокол mutus, отмечавший печальные события. Этот «немой колокол» бил очень тихо, словно стараясь, чтобы его не услыхали.
Урсус опять возвратился в удобный для наблюдений закоулок, где он провел большую часть дня, не сводя глаз с тюремной калитки.
Удары колокола по-прежнему, с большими равномерными паузами, следовали один за другим.
Погребальный звон как бы расставляет в пространстве зловещие знаки восклицания. На развернутом свитке наших повседневных забот каждый удар колокола словно мрачно отмечает красную строку. Похоронный звон похож на предсмертное хрипение человека. Он гласит о смертных муках. Если в домах, куда доносится этот звон, кто-нибудь предается мечтательному ожиданию, удары колокола резко обрывают его. Неясные мечты представляются как бы убежищем; человеку, объятому тоскою, они подают какую-то надежду; угрюмый звук колокола отнимает ее своей определенностью. Он рассеивает туманную пелену, за которой стремится укрыться наше беспокойство. Он вызывает в нашей душе горестную тревогу. Похоронный звон напоминает каждому о человеческих страданиях, о чем-то страшном. Эти печальные звуки обращены к каждому из нас. Они предостерегают. Нет ничего более мрачного, чем этот размеренный монолог. Удары, отделенные друг от друга равными промежутками, преследуют какую-то цель. Что кует молот колокола на наковальне нашей мысли?
Урсус бессознательно продолжал считать удары, хотя в этом не было никакого смысла. Чувствуя, что он на краю бездны, он старался не строить никаких догадок. Догадки — наклонная плоскость, по которой можно скатиться очень глубоко. И все-таки — что означал этот звон?
Урсус смотрел в ту сторону, где, как он знал, находится тюремная калитка.
Вдруг в том самом месте, где чернело что-то вроде дыры, появился красноватый отблеск. Он становился все ярче и ярче и превратился в свет.
Это было не расплывчатое пятно, а четко обозначившийся в темноте четырехугольник. Дверь тюрьмы повернулась на петлях. Красноватый свет явственно обрисовал притолоку и косяки.
Дверь только приотворилась. Тюрьма не распахивает настежь своих ворот, она лишь наполовину раскрывает свою пасть, словно зевая от скуки.
Из калитки вышел человек с факелом в руке.
Колокол продолжал звонить.
Внимание Урсуса теперь раздвоилось: он напряженно прислушивался к колоколу и в то же время не спускал глаз с факела.
Пропустив человека, полуоткрытая дверь широко раскрылась, и из нее вышло еще двое; вслед за ними показался четвертый. Это был жезлоносец. Урсус узнал его при свете факела. В руке у него был жезл.
Вслед за жезлоносцем вышли попарно какие-то люди; они двигались молча, держась прямо, словно деревянные истуканы.
Участники этого ночного шествия, напоминавшего процессию кающихся, с мрачной торжественностью, пара за парой, переступали тюремный порог, стараясь не производить ни малейшего шума. Так осторожно выползает из своей норы змея.
Факел освещал свирепые лица и мрачные фигуры.
Урсус узнал тех самых полицейских, которые утром увели Гуинплена.
Никаких сомнений — это были те же люди. Теперь они выходили из тюрьмы.
Очевидно, сейчас выйдет и Гуинплен.
Они привели его сюда, они и выведут его назад.
Это ясно.
Урсус стал всматриваться еще пристальнее. Выпустят ли Гуинплена на свободу?
Полицейские по двое выходили из-под низкого свода, очень медленно, как просачивается капля за каплей из стены вода. Колокол, не переставая звонить, казалось, ударял в такт их шагам. Выходя из тюрьмы, люди в этом шествии поворачивались спиною к Урсусу, направляясь в правый, противоположный, конец переулка.
В дверях блеснул второй факел.
Значит, шествие сейчас кончится.
Сейчас Урсус увидит, кого они сопровождают. Узника. Человека.
Сейчас Урсус увидит Гуинплена.
То, что они сопровождали, наконец появилось.
Это был гроб.
Четыре человека несли гроб, покрытый черным сукном.
За гробом шагал могильщик с лопатой на плече.
Шествие замыкалось третьим факелом, который держал человек, читавший какую-то книгу, — очевидно, тюремный священник.
Гроб понесли за полицейскими, повернув направо.
В то же время люди, шедшие впереди, остановились.
Урсус услышал скрип ключа в замке.
Факел осветил другую дверь, напротив тюрьмы, в низкой стене, тянувшейся по ту сторону переулка.
Эта дверь, над которой был изображен череп, вела на кладбище.
Жезлоносец вошел в нее, за ним остальные, за дверью скрылся уже второй факел; шествие стало короче, напоминая хвост уползающей змеи; вся вереница полицейских исчезла во тьме, за ними гроб, могильщик с лопатой, священник с факелом и книгой, и дверь захлопнулась.
Все исчезло, только за стеной еще мерцал свет.
Послышалось какое-то бормотанье, потом глухие удары.
Вероятно, священник и могильщик провожали гроб, опускаемый в землю, — один псалмами, другой комьями земли.
Бормотанье прекратилось, прекратились и глухие удары.
Опять послышались шаги, сверкнули факелы, на пороге распахнувшейся кладбищенской калитки снова показался жезлоносец, высоко держа свой жезл, за ним священник с книгой, могильщик с лопатой, полицейские, но уже без гроба. Процессия, двигаясь все так же попарно, вернулась обратно тем же путем, храня, как и прежде, угрюмое молчание; закрылись ворота кладбища, отворилась, снова освещенная факелами, дверь тюрьмы; сводчатый коридор на мгновение озарился красноватым отблеском; взору Урсуса предстали мрачные недра тюрьмы, и снова все потонуло во тьме.
Колокол умолк. Ночь завершила трагедию, опустив над нею зловещий занавес тишины.
Видение исчезло бесследно.
Призраки рассеялись.
Мы часто находим какой-то смысл в случайных совпадениях и строим на этом основании как будто правдоподобные догадки.
К таинственному аресту Гуинплена, к его одежде, принесенной полицейским, к похоронному звону колокола в той самой тюрьме, куда его увели, присоединилась еще одна трагическая деталь — опущенный в землю гроб.
— Он умер! — воскликнул Урсус и без сил опустился на камень. — Умер! Они убили его! Гуинплен! Дитя мое! Мой сын! — И он зарыдал.
Глава 82
Государственные интересы проявляются в великом и в малом
Увы, напрасно Урсус хвалился тем, что никогда не плачет. Теперь слезы подступили к самому его горлу. Они накоплялись в груди по капле в продолжение всей его горестной жизни. Переполненная до краев чаша не может пролиться в одно мгновение. Урсус рыдал долго.
Первая слеза пролагает дорогу другим. Он оплакивал Гуинплена, Дею, самого себя, Гомо. Плакал как дитя. Плакал как старик. Плакал обо всем, над чем смеялся. Он задним числом выплатил свой долг прошлому. Право человека на слезы не знает давности.
На самом деле покойник, опущенный в землю, был Хардкванон, но Урсус не мог этого знать.
Прошло несколько часов.
Занялся день; бледная пелена утреннего света, кое-где еще боровшегося с ночными тенями, легла на ярмарочную площадь. В лучах зари выступил белый фасад Тедкастерской гостиницы.
Дядюшка Никлс так и не ложился спать. Нередко одно и то же событие вызывает бессонницу у нескольких человек.
Всякая катастрофа вызывает много последствий. Бросьте камень в воду и попробуйте сосчитать круги.
Дядюшка Никлс сознавал, что арест Гуинплена может затронуть и его. Очень неприятно, когда у вас в доме происходят такие события. Он был встревожен этим; предвидя впереди еще всякие осложнения, Никлс погрузился в мрачное раздумье. Он сожалел, что пустил к себе «этих людей». Если бы он знал раньше! Втянут они его в конце концов в какую-нибудь беду. Как развязаться с ними теперь? Ведь с Урсусом у него заключен контракт. Какое было бы счастье избавиться от таких постояльцев! К чему бы только придраться, чтобы выгнать их?
Вдруг в дверь харчевни раздался сильный стук, который возвещает в Англии о прибытии важного лица. Гамма стуков соответствует иерархической лестнице.
Это был стук не вельможного лорда, а судейского чиновника.
Дрожа от страха, трактирщик приоткрыл форточку.
И действительно, стучался судейский чиновник. При свете занимавшегося дня дядюшка Никлс увидел у двери отряд полицейских, возглавляемый двумя людьми, из которых один был судебный пристав.
Судебного пристава дядюшка Никлс видел утром и потому сразу узнал его.
Другой человек был ему неизвестен.
Это был тучный джентльмен с будто восковым лицом, в придворном парике и дорожном плаще.
Судебного пристава дядюшка Никлс очень боялся. Если бы дядюшка Никлс принадлежал к королевскому двору, он еще больше испугался бы второго посетителя, ибо то был Баркильфедро.
Один из полицейских снова громко постучался в дверь.
Трактирщик, у которого на лбу выступил холодный пот, поспешил открыть.
Судебный пристав тоном человека, призванного наблюдать за порядком и хорошо знакомого с бродягами, возвысил голос и строго спросил:
— Где Урсус, хозяин балагана?
Сняв шляпу, Никлс ответил:
— Он проживает здесь, ваша честь.
— Это я знаю и без тебя, — сказал пристав.
— Конечно, ваша честь.
— Позови его сюда.
— Его нет дома, ваша честь.
— Где же он?
— Не знаю.
— Как это не знаешь?
— Он еще не возвращался.
— Значит, он очень рано ушел из дому?
— Нет, очень поздно.
— Ах, эти бродяги! — заметил пристав.
— Да вот он, ваша честь, — тихо промолвил дядюшка Никлс.
Действительно, в эту минуту из-за угла показался Урсус. Он направлялся к гостинице. Почти всю ночь провел он между тюрьмой, куда в полдень ввели Гуинплена, и кладбищем, где в полночь, как он слышал, засыпали свежую могилу. Его побледневшее от горя лицо казалось еще бледнее в утренних сумерках.
Занимающийся день, этот предвестник яркого света, не меняет ночных, неясных очертаний предметов, даже находящихся в движении. Медленно приближавшийся Урсус своим бледным лицом и всей своей фигурой, смутно выступавшей в полумраке, напоминал привидение.
Накануне, охваченный отчаянием, он выбежал из гостиницы с непокрытой головой. Он даже не заметил, что забыл надеть шляпу. Его жидкие седые волосы развевались по ветру. Широко раскрытые глаза, казалось, ничего не видели. Мы часто как будто бодрствуем во сне и спим наяву. Урсус был похож на сумасшедшего.
— Мистер Урсус, — закричал трактирщик, — подите-ка сюда. Эти джентльмены желают поговорить с вами.
Дядюшка Никлс, всецело занятый мыслью, как бы уладить инцидент, употребил множественное число, хотя в то же время опасался, не заденет ли оно самолюбие начальника тем, что поставит его на одну доску с подчиненными.
Урсус вздрогнул, как человек, внезапно сброшенный с постели, на которой он спал глубоким сном.
— Что такое? — спросил он.
Он увидел полицейских с судебным приставом во главе.
Новое тяжелое потрясение.
Совсем недавно жезлоносец, теперь — судебный пристав. Один как бы перебрасывал его другому. Он был в положении судна, оказавшегося меж двух грозных утесов, о которых говорится в древних преданиях.
Судебный пристав знаком приказал ему войти в харчевню.
Урсус повиновался.
Говикем, который только что проснулся и подметал в это время зал, остановился, отставил в сторону метлу и, укрывшись за столами, затаил дыхание. Запустив руку в волосы, он почесывал затылок — признак напряженного внимания.
Судебный пристав сел на скамью перед столом; Баркильфедро сел на стул; Урсус и дядюшка Никлс стояли перед ними. Полицейские столпились на улице, у закрытых ворот.
Судебный пристав устремил на Урсуса строгий взор блюстителя закона и спросил:
— Вы держите у себя волка?
Урсус ответил:
— Не совсем так.
— Вы держите у себя волка, — повторил судебный пристав, резко напирая на слово «волк».
— Дело в том… — начал было Урсус и замолчал.
— Уголовно наказуемый проступок, — сказал пристав.
Урсус попробовал защищаться:
— Это домашнее животное.
Пристав положил руку на стол, растопырив все пять пальцев, — жест, прекрасно выражающий всю силу его власти.
— Фигляр, завтра в этот час вы с вашим волком будете за пределами Англии. В противном случае волка заберут, отведут в присутствие и убьют.
Урсус подумал: «Одно убийство за другим». Однако не произнес ни слова и только задрожал всем телом.
— Вы слышите? — продолжал пристав.
Урсус утвердительно кивнул головой.
Пристав повторил:
— И убьют.
Наступило молчание.
— Удавят или утопят.
Судебный пристав посмотрел на Урсуса:
— А вас — в тюрьму.
Урсус пробормотал:
— Господин судья…
— Вы должны уехать прежде, чем наступит утро завтрашнего дня. Иначе приказ будет выполнен.
— Господин судья…
— Что?
— Нам обоим нужно уехать из Англии?
— Да.
— Сегодня?
— Сегодня же.
— Но как это сделать?
Дядюшка Никлс был счастлив. Этот судебный пристав, которого он так боялся, выручил его из беды. Полиция пришла ему, Никлсу, на помощь. Она освободила его от «этих людей». Она сама взяла на себя заботу избавить его от них. Урсуса, которого он хотел выгнать, высылала полиция. Неодолимая сила. Попробуй с ней поспорить! Он был в восторге.
Он вмешался в разговор:
— Ваша честь, этот человек…
Он указал пальцем на Урсуса.
— Этот человек спрашивает, как ему уехать нынче из Англии. Нет ничего проще. На Темзе по обеим сторонам Лондонского моста и днем и ночью можно найти суда, отплывающие в различные страны: в Данию, в Голландию, в Испанию, — куда угодно, кроме Франции, с которой мы ведем войну. Многие из них снимутся с якоря сегодня около часу ночи, когда начнется отлив. Между прочими и роттердамская шхуна «Вограат».
Судебный пристав повел плечом в сторону Урсуса.
— Хорошо. Уезжайте на любом судне. Хоть на «Вограате».
— Господин судья… — начал Урсус.
— Ну?
— Господин судья, это было бы возможно, если бы у меня, как и прежде, был только возок. Его можно было бы погрузить на корабль. Но…
— Но что же?
— Но сейчас у меня «Зеленый ящик», огромный фургон с двумя лошадьми, который не поместится даже на большом судне.
— А мне-то что за дело? — возразил пристав. — В таком случае волка убьют.
Урсус затрепетал, почувствовав, что сердце у него словно сжимает чья-то ледяная рука. «Изверги! — думал он. — Убийство — их излюбленное занятие».
Трактирщик с улыбкой обратился к Урсусу:
— Мистер Урсус, ведь вы же можете продать свой «Зеленый ящик».
Урсус взглянул на него.
— Мистер Урсус, вам же сделали предложение.
— Какое?
— Предложение насчет фургона, насчет лошадей. Насчет обеих цыганок. Насчет…
— Кто?
— Хозяин соседнего цирка.
— Да, верно.
Урсус вспомнил.
Никлс повернулся к судебному приставу:
— Ваша честь, сделка может состояться сегодня же. Хозяин соседнего цирка хочет купить фургон и лошадей.
— Хозяин цирка поступит разумно, — сказал пристав, — потому что фургон и лошади ему очень скоро понадобятся. Он тоже уедет сегодня. Священники саутворкских приходов подали жалобу на шум и безобразие, которые творятся в Таринзофилде. Шериф принял надлежащие меры. Сегодня вечером на площади не останется ни одного балагана. Конец всем этим безобразиям. Почтенный джентльмен, удостаивающий нас своим присутствием…
Судебный пристав сделал паузу, чтобы отвесить поклон Баркильфедро, который ответил ему тем же.
— …почтенный джентльмен, удостаивающий нас своим присутствием, прибыл сегодня из Виндзора. Он привез приказы. Ее величество повелела: «Очистить площадь».
Урсус, успевший много передумать за эту ночь, мысленно задавал себе не один вопрос. Ведь в конце концов он видел только гроб. Мог ли он поручиться, что в нем лежало тело Гуинплена? Мало ли узников умирает в тюрьме? На гробе не ставят имя покойника. Вскоре после ареста Гуинплена кого-то хоронили. Это еще ничего не доказывает: Post hoc, non propter hoc[456] — и так далее. Урсусом снова овладели сомнения. Надежда загорается и сверкает над нашей скорбью, подобно тому как горит нефть на воде. Ее огонек постоянно всплывает на поверхность людского горя. В конце концов Урсус решил: «Возможно, что хоронили действительно Гуинплена, но это еще не достоверно. Как знать? А вдруг Гуинплен еще жив?»
Урсус поклонился приставу:
— Достопочтенный судья, я уеду. Мы уедем. Все уедут. На «Вограате». В Роттердам. Я повинуюсь. Я продам «Зеленый ящик», лошадей, трубы, цыганок. Но у меня есть товарищ, которого я не могу оставить. Гуинплен…
— Гуинплен умер, — произнес чей-то голос.
Урсусу показалось, будто он внезапно ощутил холодное прикосновение какого-то пресмыкающегося.
Эти слова произнес Баркильфедро.
Угас последний луч надежды. Сомнений больше не было. Гуинплен умер.
Незнакомец должен был знать это доподлинно. У него был такой зловещий вид.
Урсус поклонился.
В сущности, дядюшка Никлс был человеком добрым. Но когда не трусил. Страх делал его жестоким. Нет никого безжалостнее перепуганного труса.
Он пробормотал:
— Это упрощает дело.
И стал за спиною Урсуса потирать руки, радуясь, как все эгоисты, и мысленно говоря: «Я здесь ни при чем» — жест Понтия Пилата, умывающего руки.
Урсус горестно поник головой. Смертный приговор, вынесенный Гуинплену, был приведен в исполнение; он же, Урсус, как ему только что об этом объявили, был осужден на изгнание. Ничего другого не оставалось, как повиноваться. Он задумался.
Вдруг он почувствовал, что кто-то взял его за локоть. Это был спутник судебного пристава. Урсус вздрогнул.
Голос, сказавший раньше: «Гуинплен умер», теперь прошептал ему на ухо:
— Вот десять фунтов стерлингов, которые посылает лицо, желающее вам добра.
И Баркильфедро положил на стол перед Урсусом маленький кошелек.
Читатель помнит, конечно, про шкатулку, унесенную Баркильфедро.
Десять гиней — вот и все, что смог уделить Баркильфедро из двух тысяч. По совести говоря, этого было вполне достаточно. Дай он Урсусу больше, он сам оказался бы в убытке. Ведь он потратил немало труда на то, чтобы разыскать лорда, — теперь он приступал к использованию находки, и справедливость требовала, чтобы первая же добыча с открытой им золотой россыпи досталась ему. Пускай иные назовут такой поступок низким, это их дело, но удивляться тут не приходится. Просто Баркильфедро любил деньги, в особенности краденые. В каждом завистнике кроется корыстолюбец. У Баркильфедро были свои недостатки — ведь злодеи не избавлены от мелких пороков. И у тигров бывают вши.
Кроме того, здесь сказывалась школа Бекона.
Баркильфедро повернулся к судебному приставу и сказал:
— Сударь, будьте любезны, кончайте поскорей. Я очень тороплюсь. Мне нужно скакать во весь дух в Виндзор и прибыть туда не позже, чем через два часа. Я должен донести обо всем и получить дальнейшие приказания.
Судебный пристав поднялся.
Он подошел к двери, которая была заперта только на задвижку, открыл ее, не произнося ни слова, окинул взором полицейских, поманил их к себе указательным пальцем. Весь отряд вступил в зал, соблюдая тишину, которая обычно предвещает наступление чего-то грозного.
Дядюшка Никлс, довольный быстрой развязкой, сулившей конец всем осложнениям, был в восторге, что выпутался из беды, но при виде шеренги выстроившихся полицейских испугался, как бы Урсуса не арестовали у него в доме. Один за другим два ареста в его гостинице — сначала Гуинплена, затем Урсуса — это могло повредить его заведению, так как посетители не любят тех кабачков, куда часто заглядывает полиция. Наступил момент, когда надо было почтительно вмешаться и в то же время проявить великодушие. Дядюшка Никлс обратил к приставу улыбающееся лицо, на котором выражение самоуверенности смягчилось подобострастием.
— Ваша честь, я позволю себе заметить, что в почтенных господах сержантах нет никакой нужды теперь, когда ясно, что преступный волк будет увезен из Англии, а человек, носящий имя Урсуса, не оказывает сопротивления и собирается в точности исполнить приказание вашей чести. Пусть ваша честь соблаговолит принять во внимание, что достойные всякого уважения действия полиции, столь необходимые для блага королевства, могут причинить ущерб моему заведению, хотя оно ни в чем не повинно. Как только площадь, пользуясь выражением ее величества, будет очищена от фигляров «Зеленого ящика», на ней не останется больше преступного элемента, ибо, по-моему, нельзя считать нарушителями законности ни слепую девушку, ни обеих цыганок; поэтому я умоляю вашу честь сократить свое высокое пребывание здесь и отправить назад достойных господ, только что вошедших сюда, так как им больше нечего делать в моем доме; если бы ваша честь позволила мне подтвердить справедливость моих слов смиренным вопросом, я доказал бы бесполезность присутствия этих почтенных господ, спросив вашу честь: поскольку человек, носящий имя Урсуса, подчиняется приговору, то кого же они намереваются арестовать здесь?
— Вас, — ответил пристав.
С ударом шпаги, пронзающей вас насквозь, спорить не приходится. Пораженный как громом, Никлс упал на первый стоявший близ него предмет, не то на стол, не то на скамью.
Судебный пристав возвысил голос так, что его могли услышать на площади:
— Мистер Никлс Племптри, содержатель харчевни, нам нужно покончить еще с одним делом. Этот скоморох и волк — бродяги. Они изгоняются из Англии. Но главный виновник — вы. При вашем попустительстве был у вас в доме нарушен закон, и вы, человек, которому разрешили содержать гостиницу, человек, ответственный за все происходящее в ней, вы терпели бесчинства в своем заведении. Мистер Никлс, у вас отныне отбирается патент, вы заплатите штраф и будете посажены в тюрьму.
Полицейские окружили трактирщика.
Судебный пристав указал на Говикема.
— Этот малый арестуется как ваш сообщник.
Рука одного из полицейских схватила за шиворот Говикема, который с любопытством взглянул на блюстителя порядка. Он не очень испугался, так как плохо понимал, в чем дело; он насмотрелся на всякие странности и мысленно задавал себе вопрос, не продолжают ли еще разыгрывать перед ним комедию.
Судебный пристав нахлобучил на голову шляпу, сложил руки на животе, что является высшим выражением величественности, и прибавил:
— Итак, мистер Никлс, вас отведут в тюрьму и посадят за решетку. Вас и этого мальчишку. А ваша Тедкастерская гостиница будет закрыта и заколочена. В назидание другим. Теперь следуйте за нами.
Часть X. Женщина-титан
Глава 83
Пробуждение
— А Дея?
Гуинплену, смотревшему на занимавшийся день в Корлеоне-Лодже, в то время как в Тедкастерской гостинице происходили описанные выше события, показалось, что этот возглас донесся к нему извне; но крик этот вырвался из глубины его существа.
Кому из нас не приходилось слышать голос, звучащий в тайниках нашей души?
К тому же начинало светать.
Утренняя заря — призыв.
К чему бы служило солнце, если бы оно не будило совесть, спящую тяжелым сном?
Свет и добродетель соприродны друг другу.
Зовут ли бога Христом или Амуром — в жизни каждого, даже лучшего из нас, наступает час, когда мы забываем о нем; все мы, не исключая и праведников, нуждаемся тогда в напоминании, и заря пробуждает в нас вещий голос совести. Он предшествует пробуждению в нас чувства долга так же, как пение петуха предшествует рассвету.
В хаосе человеческого сердца раздается возглас: «Fiat lux»[457].
Гуинплен (мы будем называть его по-прежнему этим именем, ибо Кленчарли — только лорд, а Гуинплен — человек) — Гуинплен как бы воскрес.
Пора было перевязать лопнувшую артерию, иначе он мог утратить последнюю каплю благородства.
— А Дея? — сказал он.
И он почувствовал в своих жилах живительный прилив крови. Словно обдало его бодрящей мятежной волною. Бурный наплыв добрых мыслей похож на возвращение домой человека, который потерял ключ и взламывает собственную дверь. Это насильственное вторжение, но вторжение добра; это насилие, но насилие над игом зла.
— Дея! Дея! Дея! — повторил он.
Он как бы закреплял этим именем то, что происходило у него в сердце.
Он спросил вслух:
— Где ты?
И почти удивился, что не получил ответа.
Оглядывая потолок и стены, как человек, к которому возвращается разум, он продолжал вопрошать:
— Где ты? Где я?
И он снова заметался по комнате, точно запертый в клетку звери.
— Где я? В Виндзоре. А ты? В Саутворке. Ах, боже мой! В первый раз в жизни мы разлучены друг с другом. Кто же разъединил нас? Я здесь, а ты там. О! Это невозможно. Этого не будет. Что же со мной сделали?
Он остановился.
— Кто это говорил мне про королеву? Откуда я знаю? Изменился! Я изменился? Почему? Потому, что я стал лордом. Знаешь ли ты, что случилось, Дея? Ты теперь леди. Творятся удивительные дела. Ах, да! Надо выбраться на настоящую дорогу. Не заблудился ли я? Какой-то человек говорил мне что-то непонятное. Я помню его слова: «Милорд, судьба, отворяя одну дверь, захлопывает другую. То, что осталось позади вас, уже не существует!» Иначе говоря: «Вы негодяй!» Этот презренный человек говорил мне все это, пока я еще не пришел в себя. Он воспользовался тем, что я был ошеломлен. Я оказался его добычей. Где он? Я хочу ответить ему оскорблением! Я, точно в кошмаре, видел его ехидную улыбку. Ах, но теперь я опять становлюсь самим собой! Прекрасно! Они ошибаются, думая, будто с лордом Кленчарли можно сделать все, что угодно! Я — пэр Англии, да, но у пэра есть законная супруга — Дея. Условия? Да разве я приму какие-то условия? Королева? Что мне за дело до королевы? Я ее в глаза не видал. Не для того родился я лордом, чтобы быть рабом. Я получу власть, но не отдам своей свободы. Даром, что ли, сняли с меня оковы? Меня изуродовали — только и всего. Дея! Урсус! Я с вами. Я был таким, как вы. Теперь вы будете такими, каким стал я. Придите! Нет! Я иду к вам! Сейчас же, немедля! Я и так слишком долго ждал. Что они могут подумать, видя, что я не возвращаюсь? Ах, эти деньги! Как смел я послать им деньги! Я должен был сам поспешить к ним. Я помню, этот человек сказал, что мне не выйти отсюда. Посмотрим. Эй, карету! Пусть подадут карету! Я отправлюсь за ними. Где слуги? Должны же быть слуги, раз есть господин. Я здесь хозяин! Это мой дом! Я сорву запоры, сломаю замки, я ногами вышибу двери. Я насквозь проколю шпагой того, кто преградит мне дорогу: теперь у меня есть шпага. Пусть только попробуют оказать мне сопротивление. У меня есть жена — это Дея! У меня есть отец — это Урсус! Мой дом — дворец, и я дарю его Урсусу. Мое имя — корона, и я отдаю ее Дее. Скорей! Сейчас! Вот я, Дея. Одно только мгновение — и я перешагну разделяющее нас расстояние, вот увидишь!
И, откинув первую попавшуюся портьеру, он порывисто вышел из комнаты.
Он очутился в коридоре и бросился вперед.
Перед ним открылся второй коридор.
Все двери были настежь.
Он пошел наугад из комнаты в комнату, из коридора в коридор в поисках выхода.
Глава 84
Дворец, похожий на лес
Как и во всех дворцах, выстроенных в итальянском вкусе, в Корлеоне-Лодже было мало дверей. Их заменяли занавесы, портьеры, ковры.
В те времена не было дворца, который не представлял бы собой странного нагромождения великолепных палат, коридоров, украшенных позолотой, мрамором, резными панелями, восточными шелками, уединенных уголков, то темных и таинственных, то залитых светом. Там были веселые, богато убранные покои, блестевшие лаком, плитками голландского фаянса или португальскими узорными изразцами; амбразуры высоких окон, верхняя часть которых уходила в антресоли, застекленные кабинеты, похожие на большие красивые фонари. Глубокие ниши в толстых стенах также могли служить уединенными уголками. Почти на каждом шагу попадались гардеробные, напоминавшие бонбоньерки. Все это называлось «внутренними покоями». Именно здесь готовились преступления.
Такие покои оказывались очень удобными в тех случаях, когда надо было убить герцога Гиза, обесчестить хорошенькую жену президента Сильвекана или, позднее, заглушать крики юных девушек, которых приводил Лебель. Замысловатые строения, где человеку непривычному легко было заблудиться. В таких дворцах не стоило никакого труда кого угодно похитить и замести все следы. В этих изысканных вертепах принцы и вельможи скрывали свою добычу. Граф Шароле прятал там госпожу Куршан, жену председателя кассационного суда; де Монтюле — дочь Одри, арендатора земель Круа-Сен-Ланфруа; принц Конти — двух красавиц булочниц из Лиль-Адама; герцог Бекингем — бедняжку Пеньюэл и т. д. Все происходившее там совершалось, если пользоваться выражением римского права, vi, clam et precario, то есть насильственно, тайно и ненадолго. Кто попадал туда, оставался там до тех пор, пока это было угодно хозяину. Это были позолоченные темницы. Они напоминали собой и монастырь и сераль. Винтовые лестницы кружили, поднимались, спускались. Извиваясь спиралью, вереница смежных комнат приводила вас снова туда, откуда вы вышли. Галерея упиралась в молельню. Исповедальня примыкала к алькову. Моделью для архитекторов, строивших королям и вельможам «внутренние покои», служили, очевидно, разветвления кораллов и ходы в губках. Из этого лабиринта, казалось, невозможно было выбраться, но вдруг какой-нибудь вращающийся на шарнирах портрет оказывался замаскированной дверью. Все было предусмотрено. Да оно и понятно: здесь нередко разыгрывались драмы. Дворец от подвалов до мансард представлял собой многоэтажный улей. Этот причудливый звездчатый коралл, выросший внутри каждого дворца, начиная от Версаля, представлялся как бы жилищем пигмеев в обиталище титанов. Коридоры, альковы, ниши, тайники — все это были укромные уголки, где высокие особы прятали от людских взоров свои низкие дела.
Эти извилистые, глухие переходы напоминали об играх, о завязанных глазах, о руках, нащупывающих двери, о сдержанном смехе, о жмурках, прятках и в то же время приводили на память Атридов, Плантагенетов, Медичи, свирепых рыцарей Эльца, убийство Риччо, Мональдески, людей с обнаженными шпагами, преследующих беглеца из комнаты в комнату.
Такие таинственные убежища, где роскошь предназначена укрывать страшные злодеяния, были еще в древности. Образцом их могут служить сохранившиеся под землей египетские гробницы, как, например, склеп царя Псаметиха, обнаруженный раскопками Пассалакки. Древние поэты с ужасом описывали эти таинственные постройки. Error circumflexus, locus implicitus gyris[458].
Гуинплен находился во «внутренних покоях» Корлеоне-Лоджа.
Он сгорал желанием выйти отсюда, очутиться на воле, вновь увидеть Дею. Эта путаница коридоров, комнат, потайных дверей, неожиданных выходов задерживала его, замедляла его шаги. Он хотел бежать, а вынужден был пробираться. Ему казалось, что достаточно только распахнуть дверь, чтобы выбраться на свободу, но за ней следовали новые и новые двери, и он блуждал по этому лабиринту.
За одной комнатой следовала другая, за залом новый зал.
Нигде ни живой души. Ни звука. Ни шороха.
Иногда ему казалось, что он кружится на одном месте.
Порой ему чудилось, что кто-то идет навстречу. На самом деле не было никого: это было его собственное отражение в зеркале.
Это был он, но в костюме знатного дворянина, совершенно не похожий на себя. Он узнавал себя, но не сразу.
Он блуждал долго. Он путался в сложном расположении «внутренних покоев», попадал то в укромный кабинет, кокетливо украшенный резьбой и живописью, немного непристойной, то в какую-то подозрительную часовню со стенами, покрытыми перламутром и эмалью, с изображениями из слоновой кости такой тонкой работы, что их надо было рассматривать в лупу, как крышки табакерок; то в один из тех изысканных уголков во флорентийском вкусе, которые как будто нарочно были придуманы для взбалмошных женщин, находящихся в капризном настроении, и с тех пор так и называются «будуарами». Всюду — на потолках, на стенах и даже на полу — пестрели на бархате или металле изображения птиц и деревьев, фантастические растения, перевитые жемчугом, рельефные басоны, скатерти, сверкавшие блестками стекляруса, фигуры воинов, королев, женщин-тритонов с чешуйчатым хвостом гидры. Граненый хрусталь отражал свет и переливался всеми цветами радуги. Стеклянная посуда соперничала блеском с драгоценными камнями. Во мраке что-то вспыхивало искрами в угловых шкафах. Трудно было сказать, что представляли собою эти сверкающие блики, в которых зелень изумрудов сливалась с золотом восходящего солнца и на которые словно наплывали облака цвета голубиных перьев, — были ли это крохотные зеркала, или же огромные аквамарины. Хрупкое и в то же время громоздкое великолепие! Это был самый маленький из всех дворцов, или громаднейший ларец для драгоценностей. Домик феи Маб или безделушка Гео. Гуинплен искал выхода.
Он не находил его. Он растерялся. Ничто не поражает с такой силой, как роскошь, когда ее видишь в первый раз. К тому же это был лабиринт. На каждом шагу какое-нибудь великолепное препятствие преграждало ему дорогу. Казалось, все противится его бегству. Дворец как будто не хотел выпускать его. Он точно попал в плен ко всем этим чудесам. Он чувствовал, что его схватили и цепко держат.
«Какой страшный дворец!» — думал он.
Он блуждал по бесконечным переходам, тревожно спрашивая себя, что означает все это, не в тюрьме ли он; он приходил в бешенство, он рвался на вольный воздух. Он повторял: «Дея! Дея!», хватаясь за это имя как за путеводную нить, боясь оборвать ее; она одна могла вывести его отсюда.
Временами он кричал:
— Эй! Кто-нибудь!
Никто не откликался.
Комнатам не было конца. Все было пустынно, молчаливо, пышно и зловеще.
Такими рисуются нашему воображению заколдованные замки.
Скрытые источники тепла поддерживали в этих коридорах и комнатах летнюю температуру. Казалось, какой-то чародей завладел июнем и запер его в этом лабиринте. Порою до Гуинплена доносился чудесный запах. Его обволакивали ароматы, словно где-то неподалеку благоухали невидимые цветы. Было жарко. Всюду были разостланы ковры. Здесь можно было бы ходить обнаженным.
Гуинплен смотрел в окна. Вид постоянно менялся. Его взор встречал то сады, исполненные свежести весеннего утра, то новые фасады с новыми статуями, то испанские патио — квадратные, выложенные плитами дворики, сырые и холодные, заключенные между стенами многоэтажных зданий, то воды Темзы, то высокую башню Виндзорского замка.
В этот ранний час на дворе не было ни души.
Он останавливался. Прислушивался.
— О, я уйду отсюда! — восклицал он. — Я вернусь к Дее. Меня не удержать силой. Горе тому, кто вздумал бы помешать мне. Что это там за башня? Пусть в ней живет великан, адский пес или тараск, охраняющий выход из этого заколдованного замка, все равно я их убью. Я справлюсь с целым полчищем. Дея! Дея!
Вдруг до него донесся тихий, еле слышный звук, похожий на журчание воды.
Гуинплен находился в узкой темной галерее; в нескольких шагах от него была закрытая портьера.
Он сделал несколько шагов, раздвинул портьеру и вошел.
Его глазам открылось неожиданное зрелище.
Глава 85
Ева
Он увидел восьмиугольный зал с полуовальными арками сводов; окон не было; свет лился откуда-то сверху; стены, пол и свод были облицованы мрамором цвета персика. Посреди зала возвышался черного мрамора балдахин, опиравшийся на витые колонны в тяжеловесном, но очаровательном стиле времен Елизаветы; под ним помещалась ванна-бассейн такого же черного мрамора; в ней била медленно наполнявшая ее тонкая струя душистой теплой воды. Черный мрамор ванны, оттеняя белизну тела, сообщает ему ослепительный блеск.
Журчанье этой струи и услыхал Гуинплен. Отверстие в ванне, сделанное на известном уровне, не давало воде переливаться через край. Над ванной поднимался еле заметный пар, мельчайшею росою оседая на мраморе. Тонкая струйка воды была похожа на гибкий стальной прут, колеблющийся от малейшего дуновения.
Мебели почти не было; только около самой ванны стояла кушетка с подушками, достаточно длинная для того, чтобы в ногах лежащей на ней женщины могли поместиться ее собачка или ее любовник; поэтому такие кушетки и носят название can-al-pie[459], которое мы превратили в «канапе».
Судя по серебряным ножкам и серебряной раме, это был испанский шезлонг. Обивка и подушки были из белого атласа.
По другую сторону ванны стоял у стены высокий туалет из литого серебра со всеми необходимыми принадлежностями; посередине его возвышалось что-то вроде окна, состоявшего из восьми небольших венецианских зеркал, соединенных между собой серебряным переплетом.
В стене, ближайшей к кушетке, было вырублено квадратное отверстие, похожее на слуховое окно и закрывавшееся серебряной дверцей. Эта дверца ходила на петлях, как ставень. На ней сверкала покрытая золотом и чернью королевская корона. Над дверцей висел вделанный в стену колокольчик из позолоченного серебра, а может быть и из золота.
Напротив арки, через которую вошел Гуинплен, круглился в конце зала проем такой же арки, занавешенный от потолка до полу серебристой тканью.
Тонкая, как паутина, ткань была совершенно прозрачна. Сквозь нее было видно все.
В центре этой паутины, в том самом месте, где обычно помещается паук, Гуинплен увидел нечто поразительное — нагую женщину.
Собственно говоря, она не была совсем нагой. Женщина была одета. Одета с головы до пят. На ней была очень длинная рубашка вроде тех одеяний, в которых изображают ангелов, но настолько тонкая, что казалась мокрой. Такая полуобнаженность более соблазнительна и более опасна, нежели откровенная нагота. Из истории нам известно, что принцессы и знатные дамы принимали участие в процессиях кающихся, проходивших между двумя рядами монахов; в одной из таких процессий герцогиня Монпансье, под предлогом самоуничижения, показалась всему Парижу в одной кружевной рубашке. Правда, герцогиня шла босая и со свечой в руках.
Серебристая ткань, прозрачная как стекло, служила занавесью. Она была прикреплена только вверху, и ее можно было приподнять. Она отделяла мраморный зал-ванную от смежной с нею спальни. Эта очень небольшая комната представляла собой нечто вроде зеркального грота. Зеркала, вплотную подогнанные одно к другому, были соединены между собой золотым багетом и, образуя многогранник, отражали кровать, стоявшую в центре. Кровать, так же как туалет и кушетка, была из серебра; на ней лежала женщина. Она спала.
Она спала, запрокинув голову, одной ногой отбросив одеяло, словно ведьма, над которой распростер свои крылья сладостный сон.
Обшитая кружевом подушка упала на ковер.
Между наготой женщины и взором Гуинплена были только две преграды, две прозрачных ткани; рубашка и занавес из серебристого газа. Комната, похожая скорее на альков, освещалась слабым светом, проникавшим из ванной. Свет, казалось, обладал большей стыдливостью, чем эта женщина.
Кровать была без колонн, без балдахина, без полога, так что женщина, открывая глаза, могла видеть в окружавших ее зеркалах тысячекратное отражение своей наготы.
Простыни были сбиты, словно в тревожном сне. Их красивые складки свидетельствовали о тонкости ткани. Это было то время, когда некая королева, стараясь представить себе адские мученья, воображала их в виде постели с грубыми простынями.
Обычай спать голым перешел из Италии, он существовал еще до римлян. Sub clara nuda lucerna[460], — говорит Гораций.
В ногах кровати был брошен халат из какого-то необычайного шелка, несомненно китайского, так как в складках его виднелась большая, вышитая золотом ящерица.
Позади кровати, в глубине алькова, находилась, по всей вероятности, дверь, скрытая довольно большим зеркалом, с изображенными на нем павлинами и лебедями. В этой полутемной комнате все сияло. Промежутки между стеклом и золотым багетом были залиты тем блестящим сплавом, который в Венеции называется «стеклянной желчью».
К изголовью кровати был прикреплен серебряный пюпитр с вращающейся доской и неподвижными подсвечниками; на нем лежала раскрытая книга; на страницах ее, над текстом, стояло начертанное красными буквами заглавие: «Alcoranus Mahumedis»[461].
Гуинплен не заметил ни одной из этих подробностей: он видел только женщину.
Он остолбенел и в то же время был взволнован до глубины души. Противоречие невероятное, но в жизни оно бывает.
Он узнал эту женщину.
Глаза ее были закрыты, лицо обращено к нему.
Перед ним быта герцогиня.
Да, это она, загадочное существо, таившее в себе всю прелесть неизвестного, она, являвшаяся ему столько раз в постыдных снах, она, написавшая ему такое странное письмо, единственная в мире женщина, про которую он мог сказать: «Она меня видела и хочет быть моею!» Он отогнал от себя эти сны, он сжег письмо. Он изгнал ее из своих мыслей, из своей памяти, он больше не думал о ней, он забыл ее…
И вот она снова перед ним. И еще более грозная, чем прежде! Нагая женщина — это женщина во всеоружии.
Он затаил дыхание. Ослепительное облако подхватило его и увлекло с собой. Он смотрел. Перед ним была эта женщина. Возможно ли?
В театре — герцогиня. Здесь — нереида, наяда, фея. И всюду она — призрак.
Он хотел бежать и почувствовал, что не может двинуться с места. Взгляды его стали цепями, приковывавшими его к видению.
Кто она? Непотребная женщина? Девственница? И то и другое. Улыбка таившейся в ней Мессалины сочеталась с настороженностью Дианы. В ее блистательной красоте было что-то неприступное. Ничто не могло сравниться чистотою с целомудренно строгими формами ее тела. Снег, на который никогда не ступала нога человека, можно узнать с первого взгляда. Эта женщина сияла священной белизной вершины Юнгфрау. От ее невозмутимого чела, от рассыпавшихся золотистых волос, от опущенных ресниц, от еле заметных голубоватых жилок, от округлостей ее груди, достойной резца ваятеля, от бедер и колен, розовевших сквозь прозрачную рубашку, веяло величием спящей богини. Ее бесстыдство растворялось в сиянии. Она лежала нагая так спокойно, точно имела право на этот олимпийский цинизм; в ней чувствовалась самоуверенность богини, которая, погружаясь в морскую волну, может сказать океану: «Отец!». Великолепная, недосягаемая, она предлагала себя всем взглядам, всем желаниям, всем безумиям, всем мечтам, горделиво покоясь на этом ложе, подобно Венере на лоне пенных вод.
Она заснула с вечера и безмятежно спала до сих пор; доверчивость, с которой она отдалась сумраку, не исчезла и при свете дня.
Гуинплен трепетал. Он смотрел на нее восхищенный. Болезненное, алчное восхищение пагубно. Ему стало страшно.
Неожиданностям, которыми судьба дарит человека, не бывает конца. Гуинплену казалось, что он дошел до предела, и вдруг все начиналось снова. Что означали все эти непрерывно поражавшие его молнии и этот последний, страшный удар — внезапно представшая ему спящая богиня? Что означали эти последовательно открывавшиеся ему просветы небес, откуда, наконец, снизошла его желанная и грозная мечта? Что означала эта угодливость неведомого искусителя, осуществлявшего одну за другой его смутные грезы, неясные стремления, облекавшего плотью даже его дурные помыслы, мучительно опьянявшего его похожей на фантазию действительностью? Не соединились ли против него, жалкого человека, все силы тьмы? К чему должны были привести его все эти улыбки зловещей судьбы? Кто это задался целью вскружить ему голову? Эта женщина? Почему она здесь? Зачем? Непонятно. Зачем он здесь? Зачем она здесь? Уж не сделали ли его пэром Англии ради этой герцогини? Кто толкал их друг к другу? Кто тут был одурачен? Кто был жертвой? Чьим доверием злоупотребляли? Быть может, обманывали бога? Все эти мысли проносились в голове Гуинплена, словно окутанные черными облаками. А это волшебное, зловещее жилище, этот странный дворец, откуда не было выхода, как из тюрьмы, — быть может, и он принимал участие в заговоре? Все окружающее словно засасывало его. Какие-то темные силы связывали все его движения. Его воля, все больше и больше слабея, покидала его, рассеивалась. За что ухватиться? Он был растерян и околдован. Ему казалось, что он окончательно сходит с ума. Объятый смертельным ужасом, он стремительно падал в зияющую бездну.
Женщина спала.
Его волнение все возрастало. Для него это была уже не леди, не герцогиня, не знатная дама; это была женщина.
Дурные наклонности заложены в нас в скрытом состоянии. В нашем организме неведомо для нас существует уже готовая почва для пороков. От этого не свободны даже самые невинные и на первый взгляд чистые люди. Если человек ничем не запятнан, это еще не значит, что у него нет недостатков. Любовь — закон. Сладострастие — западня. Опьянение и пьянство — две разные вещи. Желать определенную женщину — опьянение. Желать женщину вообще — то же, что пьянство.
Гуинплен терял власть над собою, он весь дрожал.
Как устоять на этот раз? Тут не было уже ни легких сборок воздушных тканей, ни складок тяжелого шелка, ни пышного, кокетливого туалета, затейливо прикрывающего и вместе с тем обнажающего женское тело, — никакой дымки. Нагота во всей своей страшной простоте. Настойчивый, таинственный призыв существа, не ведающего стыда, обращенный ко всему темному, что есть в человеке. Ева, более опасная, нежели сам сатана. Человеческое в сочетании со сверхъестественным. Беспокойный восторг, завершающийся грубым торжеством инстинкта над долгом. Порабощающая власть красоты. Когда красота перестает быть идеалом и становится чувственным соблазном, близость ее губительна для человека.
Иногда герцогиня незаметно меняла позу, как легкое облако меняет свои очертания в лазури. Линии ее тела принимали по-новому прелестную волнистость. В плавных и гибких движениях женщины та же изменчивость, что и в движениях волны, в них есть что-то неуловимое. Странно — прекрасное тело, которое созерцал Гуинплен, не вызывало никаких сомнений в своей реальности — и в то же время казалось чем-то сказочным. Несмотря на ощутимую близость, женщина эта была бесконечно далекой. Бледный, смущенный Гуинплен смотрел на нее, не отрывая взора. Он прислушивался, как дышит ее грудь, и ему чудилось, что это — дыхание призрака. Его влекло к ней, он боролся. Как устоять против нее? Как совладать с самим собой?
Он ожидал всего, только не этого. Он думал, что ему придется выдержать схватку с лютым стражем, который преградит ему выход, с каким-нибудь разъяренным чудовищем, со свирепым тюремщиком. Он ожидал встретить Цербера — и увидел Гебу.
Нагую женщину. Спящую женщину.
Какая тяжелая борьба!
Он опускал веки. От слишком яркого света глазам бывает больно. Но и сквозь закрытые веки он все видел ее. Менее ослепительную, но столь же прекрасную.
Бежать не всегда возможно. Он пытался и не мог. Он словно прирос к полу, как это бывает иногда во сне. Когда мы хотим бежать от соблазна, он приковывает нас к месту. Идти ему навстречу еще возможно, но отступить уже нельзя. Незримые руки греха тянутся к нам из-под земли и увлекают нас в пропасть.
Принято думать, будто всякое ощущение постепенно притупляется. Ошибочное мнение. Это равносильно утверждению, что азотная кислота, медленно стекая на рану, успокаивает боль, или что Дамьен, подвергнутый четвертованию, мог свыкнуться с этой пыткой.
На самом деле каждый новый толчок лишь обостряет ощущение.
Изумляясь все больше и больше, Гуинплен дошел до неистовства. Его рассудок, ошеломленный новой неожиданностью, был подобен переполненной до краев чаше. В нем пробудилось что-то неведомое и страшное.
Он потерял компас. Одно только для него было достоверно — лежащая перед ним женщина. Ему открывалось что-то всепоглощающее, разверзшееся перед ним, как морская пучина. Он уже не мог управлять собой. Необоримое течение увлекало его к подводному камню. Но подводный камень оказался не скалою, а сиреной; дно бездны таило магнит. Гуинплен хотел бы противостоять его притягательной силе, но как? Он уже не находил точки опоры. Человека иногда подхватывает и несет буря. Подобно судну, он теряет все снасти. Его якорь — это совесть. Но, как это ни ужасно, якорь может оборваться.
Гуинплен даже не мог сказать себе: «Я безобразен, ужасен. Она оттолкнет меня». Эта женщина писала ему, что любит его.
Бывают мгновенья, когда мы как бы повисаем над пропастью. Когда мы утрачиваем связь с добром и приближаемся к злу, та часть нашего существа, которая вовлекает нас в грех, торжествует над нами и в конце концов низвергает нас в бездну. Не наступила ли и для Гуинплена такая печальная минута?
Как спастись?
Итак, это она! Герцогиня! Та женщина! Она была здесь, в этой комнате, в уединенном месте, одна, спящая, беззащитная. Она была в его руках, и он — всецело в ее власти.
Герцогиня!
В глубине небесного пространства вы заметили звезду. Вы восхищались ею. Она так далеко! Какие опасения может внушить нам неподвижная звезда? Но вот однажды ночью она меняет место. Вы различаете вокруг нее дрожащее сияние. Светило, которое вы считали бесстрастным, пришло в движение. Это не звезда, это комета. Это неистовая поджигательница неба. Светило приближается, растет, оно распускает огненные волосы, становится огромным; оно приближается к вам. О ужас! Оно летит на вас! Комета вас узнала, комета пылает к вам страстью, комета вожделеет к вам. Страшное приближение небесного тела. То, что надвигается на вас, настолько ярко, что может ослепить. Это избыток жизни, несущий смерть. Вы отвечаете отказом на зов зенита. Вы отвергаете любовь, предлагаемую бездной. Вы закрываете лицо руками, вы прячетесь, бежите, вы считаете себя спасенным, вы открываете глаза… Чудовищная звезда перед вами. И не звезда, а целый мир. Неведомый мир лавы и огня. Всепожирающее чудо, рожденное безднами. Комета заполнила собой все небо. Кроме нее, ничего не существует. В глубокой бесконечности она горела карбункулом, вдали казалась алмазом, вблизи же превратилась в огненное горнило. Вы со всех сторон окружены пламенем.
И вы чувствуете, как этот райский огонь, испепеляет вас.
Глава 86
Сатана
Вдруг спящая пробудилась. Быстрым и вместе с тем величественно-плавным движением она села на своем ложе; золотистые, мягкие, как шелк, волосы в прелестном беспорядке рассыпались вдоль ее стана; рубашка, соскользнув, обнажила плечо; она дотронулась холеной рукой до розовой ступни и некоторое время смотрела на свою обнаженную ногу, достойную восхищения Перикла и резца Фидия; потом потянулась и зевнула, как тигрица, пробудившаяся с восходом солнца.
Вероятно, она услышала тяжелое дыхание Гуинплена — человек, старающийся сдержать волнение, всегда дышит тяжело.
— Здесь кто-нибудь есть? — спросила она.
Она проговорила эти слова, сладко зевая.
Гуинплен впервые услыхал ее голос. Голос очаровательницы, в котором звучало что-то пленительно-высокомерное; свойственная ему повелительность смягчалась ласковой интонацией.
Внезапно став на колени, напоминая в этой позе античную статую, тело которой облекают тысячи прозрачных складок, она потянула к себе халат, соскочила с постели и с молниеносной быстротой накинула его. Он мгновенно окутал ее с ног до головы. Длинные рукава закрыли даже кисти рук. Из-под подола выглядывали только кончики пальцев белых, крошечных, как у ребенка, ног с узкими розовыми ногтями.
Она высвободила из-под халата волну роскошных волос и, подбежав к стоящему в глубине алькова расписному зеркалу, за которым, вероятно, была дверь, прильнула к нему ухом.
Согнув пальчик, она постучала в стекло.
— Кто там? Это вы, лорд Дэвид? Почему так рано? Который час? Или это ты, Баркильфедро?
Она обернулась.
— Нет, это не здесь. Это с другой стороны. Может быть, кто-то есть в ванной комнате? Да отвечайте же! Впрочем, нет, оттуда никто не может прийти.
Она направилась к занавеси из серебристого газа, откинула ее в сторону ногой, раздвинула плечом и вошла в мраморный зал.
Гуинплен почувствовал, как его охватывает предсмертный холод. Скрыться было некуда. Бежать — слишком поздно. Да он и не в силах был бежать. Он был бы рад, если бы под ним разверзлась земля и поглотила его. Он стоял на самом виду.
И она увидала его.
Она даже не вздрогнула. Она смотрела на него чрезвычайно удивленная, но без малейшего страха; в ее глазах были и радость и презрение.
— А! — проговорила она. — Гуинплен!
И вдруг одним прыжком эта кошка, обернувшаяся пантерой, бросилась ему на шею.
От быстрого движения рукава ее халата откинулись и своими обнаженными до плеча руками она крепко прижала к себе голову Гуинплена.
И вдруг, оттолкнув его, она впилась ему в плечи цепкими, как когти, пальцами, и стала всматриваться в него каким-то странным взглядом.
Она устремила на него роковой взгляд своих разноцветных глаз, горевших как Альдебаран, глаз, в которых было и что-то низменное и что-то неземное. Гуинплен смотрел в эти двухцветные глаза, — голубой и черный, — теряя голову от этого небесного и адского взора. Этот мужчина и эта женщина ослепляли друг друга, он — своим безобразием, она — своей красотой, и оба — ужасом, исходившим от них.
Он продолжал молчать, словно придавленный невыносимым гнетом. Она воскликнула:
— Ты пришел! Это умно. Ты узнал, что меня заставили уехать из Лондона, и последовал за мной. Вот хорошо! Удивительно, как ты очутился здесь.
Когда два существа оказываются во власти друг друга, между ними вспыхивает молния. Гуинплен, услышав внутри себя предостерегающий голос смутного страха и голос совести, отпрянул, но розовые ногти впились ему в плечи и удержали его силой. Надвигалось что-то неумолимое. Он, человек-зверь, попал в берлогу женщины-зверя. Она продолжала:
— Представь себе, Анна, дура этакая, — ну, знаешь, королева, — вызвала меня в Виндзор, сама не зная зачем. А когда я приехала, она заперлась со своим идиотом канцлером. Но как ты умудрился пробраться ко мне? Прекрасно! Вот что значит быть настоящим мужчиной. Для него не существует преград. Его зовут, и он приходит. Ты расспрашивал обо мне? Ты, вероятно, узнал, что я герцогиня Джозиана. Кто проводил тебя сюда? Должно быть, мой грум. Смышленый мальчишка. Я дам ему сто гиней. Скажи мне, как ты все это устроил? Нет, лучше не говори. Я не хочу этого знать. Объясняя свои смелые поступки, люди только умаляют их. Мне приятнее видеть в тебе загадочное существо. Ты настолько безобразен, что можешь казаться чудом. Ты упал с небес или поднялся из преисподней, прямо из пасти Эреба. Очень просто: или раздвинулся потолок, или разверзся пол. Ты либо спустился с облаков, либо взвился кверху в столбе серного пламени. Ты достоин того, чтобы являться как божество. Решено, ты мой любовник!
Гуинплен растерянно слушал, чувствуя, что его покидает рассудок. Все было кончено. Сомнений быть не могло. Эта женщина подтверждала все, о чем говорилось в письме, полученном ночью. Он, Гуинплен, будет любовником герцогини, обожаемым любовником! Безмерная гордость темной тысячеглавой гидрой зашевелилась в его несчастном сердце.
Тщеславие — страшная сила, действующая внутри нас, но против нас же самих.
Герцогиня продолжала:
— Ты здесь, значит так суждено. Больше мне ничего не надо. Чья-то воля, неба или ада, толкает нас в объятия друг друга. Брачный союз Стикса и Авроры! Безумный союз, попирающий все законы. В тот день, когда я впервые увидела тебя, я подумала: «Это он. Я узнаю его. Это чудовище, о котором я мечтала. Он будет моим». Но надо помогать судьбе. Вот почему я тебе написала. Один вопрос, Гуинплен: ты веришь в предопределение? Я поверила с тех пор, как прочитала у Цицерона про сон Сципиона. Ах, я и не заметила! Ты одет как дворянин. Так и надо. Тем более что ты фигляр. Это только лишний повод к тому, чтобы так нарядиться. Комедиант стоит лорда. Да и что такое лорды? Те же клоуны. У тебя благородная осанка, ты прекрасно сложен. Невероятно все-таки, что ты попал сюда. Когда ты пришел? Давно ты здесь? Ты видел меня нагой? Не правда ли, я хороша? Я собиралась принять ванну. Ах, я люблю тебя! Ты прочел мое письмо? Сам прочел, или тебе его прочли? Умеешь ты читать? Ты, должно быть, совсем необразован. Я задаю тебе вопросы, но ты не отвечай. Мне не нравится звук твоего голоса. Он слишком нежен. Такое необыкновенное существо, как ты, должно не говорить, а рычать. Твоя же речь — как песня. Мне это противно. Единственное, что мне не нравится в тебе. Все остальное в тебе страшно и поэтому великолепно. В Индии ты стал бы богом. Ты так и родился с этим страшным смехом на лице? Нет, конечно? Тебя, должно быть, изуродовали в наказанье за что-либо? Надеюсь, ты совершил какое-нибудь злодейство. Иди же ко мне!
Она упала на кушетку, увлекая его за собой. Сами не зная как, они очутились рядом. Стремительный поток ее речей бешеным вихрем проносился над Гуинпленом. Он с трудом улавливал смысл ее безумных слов. В ее глазах сиял восторг. Она говорила бессвязно, страстно, нежным, взволнованным голосом. Ее слова звучали как музыка, но в этой музыке Гуинплену слышалась буря.
Она снова устремила на него пристальный взгляд.
— Рядом с тобой я чувствую себя униженной, — какое счастье! Быть герцогиней — скука смертная! Быть особой королевской крови, — что может быть утомительнее? Падение приносит отдых. Я так пресыщена почетом, что нуждаюсь в презрении. Все мы немножко сумасбродны, начиная с Венеры, Клеопатры, госпожи де Шеврез, госпожи де Лонгвиль и кончая мной. Я не буду скрывать нашей связи, предупреждаю тебя заранее. Эта любовная интрижка будет не очень приятна королевской фамилии Стюартов, к которой я принадлежу. Ах, наконец-то я вздохну свободно! Я нашла выход. Я сбрасываю с себя величие. Лишиться всех преимуществ моего положения — значит освободить себя от всяких уз. Все порвать, бросить всему вызов, все переделать на свой лад — это и есть настоящая жизнь. Послушай, я люблю тебя!
Она остановилась, и на ее губах промелькнула зловещая улыбка.
— Я тебя люблю не только потому, что ты уродлив, но и потому, что ты низок. Я люблю в тебе чудовище и скомороха. Иметь любовником человека презренного, гонимого, смешного, омерзительного, выставляемого на посмешище к позорному столбу, который называется театром, — в этом есть какое-то особенное наслаждение. Это значит вкусить от плода адской бездны. Любовник, который позорит женщину, — это восхитительно! Отведать яблока не райского, а адского — вот что соблазняет меня. Вот чего я жажду. Я — Ева бездны. Ты, вероятно, сам того не зная, демон. Я сберегла себя для чудовища, которое может пригрезиться только во сне. Ты марионетка, тебя дергает за нитку некий призрак. Ты воплощение великого адского смеха. Ты властелин, которого я ждала. Мне нужна была любовь, на какую способна лишь Медея или Канидия. Я так и знала, что со мной случится что-то страшное и необыкновенное. Ты именно тот, кого я желала. Я говорю тебе много такого, чего ты, должно быть, не понимаешь. Гуинплен, никто еще не обладал мною. Я отдаюсь тебе безупречно чистая. Ты, конечно, не веришь мне, но если бы ты знал, как мне это безразлично!
Ее речь была подобна извержению вулкана. Если бы пробуравить отверстие в склоне Этны, оттуда вырвался бы такой же стремительный поток пламени.
Гуинплен пробормотал:
— Герцогиня…
Она рукой зажала ему рот.
— Молчи! Я смотрю на тебя. Гуинплен, я непорочная распутница. Я девственная вакханка. Я не принадлежала ни одному мужчине и могла бы быть пифией в Дельфах, могла бы обнаженной пятою попирать бронзовый треножник в святилище, где жрецы, облокотись на кожу Пифона, топотом вопрошали невидимое божество. У меня каменное сердце, но оно похоже на те таинственные валуны, которые приносит море к подножию утеса Хентли-Набб, в устье Тисы; если разбить такой камень, внутри найдешь змею. Эта змея — моя любовь. Любовь всесильная, это она заставила тебя прийти сюда. Нас разделяло неизмеримое пространство. Я была на Сириусе, ты на Аллиофе. Ты преодолел это расстояние, и вот — ты здесь! Как это хорошо! Молчи! Возьми меня!
Она остановилась. Он затрепетал. Она снова улыбнулась.
— Видишь ла, Гуинплен, мечтать — это творить. Желание — призыв. Создать в своем воображении химеру — значит наделить ее жизнью. Страшный, всемогущий мрак запрещает нам взывать к нему напрасно. Он исполнил мою волю. И вот ты здесь. Решусь ли я обесчестить себя? Да. Решусь ли стать твоей любовницей, твоей наложницей, твоей рабой, твоей вещью? Да, с восторгом. Гуинплен, я женщина. Женщина — это глина, жаждущая обратиться в грязь. Мне необходимо презирать себя. Это превосходная приправа к гордости. Низость прекрасно оттеняет величие. Ничто не сочетается так хорошо, как эти две крайности. Презирай же меня, ты, всеми презираемый! Унижаться перед униженным — какое наслаждение? Цветок двойного бесчестья! Я срываю его. Топчи меня ногами! Тем сильнее будет твоя любовь ко мне. Я это знаю по себе. Тебе понятно, почему я боготворю тебя? Потому что презираю. Ты настолько ниже меня, что я могу возвести тебя на алтарь. Соединить твердь с преисподней — значит создать хаос, а хаос привлекает меня. Хаос всему начало и конец. Что такое хаос? Беспредельная скверна. И из этой скверны бог создал свет. Вылепи светило из грязи, и это буду я.
Так говорила эта страшная женщина. Халат, распахнувшийся от ее движений, открывал ее девственный стан.
Она продолжала:
— Волчица для всех, я стану твоей собакой. Как все изумятся! Нет ничего приятнее, чем удивлять глупцов. Ведь это совершенно понятно. Кто я? Богиня? Но ведь Амфитрита отдалась Циклопу. Кто я? Фея? Но Ургела приняла к себе на ложе восьмирукого Бугрикса, полумужчину-полуптицу, с перепонками меж пальцев. Кто я? Принцесса? А у Марии Стюарт был Риччо. Три красавицы и три урода. Я превзошла их, ибо ты уродливее их любовников. Гуинплен, мы созданы друг для друга. Ты чудовище лицом, я чудовище душою. Оттого-то я и люблю тебя. Пусть это моя прихоть. А что такое ураган? Ведь он — прихоть ветров. Между нами космическое сходство. И ты и я, мы оба дети мрака: ты — лицом, я — душой. И ты в свою очередь создаешь меня. Ты пришел, и душа моя раскрылась. Я сама ее не знала. Она поражает меня. Я богиня, но твое приближение пробуждает во мне гидру. Ты открываешь мне мою подлинную природу. Ты помогаешь мне заглянуть в самое себя. Смотри, как я похожа на тебя! Ты можешь смотреться в меня как в зеркало. Твое лицо — моя душа. Я не подозревала, как я ужасна. Значит, и я — тоже чудовище. О Гуинплен, ты почти рассеял мою скуку!
Она залилась странным, каким-то детским смехом, наклонилась к нему и прошептала на ухо:
— Хочешь видеть безумную? Она перед тобой!
Ее пристальный взгляд зачаровывал Гуинплена. Взгляд — это тот же волшебный напиток. Ее халат, распахиваясь, открывал взору Гуинплена страшное своею красотою тело. Слепая, животная страсть охватила Гуинплена. Страсть, в которой была смертельная мука.
Женщина говорила, и слова ее жгли его как огнем. Он чувствовал, что сейчас случится непоправимое. Он не мог произнести — ни слова. Иногда она умолкала и, всматриваясь в него, шептала: «О, чудовище!» В ней было что-то хищное.
Она схватила его за руки.
— Гуинплен, — продолжала она, — я рождена для трона, ты — для подмостков. Станем же рядом. Ах, какое счастье, что я пала так низко! Я хочу, чтобы весь мир узнал о моем позоре. Люди стали бы еще больше преклоняться передо мной, ибо чем сильнее их отвращение, тем больше они пресмыкаются. Таков род людской. Злобные гады. Драконы и вместе с тем черви. О, я безнравственна, как боги! Недаром же я незаконная дочь короля. И я поступаю по-королевски. Кто такая была Родопис? Царица, влюбленная во Фта, мужчину с головою крокодила. В честь его она воздвигла третью пирамиду. Пентесилея полюбила кентавра, носящего имя Стрельца и ставшего впоследствии созвездием. А что ты скажешь об Анне Австрийской? Уж до чего дурен был этот Мазарини! А ты не некрасив, ты безобразен. То, что некрасиво, — мелко, а безобразие величественно! Некрасивое — гримаса дьявола, просвечивающая сквозь красоту. Безобразие — изнанка прекрасного. Это его оборотная сторона. У Олимпа два склона: на одном, залитом светом, мы видим Аполлона, на другом, во мраке, — Полифема. Ты — титан. В лесу ты был бы Бегемотом, в океане — Левиафаном, в клоаке — Тифоном. В твоем уродстве есть нечто грозное. Твое лицо как будто обезображено ударом молнии. Твои черты исковерканы чьей-то огромной огненной рукой. Она смяла их и исчезла. Кто-то в припадке мрачного безумия заключил твою душу в страшную, нечеловеческую оболочку. Ад — это печь, где накаляют докрасна железо, которое мы называем роком; этим железом ты заклеймен. Любить тебя — значит постигнуть великое. Мне выпало на долю это торжество. Влюбиться в Аполлона! Подумаешь, как это трудно! Мерило нашей славы — удивление, которое мы вызываем. Я люблю тебя. Ты снился мне все ночи! Вот мой дворец. Ты увидишь мои сады. Здесь есть ключи, журчащие в траве, есть гроты, в которых можно предаваться ласкам, есть прекрасные мраморные группы работы кавалера Бернини. А сколько цветов! Их даже слишком много. Розы весною пылают, как пожар. Я, кажется, сказала тебе, что королева — моя сестра. Делай же со мной, что хочешь. Я создана для того, чтобы Юпитер целовал мне ноги, а сатана плевал мне в лицо. Какой ты веры? Я — папистка. Мой отец, Иаков Второй, умер во Франции, окруженный толпою иезуитов. Никогда я еще не переживала того, что испытываю возле тебя. Ах, я хотела бы плыть вечером на золотой галере, под пурпурным навесом, прислонясь рядом с тобой к подушке, наслаждаясь под звуки музыки бесконечной красотою моря. Оскорбляй меня! Ударь! Плати мне за любовь! Обращайся со мной как с продажной тварью! Я боготворю тебя…
Рычанье может быть голосом любви. Вы сомневаетесь? Посмотрите на львов. Эта женщина была и свирепа и нежна. Трудно представить себе что-либо более трагическое. Она и ранила и ласкала. Она нападала, как кошка, и тотчас же отступала. В этой игре обнажились ее звериные инстинкты. В ее поклонении было нечто вызывающее. Ее безумие заражало. Ее роковые речи звучали невероятно грубо и нежно. Ее оскорбления не оскорбляли. Ее обожание унижало. Ее пощечина возносила на недосягаемую высоту. Ее интонации сообщали безумным, полным страсти словам прометеевское величие. Воспетые Эсхилом празднества в честь великой богини пробуждали в женщинах, искавших сатиров в звездные ночи, такую же темную, эпическую ярость. Подобные пароксизмы страсти сопровождали таинственные пляски, происходившие в лесах Додоны. Эта женщина как бы преображалась, если только преображение возможно для тех, кто отвращается от неба. Ее волосы развевались, как грива, ее халат то запахивался, то раскрывался; ничего не могло быть прелестнее ее груди, из которой вырывались дикие вопли; лучи ее голубого глаза смешивались с пламенем черного; в ней было что-то нечеловеческое. Гуинплен изнемогал от этой близости и, весь проникнутый ею, чувствовал себя побежденным.
— Люблю тебя! — крикнула она.
И, словно кусая, впилась в его губы поцелуем.
Быть может, Гуинплену и Джозиане вскоре могло понадобиться одно из тех облаков, которыми Гомер иногда окутывал Юпитера и Юнону. Быть любимым женщиной зрячей, видящей его, ощущать на своем обезображенном лице прикосновение ее дивных уст, было для Гуинплена жгучим блаженством. Он чувствовал, что перед этой загадочной женщиной в его душе исчезает образ Деи. Воспоминание о ней, слабо стеная, уже не в силах было бороться с наваждением тьмы. Есть античный барельеф с изображением сфинкса, пожирающего амура; божественное нежное создание истекает кровью, зубы улыбающегося свирепого чудовища раздирают его крылья.
Любил ли Гуинплен эту женщину? Может ли у человека быть, подобно земному шару, два полюса? Неужели мы тоже вращаемся на неподвижной оси и кажемся издали звездой, а вблизи комом грязи? Не планета ли мы, где день чередуется с ночью? Неужели у сердца две стороны? Одна — любящая при свете, другая — во мраке? Одна — луч, другая — клоака? Ангел необходим человеку, но неужели он не может обойтись без дьявола? Зачем душе крылья летучей мыши? Неужели для каждого наступает роковой сумеречный час? Неужели грех входит, как что-то неотъемлемое, в нашу судьбу, и мы никак не можем без него обойтись? Неужели мы должны принимать зло, лежащее в нашей природе, как нечто, неразрывно связанное со всем нашим существом? Неужели дань греху неизбежна? Глубоко волнующие вопросы.
И, однако, какой-то голос твердит нам, что слабость преступна. Гуинплен переживал невыразимо сложное чувство; в нем одновременно боролись влеченья плоти, жажда жизни, сладострастие, мучительное опьянение и все то чувство стыда, которое содержится в гордости. Неужели он поддастся искушению?
Она повторила:
— Люблю тебя!
И в каком-то исступлении прижала его к своей груди.
Гуинплен задыхался.
Вдруг совсем близко от них раздался громкий и пронзительный звонок. Это звенел колокольчик, вделанный в стену. Герцогиня повернула голову и сказала:
— Что ей нужно от меня?
И внезапно, подобно отброшенной тугой пружиной крышке люка, в стене со стуком отворилась серебряная дверца, украшенная королевской короной.
Показались внутренние стенки, обтянутые голубым бархатом; в ней на золотом подносе лежало письмо.
Объемистый квадратный конверт был положен с таким расчетом, чтобы в глаза сразу бросилась крупная печать из алого сургуча. Колокольчик продолжал звенеть.
Открытая дверца почти касалась кушетки, на которой сидели Джозиана и Гуинплен. Все еще одной рукой обнимая Гуинплена, герцогиня наклонилась, взяла письмо и захлопнула дверцу. Отверстие закрылось, и колокольчик умолк.
Герцогиня сломала печать, разорвала конверт, вынула из него два листа и бросила конверт на пол к ногам Гуинплена.
Печать надломилась таким образом, что Гуинплен мог рассмотреть королевскую корону и под нею букву «А». На другой стороне конверта стояла надпись: «Ее светлости герцогине Джозиане».
Джозиана вынула из него большой лист пергамента и маленькую записку на веленевой бумаге. На пергаменте стояла зеленая канцелярская печать больших размеров, свидетельствовавшая о том, что документ относится к знатной особе. Герцогиня, все еще в упоении восторга, затуманившего ее глаза, сделала еле заметную недовольную гримасу.
— Ах, что это она мне опять посылает? — сказала она. — Бумаги! Какая надоедливая женщина!
И, отложив в сторону пергамент, она развернула записку.
— Ее почерк. Почерк моей сестры. Как мне это наскучило! Гуинплен, я уже спрашивала тебя: умеешь ты читать? Умеешь?
Гуинплен утвердительно кивнул головой.
Она растянулась на кушетке, со странной стыдливостью спрятала ноги под халат, опустила широкие рукава, оставив, однако, открытой грудь, и, обжигая Гуинплена страстным взглядом, протянула ему листок веленевой бумаги.
— Ну вот, Гуинплен, ты — мой теперь. Начни же свою службу. Мой возлюбленный, прочти, что пишет мне королева.
Гуинплен взял письмо, развернул и стал читать голосом, дрожащим от самых разнообразных чувств:
«Герцогиня!
Всемилостивейше посылаем вам прилагаемую при сем копию протокола, заверенную и подписанную нашим слугою Вильямом Коупером, лорд-канцлером королевства Англии, из какового протокола выясняется весьма примечательное обстоятельство, а именно, что законный сын лорда Кленчарли, известный до сих пор под именем Гуинплена и ведший низкий, бродячий образ жизни в среде странствующих фигляров и скоморохов, ныне разыскан, и личность его установлена. Всех принадлежащих ему прав состояния он лишился в самом раннем возрасте. Согласно законам королевства и в силу своих наследственных прав, лорд Фермен Кленчарли, сын лорда Линнея, будет сегодня же восстановлен в своем звании и введен в палату лордов. А посему, желая выразить вам нашу благосклонность и сохранить за вами право владения переданными вам поместьями и земельными угодьями лордов Кленчарли-Генкервиллей, мы предназначаем его вам в женихи взамен лорда Дэвида Дерри-Мойр. Мы распорядились доставить лорда Фермена в вашу резиденцию Корлеоне-Лодж; мы приказываем и, как сестра и королева, изъявляем желание, чтобы лорд Фермен Кленчарли, до сего времени носивший имя Гуинплена, вступил с вами в брак и стал вашим мужем. Такова наша королевская воля».
Пока Гуинплен читал — голосом, изменявшимся почти при каждом слове, — герцогиня, приподнявшись с подушки, слушала, не сводя с него глаз. Когда он кончил, она вырвала у него из рук письмо.
— «Анна, королева», — задумчиво произнесла она, взглянув на подпись.
Подобрав с полу пергамент, она быстро пробежала его. Это была засвидетельствованная саутворкским шерифом и лорд-канцлером копия признаний компрачикосов, погибших на «Матутине».
Она еще раз перечла письмо королевы. Затем сна сказала:
— Хорошо.
И совершенно спокойно, указывая Гуинплену на портьеру, отделявшую их от галереи, она проговорила:
— Выйдите отсюда.
Окаменевший Гуинплен не трогался с места.
Ледяным тоном она повторила:
— Раз вы мой муж, — уходите.
Гуинплен, опустив глаза, словно виноватый, не вымолвил ни слова и не пошевельнулся.
Она прибавила:
— Вы не имеете права оставаться здесь. Это место моего любовника.
Гуинплен сидел как пригвожденный.
— Хорошо, — сказала она, — в таком случае уйду я. Так вы мой муж? Превосходно! Я ненавижу вас.
Она встала и, сделав в пространство высокомерный прощальный жест, вышла из комнаты.
Портьера галереи опустилась за ней.
Глава 87
Узнают друг друга, оставаясь неузнанными
Гуинплен остался один.
Один перед теплой ванной и неубранной постелью.
В голове его царил полный хаос. То, что возникало в его сознании, даже не было похоже на мысли. Это было нечто расплывчатое, бессвязное, непонятное и мучительное. Перед его взором проносились рой за роем леденящие душу образы.
Вступление в неведомый мир дается не так-то легко.
Начиная с письма герцогини, принесенного грумом, на Гуинплена одно за другим обрушилось столько неожиданных событий, час от часу непостижимее. До этой минуты он словно спал, но все видел ясно. Теперь, так и не придя в себя, он вынужден был брести ощупью.
Он не размышлял. Он даже не думал. Он просто подчинялся течению событий.
Он продолжал сидеть на кушетке, на том самом месте, где его оставила герцогиня.
Вдруг в глубокой тишине раздались чьи-то шаги. Шаги мужчины. Они приближались со стороны, противоположной галерее, куда скрылась герцогиня. Они звучали глухо, но отчетливо. Как ни был поглощен Гуинплен всем происшедшим, он насторожился.
За откинутым герцогиней серебристым занавесом, позади кровати, в стене внезапно распахнулась замаскированная расписным зеркалом дверь, и веселый мужской голос огласил зеркальную комнату припевом старинной французской песенки:
Три поросенка, развалясь в грязи,
Как старые носильщики ругались.
Вошел мужчина в расшитом золотом морском мундире.
Он был при шпаге и держал в руке украшенную перьями шляпу с кокардой.
Гуинплен вскочил, словно его подбросило пружиной.
Он узнал вошедшего, и тот, узнал его.
Из их уст одновременно вырвался крик:
— Гуинплен!
— Том-Джим-Джек!
Человек со шляпой, украшенной перьями, подошел к Гуинплену, который скрестил руки на груди.
— Как ты здесь очутился, Гуинплен?
— А ты как попал сюда, Том-Джим-Джек?
— Ах, я понимаю! Каприз Джозианы. Фигляр, да еще урод впридачу. Слишком соблазнительное для нее существо, она не могла устоять. Ты переоделся, чтобы прийти сюда, Гуинплен?
— И ты тоже, Том-Джим-Джек?
— Гуинплен, что означает это платье вельможи?
— А что означает этот офицерский мундир, Том-Джим-Джек?
— Я не отвечаю на вопросы, Гуинплен.
— Я тоже, Том-Джим-Джек.
— Гуинплен, мое имя не Том-Джим-Джек.
— Том-Джим-Джек, мое имя не Гуинплен.
— Гуинплен, я здесь у себя дома.
— Том-Джим-Джек, я здесь у себя дома.
— Я запрещаю тебе повторять мои слова. Ты не лишен иронии, но у меня есть трость. Довольно передразнивать меня, жалкий шут!
Гуинплен побледнел.
— Сам ты шут! Ты ответишь мне за это оскорбление.
— В твоем балагане, на кулаках, — сколько угодно.
— Нет, здесь, и на шпагах.
— Шпага, мой любезный, — оружие джентльменов. Я дерусь только с равными. Одно дело рукопашная, тут мы равны, шпага же — дело совсем другое. В Тедкастерской гостинице Том-Джим-Джек может боксировать с Гуинпленом. В Виндзоре же об этом не может быть и речи. Знай: я — контр-адмирал.
— А я — пэр Англии.
Человек, которого Гуинплен до сих пор считал Том-Джим-Джеком, громко расхохотался.
— Почему же не король? Впрочем, ты прав. Скоморох может исполнять любую роль. Скажи уж прямо, что ты Тезей, сын афинского царя.
— Я пэр Англии, и мы будем драться.
— Гуинплен, мне это надоело. Не шути с тем, кто может приказать высечь тебя. Я — лорд Дэвид Дерри-Мойр.
— А я — лорд Кленчарли.
Лорд Дэвид вторично расхохотался.
— Ловко придумано! Гуинплен — лорд Кленчарли! Это как раз то имя, которое необходимо, чтобы обладать Джозианой. Так и быть, я тебе прощаю. А знаешь, почему? Потому что мы оба ее возлюбленные.
Портьера, отделявшая их от галереи, раздвинулась, и чей-то голос произнес:
— Вы оба, милорды, ее мужья.
Оба обернулись.
— Баркильфедро! — воскликнул лорд Дэвид.
Это был действительно Баркильфедро.
Улыбаясь, он низко кланялся обоим лордам.
В нескольких шагах позади него стоял дворянин с почтительным, строгим выражением лица; в руках у незнакомца был черный жезл.
Незнакомец подошел к Гуинплену, трижды отвесил ему низкий поклон и сказал:
— Милорд, я пристав черного жезла. Я явился за вашей светлостью по приказанию ее величества.
Оба обернулись.
— Баркильфедро! — воскликнул лорд Дэвид.
Это был действительно Баркильфедро.
Улыбаясь, он низко кланялся обоим лордам.
В нескольких шагах позади него стоял дворянин с почтительным, строгим выражением лица; в руках у незнакомца был черный жезл.
Незнакомец подошел к Гуинплену, трижды отвесил ему низкий поклон и сказал:
— Милорд, я пристав черного жезла. Я явился за вашей светлостью по приказанию ее величества.
Часть XI. Капитолий и его окрестности
Глава 88
Торжественная церемония во всех её подробностях
Та ошеломляющая сила, которая привела Гуинплена в Виндзор и в течение уже стольких часов возносила все выше и выше, теперь снова перенесла его в Лондон.
Непрерывной чередой промелькнули перед ним все эти фантастические события.
Уйти от них было невозможно. Едва завершалось одно, как на смену ему являлось другое.
Он не успевал даже перевести дыхание.
Кто видел жонглера, тот воочию видел человеческую судьбу. Эти шары, падающие, взлетающие вверх и снова падающие, — не образ ли то людей в руках судьбы? Она так же бросает их. Она так же ими играет.
Вечером того же дня Гуинплен очутился в необычайном месте.
Он восседал на скамье, украшенной геральдическими лилиями. Поверх его атласного, шитого золотом кафтана была накинута бархатная пурпурная мантия, подбитая белым шелком и отороченная горностаем, с горностаевыми же наплечниками, обшитыми золотым галуном. Вокруг него были люди разного возраста, молодые и старые. Они восседали так же, как и он, на скамьях с геральдическими лилиями и так же, как и он, были одеты в пурпур и горностай.
Прямо перед собой он видел других людей. Эти стояли на коленях, мантии их были из черного шелка. Некоторые из них что-то писали.
Напротив себя, немного поодаль, он видел ступени, которые вели к помосту, крытому алым бархатом, балдахин, широкий сверкающий щит, поддерживаемый львом и единорогом, а под балдахином, на помосте, прислоненное к щиту позолоченное, увенчанное короной кресло. Это был трон.
Трон Великобритании.
Гуинплен, ставший пэром, находился в палате лордов Англии.
Каким же образом произошло это введение Гуинплена в палату лордов? Сейчас расскажем.
Весь этот день, с утра до вечера, от Виндзора до Лондона, от Корлеоне-Лоджа до Вестминстерского дворца был днем его восхождения со ступени на ступень. И на каждой ступени его ждало новое головокружительное событие.
Его увезли из Виндзора в экипаже королевы в сопровождении свиты, подобающей пэру. Почетный конвой очень напоминает стражу, охраняющую узника.
В этот день обитатели домов, расположенных вдоль дороги из Виндзора в Лондон, видели, как пронесся вскачь отряд личного ее величества конвоя, сопровождавший две стремительно мчавшиеся коляски. В первой из них сидел пристав с черным жезлом в руке. Во второй можно было разглядеть только широкополую шляпу с белыми перьями, бросавшую густую тень на лицо сидевшего в коляске человека. Кто это был? Принц или узник?
Это был Гуинплен.
Судя по всем признакам, кого-то везли не то в лондонский Тауэр, не то в палату лордов.
Королева устроила все как подобает. Для сопровождения будущего мужа своей сестры она дала людей из собственного своего конвоя.
Во главе кортежа скакал верхом помощник пристава черного жезла.
На откидной скамейке против пристава лежала серебряная парчовая подушка, а на ней черный портфель с изображением королевской короны.
В Брайтфорде, на последней станции перед Лондоном, обе коляски и конвой остановились.
Здесь их уже дожидалась карета с черепаховыми инкрустациями, запряженная четверкой лошадей, с четырьмя лакеями на запятках, двумя форейторами впереди и кучером в парике. Колеса, подножки, дышло, ремни, поддерживающие кузов кареты, были позолочены. Кони были в серебряной сбруе.
Этот парадный экипаж, сделанный по совершенно особому рисунку, был так великолепен, что, несомненно, мог бы занять место в числе тех пятидесяти знаменитых карет, изображения которых оставил нам Рубо.
Пристав черного жезла вышел из экипажа, его помощник соскочил с лошади.
Помощник пристава черного жезла снял со скамеечки дорожной кареты парчовую подушку, на которой лежал портфель, украшенный изображением короны, и, взяв ее в обе руки, стал позади пристава.
Пристав черного жезла отворил дверцы пустой кареты, затем дверцы коляски, в которой сидел Гуинплен, и, почтительно склонив голову, предложил Гуинплену пересесть в парадный экипаж.
Гуинплен вышел из коляски и сел в карету.
Пристав с жезлом и его помощник с подушкой последовали за ним и уселись на низкой откидной скамеечке, на которой в старинных парадных экипажах обыкновенно помещались пажи.
Внутри карета была обтянута белым атласом, отделанным беншским кружевом, серебряными позументами и кистями. Потолок был украшен гербами.
Форейторы, сопровождавшие дорожные экипажи, были одеты в придворные ливреи. Кучер, форейторы и лакеи парадного экипажа были в великолепных ливреях уже другого образца.
Сквозь то полусознательное состояние, в котором он находился, Гуинплен все же обратил внимание на эту пышно разодетую челядь и спросил пристава черного жезла:
— Чьи это слуги?
Пристав черного жезла ответил:
— Ваши, милорд.
В этот день палата лордов должна была заседать вечером. Curia erat serena[462], отмечают старинные протоколы. В Англии парламент охотно ведет ночной образ жизни. Известно, что Шеридану однажды пришлось начать речь в полночь и закончить ее на заре.
Оба дорожных экипажа вернулись в Виндзор пустыми; карета, в которую пересел Гуинплен, направилась в Лондон. Эта карета с черепаховыми инкрустациями, запряженная четверкой лошадей, двинулась из Брайтфорда в Лондон шагом, как это полагалось карете, управляемой кучером в парике. В лице этого исполненного важности кучера церемониал вступил в свои права и завладел Гуинпленом.
Впрочем, медлительность переезда, судя по всему, преследовала определенную цель. В дальнейшем мы увидим, какую.
Еще не наступила ночь, но было уже довольно поздно, когда карета с черепаховыми инкрустациями остановилась перед Королевскими воротами — тяжелыми низкими воротами между двумя башнями, служившими сообщением между Уайт-Холлом и Вестминстером.
Конвой живописной группой окружил карету.
Один из лакеев, соскочив с запяток, отворил дверцы.
Пристав черного жезла в сопровождении помощника, несшего подушку, вышел из кареты и обратился к Гуинплену:
— Благоволите выйти, милорд. Не снимайте, ваша милость, шляпы.
Под дорожным плащом на Гуинплене был надет атласный кафтан, в который его переодели накануне. Шпаги при нем не было.
Плащ он оставил в карете.
Под аркой Королевских ворот, служившей въездом для экипажей, находилась боковая дверь, к которой вело несколько ступенек.
Церемониал требует, чтобы лицу, которому оказывается почет, предшествовала свита.
Пристав черного жезла, сопровождаемый помощником, шел впереди.
Гуинплен следовал за ними.
Они поднялись по ступенькам, вошли в боковую дверь и спустя несколько мгновений очутились в просторном круглом зале с массивной колонной посредине.
Зал помещался в первом этаже башни и был освещен очень узкими стрельчатыми окнами; должно быть, здесь и в полдень царил полумрак. Недостаток света иногда усугубляет торжественность обстановки. Полумрак величественен.
В комнате стояли тринадцать человек: трое впереди, шестеро во втором ряду и четверо позади.
На одном из стоявших впереди был камзол алого бархата, на двух остальных тоже алые камзолы, но атласные. У каждого из этих троих был вышит на плече английский герб.
Шесть человек, составлявшие второй ряд, были в далматиках белого муара; на груди у каждого из них красовался свой особый герб.
Четверо последних, одетых в черный муар, отличались друг от друга какой-нибудь особенностью в одежде: на первом был голубой плащ, у второго — пунцовое изображение святого Георгия на груди, у третьего — два вышитых малиновых креста на спине и на груди, на четвертом — черный меховой воротник. Все были в париках, без шляп и при шпагах.
В полумраке их лица трудно было различить. Они также не могли видеть лица Гуинплена.
Пристав поднял свой черный жезл и произнес:
— Милорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл! Я, пристав черного жезла, первое должностное лицо в приемной ее величества, передаю вашу светлость кавалеру ордена Подвязки, герольдмейстеру Англии.
Человек в алом бархатном камзоле выступил вперед, поклонился Гуинплену до земли и сказал:
— Милорд Фермен Кленчарли, я — кавалер ордена Подвязки, первый герольдмейстер Англии. Я получил свое звание от его светлости герцога Норфолка, наследственного графа-маршала. Я присягал королю, пэрам и кавалерам ордена Подвязки. В день моего посвящения, когда граф-маршал Англии оросил мне голову вином из кубка, я торжественно обещался служить дворянству, избегать общества людей, пользующихся дурной славой, чаще оправдывать, чем обвинять людей знатных и оказывать помощь вдовам и девицам. На моей обязанности лежит устанавливать порядок похорон пэров и охранять их гербы. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.
Первый из двух одетых в атласные камзолы отвесил низкий поклон и сказал:
— Милорд, я — Кларенс, второй герольдмейстер Англии. На моей обязанности лежит устанавливать порядок похорон дворян, не имеющих пэрского титула. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.
Затем выступил второй, поклонился и сказал:
— Милорд, я — Норрой, третий герольдмейстер Англии. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости.
Шесть человек, составлявшие второй ряд, не кланяясь, сделали шаг вперед.
Первый, направо от Гуинплена, сказал:
— Милорд, мы — шесть герольдов Англии. Я — Йорк.
Затем каждый из герольдов по очереди назвал себя:
— Я — Ланкастер.
— Я — Ричмонд.
— Я — Честер.
— Я — Сомерсет.
— Я — Виндзор.
На груди у каждого из них был вышит герб того графства или города, по названию которого он именовался.
Четверо последних, одетые в черное и стоявшие позади герольдов, хранили молчание.
Герольдмейстер, кавалер ордена Подвязки, указал на них Гуинплену и представил:
— Милорд, вот четверо оруженосцев. — Голубая Мантия.
Человек в голубом плаще поклонился.
— Красный Дракон.
Человек с изображением святого Георгия на груди поклонился.
— Красный Крест.
Человек с красным крестом поклонился.
— Страж Решетки.
Человек в меховом воротнике поклонился.
По знаку герольдмейстера подошел первый из оруженосцев, Голубая Мантия, и взял из рук помощника пристава парчовую подушку с портфелем, украшенным короной.
Герольдмейстер обратился к приставу черного жезла:
— Да будет так. Честь имею сообщить вам, что принял от вас его милость.
Вся эта процедура, а также, и некоторые другие, которые будут описаны дальше, входили в состав старинного церемониала, установленного еще до Генриха VIII; королева Анна одно время пыталась возродить эти обычаи. В наши дни все они отжили свой век. Тем не менее палата лордов и поныне считает себя чем-то вечным, и если где-нибудь на свете существует что-либо не изменяющееся, то именно в ней.
А все же и она подвержена переменам. E pur si muove[463].
Куда, например, девалась may pole (майская мачта), которую город Лондон водружал на пути шествия пэров в парламент? В последний раз она была воздвигнута в 1713 году. С тех пор о ней уже ничего не слыхать. Она вышла из употребления.
Многое представляется внешне незыблемым, в действительности же все меняется. Возьмем, например, титул герцогов Олбемарлей. Он кажется вечным, а между тем он последовательно переходил к шести фамилиям: Одо, Мендвилям, Бетюнам, Плантагенетам, Бошанам и Монкам. Титул герцога Лестера тоже принадлежал поочередно пяти фамилиям: Бомонтам, Брюзам, Дадлеям, Сиднеям и Кокам. Титул Линкольна носили шесть фамилий. Титул графа Пемброка — семь и т. д. Фамилии изменяются, титулы остаются неизменными. Историк, который подходит к явлениям поверхностно, верит в их незыблемость. В сущности же на свете нет ничего устойчивого. Человек — это только волна. Человечество — это море.
Аристократия гордится именно тем, что женщина считает для себя унизительным: своею старостью; однако и женщина и аристократия питают одну и ту же иллюзию — обе уверены, что хорошо сохранились.
Нынешняя палата лордов, возможно, не пожелает узнать себя в описанной нами картине и в том, что нами будет описано далее: так давно отцветшая красавица не хочет видеть в зеркале своих морщин. Виноватым всегда оказывается зеркало, но оно привыкло к обвинениям.
Правдиво рисовать прошлое — вот долг историка.
Герольдмейстер обратился к Гуинплену:
— Благоволите следовать за мной, милорд.
Он прибавил:
— Вам будут кланяться. Вы же, ваша милость, приподымайте только край шляпы.
Вся процессия направилась к двери, находившейся в глубине круглого зала.
Впереди шел пристав черного жезла.
За ним, с подушкой в руках, — Голубая Мантия; далее — первый герольдмейстер и, наконец, Гуинплен в шляпе.
Прочие герольдмейстеры, герольды и оруженосцы остались в круглом зале.
Гуинплен, предшествуемый приставом черного жезла и руководимый герольдмейстером, прошел анфиладу зал, ныне уже не существующих, ибо старое здание английского парламента давно разрушено.
Между прочим, он прошел и через ту готическую палату, где произошло последнее свидание Иакова II с герцогом Монмутом, палату, где малодушный племянник тщетно склонил колени перед жестоким дядей. На стенах этой палаты были развешаны, в хронологическом порядке, с подписями имен и изображениями гербов, портреты во весь рост девяти представителей древнейших пэрских родов: лорда Нансладрона (1305 год), лорда Белиола (1306 год), лорда Бенестида (1314 год), лорда Кентилупа (1356 год), лорда Монтбегона (1357 год), лорда Тайботота (1372 год), лорда Зуча Коднорското (1615 год), лорда Белла-Аква — без даты и лорда Харрен-Серрея, графа Блуа — без даты.
Так как уже стемнело, в галереях на некотором расстоянии друг от друга были зажжены лампы. В залах, тонувших в полумраке, как церковные притворы, горели свечи в медных люстрах.
По пути встречались одни только должностные лица.
В одной из комнат стояли, почтительно склонив головы, четыре клерка государственной печати и клерк государственных бумаг.
В другой находился достопочтенный Филипп Сайденгем, кавалер Знамени, владетель Браймптона в Сомерсете. Кавалеры Знамени получали это звание во время войны от самого короля под развернутым королевским знаменем.
В следующем зале они увидели древнейшего баронета Англии сэра Эдмунда Бэкона из Сэффолка, наследника сэра Николаев, носившего титул primus baronetorum Angliae[464]. За сэром Эдмундом стоял его оруженосец с пищалью и конюший с гербом Олстера, так как носители этого титула были наследственными защитниками графства Олстер в Ирландии.
В четвертом зале их ожидал канцлер казначейства с четырьмя казначеями и двумя депутатами лорд-камергера, на обязанности которых лежала раскладка податей. Тут же находился начальник монетного двора: он держал на ладони золотую монету в один фунт стерлингов, вычеканенную при помощи специального штампа. Все восемь человек низко поклонились новому лорду.
При входе в коридор, устланный циновками и служивший для сообщения палаты общин с палатой лордов, Гуинплена приветствовал сэр Томас Мансель Маргем, контролер двора ее величества и член парламента от Глеморгана. При выходе его встретила депутация баронов Пяти Портов, выстроившихся по четыре человека с каждой стороны, ибо портов было не пять, а восемь. Вильям Ашбернгем приветствовал его от Гастингса, Мэтью Эйлмор — от Дувра, Джозиа Берчет — от Сандвича, сэр Филипп Ботлер — от Гайта, Джон Брюэр — от Нью-Ремнея, Эдуард Саутвелл — от города Рея, Джемс Хейс — от города Уинчелси и Джордж Нейлор — от города Сифорда.
Гуинплен хотел было поклониться в ответ на приветствия, но первый герольдмейстер шепотом напомнил ему правила этикета:
— Приподымите только край шляпы, милорд.
Гуинплен последовал его указанию.
Наконец он вступил в «расписной зал», где, впрочем, не было никакой живописи, если не считать нескольких изображений святых, в том числе изображение святого Эдуарда, в высоких нишах стрельчатых окон, разделенных настилом пола таким образом, что нижняя часть окон находилась в Вестминстер-Холле, а верхняя — в «расписном зале».
Зал был перегорожен деревянной балюстрадой, за которой стояли три важные особы, три государственных секретаря. Первый из них ведал югом Англии, Ирландией и колониями, а также сношениями с Францией, Швейцарией, Италией, Испанией, Португалией и Турцией. Второй управлял севером Англии и ведал сношениями с Нидерландами, Германией, Швецией, Польшей и Московией. Третий, родом шотландец, ведал делами Шотландии. Первые два были англичане. Одним из них являлся достопочтенный Роберт Гарлей, член парламента от города Нью-Реднора. Тут же находился шотландский депутат. Мунго Грехэм, эсквайр, родственник герцога Монтроза. Все они молча поклонились Гуинплену.
Гуинплен дотронулся до края своей шляпы.
Служитель откинул подвижную часть барьера, укрепленную на петлях, и открыл доступ в заднюю часть «расписного зала», где стоял длинный накрытый зеленым сукном стол, предназначенный только для лордов.
На столе горел канделябр.
Предшествуемый приставом черного жезла. Голубой Мантией и кавалером ордена Подвязки, Гуинплен вступил в это святилище.
Служитель закрыл за Гуинпленом барьер.
Очутившись за барьером, герольдмейстер остановился.
«Расписной зал» был очень большим.
В глубине его, под королевским щитом, помещавшимся между двумя окнами, стояли два старика в красных бархатных мантиях, с окаймленными золотым галуном горностаевыми наплечниками и в шляпах с белыми перьями поверх париков. Из-под мантий видны были шелковые камзолы и рукояти шпаг.
Позади этих двух стариков неподвижно стоял человек в черной муаровой мантии; в высоко поднятой руке он держал огромную золотую булаву с литым изображением льва, увенчанного короной.
Это был булавоносец пэров Англии.
Лев — их эмблема. «А львы — это бароны и пэры», — гласит хроника Бертрана Дюгесклена.
Герольдмейстер указал Гуинплену на людей в бархатных мантиях и шепнул ему на ухо:
— Милорд, это — равные вам. Поклонитесь им так же, как они поклонятся вам. Оба эти вельможи — бароны, и лорд-канцлер назначил их вашими восприемниками. Они очень стары и почти слепы. Это они введут вас в палату лордов. Первый из них — Чарльз Милдмей, лорд Фицуолтер, занимающий шестое место на скамье баронов, второй — Август Эрандел, лорд Эрандел-Трерайс, занимающий на той же скамье тридцать восьмое место.
Герольдмейстер, сделав шаг вперед по направлению к обоим старикам, возвысил голос:
— Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский приветствует ваши милости.
Оба лорда как можно выше приподняли шляпы над головами, затем снова покрыли головы.
Гуинплен приветствовал их таким же образом.
Затем выступил вперед пристав черного жезла, потом Голубая Мантия, за ним кавалер ордена Подвязки.
Булавоносец подошел к Гуинплену и стал перед ним, лорды поместились по обе стороны от него: лорд Фицуолтер — по правую руку, а лорд Эрандел-Трерайс — по левую. Лорд Эрандел, старший из двух, был очень дряхл на вид. Он умер год спустя, завещав свое пэрство несовершеннолетнему внуку Джону, но все же его род прекратился в 1768 году.
Шествие вышло из «расписного зала» и направилось в галерею с колоннами; у каждой колонны стояли на часах попеременно английские бердышники или шотландские алебардщики.
Шотландские алебардщики, ходившие с обнаженными коленями, были великолепным войском, позднее, при Фонтенуа, сражавшимся с французской кавалерией и с теми королевскими кирасирами, к которым их полковник обращался перед сражением с такими словами: «Господа, наденьте плотнее ваши головные уборы, мы будем иметь честь пойти в атаку».
Командиры бердышников и алебардщиков отсалютовали Гуинплену и обоим лордам-восприемникам шпагой. Солдаты взяли на караул бердышами и алебардами.
В глубине галереи отливала металлическим блеском огромная дверь, столь роскошная, что створки ее казались двумя золотыми плитами.
По обе стороны двери стояли неподвижно два человека. По ливреям в них можно было узнать так называемых door-keepers — привратников.
Немного не доходя до дверей, галерея расширялась, образуя застекленную ротонду.
Здесь в громадном кресле восседала чрезвычайно важная особа, если судить по размерам ее мантии и парика. Это был Вильям Коупер, лорд-канцлер Англии.
Весьма полезно обладать каким-нибудь физическим недостатком в еще большей степени, чем монарх. Вильям Коупер был близорук, Анна тоже, но меньше, чем он. Слабое зрение Вильяма Коупера понравилось близорукости ее величества и побудило королеву назначить его канцлером и блюстителем королевской совести.
Верхняя губа Вильяма Коупера была тоньше нижней — признак некоторой доброты.
Ротонда освещалась спускавшейся с потолка лампой.
По правую руку лорд-канцлера, величественно восседавшего в высоком кресле, сидел за столом коронный клерк, по левую, за другим столом, — клерк парламентский.
Перед каждым из них лежала развернутая актовая книга и находился письменный прибор.
Позади кресла лорд-канцлера стоял его булавоносец, державший булаву с короной, и два чина, на обязанности которых лежало носить его шлейф и кошель, — оба в огромных париках. Все эти должности существуют и поныне.
Подле кресла на маленьком столике лежала шпага в ножнах, с золотой рукоятью и с бархатной портупеей огненно-красного цвета.
Позади коронного клерка стоял чиновник, держа обеими руками наготове развернутую мантию, предназначенную для церемонии.
Второй чиновник, стоявший позади парламентского клерка, держал таким же образом другую мантию, в которой Гуинплену предстояло заседать.
Обе эти мантии из красного бархата, подбитые белым атласом, с горностаевыми наплечниками, отороченными золотым галуном, были почти одинаковы, с той лишь разницей, что на церемониальной мантии горностаевые нашивки были шире.
Третий чиновник, так называемый librarian[465], держал на четырехугольном подносе из фландрской кожи маленькую книжку в красном сафьяновом переплете, заключавшую в себе список пэров и представителей палаты общин; кроме того, на подносе лежали листки чистой бумаги и карандаш, которые вручались обычно каждому новому члену парламента.
Шествие, которое замыкал Гуинплен, сопровождаемый двумя пэрами-восприемниками, остановилось перед креслом лорд-канцлера.
Лорды-восприемники сняли шляпы. Гуинплен последовал их примеру.
Герольдмейстер, взяв из рук Голубой Мантии парчовую подушку с черным портфелем, поднес ее лорд-канцлеру.
Лорд-канцлер взял портфель и передал его парламентскому клерку. Тот принял портфель с подобающей торжественностью, затем, вернувшись на свое место, раскрыл его.
Портфель, согласно обычаю, содержал два документа: королевский указ палате лордов и предписание новому пэру заседать в парламенте.
Клерк встал и громко, с почтительной медленностью прочел обе бумаги.
Предписание лорду Фермену Кленчарли оканчивалось обычной формулой: «Предписываем вам во имя верности и преданности, коими вы нам обязаны, занять лично принадлежащее вам место среди прелатов и пэров, заседающих в нашем парламенте в Вестминстере, дабы по чести и совести подавать ваше мнение о делах королевства и церкви».
Когда чтение обеих бумаг было окончено, лорд-канцлер возгласил:
— Воля ее величества объявлена. Лорд Фермен Кленчарли, отрекается ли ваша милость от догмата пресуществления, от поклонения святым и от мессы?
Гуинплен наклонил голову в знак согласия.
— Отречение состоялось, — сказал лорд-канцлер.
Парламентский клерк подтвердил:
— Его милость принес присягу.
Лорд-канцлер прибавил:
— Милорд Фермен Кленчарли, вы можете заседать в парламенте.
— Да будет так, — произнесли оба восприемника.
Герольдмейстер поднялся, взял со столика шпагу и надел ее на Гуинплена.
«После сего, — говорится в старинных нормандских хартиях, — пэр берет свою шпагу, занимает свое высокое место и присутствует на заседании».
Гуинплен услыхал позади себя голос:
— Облачаю вашу светлость в парламентскую мантию.
С этими словами говоривший накинул на него мантию и завязал на шее черные шелковые ленты горностаевого воротника.
Теперь, в пурпурной мантии, со шпагой на боку, Гуинплен ничем не отличался от лордов, стоявших направо и налево от него.
«Библиотекарь» взял с подноса красную книгу и положил ее Гуинплену в карман его кафтана.
Герольд шепнул ему на ухо:
— Милорд, при входе поклонитесь королевскому креслу.
Королевское кресло — это трон.
Между тем оба клерка, каждый сидя за своим столом, что-то вписывали, один в актовую книгу короны, другой — в парламентскую актовую книгу.
Потом они по очереди, сперва королевский клерк, а за ним парламентский, поднесли на подпись свои книги лорд-канцлеру.
Скрепив обе записи своей подписью, лорд-канцлер встал и обратился к Гуинплену:
— Лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, приветствую вас среди равных вам духовных и светских лордов Великобритания.
Восприемники Гуинплена дотронулись до его плеча. Он обернулся.
Высокие золоченые двери в глубине галереи распахнулись настежь.
Это были двери английской палаты лордов.
Не прошло и тридцати шести часов с той самой минуты, как перед Гуинпленом, окруженным совсем другого рода свитой, растворилась железная дверь Саутворкской тюрьмы.
Все эти события пронеслись над его головой быстрее стремительно бегущих облаков. Они точно штурмовали его.
Глава 89
Беспристрастие
Провозглашение пэрского сословия равным королю было фикцией, но фикцией, принесшей в те варварские времена известную пользу. Эта незамысловатая политическая уловка привела во Франции и в Англии к совершенно разным последствиям. Во Франции пэр был только мнимым королем; в Англии же он был подлинным властелином. В Англии у него было, пожалуй, меньше величия, чем во Франции, но больше настоящей власти. Можно было сказать: «меньше, да зловреднее».
Пэрство родилось во Франции. В какую эпоху оно возникло, неизвестно; по преданию — при Карле Великом; согласно данным истории — при Роберте Мудром. Но история ничуть не достовернее устных преданий. Фавен пишет: «Французский король хотел привлечь к себе вельмож своего государства, награждая их пышным титулом пэра, коим как бы признавал, их равными себе».
Пэрство вскоре разветвилось и перешло из Франции в Англию.
Учреждение английского пэрства явилось крупным событием и имело важное значение. Ему предшествовал саксонский wittenagemot. Датский тан и нормандский вавасор слились в бароне. Слово «барон» означает то же самое, что латинское vir и испанское varon, то есть «муж». Начиная с 1075 года, бароны дают чувствовать свою власть королям. И каким королям! — Вильгельму Завоевателю! В 1086 году они кладут основание феодализму «Книгою страшного суда», «Doomsday book». При Иоанне Безземельном происходит столкновение: французская аристократия относится свысока к Великобритании и к ее монарху, и французские пэры вызывают к себе на суд английского короля. Английские бароны негодуют. При короновании Филиппа-Августа английский король в качестве герцога нормандского несет первое четырехугольное знамя, а герцог Гиеннский — второе. Против этого короля, вассала чужестранцев, вспыхивает «война вельмож». Бароны заставляют безвольного Иоанна подписать «Великую хартию», породившую палату лордов. Папа становится на сторону короля и отлучает лордов от церкви. Дело происходит в 1215 году, при папе Иннокентии III, который написал гимн «Veni sancte Spiritus»[466] и прислал королю Иоанну Безземельному четыре золотых кольца, знаменовавших собой четыре основных христианских добродетели. Лорды упорствуют. Начинается долгий поединок, которому суждено было длиться несколько поколений. Пемброк борется. В 1248 году издаются «Оксфордские постановления». Двадцать четыре барона ограничивают королевскую власть, оспаривают ее решения и привлекают к участию в разгоревшейся распре по одному дворянину от каждого графства — зарождение палаты общин. Позднее лорды стали призывать в качестве помощников по два человека от каждого города и по два — от каждого местечка. В результате этого вплоть до царствования Елизаветы пэры держали в своих руках выборы в палату общин. Их юрисдикция породила изречение: «Депутаты должны избираться без трех «Р»: sine Prece, sine Pretio, sine Poculo»[467]. Это, однако, не помешало подкупам в некоторых общинах. Еще в 1293 году французские пэры считали подсудным себе короля Англии, и Филипп Красивый требовал к ответу Эдуарда I. Эдуард I был тот самый король, который, умирая, приказал своему сыну выварить его труп и кости взять с собой на войну. Королевские безрассудства побуждают лордов принять меры к укреплению власти в парламенте; с этой целью они разделяют его на две палаты, верхнюю и нижнюю. Со свойственным им высокомерием лорды сохраняют главенство за собой. «Если кто-либо из членов нижней палаты дерзнет неуважительно отозваться о палате лордов, он подлежит вызову в суд для наказания, вплоть до заключения в Тауэр». Такое же неравенство наблюдается и при подаче голосов. В палате лордов голосуют по одному, начиная с младшего барона, так называемого «меньшого пэра». Каждый пэр, голосуя, отвечает: «доволен» или «недоволен». В нижней палате голосуют одновременно, все сразу, отвечая просто: «да» или «нет». Палата общин обвиняет, палата пэров вершит суд. Пренебрегая цифрами, пэры поручают нижней палате, которая со временем обращает это себе на пользу, надзор за «шахматной доской», то есть за казначейством, получившим это название, по одной версии, от скатерти с изображением шахматной доски, а по другой — от ящиков старинного шкафа, где за железной решеткой хранилась казна английских королей. С конца тринадцатого века вводится ежегодный реестр — «Year-book». Во время войны Алой и Белой Розы лорды дают почувствовать свое влияние, становясь то на сторону Джона Гонта, герцога Ланкастерского, то на сторону Эдмунда, герцога йоркского. Уот Тайлер, лолларды, Уорик, «делатель королей», и все стихийные движения — эти зачаточные попытки добиться вольностей — имеют явной или тайной точкой опоры английский феодализм. Лорды не без пользы для себя ревниво следили за престолом; ревновать — значит не спускать с глаз; они ограничивают королевский произвол, сужают понятие измены королю, выставляют против Генриха IV лже-Ричардов, присваивают себе функции верховных судей, решают тяжбу о трех коронах между герцогом Йоркским и Маргаритой Анжуйской, в случае нужды сами снаряжают войска и с переменным успехом сражаются между собой, как это было при Шрусбери, Тьюксбери и Сент-Олбане. Уже в тринадцатом столетии они одержали победу при Льюисе и изгнали из королевства четырех братьев короля, побочных сыновей Изабеллы и графа Марча, за лихоимство и притеснение христиан при посредстве евреев; с одной стороны, это были принцы, с другой — обыкновенные мошенники; подобное сочетание довольно часто встречается и поныне, но в прежние времена оно не пользовалось уважением. До пятнадцатого века в короле Англии еще чувствуется нормандский герцог, и парламентские акты пишутся на французском языке; начиная с царствования Генриха VII эта акты, по настоянию лордов, пишутся уже на английском. Англия, бывшая бретонской при Утэре Пендрагоне, римской при Цезаре, саксонской при семивластии, датской при Гарольде, нормандской после Вильгельма, благодаря лордам становится, английской. Затем она делается англиканской. Собственная церковь — большая сила. Глава церкви, находящийся вне пределов страны, обескровливает ее. Всякая Мекка высасывает, как спрут. В 1534 году Лондон порывает с Римом, пэрство соглашается на реформацию, и лорды признают Лютера, — таков ответ на отлучение от церкви, состоявшееся в 1215 году. Генриху VIII это было на руку, но в других отношениях лорды его стесняли: они стояли перед, ним, как бульдог перед медведем. Кто стал грозно скалить зубы, когда Уолсей незаконно отнял Уайт-Холл у народа, а Генрих VIII отобрал его у Уолсея? — Четыре лорда: Дарси Чичестер, Сент-Джон Блетсо и (два нормандских имени) — Маунтжуа и Маунтигль. Король стремится захватить всю власть. Пэры урезывают ее. Преемственность власти в значительной мере обусловливает ее неподкупность: этим объясняется непокорность лордов. Даже при Елизавете бароны осмеливаются бунтовать. Это вызывает дерхемские казни. Юбка этой тиранки забрызгана кровью казненных. Плаха, скрытая под фижмами, — вот что такое царствование Елизаветы. Она созывает парламент как можно реже и ограничивает число лордов верхней палаты шестьюдесятью пятью, оставив в ней одного лишь маркиза Вестминстера и исключив всех герцогов. Впрочем, во Франции короли так же ревниво оберегали свою власть и ограничивали число пэров. При Генрихе III было только восемь герцогов-пэров; бароны де Мант, де Куси, де Куломье, де Шатонеф-Римере, де Ла Фер-Тарденуа, де Мортань и еще некоторые другие сохранили свое пэрское достоинство, к величайшему неудовольствию короля. В Англии короли охотно допускали вымирание пэрских родов; достаточно сказать, что при Анне число угасших с двенадцатого века пэрских родов дошло до шестидесяти пяти. Истребление герцогов, начало которому положила война Алой и Белой Розы, было довершено топором Марии Тюдор. Так обезглавили дворянство. Уничтожить герцога — значило лишить дворянство его главы. Политика, конечно, сама по себе недурная, но все же подкуп лучше убийства. Это прекрасно понял Иаков I. Он восстановил герцогское достоинство. Он сделал герцогом своего фаворита Вильерса, величавшего его «ваше свинство». Герцог-феодал превращается в герцога-придворного. Со временем их развелось несчетное множество. Карл II жалует герцогское достоинство двум своим любовницам — Барбаре Саутгемптон и Луизе Керуэл. При Анне насчитывается двадцать пять герцогов, из них три иностранца: Кемберленд, Кембридж и Шонберг. Имеет ли успех хитрость Иакова I? Нет. Палата лордов подозревает в этом происки и приходит в негодование. Она негодует на Иакова I, негодует и на Карла I, который, кстати говоря, быть может отчасти повинен в смерти своего отца, так же как Мария Медичи, быть может, повинна в смерти своего мужа. Между Карлом I и палатой лордов происходит разрыв. Лорды, которые при Иакове I привлекали к суду взяточничество в лице Бекона, при Карле I судят государственную измену в лице Страффорда. Они вынесли обвинительный приговор Бекону, они выносят его и Страффорду. Один потерял честь, другой — жизнь. Карл I обезглавлен в первый раз в лице Страффорда. Лорды оказывают поддержку нижней палате. Король созывает парламент в Оксфорде, революция созывает его в Лондоне; сорок три пэра принимают сторону короля, двадцать два — сторону республики. Приобщив таким образом народ к власти, лорды подготовляют почву для «Билля о правах», первоначального наброска «Декларации прав человека», — из глубины грядущего французская революция бросает бледную тень на революцию английскую.
Такова польза от сословия пэров. Пускай невольная. И дорого стоившая народу, ибо пэрство — чудовищный паразит. Но польза все же значительная. Все то, что имело место во Франции, — укрепление деспотизма при Людовике XI, Ришелье и Людовике XIV; установление чисто султанского режима; приниженность, выдаваемая за равенство; превращение скипетра в палку; всеобщий гнет, весь этот турецкий уклад миновали Англию именно благодаря лордам. Это они сделали из аристократии стену, которая, с одной стороны, сдерживала, точно плотиной, королевскую волю, с другой — защищала народ. Свое высокомерие по отношению к народу они искупают дерзостью по отношению к королю. Граф Саймон Лестер сказал в лицо Генриху III: «Король, ты солгал». Лорды навязывают короне ряд ограничений; они задевают чувствительное место короля — охоту. Всякий лорд, проезжая через королевский парк, имеет право убить в нем серну. Лорд чувствует себя как дома во дворце короля. Предусмотренная законом возможность заключения короля в Тауэр и определение ему в этом случае еженедельного содержания в размере двенадцати фунтов стерлингов, то есть не больше, чем пэру, — это дело палаты лордов. Мало того, ей же Англия обязана развенчанием ряда королей. Лорды лишили престола Иоанна Безземельного, свергли Эдуарда II, удалили Ричарда II, сломили Генриха VI и сделали возможным появление Кромвеля. Какой Людовик XIV таился в Карле II! Но Кромвель помешал ему развернуться. Кстати, упомянем мимоходом об одном обстоятельстве, на которое не обратил внимания ни один историк, а именно: Кромвель сам домогался пэрства; в этих целях он женился на Елизавете Борчир, родственнице и наследнице лорда Борчира, пэрство которого угасло в 1471 году, и другого Борчира, лорда Робсарта, род которого угас в 1429 году. Стараясь не отстать от событий, развивавшихся со страшной быстротой, Кромвель, однако, нашел, что проще прийти к власти, убрав короля, чем домогаясь от него пэрства.
Мрачный церемониал суда, установленный для лордов, распространился и на короля. Если король представал перед судом пэров, у него, как у обыкновенного лорда, по бокам стояли два вооруженных топорами тюремщика из Тауэра. На протяжении пяти веков древняя палата лордов упорно придерживалась одного и того же направления. Можно перечесть по пальцам те редкие случаи, когда ее подозрительность и настороженность ослабевали, как, например, в тот злополучный день, когда она позволила соблазнить себя присланное папой Юлием II галерой, груженной сырами, окороками и греческими винами. Английская аристократия была беспокойна, надменна, упряма, сурова и недоверчива. Именно она в конце XVII столетия десятым актом 1694 года лишила местечко Стокбридж в Саутгемптоне права представительства в парламенте и заставила палату общин кассировать выборы в этом местечке, запятнавшем себя приверженностью папистам. Это она предложила Иакову, герцогу йоркскому, принести присягу в отречении от католических догматов и устранила его от престолонаследия, когда он отказался. Правда, он все-таки стал королем, но лордам в конце концов удалось захватить его и изгнать из пределов страны. За долгий период своего существования английская аристократия не раз проявляла бессознательное тяготение к прогрессу. Она в какой-то мере была носительницей просвещения, правда за исключением последнего времени, то есть наших дней. При Иакове II она соблюдала в нижней палате определенную пропорцию между горожанами и дворянами, а именно — на триста сорок шесть горожан приходилось там девяносто два дворянина; шестнадцать баронов, представители от Пяти Портов, имели вполне достаточный противовес в лице пятидесяти граждан, депутатов от двадцати пяти городов. Несмотря на свое развращающее влияние и эгоизм, эта аристократия в некоторых случаях проявляла беспристрастие. Ее судят слишком строго. История относится снисходительно только к палате общин; это едва ли справедливо. Мы находим, что роль лордов весьма значительна. Олигархия — довольно первобытная форма независимости, но все-таки это независимость. Взять, например, Польшу, которая, будучи королевством по названию, в действительности являлась республикой. Английские пэры относились к престолу с подозрением и держали его под опекой. Во многих случаях лорды навлекали на себя королевскую немилость в большей мере, чем палата общин. Они нередко делали шах королю. Так, в достопамятном 1694 году билль о трехлетнем парламенте, отвергнутый палатой общин как неугодный Вильгельму III, был утвержден в палате пэров; Вильгельм III, придя в ярость, отнял у графа Бата замок Пенденнис и лишил виконта Мордаунта всех занимаемых им должностей. Палата лордов была своего рода Венецианской республикой в самом сердце королевской Англии. Низвести короля до уровня дожа — такова была ее цель, и она обогащала народ тем, что отнимала у короля.
Королевская власть сознавала это и ненавидела пэров. Обе стороны старались ослабить одна другую. Ущерб, наносимый ими друг другу, шел на пользу народу. Эти две слепые силы — монархия и олигархия — не замечали, что работают в интересах третьей — демократии. Как ликовал в прошлом столетии королевский двор, когда удалось повесить одного из пэров, лорда Ферерса!
Впрочем, отдавая дань учтивости, его повесили на шелковой веревке.
«Пэра Франции не повесили бы», — гордо заметил герцог Ришелье. Совершенно верно. Ему отрубили бы голову. Это еще учтивее. Монморанси-Танкервилл подписывался: «Пэр Франции и Англии», отодвигая, таким образом, английское пэрство на второе место. Французские пэры стояли выше английских, но были менее могущественны, так как дорожили титулом больше, чем действительной властью, и почетным первенством больше, чем фактическим господством. Между ними и английскими лордами была такая же разница, как между тщеславием и гордостью. Стоять выше чужестранных принцев, идти впереди испанских грандов во время церемоний, затмевать венецианских патрициев; сажать в парламенте на скамьи низших рядов маршалов Франции, коннетабля и адмирала Франции, хотя бы им был сам граф Тулузский, сын Людовика XIV; устанавливать различие между герцогством по мужской и женской линии, проводить грань между простым графством вроде Арманьякского или Альбретского и графством-пэрством вроде Эвре; носить чуть ли не в двадцатипятилетнем возрасте голубую орденскую ленту через плечо или орден Золотого Руна; противопоставлять герцогу де ла Тремуйль, старейшему пэру королевства, герцога д'Юзеса, старейшего пэра парламента; домогаться права иметь столько же пажей и запрягать в карету столько же лошадей, сколько полагалось немецкому курфюрсту; требовать, чтобы председатель государственного совета называл пэров «монсеньерами»; обсуждать вопрос; вправе ли герцог Мэнский, имеющий в качестве графа д'Э звание пэра с 1458 года, проходить через большой зал заседаний по диагонали или вдоль стен, — вот что было самым важным для пэров Франции. Английских лордов гораздо больше занимали вопросы о навигационном акте, о клятвенном отречении от католических догматов, об использовании Европы в интересах Англии, о господстве на морях, об изгнании Стюартов, о войне с Францией. Для первых главное — этикет, для вторых — подлинная власть. Пэры Англии захватили добычу, пэры Франции гонялись за призраком.
В общем, английская палата лордов сыграла существенную роль в истории цивилизации страны. Ей выпала честь основать нацию. Она явилась первым по времени воплощением народного единства. Сопротивление английского народа — эта мрачная, но могучая сила — зародилось в палате лордов. Рядом насилий над своим монархом бароны подготовили почву для окончательного низвержения королей. Нынешняя палата лордов сама несколько удивлена и огорчена тем, что она когда-то бессознательно и помимо своей воли совершила. Тем более что все это непоправимо. Что такое уступки? Восстановление в правах. И народы прекрасно понимают это. «Жалую», — говорит король. «Беру свое», — говорит народ. Думая добиться привилегий для пэров, палата лордов давала права гражданам. Аристократия подобна ястребу, высидевшему яйцо орла — свободу.
В наши дни это яйцо разбито, орел парит в облаках, ястреб издыхает.
Аристократия корчится в предсмертных судорогах, народ Англии растет.
Но будем справедливы к аристократии. Она удерживала королевскую власть в известных границах, она была ее противовесом. Она служила преградой для деспотизма; она была барьером.
Поблагодарим же ее и предадим земле.
Глава 90
Старинный зал
Близ Вестминстерского аббатства стоял старинный нормандский дворец, сгоревший в царствование Генриха VIII. От этого здания уцелело два флигеля. В одном из них Эдуард VI поместил палату лордов, в другом — палату общин.
Ни флигелей, ни обоих залов в настоящее время уже не существует, — все перестроено.
Мы уже упоминали и теперь снова повторяем, что между прежней и нынешней палатой лордов нет никакого сходства. Разрушив старинный дворец, уничтожили и некоторые старинные обычаи. Удары лома, наносимые древним памятникам, отзываются также на обычаях и на хартиях. Старый камень, падая, увлекает за собой какой-нибудь старый закон. Поместите в круглом зале сенат, заседавший в зале квадратном, и он окажется другим. Форма моллюска изменяется по мере изменения формы раковины.
Если вы хотите сохранить какое-нибудь старинное установление, будь оно происхождения человеческого или божественного; будь оно кодексом или догматом, аристократией или жреческим сословием, — ничего не переделывайте в нем заново, даже наружной оболочки. В крайнем случае положите заплату. Орден иезуитов, например, — заплата на католицизме. Если хотите уберечь от перемен учреждения, ничего не меняйте в зданиях.
Тени должны жить среди развалин. Обветшалой власти не по себе в заново отделанном помещении. Если учреждение пришло в упадок, ему нужен полуразрушенный дворец.
Показать внутренность прежней палаты лордов — значит показать неведомое. История — та же ночь. В ней нет заднего плана. Все, что не находится на авансцене, немедленно пропадает из виду и тонет во мраке. Когда декорации убраны, память о них исчезает, наступает забвение. Прошедшее и неведомое — синонимы.
Пэры Англии в качестве верховных судей заседали в большом зале Вестминстера, а в качестве законодателей — в особом зале, носившем название «дома лордов», house of the lords.
Кроме суда пэров, созывавшегося только по инициативе короны, в большом Вестминстерском зале заседали еще два судебных учреждения, стоявших ниже суда пэров, но выше всех остальных судебных органов. Они занимали два смежных отделения в передней части этого зала. Первое из них, носившее название «суда королевской скамьи», возглавлялось самим королем, второе именовалось канцлерским судом, и в нем председательствовал канцлер. Одно было органом карающим, другое — милующим. Именно канцлер возбуждал перед королем вопрос о помиловании, но случалось это редко. Оба эти судилища, существующие и поныне, толковали законы, а иногда слегка изменяли их. Искусство судьи состоит в том, чтобы судебной практикой устранять шероховатости свода законов — ремесло, от которого справедливость нередко страдает. В суровом большом Вестминстерском зале вырабатывались и применялись законы. Сводчатый потолок этого зала был из каштанового дерева, на котором не может завестись паутина; достаточно было и того, что она завелась в законах.
Заседать как суй и как законодательная палата — две разные вещи. Из двух этих прерогатив слагается верховная власть. «Долгий парламент», начавший заседать 3 ноября 1640 года, почувствовал необходимость вооружиться в революционных целях этим двойным мечом. Поэтому, подобно палате лордов, он объявил себя не только властью законодательной, но и властью судебной.
Эта двойная власть с незапамятных времен принадлежит палате лордов. Мы только что говорили, что в качестве судей лорды занимали Вестминстер-Холл, а в качестве законодателей заседали в другом помещении.
Палата лордов в собственном смысле занимала продолговатый и узкий зал. Он освещался только четырьмя окнами, проделанными в потолке, так что свет проникал в него через крышу и через затянутое занавесками круглое оконце в шесть стекол над королевским балдахином; вечером здесь зажигали только дюжину канделябров, висевших на стенах. Освещение в зале венецианского сената было еще более скудным. Подобно совам, всемогущие вершители народных судеб любят полумрак.
Над залом, где заседали лорды, высился огромный многогранный, украшенный позолотой свод. В палате общин потолок был плоским; в сооружениях, воздвигаемых при монархическом строе, все имеет свой определенный смысл. В одном конце длинного зала палаты лордов находилась дверь, в другом, противоположном, — трон. В нескольких шагах от двери тянулся барьер, пересекая зал поперек и образуя своего рода границу, обозначавшую, где кончается место народа и начинаются места знати. Направо от трона, на камине, украшенном наверху гербом, выступали два мраморных барельефа: один с изображением победы Кетуольфа над бретонцами в 572 году, другой — с планом местечка Денстебль, в котором было только четыре улицы, соответственно четырем странам света. К трону вели три ступени. Он назывался «королевским креслом». По обе стороны от трона стены были обтянуты рядом тканых шпалер, подаренных Елизаветой палате лордов и в последовательном порядке представлявших все злоключения испанской Армады, начиная с ее отплытия из Испании и кончая ее гибелью у берегов Англии. Надводные части судов были вытканы золотыми и серебряными нитями, почерневшими от времени. Под этими шпалерами, разделенными стенными канделябрами, стояли направо от трона три ряда скамей для епископов, налево столько же рядов скамей для герцогов, маркизов и графов; скамьи шли уступами и разделялись проходами. На трех скамьях первого сектора восседали герцоги, второго — маркизы, третьего — графы. Скамьи виконтов, поставленные под прямым углом одна к другой, помещались прямо против трона, а между ними и барьером стояли две скамьи для баронов. Верхнюю скамью направо от трона занимали два архиепископа — Кентерберийский и Йоркский, среднюю — три епископа: Лондонский, Дерхемский и Винчестерский, нижнюю — остальные епископы. Между архиепископом Кентерберийским и другими епископами существует важное различие: он является епископом «промыслом божиим», между тем как прочие — епископы лишь «соизволением божиим». Направо от трона стояло кресло для принца Уэльского, налево — складные стулья для принцев крови, а позади этих стульев — скамья для несовершеннолетних пэров, не имеющих еще права заседать в палате. Всюду — множество королевских лилий, а на всех четырех стенах над головами пэров, так же как и над головой королевы, — громадные щиты с гербом Англии. Сыновья пэров и наследники пэрств присутствовали на заседаниях, стоя позади трона, между балдахином и стеной. Между троном, находившимся в глубине зала, и тремя рядами скамей вдоль стен оставалось еще большое свободное пространство в форме четырехугольника. На ковре с гербами Англии, устилавшем это пространство, лежало четыре мешка, набитых шерстью; один, прямо перед троном, — для канцлера, который сидел на нем, держа булаву и государственную печать; второй, перед епископами, — для судей — государственных советников, имевших право присутствовать без права голоса; третий, против герцогов, маркизов и графов, — для государственных секретарей; четвертый, против виконтов и баронов, — для клерков: коронного и парламентского; на нем писали, стоя на коленях, их помощники. В центре этого четырехугольника стоял большой, покрытый сукном стол, заваленный бумагами, списками, счетными книгами, с массивными, чеканной работы, чернильницами и с высокими светильниками по четырем углам. Пэры занимали места «в хронологическом порядке» — каждый соответственно древности его рода. Они рассаживались, соблюдая двойное старшинство — титула и времени его пожалования. У барьера стоял пристав черного жезла, держа в руке эту эмблему своей должности; у дверей — его помощник, за дверьми — глашатай черного жезла, на обязанности которого лежало открывать заседание возгласом: «Слушайте». Он трижды произносил это слово по-французски, торжественно растягивая первый слог. Рядом с глашатаем стоял булавоносец канцлера.
Когда заседания палаты происходили в присутствии короля, светские пэры надевали корону, а духовные — митру. Архиепископы носили митры с герцогской короной, а епископы, приравненные к виконтам, — митру с короной баронской.
Странное и вместе с тем поучительное обстоятельство: четырехугольник, образованный троном, скамьями епископов и баронов, с коленопреклоненными чиновниками посредине, был точной копией древнего парламента Франции при двух первых династиях. И во Франции и в Англии власть принимала одни и те же внешние формы. В 853 году Гинкмар в трактате «De ordinatione sacri palatii»[468] как будто описывает заседание палаты лордов, происходящее в Вестминстере в восемнадцатом веке. Курьезный протокол, составленный за девятьсот лет до самого события.
Что такое история? Отголосок прошедшего в будущем. Отсвет, отбрасываемый будущим на прошедшее.
Созыв парламента был обязательным лишь через каждые семь лет.
Лорды совещались тайно, при закрытых дверях. Заседания же палаты общин были публичными. Гласность казалась умалением достоинства.
Число лордов было неограниченным. Назначение новых лордов королем было своего рода угрозой. Это было способом дать почувствовать строптивым лордам королевскую власть.
В начале восемнадцатого столетия число заседавших в палате лордов достигло весьма внушительной цифры. С тех пор оно возросло еще больше. Такое разбавление аристократии новыми лицами преследовало определенную политическую цель. Елизавета, быть может, допустила ошибку, сократив число пэров до шестидесяти пяти. Чем малочисленнее знать, тем она сильнее. Чем многолюднее ее сборище, тем меньше в нем голов. Иаков II отлично сознавал это, увеличивая число лордов в верхней палате до ста восьмидесяти восьми или до ста восьмидесяти шести, если исключить отсюда двух герцогинь королевского алькова — Портсмут и Кливленд. При Анне общее число пэров, включая и епископов, достигло двухсот семи.
Не считая герцога Кемберлендского, супруга королевы, герцогов было двадцать пять, из коих первый, Норфолк, не заседал в палате, так как был католиком, а последний, герцог Кембриджский, курфюрст Ганноверский, входил в ее состав, хотя и был иностранцем. Винчестер, называвшийся первым и единственным маркизом Англии, подобно тому как в Испании единственным маркизом был Асторга, был якобитом и потому отсутствовал; но вместо него было еще пять маркизов: старшим из них считался Линдсей, а младшим — Лотиан; семьдесят девять графов: из них старшим был Дерби, а младшим — Айлей; девять виконтов: из них старший — Герфорд, а младший — Лонсдейл; шестьдесят два барона: из них старший — Эбергевени, а младший — Гарвей, который в качестве самого младшего члена палаты назывался «меньшим». Дерби, который при Иакове II был четвертым по старшинству, так как выше него стояли графы Оксфорд, Шрусбери и Кент, при Анне занял среди графов первое место. В ту пору из списков баронов исчезли имена двух канцлеров: Верулама, известного истории как Бэкон, и Уэма, известного под именем Джеффриса; Бэкон и Джеффрис — имена мрачные, каждое по-своему. В 1705 году из двадцати шести епископов оставалось двадцать пять, так как Честерская епархия была вакантна. Среди епископов встречались знатные вельможи, как, например, Вильям Талбот, архиепископ Оксфордский, глава протестантской ветви своего дома. Другие были выдающимися учеными, как, например, Джон Шарп, архиепископ Йоркский, бывший деканом в Норвике, поэт Томас Спратт, епископ Рочестерский, человек апоплексической наружности, или епископ Линкольнский Уэйк, противник Боссюэ, умерший в сане архиепископа Кентерберийского.
В особо важных случаях, когда, например, верхней палате предстояло выслушать какое-либо королевское сообщение, все это величественное сборище в мантиях, в париках, митрах или шляпах с белыми перьями заполняло пэрский зал и рассаживалось ступенчатыми рядами вдоль стен, на которых в полумраке можно было разглядеть изображение бури, уничтожающей испанскую Армаду. Эта картина как бы говорила: «И буря повинуется Англии».
Глава 91
Палата лордов в старину
Вся церемония посвящения Гуинплена в звание пэра и введения в палату лордов, начиная со въезда в Королевские ворота и кончая торжественным отречением от католических догматов в стеклянной ротонде, происходила в полутьме.
Лорд Вильям Коупер не допустил, чтобы ему, канцлеру Англии, слишком подробно докладывали об уродстве молодого лорда Фермена Кленчарли; он находил ниже своего достоинства знать, что пэр может быть некрасивым, и счел бы себя оскорбленным дерзостью подчиненного, который отважился бы сообщить ему такого рода сведения. Без сомнения, какой-нибудь простолюдин скажет с особенным злорадством: «А ведь принц-то горбат». Поэтому уродство оскорбительно для лорда. Когда королева Анна мельком упомянула о наружности Гуинплена, лорд-канцлер ограничился тем, что заметил; «Красота вельможи — в его знатности». Но в общем из ее слов и из протоколов, которые пришлось проверить и засвидетельствовать, он понял все. Потому-то он и принял некоторые предосторожности.
Лицо нового лорда при его вступлении в палату могло произвести нежелательное впечатление. Это нужно было как-то предотвратить. Лорд-канцлер принял некоторые меры. Как можно меньше неприятных происшествий — таково упорное стремление и неизменное правило поведения всех сановных лиц. Отвращение к скандалам — неотъемлемая черта всякой важной персоны. Необходимо было позаботиться о том, чтобы представление Гуинплена произошло без осложнений, подобно тому как происходит представление любого наследника пэрства.
Вот почему лорд-канцлер назначил эту церемонию на вечер. Канцлер, будучи как бы привратником, quodammodo ostiarius, как говорится в нормандских хартиях, или j'anuarum cancellorumque potestas[469], по выражению Тертуллиана, может исполнять свои обязанности не только в самой палате, но и в преддверии ее; лорд Вильям Коупер воспользовался этим правом и выполнил все формальности посвящения лорда Фермена Кленчарли в стеклянной ротонде. Кроме того, он назначил церемонию на ранний час, чтобы новый пэр вступил в палату еще до начала вечернего заседания.
Что касается возведения в пэрское достоинство вне парламентского зала, то примеры этому бывали и прежде. Так, первый наследственный барон Джон Бошан из Холт-Касла, получивший в 1387 году от Ричарда II титул барона Киддерминстера, был принят в палату именно таким образом.
Впрочем, последовав этому примеру, лорд-канцлер сам поставил себя в затруднительное положение, все неудобства которого он понял только два года спустя, при вступлении в палату лордов виконта Ньюхевена.
Благодаря своей близорукости, о которой мы уже упоминали, лорд Вильям Коупер почти не заметил уродства Гуинплена; лорды же восприемники также не разглядели его: оба они были почти совершенно слепы от старости.
Потому-то лорд-канцлер и остановил на них свой выбор.
Мало того, лорд-канцлер, видевший только фигуру и осанку Гуинплена, нашел, что он весьма представителен.
В ту минуту, когда оба привратника распахнули перед Гуинпленом двустворчатую дверь, в зале находилось лишь несколько лордов: почти все они были стариками. Старики так же аккуратно являются на собрание, как усердно ухаживают за молодыми женщинами. На скамье герцогов были только два герцога. Один, белый как лунь, — Томас Осборн, герцог Лидс, другой, с проседью, — Шонберг, сын того Шонберга, который, будучи немцем по происхождению, французом по маршальскому жезлу и англичанином по пэрству, воевал сначала как француз против Англии, а затем, изгнанный Нантским эдиктом, стал воевать уже как англичанин против Франции. На скамье князей церкви в верхнем углу сидел лишь архиепископ Кентерберийский, старшая духовная особа Англии, а внизу — доктор Саймон Патрик, епископ Илийский, беседовавший с Эвелином Пирпонтом, маркизом Дорчестером, который объяснял ему разницу между габионом и куртином, между палисадами и штурмфалами; палисады представляли собой ряд столбов, водруженных перед палатками, и предназначались для защиты лагеря, штурмфалами же назывался ряд остроконечных кольев перед крепостным валом, преграждавший доступ осаждающим и не позволявший бежать осажденным; маркиз объяснял епископу, как обносят этими кольями редут, врывая их до половины в землю. Томас Тинн, виконт Уэймет, подойдя к канделябру, рассматривал представленный ему архитектором план устройства в его английском парке в Уилтшире дерновой лужайки, разбитой на квадраты, окаймленные желтым и красным песком, речными раковинами и каменноугольной пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старые лорды Эссекс, Оссалстоун, Перегрин, Осборн, Вильям Зулстайн, граф Рошфор и несколько молодых лордов, из числа тех, что не носили париков; они окружали Прайса Девере, виконта Герфорда, и обсуждали вопрос, можно ли заменить чай настоем из листьев зубчатолистника. «Можно отчасти», — говорил Осборн. «Можно вполне», — утверждал Эссекс. К их разговору внимательно прислушивался Полете Сент-Джон, двоюродный брат Болингброка, учеником которого в какой-то степени был позднее Вольтер, ибо его развитие, начавшееся в школе отца Поре, завершилось влиянием Болингброка. На скамье маркизов Томас Грей, маркиз Кент, лорд-камергер королевы, уверял Роберта Берта, маркиза Линдсея, лорда-камергера Англии, что главный выигрыш большой английской лотереи в 1614 году достался двум французским выходцам: Лекоку, бывшему члену парижского парламента, и господину Равенелю, бретонскому дворянину. Граф Уаймс читал книгу под заглавием «Любопытные предсказания сивилл». Джон Кемпбел, граф Гринич, известный своим длинным подбородком и редкой для старика восьмидесяти семи лет игривостью писал письмо своей любовнице. Лорд Чандос занимался отделкой ногтей. Ввиду того, что предстояло королевское заседание, то есть такое, на котором корона должна была быть представленной комиссарами, два помощника привратников ставили перед троном обитую ярко-красным бархатом скамью. На втором мешке с шерстью сидел блюститель списков, sacrorum scriniorum magister, занимавший в те времена дом, в котором прежде жили обращенные в христианство евреи. На четвертом мешке два помощника клерка, стоя на коленях, перелистывали актовые книги.
Между тем лорд-канцлер занял место на первом мешке с шерстью, парламентские чиновники тоже заняли свои места, кто сидя, кто стоя; архиепископ Кентерберийский, поднявшись, прочел вслух молитву, и заседание палаты началось. К тому времени Гуинплен уже вошел, не обратив на себя ничьего внимания; скамья баронов, на которой он сидел, была ближайшей к перилам, так что ему пришлось пройти лишь несколько шагов. Лорды-восприемники сели по обе стороны его, благодаря чему появление нового лорда осталось незамеченным. Никто не был предупрежден, и парламентский клерк вполголоса, чуть ли не шепотом, прочел все документы, относившиеся к новому лорду, а лорд-канцлер объявил о его принятии в сословие пэров среди «всеобщего невнимания», как говорится в отчетах.
Все были заняты разговорами. В зале стоял тот особый гул, пользуясь которым, в собраниях часто «под шумок» проводят постановления, впоследствии вызывающие удивление самих участников.
Гуинплен сидел молча, с обнаженной головой, между двумя стариками, своими восприемниками, — лордом Фицуолтером и лордом Эранделом.
Необходимо заметить, что Баркильфедро, в качестве шпиона осведомленный обо всем и решивший во что бы то ни стало с успехом довести до конца свой замысел, в официальных донесениях лорд-канцлеру скрыл до известной степени уродство лорда Фермена Кленчарли, особо настаивая на том, что Гуинплен мог усилием воли подавлять на своем лице выражение смеха и сообщать серьезность своим изуродованным чертам. Баркильфедро, быть может, даже преувеличил эту способность. Впрочем, какое могло все это иметь значение в глазах аристократии? Ведь сам лорд-канцлер Вильям Коупер был автором знаменитого изречения: «В Англии восстановление пэра в его правах имеет большее значение, чем реставрация короля». Разумеется, красоте и знатности следовало бы быть неразлучными; досадно, что лорд обезображен; это, конечно, злобная насмешка судьбы, но в сущности разве это может отразиться на его правах? Лорд-канцлер принял известные предосторожности и поступил правильно, но в конце концов даже если б они и не были приняты, что могло бы помешать пэру вступить в палату лордов? Разве родовитость и королевское происхождение не искупают любого уродства и увечья? Разве в древней фамилии Кьюменов, графов Бьюкен, угасшей в 1347 году, не передавался из рода в род, наравне с пэрским достоинством, дикий, хриплый голос, так что по одному уж этому звериному рыку узнавали отпрысков шотландского пэра? Разве отвратительные кроваво-красные пятна на лице Цезаря Борджа помешали ему быть герцогом Валантинуа? Разве слепота помешала Иоанну Люксембургскому быть королем Богемии? Разве горб помешал Ричарду III стать королем Англии? Если вдуматься как следует, то окажется, что увечье и безобразие, переносимые с высокомерным равнодушием, не только не умаляют величия, но даже поддерживают и подчеркивают его. Знать так величественна, что ее не может унизить никакое уродство. Такова другая, не менее важная, сторона вопроса. Как видит читатель, ничто не могло воспрепятствовать принятию Гуинплена в число пэров, и благоразумные предосторожности лорд-канцлера, целесообразные во всяком ином случае, оказались совершенно излишними с точки зрения аристократических принципов.
При входе в зал Гуинплен, следуя наставлению герольдмейстера и напоминаниям обоих восприемников, поклонился «королевскому креслу».
Итак, все было кончено. Он стал лордом.
Он достиг ее, этой чудесной вершины, перед ослепительным сиянием всю свою жизнь с ужасом преклонялся его учитель Урсус. Теперь Гуинплен попирал ее ногами.
Он находился в самом знаменитом и самом мрачном месте Англии.
Это была древнейшая вершина феодализма, на которую в продолжение шести веков взирали Европа и история. Страшное сияние, вырвавшееся из царства тьмы.
Он вступил в круг этого сияния. Вступил безвозвратно.
Он был теперь в своей среде, на своем месте, как король на своем.
Отныне ничто не могло помешать ему остаться здесь.
Эта королевская корона, которую он видел над балдахином, была родной сестрой его собственной короне. Он был пэром этого трона.
Перед лицом королевской власти он олицетворял собою знать. Он был меньше, чем король, но подобен ему.
Кем был он еще вчера? Скоморохом. Кем стал он сегодня? Властелином.
Вчера он — ничто, сегодня — все.
Столкнувшись внезапно лицом к лицу в глубине одной души, ничтожество и могущество стали двумя половинами одного и того же сознания.
Два призрака — призрак нищеты и призрак благоденствия, — овладев одной и той же душой, влекли ее каждый в свою сторону. Эти братья-враги, бедность и богатство, вступив в трагическое столкновение, делили между собою разум, волю и совесть одного человека. Авель и Каин воплотились в одном лице.
Глава 92
Высокомерная болтовня
Мало-помалу скамьи палаты заполнились. Начали появляться лорды. В порядке дня стоял билль об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания Георгу Датскому, герцогу Кемберлендскому, супругу королевы. Кроме того, было объявлено, что несколько биллей, одобренных ее величеством, будут представлены в палату коронными комиссарами, на которых возложено право и обязанность утвердить их; тем самым заседание приобретало значение королевского. Все пэры были в парламентских мантиях, накинутых поверх своей обычной одежды или придворных костюмов. На всех были одинаковые мантии, такие же, как и на Гуинплене, с той лишь разницей, что у герцогов было по пять горностаевых, обшитых золотом полос, у маркизов четыре, у графов и виконтов три, а у баронов две. Лорды входили группами, продолжая беседу, начатую еще в коридорах. Некоторые появлялись поодиночке. Одеяния были парадными, в позах же и в словах не было ничего торжественного. Входя, каждый из лордов кланялся трону.
Пэры все прибывали. Все эти обладатели громких имен входили в зал почти без всякого церемониала, так как посторонней публики не было. Вошел Лестер и пожал руку Личфилду; затем явились Чарльз Мордаунт, граф Питерборо, и Монмут, друг Локка, по инициативе которого он в свое время предложил переливку монеты; Чарльз Кемпбел, граф Лоудоун, которому что-то нашептывал Фук Гревилл, лорд Брук; Дорм, граф Карнарвон; Роберт Сеттон, барон Лексингтон, сын того Лексингтона, который посоветовал Карлу II прогнать историографа Грегорио Лети, слишком недостаточно догадливого, чтобы быть историком; красивый старик Томас Белласайз, виконт Фалькомберг; трое двоюродных братьев Ховардов: Ховард, граф Биндон, Боур-Ховард, граф Беркшир, и Стаффорд-Ховард, граф Стаффорд; Джон Ловлес, барон Ловлес, чей род прекратился в 1736 году, что позволило Ричардсону ввести Ловлеса в свой роман и создать под этим именем определенный тип. Все эти лица, выдвинувшиеся либо в области политики, либо на войне и прославившие собою Англию, смеялись и болтали. Это была сама история в домашнем халате.
Меньше чем за полчаса палата оказалась почти в полном составе. Дело объяснялось просто — предстояло королевское заседание. Более необычным обстоятельством были оживленные разговоры. Палата, еще недавно погруженная в сонную тишину, загудела, как потревоженный улей. Пробудило ее от дремоты появление запоздавших лордов. Они принесли с собой любопытные вести. Странное дело: пэры, находившиеся в палате с начала заседания, не подозревали о том, что произошло в палате, тогда как те, что отсутствовали, знали обо всем.
Многие лорды приехали из Виндзора.
Уже несколько часов, как все происшедшее с Гуинпленом стало достоянием гласности. Тайна — та же сеть: достаточно, чтобы порвалась одна петля, и все расползается. Весть о происшествиях, уже известных читателю, вся история о пэре, найденном на подмостках, о скоморохе, признанном лордом, еще утром разнеслась по Виндзору в кругу приближенных королевы. Об этом заговорили сначала вельможи, затем лакеи. Вслед за королевским двором событие стало известно всему городу. События имеют свой вес, и к ним вполне применим закон квадрата скоростей. Обрушиваясь на публику, они с невероятной быстротой вызывают всевозможные толки. В семь часов в Лондоне никто и понятия не имел об этой истории. В восемь часов в городе только и говорили, что о Гуинплене. Лишь несколько пожилых лордов, прибывших до открытия заседания, ни о чем не догадывались, так как не успели побывать в городе, где о случившемся кричали на всех перекрестках, а провели это время в палате и ровно ничего не заметили. Они невозмутимо сидели на скамьях, когда вновь прибывшие члены взволнованно обратились к ним.
— Каково? — спрашивал Френсис Броун, виконт Монтекьют, маркиза Дорчестера.
— Что?
— Неужели это возможно?
— Что?
— Да «Человек, который смеется»!
— Что это за «Человек, который смеется»?
— Как, вы не знаете «Человека, который смеется»?
— Нет.
— Это клоун. Ярмарочный комедиант. Невероятно уродливый, такой уродливый, что его доказывали в балагане за деньги. Фигляр.
— Ну и что же?
— Вы только что приняли его в пэры Англии.
— Вы сами — человек, который смеется, милорд Монтекьют.
— Я нисколько не смеюсь, милорд Дорчестер.
Виконт Монтекьют знаком подозвал парламентского клерка, и тот, поднявшись с мешка, набитого шерстью, подтвердил их светлостям факт принятия нового пэра. Затем он сообщил всякие подробности.
— Вот так штука, — сказал лорд Дорчестер, — а я все время беседовал с епископом Илийским!
Молодой граф Энсли подошел к старому лорду Юру, которому оставалось жить лишь два года, так как он умер в 1707 году.
— Милорд Юр?
— Милорд Энсли?
— Знали вы лорда Линнея Кленчарли?
— Старого лорда? Знал.
— Того, что умер в Швейцарии?
— Да. Мы были с ним в родстве.
— Того, что был республиканцем при Кромвеле и остался республиканцем при Карле Втором?
— Республиканцем? Вовсе нет. Он попросту обиделся. У него были личные счеты с королем. Я знаю из достоверных источников, что лорд Кленчарли помирился бы с ним, если бы ему предоставили место канцлера, доставшееся лорду Хайду.
— Вы удивляете меня, милорд Юр! Мне говорили, что лорд Кленчарли был честным человеком.
— Честный! Да разве честные люди существуют? Молодой человек, на свете нет честных людей.
— А Катон?
— Вы верите в Катона?
— А Аристид?
— Его прогнали, и поделом.
— А Томас Мор?
— Ему отрубили голову, и хорошо сделали.
— И, по вашему мнению, лорд Кленчарли…
— Был из той же породы. К тому же человек, добровольно остающийся в изгнании, просто смешон.
— Он там умер.
— Честолюбец, обманувшийся в своих расчетах. Знал ли я его? Еще бы! Я был его лучшим другом.
— Известно ли вам, милорд Юр, что в Швейцарии он женился?
— Что-то слыхал об этом.
— И что от этого брака у него был законный сын?
— Да. Этот сын умер.
— Нет, он жив.
— Жив?
— Жив.
— Невозможно.
— Вполне возможно. Доказано. Засвидетельствовано. Официально признано судом. Зарегистрировано.
— В таком случае этот сын унаследует пэрство Кленчарли?
— Нет, не унаследует.
— Почему?
— Потому что он уже унаследовал. Дело сделано.
— Уже?
— Поверните голову, барон Юр. Он сидит за вами на скамье баронов.
Лорд Юр обернулся, но Гуинплен сидел, опустив голову, и лица его не было видно.
— Смотрите! — воскликнул старик, не видя ничего, кроме волос Гуинплена. — Он уже усвоил новую моду. Он не носит парика.
Грентэм подошел к Колпеперу.
— Вот кто попался-то!
— Кто?
— Дэвид Дерри-Мойр.
— Почему?
— Он больше уже не пэр.
— Как так?
И Генри Оверкерк, граф Грентэм, рассказал Джону, барону Колпеперу, весь «анекдот», то есть историю о выброшенной морем и доставленной в адмиралтейство бутылке, о пергаменте компрачикосов, о королевском приказе, скрепленном подписью Джеффриса, об очной ставке в саутворкском застенке, о том, как отнеслись ко всем этим событиям лорд-канцлер и королева, об отречении от католических догматов в стеклянной ротонде, наконец о принятии лорда Фармена Кленчарли в члены палаты перед началом заседания. Оба лорда старались разглядеть сидевшего между лордом Фицуолтером и лордом Эранделом нового пэра, о котором столько говорилось, но, так же как и лорду Юру и лорду Энсли, им это не удалось.
Быть может, случайно, а может быть, потому, что об этом позаботились его восприемники, предупрежденные канцлером, Гуинплен сидел в тени, укрывавшей его от любопытных взоров.
— Где он, где же он?
Все, входя, задавали себе этот вопрос, но никому не удавалось как следует рассмотреть нового лорда. Некоторые, видевшие Гуинплена в «Зеленом ящике», сгорали от любопытства, но все их усилия были тщетны. Как иногда старые, вдовы благоразумно заслоняют собою от нескромных взоров молодую девушку, так и Гуинплен был укрыт за широкими спинами пожилых, немощных и ко всему безучастных лордов. Старики, страдающие подагрой, мало интересуются тем, что не имеет к ним прямого отношения.
По рукам ходила копия письма в три строки, которое, как уверяли, герцогиня Джозиана прислала своей сестре, королеве, в ответ на предложение ее величества выйти замуж за нового пэра, законного наследника баронов Кленчарли, лорда Фермена. Письмо это было следующего содержания:
«Государыня!
Я согласна. Это даст мне возможность взять себе в любовники лорда Дэвида».
Внизу стояла подпись: «Джозиана». Письмо это, настоящее или вымышленное, возбуждало всеобщий восторг.
Молодой лорд Чарльз Окемптон, барон Мохен, из числа тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. Льюис Дюрас, граф Фивершем, англичанин, отличавшийся чисто французским остроумием, с улыбкой поглядывал на Мюхена.
— Вот женщина! — воскликнул лорд Мохен. — На такой стоит жениться!
И два лорда, сидевшие рядом с Дюрасом и Мохеном, услышали следующий разговор:
— Жениться на герцогине Джозиане, лорд Мохен?
— А почему бы нет?
— Черт возьми!
— Это было бы счастье!
— Это счастье делили бы с вами другие.
— Разве бывает иначе?
— Лорд Мохен, вы травы. Когда дело касается женщины, нам всегда перепадают крохи чужого пиршества. Кто положил этому начало?
— Адам, должно быть.
— Вовсе нет.
— Верно, сатана.
— Дорогой мой, — заметил в заключение Льюис Дюрас, — Адам только подставное лицо. Его надули, беднягу. Он взвалил себе на плечи весь род людской. Дьявол сотворил мужчину для женщины.
Натанаэль Крью, бывший вдвойне пэром, светским в качестве барона Крью и духовным в качестве епископа Дерхемского, сидя на епископской скамье, окликнул Гью Чолмлея, графа Чолмлея, известного законоведа:
— Возможно ли это?
— Вы хотите сказать — законно ли это? — поправил его Чолмлей.
— Принятие нового лорда совершилось не в зале палаты, — продолжал епископ, — хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше.
— Да. Лорд Бошан при Ричарде Втором, лорд Ченей при Елизавете.
— И лорд Брогил при Кромвеле.
— Кромвель в счет не идет.
— Что вы думаете, обо всем этом?
— Как сказать…
— Милорд граф Чолмлей, какое же место будет занимать в палате молодой Фермен Кленчарли?
— Милорд епископ, так как республика нарушила исконный порядок старшинства, то пэрство Кленчарли занимает теперь среднее место между пэрством Барнард и пэрством Сомерс, следовательно, при подаче мнений лорд Фермен Кленчарли будет говорить восьмым.
— Подумать только! Ярмарочный фигляр!
— Происшествие само по себе не удивляет меня, милорд епископ. Такие вещи случаются. Бывают и еще более удивительные. Разве накануне войны Алой и Белой Розы первого января тысяча триста девяносто девятого года не высохла вдруг рева Уза в Бедфорде? Но если река может высохнуть, то и вельможа может впасть в унизительное состояние. Улиссу, царю Итаки, приходилось браться за всякую работу. Фермен Кленчарли оставался лордом под внешней оболочкой скомороха. Одежда простолюдина не умаляет того, в чьих жилах течет благородная кровь. Однако принесение присяги и принятие в члены палаты вне зала заседаний, хотя они и произведены вполне законно, могут все же вызвать возражения. Я полагаю, что нам необходимо сговориться, следует ли позднее сделать лорд-канцлеру запрос по этому поводу. Через несколько недель станет ясно, как нам поступить.
Епископ заметил:
— Все равно. Такого происшествия не было со времени графа Джесбодуса.
На всех скамьях только и было разговору, что о Гуинплене, о «Человеке, который смеется», о Тедкастерской гостинице, о «Зеленом ящике», о «Побежденном хаосе», о Швейцарии, о Шильоне, о компрачикосах, об изгнании, об изуродовании, о республике, о Джеффрисе, об Иакове II, о приказе короля, о бутылке, откупоренной в адмиралтействе, об отце, лорде Линнее, о законном сыне, лорде Фермене, о побочном сыне, лорде Дэвиде, о возможных столкновениях между ними, о герцогине Джозиане, о лорд-канцлере, о королеве. Громкий шепот пробегал по залу с быстротою огня по пороховой дорожке. Без конца смаковали подробности. От всех этих толков в зале стоял непрерывный гул. Гуинплен лишь смутно слышал это гуденье, не подозревая, что причиной этого является он сам. Однако он был по-своему внимателен ко всему окружавшему, но только внимание его было обращено куда-то вглубь, а не на внешнюю сторону происходившего в зале. Избыток внимания вызывает обособленность.
Шум в палате не мешает заседанию идти своим чередом, так же как дорожная пыль не препятствует продвижению войск. Судьи, присутствующие в палате лордов в качестве зрителей и имеющие право говорить не иначе, как отвечая на предлагаемые им вопросы, уселись на втором мешке с шерстью, а три государственных секретаря — на третьем. Наследники пэрских титулов собрались в отведенном им отделении позади трона, несовершеннолетние пэры заняли свою особую скамью. В 1705 году их было не меньше двенадцати: Хентингтон, Линкольн, Дорсет, Уорик, Бат, Берлингтон, Дервентуотер, которому впоследствии суждено было трагически погибнуть, Лонгвил, Лонсдейл, Дадлей, Уорд и Картрет; среди этих юнцов было восемь графов, два виконта и два барона.
Каждый лорд занял свое место на одной из скамей, тремя ярусами окружавших зал. Почти все епископы были налицо. Герцогов было много, начиная с Чарльза Сеймура, герцога Сомерсета, и кончая Георгом-Августом, курфюрстом Ганноверским, герцогом Кембриджским, младшим по времени пожалования, а потому и младшим по рангу. Все сидели в порядке старшинства. Кавендиш, герцог Девоншир, чей дед приютил у себя в Гартвике девяностодвухлетнего Гоббса; Ленокс, герцог Ричмонд; три Фиц-Роя: герцог Саутгемптон, герцог Грефтон и герцог Нортемберленд; Бетлер, герцог Ормонд; Сомерсет, герцог Бофорт; Боклерк, герцог Сент-Олбенс; Раулет, герцог Болтон; Осборн, герцог Лидс; Райотсли Рессел, герцог Бетфорд, чьим девизом и военным кличем было: «Che sara sara» («Будь что будет»), выражавшее полную покорность судьбе; Шеффилд, герцог Бекингем; Меннес, герцог Ретленд, и прочие. Ни Ховард, герцог Норфолк, ни Талбот, герцог Шрусбери, будучи католиками, не присутствовали на заседании, не было также Черчилля, герцога Мальборо — по-вашему Мальбрука, который к тому времени «в поход собрался» и воевал во Франции. Не было также шотландских герцогов Куинсбери, Монтроза и Роксберга, так как они были приняты в палату лордов только в 1707 году.
Глава 93
Верхняя и нижняя палаты
Вдруг зал ярко осветился. Четыре привратника принесли и поставили по обеим сторонам трона четыре высоких канделябра со множеством восковых свечей. Освещенный таким образом трон предстал в пурпурном сиянии. Пустой, но величественный. Сиди на нем сама королева, это вряд ли прибавило бы торжественности.
Вошел пристав черного жезла и, подняв кверху свой жезл, возгласил:
— Их милости комиссары ее величества.
Шум сразу прекратился.
На пороге большой двери появился клерк в парике и длиннополой мантии, держа в руках расшитую геральдическими лилиями подушку, на которой лежали свитки пергамента. Эти свитки были не что иное, как билли. От каждого из них свешивался шелковый плетеный шнурок с прикрепленным к концу шариком; некоторые из этих шариков были золотые. По этим шарикам — bills, или bulles, — законы зовутся в Англии биллями, а в Риме буллами.
За клерком выступали три человека в пэрских мантиях и шляпах с перьями.
Это были королевские комиссары. Первый из них был лорд-казначей Англии Годольфин, второй — лорд-председатель совета Пемброк, третий — лорд-хранитель собственной ее величества печати Ньюкасл.
Они шествовали один за другим не по старшинству титулов, а по старшинству должностей; Годольфин шел поэтому первым, а Ньюкасл последним, хотя и был герцогом.
Подойдя к скамье, стоявшей перед троном, они отвесили поклон «королевскому креслу», затем, снова надев шляпы, сели на скамью.
Лорд-канцлер, обратившись к приставу черного жезла, произнес:
— Позовите представителей палаты общин.
Пристав черного жезла вышел.
Парламентский клерк положил на стол, стоявший посредине помещения, подушку с биллями.
Наступил перерыв, продолжавшийся несколько минут. Два привратника поставили перед барьером трехступенчатый, обитый пунцовым бархатом помост, на котором золотые головки гвоздей были расположены узором геральдических лилий.
Двустворчатая дверь снова распахнулась, и чей-то голос возвестил:
— Верноподданные представители английской палаты общин!
Это пристав черного жезла объявил, о прибытии второй половины парламента.
Лорды надели шляпы.
Члены палаты общин, предшествуемые спикером, вошли с обнаженными головами.
Они остановились у барьера. На них были костюмы горожан, преимущественно черного цвета; каждый имел при себе шпагу.
Спикер, достопочтенный Джон Смит, эсквайр, депутат от Андовера, поднялся на помост перед барьером. На нем была длинная мантия черного атласа с широкими рукавами и разрезами спереди и сзади, обшитыми завитушками из золотых шпуров; парик у него был немного меньше, чем у лорд-канцлера. Несмотря на его величественный вид, чувствовалось, что здесь он исполняет второстепенную роль.
Все члены палаты общин почтительно стояли с обнаженными головами перед лордами, сидевшими в шляпах.
Среди представителей нижней палаты можно было увидеть Джозефа Джекиля, главного судью города Честера, трех присяжных законоведов ее величества — Хупера, Пауиса и Паркера, генерального прокурора и генерального стряпчего Саймона Харкорта. За исключением нескольких баронетов, дворян и девяти лордов — Харпингтона, Виндзора, Вудстона, Мордаунта, Гремби, Скьюдемора, Фиц-Хардинга, Хайда и Беркли — сыновей пэров и наследников пэрств, все остальные принадлежали к среднему сословию. Они стояли темной молчаливой толпой.
Когда стих шум их шагов, глашатай пристава черного жезла, стоявший у дверей, воскликнул:
— Слушайте!
Коронный клерк встал. Он взял с подушки пергамент и, развернув, прочел его. Это было послание королевы, в котором сообщалось, что своими представителями в парламенте с правом утверждать билли она назначает трех комиссаров, а именно…
Тут клерк повысил голос:
— Сиднея, графа Годольфина.
Клерк поклонился лорду Годольфину. Лорд Годольфин приподнял шляпу. Клерк продолжал:
— Томаса Герберта, графа Пемброка и Монтгомери.
Клерк поклонился лорду Пемброку. Лорд Пемброк прикоснулся к своей шляпе. Клерк продолжал:
— Джона Голлиса, герцога Ньюкасла.
Клерк поклонился лорду Ньюкаслу. Лорд Ньюкасл в ответ кивнул головой.
После этого коронный клерк снова сел. Поднялся парламентский клерк. Его помощник, стоявший на коленях позади него, последовал его примеру. Оба стали лицом к трону, а спиною к членам палаты общин.
На подушке лежало пять биллей. Эти пять биллей, принятые палатой общин и одобренные палатой лордов, ожидали королевской санкции.
Парламентский клерк прочел первый билль.
Этим актом нижней палаты издержки в сумме одного миллиона фунтов стерлингов, произведенные королевою на украшение ее резиденции в Гемптон-Корте, относились за счет государства.
Окончив чтение, клерк низко поклонился трону. Его помощник поклонился еще ниже, затем, став вполоборота к представителям палаты общин, произнес:
— Королева принимает ваше добровольное даяние и изъявляет на то свое согласие.
Затем клерк прочел второй билль.
Это был проект закона, присуждавшего к тюремному заключению и к штрафу всякого уклоняющегося от службы в войсках ополчения. Это ополчение, служившее в царствование Елизаветы без жалованья, в ту пору, когда ожидалось прибытие испанской Армады, выставило сто восемьдесят пять тысяч пехотинцев и сорок тысяч всадников.
Оба клерка снова поклонились «королевскому креслу», после чего помощник клерка, опять обернувшись через плечо в сторону палаты общин, произнес:
— Такова воля ее величества.
Третий билль увеличивал десятину и пребенду личфилдской и ковентрийской епархии, одной из самых богатых в Англии, устанавливал ежегодную ренту кафедральному собору этой епархии, умножал число ее каноников и повышал доходы духовенства, для того чтобы, как говорилось во вступительной части проекта, «удовлетворить нужды нашей святой церкви». Четвертый билль вводил в бюджет новые налоги: на мраморную бумагу, на наемные кареты, которых в Лондоне насчитывалось около восьмисот и которые облагались пятьюдесятью фунтами стерлингов ежегодно; на адвокатов, прокуроров и судебных стряпчих — ежегодно по сорок восемь фунтов стерлингов с каждого; на дубленые кожи, «невзирая, — как говорилось во вступительной части, — на жалобы кожевников»; на мыло, «несмотря на протест городов Эксетера и Девоншира, в которых вырабатывается много саржи и сукна, а потому употребляется на промывку тканей много мыла»; на вино по четыре шиллинга с бочонка, на муку, на ячмень и хмель, причем этот последний налог подлежал возобновлению каждые четыре года ввиду того, что «нужды государства, — как говорилось все в том же предисловии, — должны быть выше коммерческих соображений»; далее устанавливался налог на корабельные грузы в размере от шести турских фунтов с тонны товаров, привозимых с запада, и до тысячи восьмисот турских фунтов с тонны товаров, привозимых с востока; кроме того, билль, объявляя недостаточной обычную подушную подать, уже собранную в текущем году, вводил дополнительный сбор во всем государстве по четыре шиллинга, или сорок восемь турских су, с каждого подданного, причем указывалось, что уклонившиеся от уплаты этого сбора будут обложены вдвойне. Пятый билль гласил, что ни один больной не может быть принят в больницу, если он не внесет одного фунта стерлингов на оплату своих похорон в случае смерти. Три последние билля, как и первые два, были утверждены палатой путем изложенной выше процедуры: поклона, отвешиваемого трону, и традиционной формулы: «такова воля королевы», которую произносил помощник клерка, став вполоборота к членам палаты общин.
Затем помощник клерка опять опустился на колени около четвертого мешка с шерстью, и лорд-канцлер возгласил:
— Да будет все исполнено, как на том согласились.
Этим завершалось «королевское заседание».
Спикер низко склонился перед канцлером и, пятясь, спустился с помоста подбирая сзади волочившуюся по полу мантию; все члены палаты, общин поклонились до самой земли и удалились из зала, между тем как лорды, не обращая внимания на вое эти почести, занялись очередными делами.
Глава 94
Жизненные бури страшнее океанских
Двери снова затворились; пристав черного жезла возвратился в зал; лорды-комиссары покинули государственную скамью и заняли отведенные им по должности три первых места на скамье герцогов, после чего лорд-канцлер взял слово:
— Милорды! Прения по обсуждавшемуся уже несколько дней биллю об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания его королевскому высочеству, принцу супругу ее величества, ныне закончены, и нам надлежит приступить к голосованию. Согласно обычаю, подача голосов начнется с младшего на скамье баронов. При поименном опросе каждый лорд встанет и ответит «доволен» или «недоволен», причем ему предоставлено право, если он сочтет это уместным, изложить причины своего согласия или несогласия. Клерк, приступите к опросу.
Парламентский клерк встал и раскрыл большой фолиант, лежавший на позолоченном пюпитре, так называемую «книгу пэрства».
В ту пору младшим по титулу членом парламента был лорд Джон Гарвей, получивший баронское и пэрское звание в 1703 году, — тот самый Гарвей, от которого впоследствии произошли маркизы Бристол.
Клерк провозгласил:
— Милорд Джон, барон Гарвей.
Старик в белокуром парике поднялся и заявил:
— Доволен.
И снова сел.
Помощник клерка записал его ответ.
Клерк продолжал:
— Милорд Фрэнсис Сеймур, барон Конуэй Килтелтег.
— Доволен, — пробормотал, приподнявшись, изящный молодой человек с лицом пажа, не подозревавший в ту пору, что ему суждено стать дедом маркизов Гартфордов.
— Милорд Джон Ливсон, барон Гоуэр, — продолжал клерк.
Барон Гоуэр, будущий родоначальник герцогов Саутерлендов, встал и, опускаясь на место, произнес:
— Доволен.
Клерк продолжал:
— Милорд Хинедж Финч, барон Гернсей.
Предок графов Эйлсфордов, столь же молодой и изящный, как прародитель маркизов Гертфордов, оправдал свой девиз «Aperto vivere vote»[470], громко объявив:
— Доволен.
Не успел он опуститься на место, как клерк вызвал пятого барона:
— Милорд Джон, барон Гренвилл.
— Доволен, — ответил, быстро поднявшись и снова сев на скамью, лорд Гренвилл Потридж, роду которого, за неимением наследников, предстояло угаснуть в 1709 году.
Клерк перешел к шестому лорду:
— Милорд Чарльз Монтег, барон Галифакс.
— Доволен, — ответил лорд Галифакс, носитель титула, под которым угасло имя Севилей и предстояло угаснуть роду Монтегов. Эту фамилию не следует смешивать с фамилиями Монтегю и Монтекьют.
И лорд Галифакс прибавил:
— Принц Георг получает известную сумму в качестве супруга ее величества, другую — как принц Датский, третью — как герцог Кемберлендский, четвертую — как главный адмирал Англии и Ирландии, но не получает ничего по должности главнокомандующего. Это несправедливо. В интересах английского народа необходимо положить конец такому беспорядку.
Затем лорд Галифакс произнес похвалу христианской религии, выразил осуждение папизму и подал свой голос за увеличение сумм на содержание принца.
Когда он уселся, клерк продолжал:
— Милорд Кристоф, барон Барнард.
Лорд Барнард, от которого впоследствии произошли герцоги Кливленды, услыхав свое имя, встал и объявил:
— Доволен.
Он не торопился садиться, так как на нем были прекрасные кружевные брыжи и ими стоило щегольнуть. Впрочем, это был вполне достойный джентльмен и храбрый воин.
Пока лорд Барнард опускался на скамью, клерк, до сих пор бегло читавший все знакомые имена, на мгновение запнулся. Он поправил очки и с удвоенным вниманием наклонился над книгой, потом, снова подняв голову, провозгласил:
— Милорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл.
Гуинплен поднялся.
— Недоволен, — сказал он.
Все головы повернулись к нему. Гуинплен стоял во весь рост. Свечи канделябров, горевшие по обеим сторонам трона, ярко освещали его лицо, отчетливо выступившее из мглы полутемного зала, словно маска среди клубов дыма.
Гуинплен сделал над собой то особое усилие, которое, как помнит читатель, было иногда в его власти. Огромным напряжением воли, не меньшим, чем то, которое потребовалось бы для укрощения тигра, ему удалось согнать со своего лица роковой смех. Он не смеялся. Это не могло продлиться долго. Лишь короткое время способны мы противиться тому, что является законом природы или нашей судьбой. Бывает, что море, не желая повиноваться закону тяготения, взвивается смерчем, вздымается кверху горой, но оно вскоре возвращается в прежнее состояние. Так было и с Гуинпленом. Сознавая торжественность минуты, он невероятным усилием воли на один лишь миг отразил на своем челе мрачные думы, отогнал свой безмолвный смех, удалил со своего изуродованного лица маску веселости; теперь он был ужасен.
— Что это за человек? — раздался всеобщий крик.
Всех охватило неописуемое волнение.
Густая грива волос, два черных провала под бровями, пристальный взор глубоко запавших глаз, чудовищно уродливые черты, искаженные жуткой игрою светотени, — все это произвело ошеломляющее впечатление. Это превосходило всякие пределы. Сколько бы ни толковали о Гуинплене, лицо его всегда вызывало невольный ужас. Даже те, кто был в какой-то мере подготовлен к его виду, не ожидали такого потрясения. Вообразите себе вершину горы, где обитают боги, ясный вечер, веселое пиршество, собравшее всех небожителей, и вдруг, словно кровавая луна на горизонте, возникает перед ними исклеванное коршуном лицо Прометея. Олимп, взирающий на грозный Кавказ, — какое зрелище! Старые и молодые лорды, онемев от изумления, смотрели на Гуинплена.
Уважаемый всей палатой старик, перевидавший на своем веку много людей и событий, Томас, граф Уортон, представленный к герцогскому титулу, в ужасе вскочил со своего места.
— Что это значит? — закричал он. — Кто впустил этого человека в палату? Выведите его!
И высокомерно обратился к Гуинплену:
— Кто вы? Откуда вы явились?
Гуинплен ответил:
— Из бездны.
И, скрестив руки на груди, окинул взглядом палату.
— Кто я? Я — нищета. Милорды, вы должны меня выслушать.
Дрожь охватила присутствующих. Воцарилась тишина.
Гуинплен продолжал.
— Милорды, вы — на вершине. Отлично. Нужно предположить, что у бога есть на то свои причины. В ваших руках власть и богатство, все радости жизни, для вас всегда сияет солнце, вы пользуетесь неограниченным авторитетом, безраздельным счастьем, и вы забыли обо всем прочих людях. Пусть так. Но под вами, а может быть и над вами есть еще кое-кто. Милорды, я пришел, чтобы сообщить вам новость: на свете существует род человеческий.
Люди в собраниях похожи на детей; неожиданное происшествие для них — то же, что для ребенка коробка с сюрпризом: немного страшно и любопытно. Порой кажется, что стоит лишь нажать пружинку — и выскочит чертик. Во Франции эта роль выпала на долю Мирабо, который тоже был безобразен.
Гуинплен чувствовал в эту минуту, что он внутренне будто вырастает. Те, к кому обращается оратор, служат для него как бы пьедесталом. Он стоит, так сказать, на возвышении, образованном людскими душами. Он чувствует у себя под ногами трепещущие человеческие сердца. Теперь Гуинплен был уже не тем человеком, который прошлой ночью был почти ничтожен. Дурман, вскруживший ему голову при внезапном подъеме, уже рассеялся, уже не застилал ему взора, и в том, что раньше соблазняло его тщеславие, Гуинплен видел теперь свое назначение. То, что сперва унизило его, теперь вознесло его на высоту. В душе его вспыхнул вдруг тот ослепительный свет, который рождается чувством долга.
Вокруг Гуинплена со всех сторон неслись крики:
— Слушайте! Слушайте!
Судорожным, сверхчеловеческим усилием воли ему асе еще удавалось удержать на своем лице зловеще-суровое выражение, сквозь которое готов был прорваться смех, точно дикий конь, стремящийся вырваться на свободу. Гуинплен продолжал:
— Я поднялся сюда из низов. Милорды, вы знатны и богаты. Это таит опасность. Вы пользуетесь прикрывающим вас мраком. Но берегитесь, существует великая сила — заря. Заря непобедима. Она наступит. Она уже занимается. Она несет с собой потоки неодолимого света. И кто же помешает этой праще взметнуть солнце на небо? Солнце — это справедливость. Вы захватили в свои руки все преимущества. Страшитесь! Подлинный хозяин скоро постучится в дверь. Кто порождает привилегии? Случай. А что порождают привилегии? Злоупотребления. Однако ни то, ни другое не прочно. Будущее сулит вам беду. Я пришел предупредить вас. Я пришел изобличить ваше счастье. Оно построено на несчастье людей. Вы обладаете всем, но только потому, что обездолены другие. Милорды, я — адвокат, защищающий безнадежное дело. Однако бог восстановит нарушенную справедливость. Сам я ничто, я только голос. Род человеческий — уста, и я их вопль. Вы услышите меня. Перед вами, пэры Англии, я открываю великий суд народа — этого властелина, подвергаемого пыткам, этого верховного судьи, которого ввергли в положение осужденного. Я изнемогаю под бременем того, что хочу сказать. С чего начать? Не знаю. В безмерном море человеческих страданий я собрал по частям основные доводы моей обличительной речи. Что делать мне с ними теперь? Меня гнетет этот груз, и я сбрасываю его с себя наугад, в беспорядке. Предвидел ли я это? Нет. Вы удивлены? Я тоже. Еще вчера я был фигляром, сегодня я лорд. Непостижимая прихоть. Чья? Неведомого рока. Страшитесь! Милорды, вся лазурь неба принадлежит вам. В беспредельной вселенной вы видите только ее праздничную сторону; знайте же, что в ней существует и тьма. Среди вас я — лорд Фермен Кленчарли, но настоящее мое имя — имя бедняка: меня зовут Гуинплен. Я — отверженный; меня выкроили из благородной ткани по капризу короля. Вот моя история. Некоторые из вас знали моего отца, я не знал его. Вас связывает с ним то, что он феодал, меня — то, что он изгнанник. Все, что сотворил господь — благо. Я был брошен в бездну. Для чего? Чтобы измерить всю глубину ее. Я водолаз, принесший со дна ее жемчужину — истину. Я говорю потому, что знаю. Вы должны выслушать меня, милорды. Я все видел, я все испытал. Страдание — это не просто слово, господа счастливцы. Страдание — это нищета, я знаю ее с детских лет; это холод, я дрожал от него; это голод, я вкусил его; это унижения, я изведал их; это болезни, я перенес их; это позор, я испил чашу его до дна. И я изрыгну ее перед вами, и блевотина всех человеческих бедствий, забрызгав вам ноги, вспыхнет огнем. Я колебался, прежде чем согласился прийти сюда, ибо у меня есть другие обязанности. Сердце мое не с вами. Что произошло во мне — вас не касается; когда человек, которого вы называете приставом черного жезла, явился за мной от имени женщины, которую вы называете королевой, мне на одну минуту пришла мысль отказаться. Но мне показалось, будто незримая рука толкает меня сюда, и я повиновался. Я почувствовал, что мне необходимо появиться среди вас. Почему? Потому, что вчера еще на мне были лохмотья. Бог бросил меня в толпу голодных для того, чтобы я говорил о них сытым. О, сжальтесь! О, поверьте, вы не знаете того гибельного мира, к которому будто бы принадлежите. Вы стоите так высоко, что находитесь вне его пределов. О нем расскажу вам я. У меня достаточный опыт. Я пришел от тех, кого угнетают. Я могу сказать вам, как тяжел этот гнет. О вы, хозяева жизни, знаете ли вы — кто вы такие? Ведаете ли вы, что творите? Нет, не ведаете. Ах, все это страшно… Однажды ночью, бурной ночью, еще совсем ребенком, вступил я в эту глухую тьму, которую вы называете обществом. Я был сиротой, брошенным на произвол судьбы, я был совсем один в этом беспредельном мире. И первое, что я увидел, был закон, в образе виселицы; второе — богатство, в образе женщины, умершей от голода и холода; третье — будущее, в «образе умирающего ребенка; четвертое — добро, истина и справедливость, в лице бродяги, у которого был только один спутник и товарищ — волк.
В эту минуту Гуинплен, охваченный душераздирающим волнением, почувствовал, что к горлу у него подступают рыдания.
И одновременно с этим — о ужас! — его лицо перекосилось чудовищной гримасой смеха.
Этот смех был до того заразителен, что все присутствующие захохотали. Над собранием только что нависала мрачная туча; она могла разразиться чем-то страшным, — она разразилась весельем. Смех, словно припадок радостного безумия, охватил всю палату. Вершители народных судеб всегда рады позабавиться. Насмехаясь, они мстят за свою вынужденную чопорность.
Смех королей похож на смех богов, в нем всегда есть нечто жестокое. Лорды стали потешаться. К смеху присоединились издевательства. Вокруг говорившего раздались рукоплескания, послышались оскорбления. Его осыпали градом убийственно ядовитых насмешек.
— Браво, Гуинплен! — Браво, «Человек, который смеется»! — Браво, харя из «Зеленого ящика»! — Браво, кабанье рыло с Таринзофилда! — Ты пришел дать нам представление! Прекрасно! Болтай сколько влезет! — Вот кто умеет потешить! — Здорово смеется эта скотина! — Здравствуй, паяц! — Привет лорду-клоуну! Продолжай свою проповедь! — И это пэр Англии?! — А ну-ка еще! — Нет! Нет! — Да! Да!
Лорд-канцлер чувствовал себя довольно неловко.
Глухой лорд Джеме Бутлер, герцог Ормонд, приставил в виде рупора руку к уху и спросил у Чарльза Боклерка, герцога Сент-Олбенс:
— Как он голосовал?
Сент-Олбенс ответил:
— Он недоволен.
— Еще бы, — заметил герцог Ормонд, — можно ли быть довольным с эдаким лицом!
Попробуйте вновь подчинить себе толпу, когда она вырвется из-под вашей власти; а ведь любое собрание — та же толпа. Красноречие — удила; когда удила лопнули, собрание встает на дыбы, как необузданный конь, и будет брыкаться до тех пор, пока не выбьет оратора из седла. Аудитория всегда ненавидит оратора. Это — истина, недостаточно известная. Некоторым кажется, что стоит лишь натянуть поводья, и порядок восстановится. Однако это не так. Но всякий оратор бессознательно прибегает к этому средству. Гуинплен тоже прибегнул к нему.
Некоторое время он молча смотрел на хохотавших вокруг него людей.
— Значит, вы издеваетесь над несчастьем! — крикнул он. — Тише, пэры Англии! Судьи, слушайте же защитительную речь. О, заклинаю вас, сжальтесь! Над кем? Над собой. Кому угрожает опасность? Вам. Разве вы не видите, что перед вами весы, на одной чаше которых ваше могущество, на другой — ваша ответственность? Эти весы держит в руках сам господь. О, не смейтесь! Подумайте. Колебание этих весов не что иное, как трепет вашей совести. Вы ведь не злодеи. Вы такие же люди, как и все, не хуже и не лучше других. Вы мните себя богами, но стоит вам завтра заболеть, и вы увидите, как ваше божественное естество будет дрожать от лихорадки. Все мы стоим един другого. Я обращаюсь к людям честным — надеюсь, что такие здесь есть; я обращаюсь к людям с возвышенным умом — надеюсь, такие здесь найдутся; я обращаюсь к благородным душам — надеюсь, что их здесь немало, Вы — отцы, сыновья и братья, значит вам должны быть знакомы добрые чувства. Тот из вас, кто видел сегодня утром пробуждение своего ребенка, не может не быть добрым. Сердца у всех одинаковы. Человечество не что иное, как сердце. Угнетатели и угнетаемые отличаются друг от друга только тем, что одни находятся выше, а другие ниже. Вы попираете ногами головы людей, но это не ваша вина. Это вина той Вавилонской башни, какою является наш общественный строй. Башня сооружена неудачно, она кренится набок. Один этаж давит на другой. Выслушайте меня, я сейчас объясню вам все. О, ведь вы так могущественны, будьте же сострадательными; вы так сильны — будьте же добрыми. Если бы вы только знали, что мне пришлось видеть! Какие страдания — там, внизу! Род человеческий заключен в темницу. Сколько в нем осужденных, ни в чем не повинных! Они лишены света, лишены воздуха, они лишены мужества; у них нет даже надежды; но ужаснее всего то, что они все-таки ждут чего-то. Отдайте себе отчет во всех этих бедствиях. Есть существа, чья жизнь — та же смерть. Есть девочки, которые в восемь лет уже занимаются проституцией, а в двадцать обращаются в старух. Жестокие кары ваших законов — они поистине ужасны. Я говорю бессвязно, я не выбираю слов; я высказываю то, что приходит мне на ум. Не далее, как вчера, я видел закованного в цепи обнаженного человека, на грудь ему навалили целую гору камней, и он умер во время пытки. Знаете ли вы об этом? Нет. Если бы вы знали, что творится рядом с вами, никто из вас не осмелился бы веселиться. А бывал ли кто-нибудь в Ньюкасле-на-Тайяе? Там, в копях, люди зачастую жуют угольную пыль, чтобы хоть чем-нибудь наполнить желудок и обмануть голод, Или взять, например, Риблчестер в Ланкастерском графстве: он так обнищал, что превратился из города в деревню. Я не верю, чтобы принц Георг Датский нуждался в этих ста тысячах гиней. Пусть лучше в больницу принимают больного бедняка, не требуя с него заранее платы за погребение. В Карнарвоне, в Трейт-Море, так же как в Трейт-Бичене, народная нищета ужасна. В Стаффорде нельзя осушить болото потому, что нет денег. В Ланкашире закрыты все суконные фабрики. Всюду безработица. Известно ли вам, что рыбаки в Гарлехе питаются травой, когда улов рыбы слишком мал? Известно ли вам, что в Бертон-Лезерсе еще есть прокаженные; их травят, как диких зверей, стреляя в них из ружей, когда они выходят из своих берлог? В Элсбери, принадлежащем одному из вас, никогда не прекращается голод. В Пенкридже, в Ковентри, где вы только что отпустили ассигнования на собор и где вы увеличили оклад епископу, в хижинах нет кроватей, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них своих малюток, — дети, вместо колыбели, начинают жизнь в могиле. Я видел это собственными глазами. Милорды, знаете ли вы, кто платит налоги, которые вы устанавливаете? Те, кто умирает с голоду. Увы, вы заблуждаетесь. Вы идете по ложному пути. Вы увеличиваете нищету бедняка, чтобы возросло богатство богача. А между тем следовало бы поступать наоборот. Как! Отбирать у труженика, чтобы давать праздному, отнимать у нищего, чтобы дарить пресыщенному, отбирать у неимущего, чтобы давать государю! О да, в моих жилах течет старая республиканская кровь! По-моему, все это отвратительно. Я ненавижу королей. А как бесстыдны ваши женщины! Недавно мне рассказали печальную историю. О, я ненавижу Карла Второго! Этому королю отдалась женщина, которую любил мой отец; распутница! она была его любовницей в то время, как мой отец умирал в изгнании. Карл Второй, Иаков Второй; после негодяя — злодей. Что такое в сущности король? Безвольный, жалкий человек, раб своих страстей и слабостей. На что нам нужен король? А вы кормите этого паразита. Из дождевого червя вы выращиваете удава. Солитера превращаете в дракона. Сжальтесь над бедняками! Вы увеличиваете налог в пользу трона. Будьте осторожны, издавая законы! Берегитесь тех несчастных, которых вы попираете пятой. Опустите глаза. Взгляните себе под ноги! О великие мира сего, на свете есть и обездоленные! Пожалейте их! Пожалейте самих себя! Ибо народ — в агонии, а те, кто умирает внизу, увлекают к гибели и тех, кто стоит наверху. Смерть уничтожает всех, никого не щадя. Когда наступает ночь, никто не в силах сохранить даже частицу дневного света. Если вы любите самих себя, спасайте других. Если корабль гибнет, никто из пассажиров не может относиться к этому равнодушно. Если потонут одни, то и других поглотит пучина. Знайте, бездна равно подстерегает всех.
Неудержимый смех усилился, хохотала вся палата. Впрочем, одной уже необычности этой речи было достаточно, чтобы развеселить высокое собрание.
Быть внешне смешным, когда душа переживает трагедию, — что может быть унизительнее таких мучений, что может вызвать в человеке большую ярость? Именно это испытывал Гуинплен. Слова его бичевали, лицо вызывало хохот. Это было ужасно. В голосе его зазвучали вдруг пронзительные ноты:
— Им весело, этим людям! Что ж, прекрасно. Они смеются над агонией, они издеваются над предсмертным хрипом. Ах да, ведь они всемогущи. Возможно. Ну, хорошо, будущее покажет. Ах, да ведь я тоже один из них. Но я и ваш, о бедняки! Король продал меня, бедняк приютил меня. Кто изувечил меня? Монарх. Кто исцелил и вскормил? Нищий, сам умиравший с голоду. Я — лорд Кленчарли, но я останусь Гуинпленом. Я из стана знатных, но принадлежу к стану обездоленных. Я среди тех, кто наслаждается, но душой я с теми, кто страждет. Ах, как неправильно устроено наше общество! Но настанет день, когда оно сделается настоящим человеческим обществом. Не будет больше вельмож, будут только свободные люди. Не будет больше господ, будут только отцы. Вот каково будущее. И тогда исчезнут и низкопоклонство, и унижение, и невежество, не будет ни людей, превращенных в вьючных животных, ни придворных, ни лакеев, ни королей. Тогда засияет свет! А пока — я здесь. Это право дано мне, и я пользуюсь им. Есть ли у меня это право? Нет — если я пользуюсь им для себя. Да — если я пользуюсь им для других. Я буду говорить с лордами, ибо я сам — лорд. О братья мои, томящиеся там, внизу, я поведаю этим людям о вашей нужде. Я предстану перед ними, потрясая вашими жалкими отрепьями, я брошу эти лохмотья рабов в лицо господам; и им, высокомерным баловням судьбы, уж не избавиться от воспоминания о страждущих; им, владыкам земли, не освободиться от жгучей язвы нищеты, и тем хуже для них, если в этих лохмотьях кишит всякая нечисть, тем лучше, если она обрушится на львов.
Тут Гуинплен обернулся к писцам, стоявшим на коленях и писавшим на четвертом мешке с шерстью.
— Кто это там, на коленях? Что вы делаете? Встаньте! Ведь вы же люди.
Это внезапное обращение к подчиненным, которых лорду не подобает даже замечать, придало веселью палаты еще более бурный характер. Раньше кричали «браво», теперь стали кричать «ура». От рукоплесканий перешли к стуку ногами. Можно было подумать, что находишься в «Зеленом ящике». Но в «Зеленом ящике» хохот толпы был торжеством Гуинплена, здесь же этот хохот уничтожал его. Смех стремится стать смертоносным оружием. Иногда хохотом пытаются убить человека.
Хохот превратился в пытку. Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело. Всякое происшествие — это вопросительный знак. Смеяться над ним — значит смеяться над загадкой. Но позади загадки — сфинкс, и он отнюдь не смеется.
Слышались противоречивые восклицания:
— Довольно! Долой! — Продолжай! Дальше!
Вильям Фармер, барон Лестер, кричал Гуинплену, как некогда Рик-Квайни Шекспиру:
— Histrio! Mima![471]
Лорд Воган, занимавший двадцать девятое место на баронской скамье и любивший изрекать сентенции, восклицал:
— Вот мы опять вернулись к временам, когда пророчили животные. Среди человеческих уст заговорила и звериная пасть.
— Послушаем валаамову ослицу, — подхватил лорд Ярмут. Мясистый нос и перекошенный рот придавали лорду Ярмуту глубокомысленный вид.
— Мятежник Линней наказан в могиле, такой сын — кара отцу, — изрек Джон Гауф, епископ Личфилдский и Ковентрийский, на доходы которого посягнул в своей речи Гуинплен.
— Он лжет, — сказал лорд Чолмлей, законодатель и законовед. — То, что он называет пыткой, не что иное, как разумная мера, именуемая «длительный допрос с пристрастием». Пыток в Англии не существует.
Томас Уэнтворт, барон Реби, обратился к канцлеру:
— Милорд канцлер, закройте заседание!
— Нет! Нет! Нет! Пусть продолжает. Он забавляет нас. Гип! Гип! Гип! Ура!
Это кричали молодые лорды; их веселость граничила с неистовством. Особенно бесновались, захлебываясь от хохота и от ненависти, четверо из них: Лоуренс Хайд, граф Рочестер, Томас Тефтон, граф Тенет, виконт Хеттон и герцог Монтегю.
— В конуру, Гуинплен! — кричал Рочестер.
— Долой его! Долой! Долой! — орал Тенет.
Виконт Хеттон вынул из кармана пенни и бросил его Гуинплену.
Джон Кемпбел, граф Гринич, Севедж, граф Риверс, Томсон, барон Гевершем, Уорингтон, Эскрик, Ролстон, Рокингем, Картрет, Ленгдейл, Банистер Мейнард, Гудсон, Карнарвон, Кавендиш, Берлингтон, Роберт Дарси, граф Холдернес, Отер Виндзор, граф Плимут, — рукоплескали.
В этом адском шуме и грохоте терялись слова Гуинплена. Можно было расслышать только одно слово: «Берегитесь!»
Ральф, герцог Монтегю, юноша с едва пробивавшимися усиками, только что кончивший курс в Оксфордском университете, сошел с герцогской скамьи, на которой он занимал девятнадцатое место, и, подойдя к Гуинплену, стал против него, скрестив руки на груди. На каждом лезвии есть наиболее острое место, и в каждом голосе есть наиболее оскорбительные интонации. Герцог Монтегю придал своему голосу именно такое выражение и, смеясь прямо в лицо Гуинплену, крикнул:
— Что ты тут рассказываешь?
— Я предсказываю, — ответил Гуинплен.
Снова раздался взрыв хохота, сквозь который немолчным рокотом прорывался глухой гнев. Один из несовершеннолетних пэров, Лайонел Кренсилд-Секвилл, граф Дорсет и Миддлсекс, стал ногами на скамью, со степенным видом, как подобает будущему законодателю, и, не смеясь, не говоря ни слова, обратил к Гуинплену свое свежее мальчишеское лицо и пожал плечами. Заметив это, епископ Сент-Асафский наклонился к уху своего соседа епископа Сент-Дэвидского, шепнул, указывая на Гуинплена: «Вот безумец!» и, указав на подростка, прибавил: «А вот мудрец».
В хаосе насмешек выделялись громкие выкрики:
— Страшилище!
— Что означает все это?
— Оскорбление палаты!
— Это выродок, а не человек!
— Позор! Позор!
— Прекратить заседание!
— Нет, дайте ему кончить!
— Говори, шут!
Лорд Льюис Дюрас крикнул, подбоченясь:
— Ах, до чего же хорошо посмеяться! Как это полезно для моей печени! Предлагаю вынести постановление в нижеследующей редакции: «Палата лордов изъявляет свою признательность забавнику из «Зеленого ящика».
Как помнит читатель, Гуинплен мечтал совсем о другом приеме.
Тот, кто подымался по крутому песчаному, осыпающемуся скату над глубокой пропастью, кто чувствовал, как из-под его рук, из-под его пальцев, колен и ног ускользает точка опоры, кто тщетно пытался двигаться вверх по непокорному обрыву, опасаясь каждую минуту поскользнуться, скатываясь вниз вместо того, чтобы подыматься, спускаясь вместо того, чтобы восходить, увеличивая опасность при каждой попытке добраться до вершины, сползая все больше и больше при каждом движении, вызванном желанием спастись, кто чувствовал, что страшная бездна все ближе, кто ощущал мрачный холод и зияние разверзающейся перед ним пропасти, — тот испытал то, что испытывал в эти минуты Гуинплен.
Он чувствовал, как рушатся его гордые мечты, как мрачной пропастью разверзается перед ним вражда этих людей.
Всегда находится человек, способный в немногих словах выразить общее мнение.
Лорд Скерсдейл выразил единодушное чувство собрания, воскликнув:
— Зачем явилось сюда это чудовище?
Гуинплен вздрогнул, словно от нестерпимой боли; он резко выпрямился и пылающим взором окинул все скамьи.
— Зачем я явился сюда? Затем, чтобы повергнуть вас в ужас. Я чудовище, говорите вы? Нет, я — народ. Я выродок, по-вашему? Нет, я — все человечество. Выродки — это вы. Вы — химера, я — действительность. Я — Человек. Страшный «Человек, который смеется». Смеется над кем? Над вами. Над собой. Надо всем. О чем говорит этот смех? О вашем преступлении и о моей муке. И это преступление, эту муку он швыряет вам в лицо. Я смеюсь — и это значит: я плачу.
Он остановился. Шум утих. Кое-где еще смеялись, но уже не так громко. Он подумал было, что снова овладел вниманием слушателей. Передохнув, он продолжал:
— Маска вечного смеха на моем лице — дело рук короля. Этот смех выражает отчаяние. В этом смехе — ненависть и вынужденное безмолвие, ярость и безнадежность. Этот смех создан пыткой. Этот смех — итог насилия. Если бы так смеялся сатана, этот смех был бы осуждением бога. Но предвечный не похож на бренных людей. Он совершенен, он справедлив, и деяния королей ненавистны ему. А! Вы считаете меня выродком! Нет. Я — символ. О всемогущие глупцы, откройте же глаза! Я воплощаю в себе все. Я представляю собой человечество, изуродованное властителями. Человек искалечен. То, что сделано со мной, сделано со всем человеческим родам: изуродовали его право, справедливость, истину, разум, мышление, так же как мне изуродовали глаза, ноздри и уши; в сердце ему, так же как и мне, влили отраву горечи и гнева, а на лицо надели маску веселости. На то, к чему прикоснулся перст божий, легла хищная лапа короля. Чудовищная подмена! Епископы, пэры и принцы, знайте же, народ — это великий страдалец, который смеется сквозь слезы. Милорды, народ — это я. Сегодня вы угнетаете его, сегодня вы глумитесь надо мной. Но впереди — весна. Солнце весны растопит лед. То, что казалось камнем, станет потоком. Твердая по видимости почва провалится в воду. Одна трещина — и все рухнет. Наступит час, когда страшная судорога разобьет ваше иго, когда в ответ на ваше гиканье раздастся грозный рев. Этот час уже наступил однажды — ты пережил его, отец мой! — этот час господень назывался республикой: ее уничтожили, но она еще возродится. А пока помните, что длинную череду вооруженных мечами королей пресек Кромвель, вооруженный топором. Трепещите! Близится неумолимый час расплаты, отрезанные когти вновь отрастают, вырванные языки превращаются в языки пламени, они взвиваются ввысь, подхваченные буйным ветром, и вопиют в бесконечности; голодные скрежещут зубами; рай, воздвигнутый над адом, колеблется; всюду страдания, горе, муки; то, что находится наверху, клонится вниз, а то, что лежит внизу, раскрывает зияющую пасть; тьма стремится стать светом; отверженные вступают в спор с блаженствующими. Это идет народ, говорю я вам, это поднимается человек; это наступает конец; это багряная заря катастрофы. Вот что кроется в смехе, над которым вы издеваетесь! В Лондоне — непрерывные празднества. Пусть так. По всей Англии — пиры и ликованье. Хорошо. Но послушайте! Все, что вы видите, — это я. Ваши празднества — это мой смех. Ваши пышные увеселения — это мой смех. Ваши бракосочетания, миропомазания, коронации — это мой смех. Празднества в честь рождения принцев — это мой смех. Гром над вашими головами — это мой смех!
Как можно было сдержаться, слыша такие слова? Смех возобновился, на этот раз с удручающей силой. Из всех видов лавы, которые извергает, словно кратер вулкана, человеческий рот, самый едкий — это насмешка. Никакая толпа не в состоянии противиться соблазну жестокой потехи. Не все казни совершаются на эшафотах, и любое сборище людей, будь то уличная толпа или законодательная палата, всегда имеет наготове палача: палач этот — сарказм. Нет пытки, которая сравнялась бы с пыткой глумления. Этой пытке подвергся Гуинплен. Насмешки сыпались на него градом камней и градом картечи. Он оказался в роли детской игрушки, манекена, истукана, ярмарочного силомера, который бьют по голове, пробуя крепость кулака. Присутствующие подпрыгивали на своих местах, кричали «Еще!», покатывались от хохота, топали ногами, хватались за брыжи. Ни торжественность места, ни пурпур мантий, ни белизна горностая, ни внушительные размеры париков — ничто не могло остановить их. Хохотали лорды, хохотали епископы, хохотали судьи. Старики смеялись до слез, несовершеннолетние надрывались от смеха. Архиепископ Кентерберийский толкал локтем архиепископа Йоркского. Генри Комптон, епископ Лондонский, брат графа Нортгемптона, хватался за бока. Лорд-канцлер опускал глаза, чтобы скрыть невольную улыбку. Смеялся даже пристав черного жезла, стоявший у перил, как живое олицетворение почтительности.
Гуинплен скрестил руки на груди: он был бледен. Окруженный всеми этими лоснящимися от удовольствия лицами, старыми и молодыми, среди взрывов гомерического хохота, в этом вихре рукоплесканий, топота, криков «ура», среди этого безудержного ликования, этого необузданного веселья, он чувствовал в душе могильный холод. Все было кончено. Отныне он не мог уже совладать ни с выражением смеха на своем лице, ни с теми, кто осыпал его оскорблениями.
Никогда еще не проявлялся с такой очевидностью извечный, роковой закон близости великого и смешного: хохот оказывается отзвуком мучительного вопля, пародия движется следом за отчаянием; никогда еще противоречие между кажущимся и действительным не вскрывалось столь, ужасно. Никогда еще более зловещий свет не озарял непроглядной тьмы человеческой души.
Гуинплен присутствовал при полном крушении своих чаяний: они были уничтожены смехом. Произошло нечто непоправимое. Упавший может встать, но человек раздавленный уже не подымется. Нелепая, всепобеждающая насмешка обратила его в прах. Отныне у него не было никакой надежды. Все зависит от среды. То, что в «Зеленом ящике» было торжеством, в палате лордов оказалось падением и катастрофой. Рукоплескания, служившие там наградою, были здесь оскорблением. Он почувствовал теперь как бы изнанку своей личины. По одну сторону была симпатия простого люда, принимающего Гуинплена, по другую — ненависть знати, отвергающей лорда Фермена Кленчарли. Притягательная сила одних и отталкивающая сила других — обе одинаково влекли его во мрак. Ему казалось, будто кто-то напал на него сзади. Рок нередко наносит такие предательские удары. Потом все разъяснится, но пока судьба оказывается западней, и человек попадает в волчью яму. Гуинплену казалось, что он возносится вверх, а его осмеяли. Порой апофеозы завершаются мрачно. Существует зловещее слово: отрезвление. Это — трагическая мудрость, которую рождает опьянение. Застигнутый этой беспощадной бурей веселья, Гуинплен задумался.
Отдаться сумасшедшему смеху — то же, что плыть по воле волн. Сборище людей, охваченное неудержимым хохотом, — то же, что судно, потерявшее компас. Никто уже не знал, ни чего он хочет, ни что он делает. Пришлось закрыть заседание.
«Ввиду происшедшего» лорд-канцлер отложил голосование на следующий день. Члены палаты стали расходиться. Поклонившись королевскому креслу, лорды покидали зал. Их смех еще звучал в коридорах, теряясь где-то в отдалении. Кроме официальных выходов, во всех залах заседаний есть еще много дверей, скрытых коврами, лепными украшениями стен и нишами; просачиваясь в эти выходы, как просачивается влага в трещины сосуда, публика быстро освобождает помещение. В несколько минут зал пустеет. Такие перемены наступают быстро, почти без переходов. В местах шумных сборищ сразу же воцаряется безмолвие.
Углубившись в раздумье, можно забыть обо всем и в конце концов оказаться как бы на другой планете. Гуинплен вдруг словно очнулся. Он был один в пустом зале; он и не заметил, как закрыли заседание. Все пэры куда-то исчезли, даже оба его восприемника. Осталось лишь несколько служителей палаты, ожидавших ухода «его милости», чтобы покрыть чехлами мебель и погасить свет. Он машинально надел шляпу, сошел со своей скамьи и направился к большим дверям, распахнутым в галерею. Когда он проходил мимо перил, привратник снял с него пэрскую мантию. Он едва обратил на это внимание. Мгновение спустя он был уже в галерее.
Слуги, находившиеся в зале, с удивлением заметили, что новый лорд вышел, не поклонившись трону,
Глава 95
Был бы хорошим братом, если бы не был примерным сыном
В галерее уже никого не было. Гуинплен прошел через стеклянную ротонду, откуда успели убрать кресло и столы и где не оставалось больше никаких следов церемонии его посвящения в пэры. Горевшие на равном расстоянии друг от друга люстры и канделябры указывали ему путь к выходу. Благодаря этой веренице огней Гуинплену удалось легко отыскать в путанице залов и коридоров дорогу, по которой он шел в палату вслед за герольдмейстером и приставом черного жезла. Он не встретил ни души, если не считать нескольких замешкавшихся старых лордов, тяжелыми шагании бредущих к выходу.
Вдруг среди безмолвия этих огромных пустынных залов до него долетел неясный гул человеческих голосов, необычный для такого места и в столь поздний час. Он направился в ту сторону, откуда доносился шум, и очутился в широком, слабо освещенном вестибюле, служившем выходом из платы. Сквозь распахнутую стеклянную дверь виден был подъезд, лакей с факелами, площадь и ряд карет, ожидавших у подъезда.
Отсюда и исходил шум, услышанный Гуинпленом.
Около двери, под фонтаном, в вестибюле стояла кучка людей, которые бурно жестикулировали и громко о чем-то спорили. Незамеченный в полумраке Гуинплен подошел ближе.
Очевидно, здесь происходила ссора. Десять — двенадцать молодых лордов толпились у выхода, а какой-то человек в шляпе, как и они, стоял перед ними, гордо вскинув голову и преграждая им дорогу.
Кто был этот человек? Том-Джим-Джек.
Некоторые из лордов еще не сняли пэрской мантии, другие уже сбросили с себя парламентское одеяние и были в обыкновенном платье.
На шляпе Том-Джим-Джека развевались перья, но не белые, как у пэров, а зеленые с оранжевыми завитками; его костюм, сверху донизу расшитый золотыми галунами, был украшен у ворота и на рукавах целыми каскадами лент и кружев; левой рукой он крепко сжимал рукоять висевшей сбоку шпаги, на бархатных ножнах и на перевязи которой были вышиты золотом адмиральские якоря.
Гуинплен услышал, как он говорил, обращаясь ко всем этим молодым лордам:
— Я назвал вас трусами. Вы требуете, чтобы я взял свои слова назад. Извольте. Вы не трусы. Вы идиоты. Вы все накинулись на одного. Это не трусость? Пожалуй. В таком случае это глупость. Вы слушали, но ровно ничего не поняли. Старики здесь тугоухи, а молодежь тупоумна. Я в достаточной мере принадлежу к вашей среде, чтобы иметь право высказывать вам такие истины. Этот новый лорд — существо странное, он наговорил кучу нелепостей, — согласен, но среди этих нелепостей было и много верного. Его речь была сбивчива, бестолкова, он произнес ее неумело, — не спорю; он слишком часто повторял «знаете ли вы, знаете ли вы», но человек, еще вчера бывший ярмарочным фигляром, не обязан говорить, как Аристотель или как Гильберт Барнет, епископ Сарумский. Его слова о нечисти, о львах, его обращение к помощникам клерков — все это было безвкусно. Черт возьми! Кто же спорит с вами? Это была безрассудная, беспорядочная речь, где все было спутано, но иногда в ней проскальзывала настоящая правда. Говорить так, как он, не будучи опытным оратором, — это уже немалая заслуга. Хотел бы я увидеть вас на его месте. То, что он рассказал о прокаженных Бертон-Лезерса — факт бесспорный. К тому же не он первый говорит глупости в парламенте. Наконец, милорды, я не люблю, когда все нападают на одного, таков уж мой характер, а потому разрешите мне считать себя оскорбленным. Ваше поведение не нравится мне, я возмущен. Я не очень-то верю в бога, но когда он совершает добрые поступки, что случается с ним не каждый день, я готов склониться к мысли, что он существует; поэтому, например, я весьма признателен ему, если только он есть, за то, что он извлек из общественных низов пэра Англии и возвратил наследство законному владельцу; независимо от того, на руку мне это или нет, я рад, что мокрица внезапно превратилась в орла, Гуинплен — в Кленчарли. Милорды, я запрещаю вам держаться иного мнения. Жаль, что здесь нет Льюиса Дюраса. Он получил бы от меня по заслугам! Милорды, Фермен Кленчарли вел себя как лорд, а вы — как скоморохи. Что касается его смеха, он в нем не повинен. Вы потешались над его смехом. Нельзя смеяться над несчастьем. Вы глупцы, и глупцы жестокие. Вы очень ошибаетесь, если полагаете, что нельзя посмеяться и над вами, вы сами безобразны, и вы не умеете одеваться. Милорд Хавершем, я видел третьего дня твою любовницу, она отвратительна. Хоть и герцогиня, но настоящая мартышка. Господа насмешники, повторяю вам, мне очень хотелось бы послушать, сумеете ли вы связать три-четыре слова кряду. Болтать может всякий, говорить — далеко не каждый. Вы воображаете себя образованными людьми на том лишь основании, что протирали штаны на скамьях в Оксфорде или Кембридже, и потому, что, прежде чем усесться в качестве пэров Англии на скамьи Вестминстер-Холла, вы хлопали ушами на скамьях Гонвиллского или Кайского колледжа. Я говорю вам в лицо: вы вели себя нагло с новым лордом.
Конечно, он чудовище, но чудовище, отданное на съедение диким зверям. Я предпочел бы быть на его месте, чем на вашем. Я присутствовал на заседании в качестве возможного наследника пэрства. Я все слышал. Я не имел права высказываться, но имею право быть порядочным человеком. Ваши насмешки возмутили меня. Когда я зол, я способен подняться на гору Пендлхилл и набрать там травы «собачий зуб», хотя она навлекает молнию на голову того, кто срывает ее. Вот почему я поджидал вас здесь, у выхода. Объясниться никогда не лишнее, и мне нужно поговорить с вами. Понимаете ли вы, что в известной степени оскорбили и меня? Милорды, я твердо решил отправить кое-кого из вас на тот свет. Все вы, присутствующие здесь, — Томас Тефтон, граф Тенет, Севедж, граф Риверс, Чарльз Спенсер, граф Сендерленд, Лоуренс Хайд, граф Рочестер, и вы, бароны Грей-Ролстон, Кери Хенсдон, Эскрик, Рокингем, ты, маленький Картрет, ты, Роберт Дарси, граф Холдернес, ты, Вильям, виконт Хеттон, и ты, Ральф, герцог Монтегю, и все остальные, — я, Дэвид Дерри-Мойр, моряк английского флота, бросаю вам вызов и настоятельно предлагаю вам запастись секундантами и свидетелями; я буду ждать вас, чтобы встретиться лицом к лицу и грудь с грудью нынче же вечером, сейчас же или завтра, днем или ночью, при солнечном свете или при свете факелов, в любом месте, в любое время и на каких угодно условиях, всюду, где только хватит места, чтобы скрестить два клинка; вы хорошо сделаете, если осмотрите ваши пистолеты и лезвия ваших шпаг, ибо я имею намерение сделать вакантными ваши пэрства. Огль Кавендиш, прими меры предосторожности и вспомни свой девиз: «Cavendo tutus»[472]. Мармедьюк Ленгдейл, ты поступишь благоразумно, если, по примеру твоего предка Гундольда, велишь нести за собою гроб. Джордж Бутс, граф Уорингтон, не видать тебе больше своего графства в Честере, своего критского лабиринта и высоких башен Денгем-Месси. Что касается лорда Вогана, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости, но слишком стар, чтобы отвечать за них; поэтому за его слова я привлеку к ответу его племянника Ричарда Вогана, депутата города Мерионета в палате общин. Тебя, Джон Кемпбел, граф Гринич, я убью, как Эгон убил Мэтеса, но только честным ударом, а не сзади, так как я привык становиться к острию шпаги грудью, а не спиной. Это решено, милорды. А теперь, если угодно, прибегайте к колдовству, обращайтесь к гадалкам, натирайте себе тело мазями и снадобьями, делающими его неуязвимым, вешайте себе на шею дьявольские или богородицыны ладанки, — я буду драться с вами, невзирая ни на какие благословения или колдовские заговоры, и не стану ощупывать вас, чтобы узнать, нет ли на вас талисманов. Я буду биться с вами пеший или конный. На любом перекрестке, если хотите — на Пикадилли или Черинг-Кроссе, пусть даже для нашего поединка разворотят мостовую, как это сделали во дворе Лувра для Гиза с Бассомпьером. Слышите вы? Я вызываю вас всех! Дорм, граф Карнарвон, я заставлю тебя проглотить мою шпагу до рукоятки, как это сделал Мароль с Лилем-Мариво; тогда увидим, будешь ли ты смеяться, милорд. Ты, Барлингтон, похожий на семнадцатилетнюю девчонку, ты можешь выбрать себе место для могилы, где пожелаешь: на лужайке ли твоего Миддлсекского замка или в твоем Лендерсбергском саду в Йоркшире. Ставлю в известность ваши милости, что я не терплю дерзостей и накажу вас по заслугам, милорды. Я не допущу, чтобы вы глумились над лордом Ферменом Кленчарли. Он лучше вас. Как Кленчарли, он не менее знатен, чем вы, а как Гуинплен, он обладает умом, которого у вас нет. Я объявляю его дело своим делом, оскорбление, нанесенное ему, считаю нанесенным мне и возмущен вашими издевательствами над ним. Посмотрим, кто из нас останется жив, ибо я вызываю вас, слышите ли вы, на смертный бой; оружие и способ смерти выбирайте какие вам угодно, но так как вы в то же время и джентльмены и грубые скоты, я соразмеряю свой вызов с вашими качествами и предлагаю вам все существующие способы взаимного истребления, начиная с дворянского оружия — шпаги и кончая простонародной кулачной расправой.
Этот яростный поток был встречен всеми молодыми людьми высокомерной улыбкой.
— Согласны, — ответили они.
— Я выбираю пистолет, — сказал Барлингтон.
— Я, — заявил Эскрик, — выбираю старинный поединок в огороженном месте на палицах и на кинжалах.
— Я, — сказал Холдернес, — рукопашную схватку на двух ножах, одном длинном и одном коротком.
— Лорд Дэвид, — ответил граф Тенет, — ты шотландец, и я выбираю палаш.
— Я — шпагу, — сказал Рокингем.
— Я, — объявил герцог Ральф, — предпочитаю бокс. Это благороднее!
Гуинплен вышел из темноты.
Он направился к человеку, который до сих пор назывался Том-Джим-Джеком, но теперь оказался кем-то совсем другим.
— Благодарю вас, — сказал он, — но это касается только меня.
Все обернулись к нему.
Гуинплен подошел еще ближе. Какая-то сила толкала его к тому, кого все называли лордом Дэвидом и кто стал его защитником, если не более. Лорд Дэвид отступил.
— А! — воскликнул лорд Дэвид. — Это вы! Вы здесь? Прекрасно. Мне и вам надо сказать несколько слов Вы осмелились говорить о женщине, которая сперва любила лорда Линнея Кленчарли, а потом короля Карла Второго?
— Да, говорил.
— Сударь, вы оскорбили мою мать.
— Вашу мать? — воскликнул Гуинплен. — Значит… я чувствовал это… значит, мы…
— Братья, — закончил лорд Дэвид.
И он дал Гуинплену пощечину.
— Мы — братья, — повторил он. — Поэтому мы можем драться. Поединок возможен только между равными. Кто же мне более равен, чем собственный брат? Я пришлю к вам секундантов. Завтра мы будем драться насмерть.
Часть XII. На развалинах
Глава 96
С высоты величия в бездну отчаяния
В то время, как на колокольне собора святого Павла пробило полночь, какой-то человек, перейдя Лондонский мост, углублялся в сеть саутворкских переулков. Фонари уже не горели, ибо в то время в Лондоне, как и в Париже, гасили городское освещение в одиннадцать часов, то есть именно тогда, когда оно всего нужнее. Темные улицы были безлюдны. Отсутствие фонарей сокращает количество прохожих. Человек шел большими шагами. На нем был костюм, совсем не подходящий для поздней прогулки по улицам: шитый золотом атласный камзол, шпага на боку, шляпа с белыми перьями; плаща на нем не было. Ночные сторожа при виде его говорили: «должно быть, какой-нибудь лорд, побившийся об заклад», — и уступали ему дорогу с уважением, с каким должно относиться и к лордам и к пари.
Человек этот был Гуинплен.
Он бежал из Лондона.
Куда он стремился, он и сам не знал. Как мы уже говорили, в душе, человека иногда бушует смерч, и для него земля и небо, море и суша, день и ночь, жизнь и смерть сливаются в непостижимый хаос. Действительность душит нас. Мы раздавлены силами, в которые не верим. Откуда-то налетает ураган. Меркнет небесный свод. Бесконечность кажется пустотой. Мы перестаем ощущать самих себя. Мы чувствуем, что умираем. Мы стремимся к какой-то звезде. Что испытывал Гуинплен? Только жажду видеть Дею. Он весь был полон одним желанием: вернуться в «Зеленый ящик», в Тедкастерскую гостиницу, шумную, ярко освещенную, оглашаемую взрывами добродушного смеха простого народа; снова встретиться с Урсусом, с Гомо, снова увидеть Дею, вернуться к настоящей жизни.
Подобно тому, как стрела, выпущенная из лука, с роковою силою устремляется к цели, так и человек, истерзанный разочарованиями, устремляется к истине. Гуинплен торопился. Он приближался к Таринзофилду. Он уже не шел, он бежал. Его глаза впивались в расстилавшийся перед ним мрак; таким же жадным взором всматривается в горизонт мореплаватель в поисках гавани. Как радостна будет минута, когда он увидит освещенные окна Тедкастерской гостиницы!
Он вышел на «зеленую лужайку», обогнул забор: на противоположном конце пустыря перед ним выросло здание гостиницы — единственной, как помнит читатель, жилой постройки на ярмарочной площади.
Он стал всматриваться. Света не было. Все окна были темны.
Он вздрогнул. Затем стал убеждать себя, что уже поздно, что харчевня закрыта, что дело объясняется просто: все спят, и ему надо только разбудить Никлса или Говикема, постучав в двери. Он двинулся туда. Он уже не бежал — он мчался изо всех сил.
Добравшись до харчевни, он остановился, с трудом переводя дыхание. Если человек, измученный жестокой душевной бурей, судорожно сопротивляясь натиску нежданных бедствий, не зная, жив ли он или мертв, все же способен с бережной заботливостью относиться к любимому существу — это верный признак истинно прекрасного сердца. Когда все оказывается поглощенным пучиной, всплывает наверх одна только нежность. Первое, о чем подумал Гуинплен, это как бы не испугать спящую Дею.
Он подошел к дому, стараясь производить как можно меньше шума. Он хорошо знал чуланчик, служивший ночным убежищем Говикему; в этом закоулке, примыкавшем к нижнему залу харчевни, было маленькое оконце, выходившее на площадь. Гуинплен тихонько постучал пальцем по стеклу. Надо было только разбудить Говикема.
Но в каморке никто не пошевелился. «В его возрасте, — решил Гуинплен, — спят очень крепко». Он стукнул в оконце еще раз. Никакого движения.
Он постучал сильнее два раза подряд. В чуланчике по-прежнему было тихо. Тогда, встревоженный, он подошел к дверям гостиницы и постучался.
Никакого ответа.
Чувствуя, что весь холодеет, он подумал: «Дядюшка Никлс стар, дети спят крепко, а у стариков сон тяжелый. Постучу погромче».
Он барабанил, бил кулаком, колотил изо всей силы. И это вызвало в нем далекое воспоминание об Уэймете, когда он, еще мальчиком, бродил ночью с малюткой Деей на руках.
Он стучался властно, как лорд; ведь он и был лордом, к несчастью.
В доме по-прежнему стояла мертвая тишина.
Он почувствовал, что теряет голову. Он уже перестал соблюдать осторожность. Он стал звать:
— Никлс! Говикем!
Он заглядывал в окна в надежде, не вспыхнет ли где-нибудь огонек.
Никакого движения. Ни звука. Ни голоса. Ни малейшего света. Он подошел к воротам, стал стучаться, яростно грясти их и кричать:
— Урсус! Гомо!
Волк не залаял в ответ.
На лбу Гуинплена выступил холодный пот.
Он оглянулся вокруг. Стояла глухая ночь, но на небе было достаточно звезд, чтобы рассмотреть ярмарочную площадь. Его глазам представилась мрачная картина — кругом был голый пустырь; не осталось ни одного балагана. Ни одной палатки, никаких подмостков. Ни одной повозки. Цирка тоже не было. Там, где еще совсем недавно шумно кишел бродячий люд, теперь зияла зловещая черная пустота. Все исчезло.
Безумная тревога овладела Гуинпленом. Что это значит? Что случилось? Разве тут больше нет никого? Разве с его уходом рухнула вся его прежняя жизнь? Что же сделали с ними со всеми? Ах, боже мой!
Как ураган, он снова ринулся к гостинице. Он стал стучать в боковую дверь, в ворота, в окна, в ставни, стены, стучал кулаками, ногами, обезумев от ужаса и тоски. Он звал Никлса, Говикема, Фиби, Винос, Урсуса, Гомо. Стоя перед стеной, он надрывался в криках, он стучал что было мочи. По временам он умолкал и прислушивался. Дом оставался нем и мертв. В отчаянии он снова принимался стучать и звать. Все вокруг гудело от его ударов, стука и криков. Это было похоже на раскаты грома, пытающиеся нарушить молчание гробницы.
Есть такая степень страха, когда человек сам делается страшен. Кто боится всего, тот уже ничего не боится. В такие минуты мы способны ударить ногой даже сфинкса. Мы не страшимся оскорбить неведомое. Гуинплен бушевал как помешанный, иногда останавливаясь, чтобы передохнуть, затем опять оглашал воздух непрерывными криками и зовом, как бы штурмуя это трагическое безмолвие.
Он сотни раз окликал всех, кто, по его предположению, мог находиться внутри, — всех, кроме Деи. Предосторожность, непонятная ему самому, но которую он, несмотря на всю свою растерянность, еще инстинктивно соблюдал.
Видя, что крики и призывы напрасны, он решил пробраться в дом. Он сказал себе: «Надо проникнуть внутрь». Разбив стекло в каморке Говикема и порезав при этом руку, он отодвинул задвижку и отворил оконце. Шпага мешала ему, и он, гневно сорвав с себя перевязь, пояс и шпагу, швырнул все это на мостовую. Потом, вскарабкавшись на выступ стены, влез, несмотря на узкую оконную раму, в каморку; оттуда он пробрался в гостиницу.
В темноте еле была видна постель Говикема, но мальчика на ней не было. Раз не было Говикема, очевидно не было и Никлса. Весь дом был погружен во мрак. В этом совершенно темном помещении угадывалась таинственная неподвижность пустоты и та зловещая тишина, которая означает: «Здесь нет ни души». Содрогаясь, Гуинплен прошел в нижний зал; он натыкался на столы, ронял на пол посуду, опрокидывал скамьи, жбаны, шагал через стулья и, очутившись, у двери, выходившей на двор, так сильно ударил в нее коленом, что сбил щеколду. Дверь повернулась на петлях, Гуинплен заглянул во двор. «Зеленого ящика» там не было.
Глава 97
Последний итог
Гуинплен вышел из гостиницы и осмотрел во всех направлениях Таринзофилд. Он ходил всюду, где накануне стояли подмостки, палатки, балаганы. Теперь ничего от этого не осталось. Он стучался в лавки, хотя отлично знал, что в них нет никого, колотил во все окна, ломился во все двери. Ни один голос не откликнулся из этой тьмы. Казалось, здесь вымерло решительно все.
Муравейник был разрушен. Очевидно, полиция приняла меры. Казалось, здесь прошел разбойничий набег. Таринзофилд не то что опустел, он был разорен; во всех его углах чувствовались следы чьих-то свирепых когтей. У этой жалкой ярмарки вывернули, так сказать, наизнанку карманы и опорожнили их.
Внимательно обследовав всю площадь, Гуинплен покинул «зеленую лужайку», свернул в извилистые переулки той части предместья, которая носит название Ист-Пойнта, и направился к Темзе.
Миновав запутанную сеть переулков, обнесенных заборами и изгородями, он почувствовал, что на него пахнуло свежестью воды, услыхал глухой плеск реки и вдруг очутился перед парапетом Эфрок-Стоуна.
Парапет окаймлял очень короткий и узкий участок набережной. Под парапетом высокая стена отвесно спускалась в темную воду.
Гуинплен остановился, облокотился на парапет, сжал обеими руками голову и задумался, склонясь над водой.
На что он смотрел? На реку? Нет. Во что же он вглядывался? Во мрак. Но не в тот, что окружал его, а в тот, что наполнял его душу.
В унылом ночном пейзаже, которого он не замечал, в темноте, куда не проникал его взор, можно было различить черные силуэты рей и мачт. Под Эфрок-Стоуном не было ничего, кроме воды, но неподалеку, вниз по течению, набережная полого спускалась к берегу, где стояло несколько судов, только что прибывших или готовящихся к отплытию и сообщавшихся с сушей маленькими пристанями, сооруженными из камня или дерева, или дощатыми мостками. Одни суда стояли на якоре, другие — на причале. На них не слышалось ни шагов, ни разговоров, так как матросы имеют похвальную привычку спать как можно дольше и вставать только для работы. Даже если какому-либо из этих судов и предстояло уйти ночью во время прилива, то пока на нем еще никто не просыпался.
Во мгле смутно вырисовывались черные пузатые кузовы и такелаж, переплетения снастей и веревочных лестниц. Все затягивала сизая мглистая дымка. Местами ее прорезывал красный фонарь.
Ничего этого Гуинплен не замечал. Он созерцал собственную судьбу.
Он был погружен в раздумье, этот мечтатель, растерявшийся перед лицом неумолимой действительности. Ему чудилось, будто он слышит позади себя какой-то грохот, словно гул землетрясения. Это был хохот лордов.
Он только что бежал от этого хохота. Бежал, получив пощечину.
От кого? — От родного брата.
И, убежав от этого хохота, оглушенный пощечиной, спеша укрыться в своем гнезде, словно раненая птица, спасаясь от ненависти и надеясь встретить любовь, что встретил он?
Мрак.
Ни души.
Все исчезло.
Он сравнивал этот мрак со своими мечтами.
Все, все рухнуло!
Гуинплен подошел к самому краю зловещей пропасти, к зияющей пустоте.
«Зеленый ящик» исчез, и это было гибелью вселенной.
Над ним как бы захлопнулась крышка гроба.
Он размышлял.
Что с ними могло произойти? Где они? Очевидно, их всех куда-то убрали. Тем же самым ударом, каким она вознесла его на высоту, судьба уничтожила его близких. Было ясно, что он их больше никогда не увидит. Для этого приняли необходимые меры. Сразу удалили всех до одного обитателей ярмарочной площади, начиная с Никлса и Говикема, чтобы он нигде не мог получить никаких сведений. Их смели беспощадной рукой. Та же грозная общественная сила, жертвой которой он стал в палате лордов, уничтожила Урсуса и Дею в их убогом жилище.
Они погибли. Дея погибла. Во всяком случае для него. Навсегда. О силы небесные, где она? И его не было рядом, и он не защитил ее!
Строить догадки об отсутствующих, которых любишь, значит подвергать себя пытке. И Гуинплен переживал эту пытку. Куда бы ни устремлялась его мысль, какие бы предположения ни приходили ему на ум, все причиняло ему жестокую внутреннюю боль, и он глухо стонал.
В вихре проносившихся в его голове мучительных мыслей у него возникло внезапно воспоминание о том, несомненно роковом, человеке, который назывался Баркильфедро. Это он оставил в его мозгу те неясные слова, которые загорались теперь в его памяти, как будто были начертаны огнем. Он чувствовал, как пылают они в его мозгу — эти, прежде загадочные, теперь ставшие понятными слова:
«Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув прежде другой».
Все было кончено. Последние тени сгустились над ним.
В жизни каждого человека бывают минуты, когда для него как будто бы рушится мир. Это называется отчаянием. Душа в этот час полна падающих звезд.
Итак, вот что с ним случилось!
Откуда-то вдруг надвинулось облако дыма. Оно покрыло его, Гуинплена. Дым закрыл ему глаза; он проник в его мозг, он ослепил и одурманил его. Все это длилось недолго, только пока рассеялся дым. И вот рассеялось все — и дым и жизнь его. Очнувшись от этого страшного сна, он оказался одиноким.
Все исчезло. Все ушло. Все погибло. Ночь. Небытие. Вот что он видел вокруг себя.
Он был одинок.
Синоним одиночества — смерть.
Отчаяние — великий счетчик. Оно всему подводит итоги. Ничто не ускользает от него. Оно все подсчитывает, не упуская ни одного сантима. Оно ставит в счет богу и громовый удар и булавочный укол. Оно хочет точно знать, чего следует ждать от судьбы. Оно все принимает во внимание, взвешивает и высчитывает.
Как страшен этот наружный холод, под которым клокочет огненная лава!
Гуинплен заглянул в свою душу и посмотрел прямо в глаза своей судьбе. Оглядываясь назад, человек подводит страшный итог.
Находясь на вершине горы, мы всматриваемся в пропасть.
Упав в бездну, созерцаем небо.
И говорим себе: «Вот где я был».
Гуинплен познал всю глубину несчастья. И как быстро это случилось! Несчастье надвинулось на него так внезапно! А между тем оно так тяжело, что от него можно было бы ждать большей медлительности. Увы, это не так! Казалось бы, холод, присущий снегу, должен был сообщить ему оцепенелость зимы, а белизна — неподвижность савана. Однако это опровергается стремительным падением лавины.
Лавина — это снег, ставший огненной печью. Она ледяная, но все пожирает. Такая лавина увлекла за собой Гуинплена. Она оторвала его, как лоскут, вырвала с корнем, как дерево, швырнула, как камень.
Он припомнил все обстоятельства своего падения. Сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Страдания — это допрос. Ни один судья не допрашивает обвиняемого так пытливо, как допрашивает нас собственная совесть.
В какой мере отчаяние Гуинплена было вызвано угрызениями совести?
Он пожелал дать себе в этом отчет и, как анатом, вскрыл свою душу. Мучительная операция.
Его отсутствие привело к катастрофе. Зависело ли оно от него? Действовал ли он по собственной воле? Нет. Он все время чувствовал себя пленником. Что же удерживало и останавливало его? Тюрьма? Нет. Цепи? Нет. Что же? Липкая смола. Он завяз в собственном величии.
Кому не случалось быть с виду свободным, но чувствовать, что у него связаны крылья!
Он будто попался в расставленные тенета. То, что вначале было соблазном, стало в конце концов пленом.
Совесть не давала ему покоя: разве он только подчинился обстоятельствам? Нет. Он охотно принял то, что предлагала ему судьба.
Правда, в известной мере над ним совершили насилие, его захватили врасплох, но и он в свою очередь не воспротивился этому. В том, что его похитили, он не был виноват, но он проявил слабость, позволив одурманить себя. Была ведь решительная минута, когда ему задали вопрос: Баркильфедро предложил ему сделать выбор и предоставил полную возможность одним-единственным словом решить свою участь.
Гуинплен мог сказать «нет». Он сказал «да».
Это «да», произнесенное в состоянии полной растерянности, и повлекло за собою все остальное. Гуинплен сознавал это. И воспоминание об этой минуте вызвало теперь прилив горечи в его душе.
И все же Гуинплен пытался оправдаться перед самим собой, — неужели он так провинился, вступив в свои права, в свое исконное наследие, в свой дом, заняв в качестве патриция положение, принадлежавшее его предкам, и в качестве сироты приняв имя своего отца? На что он согласился? На восстановление своих прав. И с чьей помощью? С помощью провидения.
Но при мысли об этом его охватывал порыв возмущения. Какую глупость он совершил, дав свое согласие! В какую недостойную сделку вступил он! Какой нелепый обмен! Эта сделка принесла ему несчастье. Как! За два миллиона ежегодного дохода, за семь-восемь поместий, за десять — двенадцать дворцов, за несколько особняков и за псовую охоту, кареты и гербы, за право быть судьей и законодателем, за честь носить корону и пурпурную мантию, как король, за титул барона, маркиза и пэра Англии он отдал балаган Урсуса и улыбку Деи! За всепоглощающую жизненную пучину он отдал подлинное счастье! За океан — жемчужину! О, безумец! О, глупец! О, простофиля!
Однако — и это возражение было достаточно основательным — разве в охватившей его горячке все было только нездоровым тщеславием? Быть может, отказаться от предложенных ему благ было бы эгоистичным; быть может, соглашаясь принять их, он действовал, повинуясь чувству долга? Что оставалось ему делать, когда он так внезапно превратился в лорда? Сложный круговорот событий повергает в замешательство каждого. Это случилось и с ним, Гуинпленом. Он растерялся, когда на него нахлынули со всех сторон бесчисленные, многообразные, противоречившие одна другой обязанности. Именно этой сковавшей его растерянностью и объясняется его покорность — в частности, то, что он позволил доставить себя из Корлеоне-Лоджа в палату лордов.
То, что в жизни называют «возвышением», — не что иное, как переход с пути спокойного на путь, полный тревоги. Где же прямая дорога? В чем состоит наш основной долг? В заботе ли о близких нам людях? Или обо всем человечестве? Не следует ли оставить малую семью ради большой? Человек поднимается вверх и чувствует на своей совести все увеличивающееся бремя. Чем выше подымается он, тем больше становится его долг по отношению к окружающим. Расширение прав влечет за собой увеличение обязанностей. Возникает соблазнительная иллюзия, будто перед нами расстилается одновременно несколько дорог и на каждую из этих дорог нам указывает наша совесть. Куда идти? Свернуть в сторону? Остановиться? Пойти вперед? Отступить? Что делать? Это странно, но у долга тоже есть свои перекрестки; ответственность бывает иногда настоящим лабиринтом.
И когда несешь в себе какую-то идею, когда ты не просто человек из плоти и крови, но и воплощение, но и символ, — разве твоя ответственность не больше? Вот чем объяснялись и сознательная покорность и немая тревога Гуинплена, вот почему согласился он заседать в палате лордов.
Человек, много думающий, часто бывает бездеятельным. Гуинплену казалось, что он повинуется голосу долга. Разве его вступление в парламент, где можно было бороться за угнетенный народ, не было осуществлением одной из самых заветных грез Гуинплена? Разве мог он отказаться, когда ему дано было право голоса, ему, чудовищному образчику уродливого общественного строя, ему, наглядной жертве произвола, под игом которого вот уже шесть тысяч лет стонет человеческий род? Имел ли он право уклониться от сходящего на него с неба огненного языка?
Что говорил себе Гуинплен в таинственном и ожесточенном споре с собственной совестью? Он говорил: «Народ молчит. Я буду неустанным глашатаем этого безмолвия; я буду говорить за немых. Я расскажу великим о малых, могущественным о слабых. В этом смысл моей судьбы. Господь знает, чего хочет, он осуществляет свои предначертания. Конечно, поразительно, что фляга Хардкванона, заключавшая в себе все необходимое для превращения Гуинплена в лорда Кленчарли, пятнадцать лет носилась по морю и ни бурные волны, ни рифы, ни шквалы не причинили ей никакого вреда. Я понимаю, почему. Есть жизненные жребии, остающиеся навеки тайной. Я владею тайной своей судьбы; я знаю ее разгадку. Я предназначен богом. На меня возложена миссия. Я буду лордом бедняков. Я буду говорить за всех молчащих и отчаявшихся. Я передам их несвязный лепет; я передам их ропот и стоны; я переведу на человеческий язык и неясный гул толпы, и невнятные жалобы, и косноязычные речи — все звериные крики, исторгаемые из людских уст страданием и невежеством. Ведь вопль страдания столь же невнятен, как вой ветра. Люди кричат, но слов у них нет, никто их не понимает, ибо вопить — то же, что молчать, а молчать — значит быть безоружным. Людей обезоружили насилием, и они зовут к себе на помощь. И я приду им на помощь. Я буду обличителем. Я буду голосом народа. Благодаря мне все станет понятно. Я буду окровавленными устами, с которых сорвана повязка. Я выскажу все. Это будет великим делом.
Да, говорить за немых — это прекрасно, но как тяжело говорить перед глухими! Это и было второй частью пережитой им трагедии. Увы! Его постигла неудача. Неудача непоправимая. Его внезапное возвышение, в которое он поверил, видимость счастья, блестящая будущность рухнули, едва только он коснулся их. Какое падение! Потонуть в море смеха!
Он считал себя сильным, — столько лет его носили ветры в беспредельном море людских страданий, так чутко прислушивался он к его рокоту и слышал во мраке столько горестных воплей.
И вот он потерпел крушение, натолкнувшись на исполинский подводный камень — на ничтожество баловней счастья. Он считал себя мстителем, а оказался клоуном. Он думал разить громом, но только пощекотал противника. Вместо глубокого впечатления он вызвал только насмешки. Он рыдал, а ему ответили хохотом. Пучина этого смеха поглотила его. Мрачная гибель.
Над чем же смеялись? Над его смехом.
Итак, отвратительное насилие, след которого навсегда остался запечатленным на его лице, увечье, сообщившее ему выражение вечной веселости, клеймо смеха, скрывающее муки угнетенных, забавная маска, созданная пыткой, гримаса, исказившая его черты, рубцы, обозначавшие jussu regis, это вещественное доказательство преступления, совершенного королевской властью над целым народом, — вот что восторжествовало над ним, вот что сразило его; то, что должно было обвинить палача, стало приговором для жертвы. Неслыханная несправедливость! Королевская власть, погубив отца, поражала теперь и сына. Совершенное некогда зло служило теперь предлогом для нового злодейства. На кого обратилось негодование лордов? На мучителя? Нет. На его жертву.
С одной стороны — трон, с другой — народ; здесь Иаков II, там — Гуинплен. Очная ставка проливала свет на посягательство и на преступление.
В чем заключалось посягательство? Он посмел жаловаться. В чем заключалось преступление? Он посмел страдать. Пусть нищета прячется и молчит, иначе она виновна в оскорблении величества. Были ли злы по природе люди, поднявшие Гуинплена на смех? Нет, но над ними также тяготел рок, неизбежная жестокость богатых и счастливых: они были палачами, сами того не подозревая. Они были весело настроены. Они просто нашли Гуинплена лишним.
У них на глазах он вскрыл себе грудь, он вынул из себя печень и сердце, он показал им свои раны, а они кричали ему: «Валяй, ломай комедию!» Всего ужаснее было то, что он сам смеялся. Страшные цепи сковывали его душу, не давая мысли отразиться на его лице. Все его существо было изуродовано этой насильственной улыбкой, и в то время, как в нем бушевала ярость, черты его, противореча этой ярости, расплывались в смехе. Все кончено. Он — «Человек, который смеется», кариатида мира, исходящего слезами. Он — окаменевшая в смехе маска отчаяния, маска, запечатлевшая неисчислимые бедствия и навсегда обреченная служить для потехи и вызывать хохот; вместе со всеми угнетенными, чьим олицетворением он являлся, он разделял страшную участь — быть отчаянием, которому не верят. Над его терзаниями смеялись, он был чудовищным шутом, порожденным безысходной человеческой мукой, беглецом с каторги, где томились люди, забытые богом, бродягой, поднявшимся из народных низов, из «черни» до ступеней трона, к созвездиям избранных, скоморохом, забавлявшим вельмож, после того как он увеселял отверженных! Все его великодушие, весь энтузиазм, все красноречие — его сердце, душа, ярость, гнев, любовь, невыразимая скорбь — все это вызывало только смех. И он убеждался, как уже сказал лордам, что это не было исключением, а, напротив, заурядным, обычным фактом, настолько распространенным и неразрывно связанным с повседневной жизнью, что никто уже не замечал его. Смеется умирающий с голоду, смеется нищий, смеется каторжник, смеется проститутка, смеется сирота, чтобы заработать себе на хлеб насущный, смеется раб, смеется солдат, смеется народ. Человеческое общество устроено так, что все его беды, все несчастья, все катастрофы, все болезни, все язвы, все агонии здесь, над зияющей бездной, разрешаются ужасающей гримасой смеха. И олицетворением этой гримасы был он.
Небесная воля, неведомая сила, правящая нами, пожелала, чтобы доступный взору и осязанию призрак, призрак из плоти и крови, явился исчерпывающим выражением чудовищной пародии, которую мы называем миром. Этим призраком был он, Гуинплен.
Рок неумолим.
Он взывал: «Сжальтесь над страждущими!» Тщетный призыв.
Он хотел вызвать жалость, а вызвал отвращение. Появление призрака пробудило только это чувство. Но, будучи призраком, он был и человеком — мучительное осложнение. У привидения была человеческая душа. Он был человеком в большей мере, быть может, чем кто бы то ни было, ибо двойственная судьба его воплощала в себе все человечество. Однако, являясь выразителем человечества, он все же чувствовал себя вне его.
Какое-то неодолимое противоречие крылось в самой его судьбе. Кем был он? Обездоленным бродягой? Нет, ведь он оказался лордом. Кем он стал? Лордом? Нет, ведь он мятежник. Он был светоносцем и грозным нарушителем общественного спокойствия. Правда, не сатана, но Люцифер. Он явился как зловещее привидение с факелом в руке.
Зловещее для кого? Для зловещих. Грозное для кого? Для грозных. Потому-то они и отвергли его. Находиться в их среде? Быть допущенным в нее? Никогда! Препятствие, каким являлось его лицо, было ужасно, препятствие, каким были мысли, оказалось необоримым. Его речь казалась еще более отталкивающей, чем его лицо. Его понятия были несовместимы с понятиями того особого мира знатных и могущественных людей, где он по роковой случайности родился и откуда его изгнала другая роковая случайность. Между людьми и его лицом стояла преградой маска смеха, а между высокородным обществом и его образом мыслей высилась стена. Бродячий фигляр, с детства сроднившийся с живучей, крепкой средою, которую называют простонародьем, вобравший в себя магнитные токи бесчисленных людских толп, насквозь пропитавшийся всеми стремлениями необъятной души человечества, он чувствовал себя частицей его угнетенных масс и не мог смотреть на мир глазами господствующих классов. Ему не было места наверху общественной лестницы. Он поднялся из колодца Истины и все еще был покрыт ее влагой. От него исходило зловоние омута. Он внушал отвращение этим вельможам, благоухающим ложью. Тому, кто живет обманом, истина кажется смрадной. Того, кто жаждет лести, тошнит от правды, если ему нечаянно придется отведать ее. Все, что принес с собой Гуинплен, было неприемлемо для лордов. Что же он принес с собою? Разум, мудрость, справедливость. Они с гадливостью оттолкнули его.
В палате заседали епископы. Он был неугоден их богу. Кто он такой, этот непрошенный гость?
Противоположные полюсы взаимно отталкиваются. Соединить их невозможно. Переходных ступеней нет между ними. Читатель видел, к какому взрыву глумящегося хохота привела страшная очная ставка людских страданий, сосредоточенных в одном человеке, с высокомерием и гордостью, сосредоточенными в касте.
Обвинять бесполезно. Достаточно установить факт. И Гуинплен, размышляя в эту трагическую для него минуту, понял глубочайшую бесполезность своих усилий, понял глухоту представителей знати. Привилегированные слои общества глухи к воплям обездоленных. Виновны ли они в этом? Нет. К сожалению, это закон их существования. Простим им это. Если бы их тронул голос несчастных, им пришлось бы отказаться от своих привилегий. От принцев и вельмож нечего ждать хорошего. Тот, кто всем удовлетворен, — неумолим. Сытый голодного не разумеет. Баловни счастья ничего не хотят знать, они отгородились от несчастных. На пороге их рая, так же как на вратах ада, следовало бы написать: «Оставь надежду навсегда».
Гуинплена встретили так, как встретили бы призрак, явившийся в чертоги богов.
Гнев закипал в нем при этом воспоминании. Нет, он не призрак, он человек. Он говорил им это, он кричал им, что он Человек.
Он не был привидением. Он был трепещущей плотью. У него был мозг, и мозг этот мыслил; у него было сердце, и сердце это любило; у него была душа, и он надеялся. В том-то и состояла его ошибка, что он надеялся понапрасну.
Увы, он до того увлекся надеждами, что поверил в блестящий и таинственный мир, имя которому — общество. Он, которого когда-то вышвырнули из общества, решился вернуться в него.
И общество сразу же поднесло ему три своих дара: брак, семью и сословие. Брак? На пороге брака он столкнулся с развратом. Семья? Брат дал ему пощечину и ждал его завтра с оружием в руке. Сословие? Оно только что хохотало ему в лицо, ему, патрицию, ему, отверженному! Оно изгнало его, едва успев принять. Он ступил только три шага в глубоком мраке, каким оказалось это общество, а под его ногами уже разверзлось три бездны.
Его несчастье началось с предательского превращения. Катастрофа подкралась к нему под видом апофеоза! «Подымайся!» означало: «Падай!»
Он был своего рода противоположностью Иову: источником его бедствий оказалось его благоденствие.
О трагическая загадка человеческой судьбы! Сколько козней скрывается в ней! Ребенком он боролся с ночью и одолел ее. Став взрослым, он боролся с выпавшим ему жребием и одержал над ним верх. Из урода сделался существом, окруженным сиянием славы, из несчастного — счастливцем. Место своего изгнания он превратил в свой приют. Бродяга, он преодолевал пространство и, подобно птицам небесным, скитаясь, находил себе пропитание. Нелюдим, он померился силами с толпой и завоевал ее расположение. Атлет, он боролся с народом, с этим львом, и лев стал его другом. Неимущий, он боролся с нуждою; став лицом к лицу с суровой необходимостью добывать себе хлеб насущный и умудряясь даже нищету сочетать с сердечными радостями, он превратил свою бедность в богатство. Он имел право считать себя победителем жизни. И вдруг из неведомой глубины перед ним возникли новые враждебные силы — на этот раз уже не грозные, а ласковые и льстивые; ему, охваченному чистой любовью, предстала чувственная, хищная любовь; он, живший идеалом, оказался во власти плотских вожделений; он услышал слова страсти, походившие на яростные вопли; он испытал женские объятия, напоминавшие змеиные кольца, свет истины сменился очарованием лжи, ибо правда не плоть, а душа. Плоть — зола, душа — пламя. Горсть людей, связанных с ним узами бедности и труда и составлявших его настоящую семью, заменила семья кровных родственников, хотя и смешанной крови, и, едва вступив в эту семью, он сразу очутился лицом к лицу с призраком братоубийства. Увы, он позволил ввести себя в то самое общество, о котором Брантом (впрочем, Гуинплен и не читал его) писал: «Сын может вызвать отца на дуэль, и это считается в порядке вещей». Роковая судьба крикнула ему: «Ты не принадлежишь к толпе, ты принадлежишь к сонму избранных!» — и распахнула у него над головой, точно врата на небо, свод общественного здания; втолкнув его в это отверстие, она заставила его нежданным и грозным видением появиться среди сильных мира сего.
И вдруг, вместо простого люда, рукоплескавшего ему, он увидал вельмож, осыпавших его проклятиями. Печальная перемена. Постыдное возвышение. Внезапная гибель всего, что составляло его счастье. Дикая травля, крушение всей его жизни. Удары орлиных клювов, рвавших на части Гуинплена, Кленчарли, лорда, фигляра, его прошлое и его будущее.
Стоило ли одолевать препятствия в начале жизненного пути? Стоило ли одерживать победу? Увы, ему суждено было быть ниспровергнутым, чтобы завершилась его судьба.
Итак, отчасти подчиняясь насилию, отчасти по доброй воле (ведь после жезлоносца ему пришлось иметь дело с Баркильфедро, и переезд в палату лордов совершился не без его, Гуинплена, согласия), он променял действительность на химеру, истину на ложь, Дею на Джозиану, любовь на тщеславие, свободу на могущество, гордый честный труд на богатство и связанную с ним тяжкую ответственность, сумрак, укрывающий божество, на адское пламя, где обитают демоны, рай на Олимп!
Он вкусил от золотого плода, и во рту у него остался пепел.
Скорбный итог! Разгром, банкротство, падение, гибель, поругание всех надежд, уничтоженных злобным смехом, беспредельное отчаяние. Что делать теперь? Что сулит ему завтрашний день? Острие обнаженной шпаги, направленной в его грудь рукою брата. Он видел только ужасный блеск этой шпаги. Остальное — Джозиана, палата лордов — все было позади в чудовищном полумраке, полном трагических теней.
А этот брат, показавшийся ему таким отважным, таким рыцарски благородным! Увы, этот Том-Джим-Джек, защищавший Гуинплена, этот лорд Дэвид, вступившийся за лорда Кленчарли, мелькнул перед ним лишь на одно короткое мгновение, успев только внушить любовь к себе и дать ему пощечину.
Сколько горестных событий!
Идти дальше было некуда: все вокруг рухнуло. Да и к чему? Отчаяние лишает человека последних сил.
Опыт был сделан, и повторять его было незачем.
Гуинплен оказался игроком, сбросившим один за другим свои козыри. Он позволил заманить себя в страшный игорный дом. Не отдавая себе отчета в своих поступках, ибо таков тонкий яд обольщений, он поставил на карту Дею против Джозианы — и выиграл чудовище. Поставил Урсуса против семьи — и выиграл бесчестье. Поставил подмостки фигляра против скамьи лорда — и вместо восторженных криков услыхал проклятия.
Последняя его карта упала на роковой зеленый ковер опустевшей ярмарочной площади. Гуинплен проиграл. Оставалось одно — расплатиться. Расплачивайся же, несчастный!
Пораженные молнией не двигаются. Гуинплен как будто оцепенел. Всякий, кто издали увидал бы его, застывшего неподвижно у края парапета, подумал бы, что это каменное изваяние.
Ад, змея и человеческая мечта могут образовать замкнутый круг. Гуинплен все глубже и глубже погружался в мрачное раздумье.
Он мысленно окинул только что представшее ему общество холодным прощальным взглядом.
Брак без любви, семья без братской привязанности, богатство без совести, красота без целомудрия, правосудие без справедливости, порядок без равновесия, могущество без разума, власть без права, блеск без света. Беспощадный итог! Он мысленно перебрал все проносившиеся перед его взором видения. Последовательно подверг оценке свою судьбу, свое положение, общество и самого себя. Чем была для него судьба? Западней. Его положение? Отчаянием. Общество? Ненавистью. А он сам? Побежденным. В глубине души он воскликнул: «Общество — мачеха, природа — мать. Общество — это мир, в котором живет наше тело, природа — мир нашей души. Первое приводит человека к гробу, к сосновому ящику в могиле, к червям и на том и кончается. Вторая ведет к вольному полету, к преображению в лучах зари, к растворению в беспредельности, где сияют звезды и не иссякает жизнь».
Мало-помалу Гуинпленом овладевал вихрь скорбных мыслей. Все, с чем мы расстаемся перед смертью, предстает нам, словно при вспышке молнии.
Кто судит, тот сопоставляет. Гуинплен сравнил то, что дало ему общество, с тем, что дала ему природа. Как она была добра к нему! Как она поддерживала его, как помогала ему! Все было отнято у него — все, вплоть до лица; природа все возвратила ему — все, даже лицо, ибо на земле жил слепой ангел, созданный нарочно для него, не видевший его безобразия и разгадавший его красоту.
И он позволил разлучить себя со всем этим! Он покинул восхитительное существо, сердце, сроднившееся с ним, нежную любовь, божественный слепой взор, единственный взор, сумевший его разглядеть! Дея была его сестрой, ибо он чувствовал между собой и ею те высокие братские узы, ту тайну, в которой заключено все небо. С детских лет Дея была его невестой, ибо каждый ребенок имеет такую избранницу, и жизнь всегда начинается чистым союзом двух непорочных душ, двух маленьких невинных существ. Дея была его супругой, ибо у них на самой вершине высокого дерева Гименея было свое гнездо. Больше того, Дея была его светом: без нее все казалось небытием и пустотой, и он видел ее окруженною лучезарным сиянием. Как жить без Деи? Что делать ему с собой? Без нее все в нем было мертво. Как же мог он потерять ее из виду хотя бы на мгновение? О, несчастный! Он позволил себе уклониться от своей путеводной звезды, а там, где действуют грозные, неведомые силы притяжения, всякое уклонение сразу влечет в бездну. Куда же закатилась его звезда? Дея! Дея! Дея! Дея! Увы! Он потерял свое светило. Удалите заезды с неба, — что останется от него? Сплошной мрак. Но почему же все это исчезло? О, как он был счастлив! Бог создал для него рай, вплоть до того, что впустил туда и змия! Но на этот раз искушению подвергся мужчина. Его похитили оттуда, и он попал в страшную западню, в адский хаос мрачного хохота. Горе! Горе! Как ужасно было все то, что околдовало его! Что такое эта Джозиана? Страшная женщина, не то зверь, не то богиня! Из пропасти, куда его низвергли, Гуинплен видел теперь оборотную сторону того, что недавно так ослепляло его. Это было отвратительное зрелище. Знатность оказалась уродливой, корона отвратительной, пурпурная мантия мрачной, стены дворцов насквозь пропитанными ядом, трофеи, статуи, гербы — фальшивыми; в самом воздухе было что-то нездоровое, что-то предательское, способное свести с ума. О, как великолепны были лохмотья фигляра Гуинплена! Как вернуть теперь «Зеленый ящик», бедность, радость, счастливую бродячую жизнь вместе с Деей, похожую на жизнь ласточек? Они не расставались друг с другом, встречались ежеминутно, вечером, утром, за столом касались друг друга локтями, коленями, пили из одного стакана. Солнце заглядывало в окошко, но оно было только солнцем, Дея же была любовью. Ночью они чувствовали, что спят почти рядом, и сновидения Деи витали над Гуинпленом, а сновидения Гуинплена реяли над Деей! Пробуждаясь, они не могли поручиться, что не обменялись поцелуями в голубой дымке сонных грез. Вся невинность была воплощена в Дее, вся мудрость — в Урсусе. Они переходили из города в город, напутствуемые и поддерживаемые неподдельным весельем любившего их народа. Они были странствующими ангелами, в достаточной мере людьми, чтобы ступать по земле, и недостаточно крылатыми, чтобы улететь на небо. А теперь все исчезло. Куда? Неужели они скрылись бесследно? Каким могильным ветров унесло их? Они поглощены мраком, потеряны безвозвратно. Увы! Неумолимые деспоты, угнетающие малых людей, имеют в своем распоряжении все темные силы и способны на все. Что сделали с ними? И его не было тут, чтобы заступиться за них, чтобы заслонить их грудью, защитить своим титулом лорда, своей знатностью и шпагой, своими кулаками фигляра! И вдруг ему в голову пришла горькая мысль, быть может самая горькая из всех. Нет, он не мог бы их защитить. Именно он был причиной их гибели. Ведь только для того, чтобы уберечь его, лорда Кленчарли, от них, чтобы оградить его достоинство от соприкосновения с ними, на них и обрушился всей своей гнусной тяжестью полновластный общественный произвол. Лучшим средством защитить их было бы для Гуинплена исчезнуть, тогда отпали бы все поводы их преследовать. Не-будь его, их оставили бы в покое. Это леденящее душу открытие придало новый оборот его мыслям. О, почему он позволил разлучить себя с Деей? Разве его первым долгом не было охранять Дею? Служить народу и защищать его? Но разве Дея не воплощение народа? Дея — сирота, слепая, само человечество! Ах, что сделали с ними? Жгучее, мучительное сожаление! Катастрофа разразилась только потому, что его не было с ними. Иначе он разделил бы их участь: он увел бы их с собою, либо погиб бы с ними вместе. Что станется с ним теперь? Разве может существовать Гуинплен без Деи? С ее утратой потеряно все. Ах, все кончено! Эта горсточка любимых, родных людей пропала безвозвратно. Наступил конец всему. Зачем теперь ему продолжать борьбу, если он осужден и отвержен? Нечего больше ждать ни от людей, ни от неба. Дея! Дея! Где Дея? Потеряна! Неужели потеряна? Тот, кто утратил душу, может снова обрести ее лишь в смерти.
В скорбном волнении Гуинплен положил руку на парапет, как бы найдя решение, и посмотрел на реку.
Он не спал уже третью ночь. Его била лихорадка. Мысли, казавшиеся ему ясными, в действительности были смутны. Он испытывал неодолимую потребность уснуть.
Несколько мгновений стоял он, наклонившись над водой; черная гладь сулила ему спокойное ложе, вечное забвение… Страшный соблазн.
Он снял с себя кафтан и положил его на парапет, затем расстегнул камзол; когда он начал снимать его, рука наткнулась на какой-то предмет, лежавший в кармане. Это была красная книжечка, которую ему вручил «библиотекарь» палаты лордов. Он вынул книжечку из кармана, посмотрел на нее три тусклом свете, нашел карандаш и написал на первой чистой странице следующие две строки: «Я ухожу. Пусть мой брат Дэвид займет мое место и будет счастлив». И подписал: «Фермен Кленчарли, пэр Англии».
Затем он снял камзол и положил его на кафтан. Снял шляпу и положил ее на камзол; записную книжку, открытую на той странице, где сделал надпись, он положил в шляпу. Увидев на земле камень, он поднял его и тоже положил в шляпу.
Потом посмотрел вверх, в беспредельный мрак, расстилавшийся над ним.
Голова его медленно поникла, как будто его тянула в пучину незримая нить.
В нижней части парапета было отверстие; он вставил в него ногу, чтобы опереться коленом на парапет, и теперь ему оставалось только броситься вниз.
Заложив руки за спину, он подался вперед.
— Да будет так, — промолвил он.
И устремил взор на воду.
В эту минуту он почувствовал, что кто-то лижет ему руки.
Он вздрогнул и обернулся.
Перед ним был Гомо.
Заключение. МОРЕ И НОЧЬ
Глава 98
Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем
У Гуинплена вырвался крик:
— Это ты, волк!
Гомо завилял хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Гуинплена.
Затем он снова начал лизать ему руки. Одну минуту Гуинплен был точно пьяный. Он был потрясен внезапно вернувшейся к нему надеждой. Гомо! Откуда он явился? За двое последних суток Гуинплен испытал всякие неожиданности; ему оставалось еще пережить нежданную радость. Эту радость принес Гомо. Вновь обретенная уверенность или по крайней мере надежда, внезапное вмешательство таинственной, благодетельной силы, быть может присущей судьбе, жизнь, проникшая в непроглядный мрак могилы, свет исцеления и освобождения, блеснувший, когда уже не ждешь ничего, точка опоры, обретенная в минуту крушения, — всем этим оказался Гомо для Гуинплена. Волк казался ему озаренным сиянием.
Между тем волк побежал назад. Сделав несколько шагов, он обернулся, словно для того, чтобы посмотреть, идет ли за ним Гуинплен.
Гуинплен последовал за ним. Гомо помахал хвостом и двинулся дальше.
Он бежал по спуску набережной Эфрок-Стоуна. Спуск вел к берегу Темзы. Гуинплен, следуя за Гомо, сошел вниз по этому спуску.
Время от времени Гомо поворачивал голову назад, чтобы удостовериться, идет ли за ним Гуинплен.
Бывают в жизни случаи, когда самый проницательный ум не может сравниться с чутьем преданного животного. Животное как будто обладает даром ясновидения.
В некоторых случаях собака следует за хозяином, в иных же — ведет его за собой, и тогда инстинкт животного руководит разумом человека. Тонкое чутье зверя безошибочно разбирается там, где мы теряемся во мраке. Животное испытывает смутную потребность стать нашим проводником. Знает ли оно, что нам угрожает опасность сделать неверный шаг и что надо помочь нам избежать опасности? Вероятно, нет. А может быть, и да; во всяком случае кто-то знает это за него; мы уже говорили, что нередко помощь, которую в решительные минуты оказывают нам существа низшие, на самом деле приходит к нам свыше. Мы не знаем, в каком обличье может явиться божество. Иногда зверь служит выразителем воли провидения.
Дойдя до берега, волк спустился вниз на отмель, тянувшуюся вдоль Темзы.
Он не издал ни единого звука, он не лаял, он бежал молча. Подчиняясь своему инстинкту, Гомо при любых обстоятельствах исполнял свой долг с мудрой осторожностью существа, преследуемого законом.
Пройдя шагов пятьдесят, он остановился. Направо виднелась пристань на сваях, за ней темнел грузный корпус довольно большого судна. На палубе, недалеко от носа, светился тусклый огонек, похожий на гаснущий ночник.
В последний раз удостоверившись, что Гуинплен тут, волк вскочил на пристань, представлявшую собою длинный помост из просмоленных досок, укрепленный на толстых бревнах, под которыми текла река. Через несколько мгновений Гомо и Гуинплен дошли до конца пристани.
Судно, стоявшее здесь на причале, представляло собой пузатую голландскую шхуну с двумя палубами без бортов, одной — в носовой части, другой — в кормовой, и с устроенным между ними по японскому образцу открытым трюмом, куда спускались по прямому трапу и который предназначался для грузов. Таким образом, на шхуне было две палубы — бак на носу, ют на корме, как в старину на наших речных сторожевых судах. Пространство между палубами заполнялось грузом. Приблизительно такую форму имеют бумажные детские кораблики. Под палубами находились каюты, сообщавшиеся с центральным отделением дверцами и освещенные иллюминаторами, пробитыми в обшивке. При погрузке оставляли проход между тюками. На шхуне было две мачты, по одной на каждой палубе. Передняя мачта называлась Павлом, а кормовая — Петром, так что судно, подобно католической церкви, возглавлялось двумя апостолами. Над центральным грузовым отделением были переброшены с одной палубы на другую деревянные мостки. В дурную погоду глухие стенки мостков откидывались с обеих сторон при помощи особого механизма, образуя крышу над межпалубным отделением, так что в бурю трюм оказывался плотно закрытым. На этих громоздких шхунах рулем служило толстое бревно, так как сила руля должна соответствовать тяжести судна. Для управления этими грузными морскими судами достаточно было трех человек: хозяина с двумя матросами, не считая мальчика-юнги. Носовая и кормовая палубы были, как мы уже сказали, без бортов. На черном пузатом корпусе этой шхуны можно было даже в темноте разобрать надпись белыми буквами: «Вограат. Роттердам».
В ту эпоху ряд событий, разыгравшихся на море, и, в частности, совсем недавняя катастрофа, постигшая у мыса Карнеро 21 апреля 1705 года восемь кораблей барона Пуанти и заставившая весь французский флот отойти к Гибралтару, совершенно расчистила Ла-Манш и освободила от военных судов весь путь между Лондоном и Роттердамом, так что торговые суда могли плавать безо всякого конвоя.
Шхуна «Вограат», к которой подошел Гуинплен, была подтянута к пристани левым краем кормовой палубы и находилась почти на одном уровне с помостом. Надо было спуститься на одну ступеньку. Одним прыжком Гомо и Гуинплен очутились на корме. Палуба была пуста, и на всем судне не замечалось никакого движения; судя по тому, что шхуна готовилась отчалить и погрузка была закончена, на что указывал переполненный тюками и ящиками трюм, пассажиры на борту были, но они, по всей вероятности, спали в каютах между палубами, так как переезд должен был произойти ночью. В подобных случаях путешественники показываются на палубе лишь утром. Что касается экипажа, то в ожидании скорого отплытия он, очевидно, ужинал в помещении, которое тогда носило название матросской каюты. Этим объяснялось совершенное безлюдье на обеих палубах.
По пристани волк почти бежал; но очутившись на судне, он пошел медленно, словно крадучись. Он вилял хвостом, но уже не радостно, а беспокойно и уныло, как пес, чующий недоброе. По-прежнему идя впереди Гуинплена, он перешел по мостику с кормовой палубы на носовую.
Вступив на мостки, Гуинплен увидел перед собой свет. Это был фонарь, стоявший у подножия передней мачты; при свете фонаря вырисовывались очертания какого-то большого ящика на четырех колесах.
Гуинплен узнал старый возок Урсуса.
Эта убогая деревянная лачуга, одновременно и возок и хижина, в которой протекло его детство, была прикреплена к подножию мачты толстыми канатами, продетыми сквозь колеса. Давно выйдя из употребления, она совершенно обветшала; ничто не действует так разрушительно на людей и вещи, как праздность; лачуга печально покосилась набок. От бездействия ее точно разбил паралич, не говоря уже о том, что она была больна неисцелимым недугом — старостью. Ее бесформенный, источенный червями остов производил впечатление совершенной развалины. Все, из чего она была сооружена, разрушалось: железные части заржавели, кожа потрескалась, дерево сгнило. Стекло переднего окошечка, сквозь которое проходил свет фонаря, было разбито. Колеса покривились. Стенки, потолок и оси обветшали и словно изнемогали от усталости. Все в целом носило на себе отпечаток чего-то бесконечно жалкого и молящего о пощаде. Торчавшие вверх оглобли походили на руки, воздетые к небу. Вся повозка расползалась по швам. Внизу висела цепь Гомо.
Казалось бы вполне законным и совершенно естественным, вновь обретя все, в чем заключается наша жизнь, наше счастье, наша любовь, броситься ко всему этому очертя голову. Да, но не в тех случаях, когда мы пережили глубокое потрясение. Человек, вышедший совершенно подавленным, обезумевшим из целого ряда катастроф, похожих на предательство, становится недоверчивым даже в радости, боится приобщить к своей злополучной судьбе тех, кого он любит, чувствует себя носителем зловещей заразы и даже к самому счастью подходит с опаской. Перед ним вновь раскрывается рай, но, прежде чем вступить в него, он боязливо всматривается.
Гуинплен, еле держась на ногах от волнения, глядел на родное жилище.
Волк тихо улегся рядом со своей цепью.
Глава 99
Баркильфедро метил в ястреба, а попал в голубку
Подножка возка была спущена, дверь приотворена; внутри никого не было, скудный свет, пробивавшийся сквозь переднее окошечко, смутно обрисовывал внутренность балагана, тонувшую в печальном полумраке. На обветшалых досках, служивших одновременно наружными стенами и внутренней обшивкой, еще можно было (разобрать надписи, сделанные Урсусом и прославлявшие величие лордов. Близ двери Гуинплен увидел свой кожаный нагрудник и рабочий костюм, висевшие на гвозде, как одежда покойника в морге.
На Гуинплене не было ни кафтана, ни камзола.
Возок загораживал собою какой-то предмет, лежавший на палубе у подножия мачты и освещенный фонарем. Это был край тюфяка, видневшийся из-за повозки. На тюфяке, очевидно, кто-то лежал. По палубе двигалась какая-то тень.
Слышался чей-то голос. Гуинплен, притаившись за возком, стал прислушиваться.
Говорил Урсус.
Этот голос, казавшийся столь грубым, но скрывавший такую нежность, так часто бранивший Гуинплена с самого детства и так хорошо его воспитавший, теперь утратил свою звучность и живость. Он стал глухим, вялым и беспрестанно прерывался вздохами. Лишь отдаленно напоминал он прежний ясный и твердый голос Урсуса. Он принадлежал человеку, похоронившему свое счастье. Голос тоже может стать тенью.
Урсус, казалось, говорил сам с собою. У него, как известное была привычка к монологам. Из-за этого многие считали его помешанным.
Гуинплен затаил дыхание, чтобы не проронить ни слова из того, что говорил Урсус, и вот что он услыхал:
— Суда такого типа очень опасны. У них нет бортов. Ничего не стоит скатиться в море. Если разыграется непогода, Дею придется перенести в трюм, а это будет ужасно. Одно неловкое движение, малейший испуг, и у нее может сделаться разрыв сердца. Я видал такие примеры. Ах, боже мой, что с нами будет! Спит она? Да, спит. Кажется, спит. А может быть, она без сознания? Нет. Пульс хороший. Наверное, она спит. Сон — это отсрочка. Благодетельная слепота! Как бы устроить, чтобы никто здесь не ходил? Господа, если кто-нибудь тут есть на палубе, прошу вас, не шумите. Не подходите сюда, если можно. Нужно бережно обращаться с людьми слабого здоровья. У нее лихорадка, видите ли. Она совсем еще молоденькая. У этой девочки горячка. Я вытащил ее тюфяк на воздух, чтобы ей легче было дышать. Я объясняю это для того, чтобы вы были осторожнее. От усталости она свалилась на тюфяк, словно лишилась чувств. Но она спит. Очень прошу — не будите ее. Обращаюсь к женщинам, если здесь есть леди. Как не пожалеть молоденькую девушку? Мы только бедные фигляры, будьте снисходительны к нам; если нужно заплатить, чтобы не шумели, я готов заплатить. Благодарю вас, милостивые государи и милостивые государыни. Есть здесь кто-нибудь? Нет. Кажется, никого. Я трачу слова впустую. Тем лучше. Господа, благодарю вас, если вы здесь, но еще больше вам признателен, если вас нет. — На лбу у нее капельки пота. — Ну что ж, вернемся на каторгу. Опять впряжемся в лямку. К нам возвратилась нищета. Нам снова приходится положиться на волю волн. Чья-то рука, страшная рука, которой мы не видим, но которую постоянно чувствуем над собой, внезапно повернула нашу судьбу в худшую сторону. Пусть так, не будем терять мужества. Только бы она не хворала. Глупо, что я говорю вслух с самим собой, но надо же, чтобы она почувствовала, если проснется, что рядом с нею кто-то есть. Лишь бы только не разбудили ее внезапно. Не шумите, ради бога. Всякий толчок, малейшее волнение может ей повредить. Будет ужасно, если здесь начнут ходить. Мне кажется, на судне все спят. Благодарю провидение за эту милость. А где же Гомо? Во всей этой суматохе я забыл посадить его на цепь. Я сам не знаю, что делаю. Вот уже больше часу, как я его не видел. Он, верно, ушел промышлять себе ужин. Лишь бы с ним ничего дурного не случилось Гомо! Гомо!
Волк тихо застучал хвостом по палубе.
— А, ты здесь! Слава богу! Потерять еще и Гомо — это было бы слишком. Она шевелит рукой. Она, пожалуй, сейчас проснется. Тише, Гомо! Начинается отлив. Сейчас мы отчалим. По-моему, ночь будет спокойной. Ветер затих. Вымпел повис вдоль мачты, плаванье будет благополучным. Я не вижу, где луна, но облака еле движутся. Качки не будет. Погода будет хорошая. Как она бледна! Это от слабости. Нет, щеки у нее горят. Это лихорадка. Да нет, она порозовела. Значит, она здорова. Я ничего не могу разобрать. Мой бедный Гомо, я уже ничего не понимаю. Итак, надо начинать жизнь сызнова. Надо будет опять приняться за работу. Ведь нас теперь только двое. Мы с тобой будем работать для нее. Это наше дитя. А! Судно тронулось. Отправляемся. Прощай, Лондон! Добрый вечер, доброй ночи, к черту! Ах, проклятый Лондон!
Судно действительно стало понемногу отчаливать от берега. Расстояние между ним и пристанью все увеличивалось. На другом конце судна, на корме, стоял человек, очевидно судовладелец; он только что вышел из каюты и, отдав причал, взялся за руль. Человек этот, отличавшийся хладнокровием моряка и флегматичностью голландца, устремил все свое внимание на фарватер; он ничего не видел, кроме поверхности воды, ничего не слышал, кроме шума ветра; еле выделяясь в темноте, он походил на призрак и медленно двигался по палубе от одного края кормы к другому, согнувшись под тяжестью румпеля. Он был один на палубе. Пока судно шло по реке, ему не нужны были помощники. Через несколько минут шхуна поплыла по течению. Ни боковой, ни килевой качки не было. Почти не нарушая спокойствия Темзы, волна отлива быстро увлекала судно. За ним в тумане уменьшался черный силуэт Лондона.
Урсус продолжал:
— Все равно, я дам ей выпить настоя наперстянки. Боюсь, как бы у нее не начался бред. Ладони у нее влажные. Но чем же это мы прогневили бога? Как неожиданно пришла беда! Как торопится обрушиться на нас несчастье! Коршун падает камнем, вонзает когти в жаворонка. Такова судьба. И вот ты слегла, моя дорогая малютка. Приезжаем в Лондон, думаем: вот большой город с прекрасными монументами, вот Саутворк, великолепное предместье. Поселяемся. А оказывается, что это ужасная страна. Что прикажете делать? Я рад, что уезжаю. Сегодня — тридцатое апреля. Я всегда опасался апреля; в этом коварном месяце только два счастливых дня: пятое и двадцать седьмое, а несчастливых четыре: десятое, двадцатое, двадцать девятое и тридцатое. Это неопровержимо доказано вычислениями Кардано. Хоть бы поскорее миновал нынешний день. Хорошо, что мы уже отчалили. На рассвете будем в Гревсенде, а завтра вечером в Роттердаме. Ну что же, черт возьми, опять примемся за прежнюю жизнь, опять будем тащить на себе наш возок, не правда ли, Гомо?
В знак согласия волк тихо стукнул о палубу хвостом.
Урсус продолжал:
— Если б можно было так же легко расстаться со своим горем, как расстаешься с городом! Гомо, мы могли бы быть еще счастливы. Но увы, нам всегда будет кого-то не хватать. Тень умершего всегда остается с тем, кто его пережил. Ты знаешь, о ком я говорю, Гомо. Нас было четверо, теперь нас только трое. Жизнь — лишь длинная цепь утрат любимых нами существ. Идешь и оставляешь за собою вереницу скорбей. Рок оглушает человека, осыпая его градом невыносимых страданий. Как после этого удивляться, что старики вечно твердят одно и то же? Они глупеют от отчаяния. Мой славный Гомо, все еще дует попутный ветер. Уже совсем не видать купола святого Павла. Мы сейчас пройдем мимо Гринича. Это значит — отхватили добрых шесть миль. Ах, меня всегда воротит от этих мерзких столиц, кишащих священниками, судьями и чернью. Я предпочитаю видеть, как колышутся листья в лесу. А лоб у нее все еще влажный! Не нравятся мне эти вздувшиеся выше локтя лиловые вены. Это у нее от жара. Ах, все это меня убивает! Спи, дитя мое. О да, она спит.
В эту минуту послышался неизъяснимо нежный голос, казалось, звучавший издалека, доносившийся одновременно я с высоты небес и из глубин земли, чудесный и страдальческий голос Деи.
Все, что Гуинплен до сих пор испытал, сразу было позабыто. Говорил его ангел. Ему чудилось, что он слышит слова, произносимые где-то за пределами жизни, как бы в блаженном забытьи. Голос говорил:
— Он хорошо сделал, что ушел. Этот мир не для него. Только и мне нужно уйти вслед за ним. Отец, я не больна, я слышала все, что вы говорили; мне хорошо, я чувствую себя прекрасно; я спала. Отец, я буду счастлива.
— Дитя мое, — с тоскою спросил Урсус, — что ты хочешь этим сказать?
— Отец, не огорчайтесь, — ответила Дея.
Наступила пауза; очевидно, она перевела дух, затем до Гуинплена донеслись медленно произнесенные слова:
— Гуинплена больше нет. Теперь я действительно слепа. Раньше я не знала ночи. Ночь — это разлука.
Голос ее опять прервался, потом снова зазвенел:
— Я всегда боялась, что он улетит; я знала, что он спустился ко мне с неба. И вот он исчез. Этого и нужно было ожидать. Душа улетает, как птица. Но гнездо души находится в глубине, там, где скрыт великий магнит, притягивающий к себе все; я хорошо знаю, где можно найти Гуинплена. Поверьте, я найду к нему дорогу. Отец, он там. Позднее и вы будете с нами. И Гомо тоже.
Услышав свое имя, Гомо слегка ударил хвостом по палубе.
— Отец, — продолжал голос, — вы же понимаете — все кончено с тех пор, как Гуинплена нет. Если бы я и хотела, я не могла бы здесь остаться: без воздуха нечем дышать. Не надо требовать невозможного. Когда со мною был Гуинплен, я жила — это было так просто. Теперь Гуинплена больше нет, и я умираю. Либо он должен вернуться, либо я должна умереть. Но так как возвратиться он не может, я ухожу сама. Так хорошо умереть! Это совсем не страшно. Отец, то, что гаснет здесь, вновь зажигается там. Когда живешь, постоянно чувствуешь, как от боли сжимается сердце. Нельзя же страдать вечно. И вот люди уходят, как вы говорите, к звездам, там сочетаются браком, не расстаются никогда и любят, любят друг друга; это и есть царство небесное.
— Ну, не волнуйся так, — сказал Урсус.
Голос продолжал:
— В прошлом году, весной, мы были вместе, были счастливы, не то что теперь. Я уж не помню где, в каком-то маленьком городке; там шелестели деревья, и я слышала пение малиновок. Потом мы приехали в Лондон, и все переменилось. Я никого не упрекаю. Перебираясь на новое место, никто не знает, что там случится. Помните, отец, однажды вечером в большой ложе сидела женщина, которую вы называли герцогиней? Мне стало грустно. Я думаю, было бы лучше избегать больших городов. Но Гуинплен поступил хорошо. Теперь моя очередь. Вы сами мне рассказывали, что я была совсем малюткой, когда моя мать умерла, что я ночью лежала на земле и снег падал на меня, а Гуинплен тогда тоже был ребенком и тоже совершенно одиноким; он подобрал меня, и лишь потому я осталась в живых; не удивляйтесь же, если я сегодня должна покинуть вас и уйти в могилу, чтобы узнать, там ли Гуинплен. Ведь единственное, что у нас есть при жизни, — это сердце, а когда жизнь кончится, — душа. Отец, вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Что это колышется? Мне кажется, будто наш дом движется. Однако я не слышу стука колес.
После некоторого перерыва голос Деи продолжал:
— Я немного путаю вчерашний и нынешний день. Я не жалуюсь. Я не знаю, что произошло, но словно чувствую какую-то перемену.
Слова эти были произнесены с кроткой, но безутешной грустью, и до Гуинплена донесся слабый вздох.
— Я должна уйти, если только он не вернется.
Урсус угрюмо буркнул вполголоса:
— Не верю я в выходцев с того света.
И продолжал:
— Это судно. Ты спрашиваешь, почему движется дом? Потому что мы плывем на шхуне. Успокойся. Тебе вредно много говорить. Если ты хоть немного любишь меня, дочурка, не волнуйся, не доводи себя до горячки. Я стар и не перенесу твоей болезни. Пожалей меня, не хворай.
Снова зазвучал голос Деи:
— Зачем искать на земле то, что можно найти только на небе?
Урсус возразил, пытаясь придать своему голосу повелительный тон:
— Успокойся! Иногда ты совсем ничего не соображаешь. Ты должна лежать смирно. В конце концов тебе незачем знать, что такое полая вена. Если ты успокоишься, я тоже буду спокоен. Дитя мое, подумай немного и обо мне. Он тебя подобрал, но я тебя приютил. Ты сама себе вредишь. Это плохо. Ты должна успокоиться и заснуть. Все будет хорошо. Даю тебе честное слово, все будет хорошо. Погода отличная. Как будто нарочно установилась для нас. Завтра мы будем в Роттердаме, это город в Голландии, у самого устья Мааса.
— Отец, — произнес голос, — когда с детства живешь неразлучно друг с другом, нельзя расставаться, лучше умереть, так как другого выхода нет. Я очень люблю вас, но чувствую, что я уже не с вами, хотя еще и не с ним.
— Ну, попробуй опять заснуть, — уговаривал Урсус.
— О, мне еще предстоит спать долгим, долгим сном.
Голосом, дрожащим от волнения, Урсус возразил:
— Говорю тебе, мы едем в Голландию, в город Роттердам.
— Отец, — продолжал голос, — я вовсе не больна; если это вас тревожит, вы можете не волноваться, лихорадки у меня нет, мне только немного жарко, вот и все.
Урсус пробормотал:
— У самого устья Мааса.
— Мне хорошо, отец, но я чувствую, что умираю.
— Как тебе не стыдно говорить такую чушь! — проворчал Урсус.
И прибавил:
— Господи, лишь бы только что-нибудь ее не взволновало.
Наступило молчание.
Вдруг Урсус вскрикнул:
— Что ты делаешь? Зачем ты встаешь? Умоляю тебя, лежи!
Гуинплен вздрогнул и выглянул из-за повозки.
Глава 100
Рай, вновь обретённый на земле
Он увидал Дею. Она стояла на тюфяке, выпрямившись во весь рост. На ней было длинное белое платье, наглухо застегнутое, позволявшее видеть только верхнюю часть плеч и нежную шею. Рукава спускались ниже локтей, складки платья скрывали ее ступни. На кистях рук выступала сеть голубых жилок, вздувшихся от лихорадки. Молодая девушка не шаталась, но вся дрожала и трепетала, как тростник. Фонарь освещал ее снизу. Лицо ее было невыразимо прекрасно. Распущенные волосы ниспадали на плечи. Ни одна слезинка не скатилась по ее щекам. Но глаза ее горели мрачным огнем. Она была бледна той бледностью, которая является как бы отражением божественной жизни на человеческом лице. Ее тонкий, хрупкий стан точно слился с ее одеждой. Вся она колебалась, словно пламя на ветру. В то же время чувствовалось, что она уже становится тенью. Широко раскрытые глаза сверкали ярким блеском. Она казалась бесплотным призраком, душой, воспрянувшей в лучах зари.
Урсус, стоявший к Гуинплену спиною, в испуге всплеснул руками:
— Дочурка моя! Ах, господи, у нее начинается бред. Вот чего я так боялся. Малейшее потрясение может ее убить или свести с ума. Смерть или безумие. Какой ужас! Что делать, боже мой? Ложись, доченька!
Но Дея снова заговорила. Ее голос был еле слышен, как будто некое облако уже отделяло ее от земли.
— Отец, вы ошибаетесь. Это не бред. Я прекрасно понимаю все, что вы говорите. Вы говорите, что собралось много народу, что публика ждет и что мне надо сегодня вечером играть; я согласна, видите, я в полном сознании, но я не знаю, как это сделать; ведь я умерла, и Гуинплен умер. Но все равно, я иду. Я готова играть. Вот я, но Гуинплена нет.
— Детка моя, — повторил Урсус, — послушайся меня. Ляг опять в постель.
— Его больше нет! Его больше нет. О, как темно!
— Темно, — пробормотал Урсус. — Она впервые в жизни произносит это слово.
Гуинплен бесшумно проскользнул в возок, снял с гвоздя свой костюм фигляра и нагрудник, надел их и вышел на палубу, скрытый от взоров балаганом, снастями и мачтой.
Дея продолжала что-то лепетать, едва шевеля губами; понемногу ее лепет перешел в мелодию. Она стала напевать, иногда умолкая и забываясь в бреду, таинственный призыв, с которым столько раз обращалась к Гуинплену в «Побежденном хаосе». Ее пение, звучал о неясно и было не громче жужжанья пчелы:
Noche, quita te de alli La alba canta… Она перебила сама себя:— Нет, это неправда, я не умерла. Что это я говорю? Увы! Я жива, а он умер. Я внизу, а он наверху. Он ушел, а я осталась. Я не слышу ни его голоса, ни его шагов. Бог дал нам на краткий миг рай на земле, а потом отнял его. Гуинплен! Все кончено. Я никогда больше не коснусь его рукой. Никогда. Его голос! Я больше не услышу его голоса.
И она запела:
Es rnenester a cielos ir… …Dexa, quiero, A tu negro Caparazon.Она простерла руку, словно ища опоры в пространстве.
Гуинплен, выступив из темноты и очутившись рядом с остолбеневшим от ужаса Урсусом, опустился перед нею на колени.
— Никогда! — говорила Дея. — Никогда я уже не услышу его!
И опять запела в полузабытьи:
Dexa, quiero А tu negro Caparazon!И тогда она услыхала голос любимого, отвечавший ей:
О ven! ama! Eres alma, Soy corazon.В ту же минуту Дея почувствовала под своей рукой голову Гуинплена. Из груди ее вырвался крик, звучавший невыразимой нежностью:
— Гуинплен!
Ее бледное лицо озарилось как бы звездным светом, в она пошатнулась.
Гуинплен подхватил ее на руки.
— Жив! — вскрикнул Урсус.
Дея повторила:
— Гуинплен!
Прижавшись головой к щеке Гуинплена, она прошептала:
— Ты опустился обратно с неба. Благодарю тебя.
Сидя на коленях у Гуинплена, сжимавшего ее в объятиях, она обратила к нему свое кроткое лицо и устремила на него слепые, но лучезарные глаза, словно могла видеть его.
— Это ты! — промолвила она.
Гуинплен осыпал поцелуями ее платье. Бывают речи, в которых слова, стоны и рыдания представляют неразрывное целое. В них слиты воедино и выражаются одновременно и восторг и скорбь. Они не имеют никакого смысла и вместе с тем говорят все.
— Да, я! Это я! Я, Гуинплен! А ты — моя душа, слышишь? Это я, дитя мое, моя супруга, моя звезда, мое дыхание! Ты — моя вечность! Это я! Я здесь, я держу тебя в своих объятиях. Я жив! Я твой! Ах, подумать только, что я хотел покончить с собой! Еще одно мгновенье и, не будь Гомо… Я расскажу тебе об этом после. Как близко соприкасается радость с отчаянием! Будем жить, Дея! Дея, прости меня! Да, я твой навсегда! Ты права: дотронься до моего лба, убедись, что это я. Если бы ты только знала! Но теперь уже ничто не в силах нас разлучить. Я вышел из преисподней и возношусь на небо. Ты говоришь, что я спустился с неба, — нет, я подымаюсь туда. Вот я опять с тобою. Навеки, слышишь ли? Вместе! Мы вместе! Кто бы мог подумать? Мы снова нашли друг друга. Все дурное кончилось. Впереди нас ждет блаженство. Мы опять заживем счастливо и запрем двери нашего рая так плотно, что никакому горю уже не удастся к нам проникнуть. Я расскажу тебе все. Ты удивишься. Судно отошло от берега. Никто не может теперь его задержать. Мы в пути, и мы свободны. Мы направляемся в Голландию, там мы обвенчаемся; я не боюсь, я добуду средства к жизни, — кто может помешать мне в этом? Нам ничего больше не угрожает. Я обожаю тебя.
— Умерь-ка свой пыл! — буркнул Урсус.
Дея, замирая от блаженства, трепетной рукой провела по лицу Гуинплена. Он услышал, как она прошептала:
— Такое лицо должно быть у бога.
Затем дотронулась до его одежды.
— Нагрудник, — сказала она. — Его куртка. Ничего не изменилось. Все как прежде.
Урсус, ошеломленный, вне себя от радости, смеясь и обливаясь слезами, смотрел на них и разговаривал сам с собой:
— Ничего не понимаю. Я круглый идиот. Ведь я же сам видел, как его несли хоронить! Я плачу и смеюсь. Вот и все, на что я способен. Я так же глуп, как если бы сам был влюблен. Да я и на самом деле влюблен. Влюблен в них обоих. Ах, я старый дурак! Не слишком ли много для нее волнений? Как раз то, чего я опасался. Нет, как раз то, чего я желал. Гуинплен, побереги ее! Впрочем, пусть целуются. Мне-то что за дело? Я лишь случайный свидетель. Какое странное чувство! Я — паразит, пользующийся чужим счастьем. Я тут ни при чем, а между тем мне кажется, что и я приложил к этому руку. Благословляю вас, дети мои!
В то время как Урсус произносил свой монолог, Гуинплен говорил Дее:
— Ты слишком прекрасна, Дея. Не знаю, где был у меня рассудок в эти дни. Кроме тебя, на земле для меня нет никого. Я снова вижу тебя и глазам своим не верю. На этой шхуне! Но объясни, что с вами произошло? Ах, до чего вас довели! Где же «Зеленый ящик»? Вас ограбили, вас изгнали! Какая низость! О, я отомщу за вас! Отомщу за тебя, Дея! Им придется иметь дело со мной. Ведь я пэр Англии.
Урсус, которого последние слова точно обухом ударили по голове, отшатнулся и внимательно посмотрел на Гуинплена.
— Он не умер — это ясно, но не рехнулся ли он?
И недоверчиво насторожился.
Гуинплен продолжал:
— Будь спокойна, Дея. Я подам жалобу в палату лордов.
Урсус еще раз пристально взглянул на него и постучал пальцем себя по лбу.
Потом, очевидно приняв какое-то решение, пробормотал:
— Все равно. Это дела не меняет. Будь сумасшедшим, если тебе так нравится, мой Гуинплен. Это — право каждого из нас. Во всяком случае я счастлив. Но что означает все это?
Судно легко и быстро двигалось вперед; ночь становилась все темнее и темнее; туман, наплывавший с океана, благодаря безветрию, поднимался вверх и заволакивал небо, сгущаясь в зените; можно было различить только несколько крупных звезд, но вскоре они исчезли одна за другой, и над головами людей, находившихся на палубе, простерлась сплошная черная пелена спокойного бескрайнего неба. Река становилась все шире, берега ее казались темными узкими полосками, почти сливавшимися с окружающим мраком. Ночь дышала глубоким покоем. Гуинплен присел, держа в объятиях Дею. Они говорили, обменивались восклицаниями, лепетали, шептались. Бессвязный, взволнованный диалог. Как описать тебя, о радость!
— Жизнь моя!
— Небо мое?
— Любовь моя!
— Счастье мое!
— Гуинплен!
— Дея! Я пьян тобою! Дай мне поцеловать твои ноги!
— Так это ты?
— Мне так много надо сказать. Не знаю, с чего начать.
— Поцелуй меня!
— Жена моя!
— Не говори мне, Гуинплен, что я хороша собой. Это ты красавец.
— Я опять нашел тебя, я прижимаю тебя к сердцу. Да, ты моя. Я не грежу наяву. Это ты. Возможно ли? Да. Я снова оживаю. Если бы ты знала, что мне пришлось испытать, Дея!
— Гуинплен!
— Люблю тебя!
А Урсус шептал про себя:
— Я радуюсь, как дедушка.
Гомо вылез из-под возка и, неслышно ступая, переходил от одного к другому; не притязая ни на чье внимание, он лизал наудачу все, что попадалось, — грубые сапоги Урсуса, куртку Гуинплена, платье Деи, тюфяк. Это был его волчий способ изъявлять радость.
Миновали Четэм и устье Медуэя. Приближались к морю. Черная гладь реки была так спокойна, что шхуна спускалась вниз по течению Темзы без малейшего труда; незачем было прибегать к парусам, и матросов не вызывали на палубу. Судохозяин, по-прежнему один у руля, управлял шхуной. Кроме него на корме не было ни души; на носу фонарь освещал горсточку счастливых людей, неожиданно встретившихся снова и в пучине скорби внезапно обретших блаженство.
Глава 101
Нет, на небесах
Вдруг Дея, высвободившись из объятий Гуинплена, привстала. Она прижала обе руки к сердцу, словно желая сдержать его биение.
— Что со мной? — оказала она. — Мне трудно дышать. Но это ничего. Это от радости. Это хорошо. Я сражена твоим появлением, мой Гуинплен. Сражена внезапным счастьем. Что может быть упоительнее мгновения, когда все небо нисходит нам в сердце? Без тебя я чувствовала, что умираю. Ты возвратил меня к жизни. Точно раздвинулась какая-то тяжелая завеса, и я почувствовала, как в грудь мою хлынула жизнь, кипучая жизнь, полная волнений и восторгов. Как необычайна эта жизнь, которую ты пробудил во мне! Она так чудесна, что мне даже больно. Мне кажется, что душа моя становится все шире и ей как будто тесно в теле. Эта полнота жизни, это блаженство охватывает меня всю, пронизывает меня. У меня точно выросли крылья, — я чувствую, как они трепещут. Мне немного страшно, но я очень счастлива. Ты воскресил меня, Гуинплен.
Она вспыхнула, потом побледнела, затем снова разрумянилась и вдруг упала.
— Увы! — сказал Урсус. — Ты убил ее!
Гуинплен простер руки к Дее. Какое страшное потрясение — переход от высочайшего блаженства к глубочайшему отчаянию. Гуинплен сам упал бы, если бы ему не нужно, было поддержать ее.
— Дея! — вскрикнул он, весь задрожав. — Что с тобой?
— Ничего, — ответила она. — Я люблю тебя.
Она безжизненно лежала у него в объятиях. Руки ее беспомощно повисли. Гуинплен и Урсус уложили ее на тюфяк.
Она прошептала слабым голосом:
— Мне трудно дышать лежа.
Они посадили ее.
Урсус спросил:
— Дать тебе подушку?
Она ответила:
— Зачем? Ведь у меня есть Гуинплен.
И она прислонилась головой к плечу Гуинплена, который сел позади и поддерживал ее; в глазах его отражались отчаяние и растерянность.
— Ах, как мне хорошо! — сказала она.
Урсус взял ее руку и считал пульс. Он не качал головой, не говорил ни слова, и о том, «что он думал, можно было догадаться лишь по быстрым движениям его век, судорожно мигавших, словно для того, чтобы удержать готовые политься слезы.
— Что с нею? — опросил Гуинплен.
Урсус приложил ухо к левому боку Деи.
Гуинплен нетерпеливо повторил свой вопрос, с трепетом ожидая ответа.
Урсус посмотрел на Гуинплена, потом на Дею. Он был мертвенно бледен.
— Мы, должно быть, находимся на высоте Кентербери, — сказал он. — Расстояние отсюда до Гревсенда не очень велико. Тихая погода продержится всю ночь. На море нам нечего бояться нападения, потому что весь военный флот крейсирует у берегов Испании. Наш переезд совершится вполне благополучно.
Дея, бессильно склонясь и все более бледнея, судорожно мяла в руках складки своего платья. Погруженная в раздумье о чем-то, не передаваемом никакими словами, она глубоко вздохнула:
— Я понимаю, что со мной. Я умираю.
Гуинплен в ужасе вскочил. Урсус подхватил Дею.
— Умираешь? Ты умираешь? Нет, не может этого быть. Не можешь ты умереть. Умереть теперь? Умереть сейчас? Но это невозможно. Бог не так жесток. Возвратить тебя для того, чтобы в ту же минуту отнять снова? Нет, так не бывает. Ведь это значило бы, что бог хочет, чтобы мы усомнились в нем. Это значило бы, что все, все обман — и земля, и небо, и сердце, и любовь, и звезды. Ведь это значило бы, что бог — предатель, а человек — обманутый глупец… Ведь это значило бы, что нельзя верить ни во что, что надо проклясть весь мир, что все — бездна. Ты сама не знаешь, что говоришь, Дея. Ты будешь жить! Я требую, чтобы ты жила. Ты должна мне повиноваться. Я твой муж и господин. Я запрещаю тебе покидать меня. О небо! О несчастные люди! Нет, это невозможно. И я останусь на земле один, без тебя? Да это было бы так чудовищно, что самое солнце померкло бы! Дея, Дея, приди в себя. Это у тебя ненадолго, это сейчас пройдет. У человека бывает иногда вот такой озноб, а потом он забывает о нем. Мне нужно, мне необходимо, чтобы ты была здорова и больше не страдала. Ты хочешь умереть! Что я тебе сделал? При одной мысли об этом я теряю рассудок. Мы принадлежим друг другу. Мы любим друг друга. У тебя нет причин уходить. Это было бы несправедливо. Разве я совершил какое-нибудь преступление? Ведь ты же простила меня. О, ты ведь не хочешь, чтобы я впал в отчаяние, чтобы я стал злодеем, безумцем, осужденным на вечные муки! Дея, прошу тебя, заклинаю, умоляю, не умирай!
Судорожно схватив себя за волосы, в смертельном ужасе, задыхаясь от слез, он бросился к ее ногам.
— Мой Гуинплен, — сказала Дея, — я в этом не виновата.
На губах у нее выступила розовая пена, которую Урсус вытер краем ее одежды; Гуинплен, лежавший ничком, не замечал ничего. Он обнимал ее ноги и бессвязно молил:
— Говорю тебе, я не хочу! Я не перенесу твоей смерти. Умрем, но вместе. Только вместе. Тебе — умереть, Дея! Я никогда не соглашусь на это! Божество мое! Любовь моя! Пойми же, я здесь. Клянусь тебе, ты будешь жить! Умереть? Ты, значит, не представляешь себе, что будет со мною после твоей смерти. Если бы ты только Знала, как ты мне нужна, ты бы поняла, что это решительно невозможно, Дея! Ведь кроме тебя у меня никого нет. Со мною случилось нечто необычайное. Представь себе, я только что пережил за несколько часов целую жизнь. Я убедился в том, что на свете нет ровно ничего. Существуешь только ты, ты одна. Если не будет тебя, мир не будет иметь никакого смысла. Сжалься надо мной! Живи, если ты любишь меня. Я нашел тебя вновь не для того, чтобы сейчас же утратить. Погоди немного. Нельзя же уходить, едва успев свидеться. Успокойся! О господи, как я страдаю! Ты ведь не сердишься на меня, правда? Ты ведь понимаешь, что я не мог поступить иначе, так как за мной пришел жезлоносец. Вот увидишь, тебе сейчас станет легче дышать. Дея, уже все прошло. Мы будем счастливы. Не повергай меня в отчаяние! Дея! Ведь я не сделал тебе ничего дурного.
Слова эти он не выговорил, а прорыдал. В них чувствовались и скорбь и возмущение. Из груди Гуинплена вырывались жалостные стоны, которые привлекли бы голубку, и дикие вопли, способные устрашить льва.
Голосом все менее и менее внятным, прерывающимся почти на каждом слове, Дея ответила:
— Увы, зачем ты говоришь так! Любимый мой, я верю, что ты сделал бы все, что мог. Час назад мне хотелось умереть, а теперь я уже не хочу этого. Гуинплен, мой обожаемый Гуинплен, как мы были счастливы! Бог послал тебя мне, а теперь отнимает меня у тебя. Я ухожу. Ты не забудешь «Зеленого ящика», правда? И своей бедной слепой Деи? Ты будешь вспоминать мою песенку. Не забывай звука моего голоса, не забывай, как я говорила тебе: «Люблю тебя». Я буду возвращаться по ночам и повторять тебе это, когда ты будешь спать. Мы снова встретились, но радость была слишком велика. Это не могло продолжаться. Я ухожу первая, так решено. Я очень люблю моего отца Урсуса и нашего брата Гомо. Вы все добрые. Как здесь душно! Распахните окно! Мой Гуинплен, я не говорила тебе этого, но однажды я приревновала тебя к женщине, которая приезжала к нам. Ты даже не знаешь, о ком я говорю. Не правда ли? Укройте мне руки. Мне немного холодно. А где Фиби и Винос? В конце концов начинаешь любить всех. Нам приятны люди, которые видели нас счастливыми. Чувствуешь к ним благодарность за то, что они были свидетелями нашей радости. Почему все это миновало? Я не совсем понимаю, что произошло за последние два дня. Теперь я умираю. Оставьте на мне вот это платье. Когда я надевала его, я так и думала, что оно будет моим саваном. Пусть меня похоронят в нем. На нем поцелуи Гуинплена. Ах, как мне хотелось бы еще жить! Как нам чудесно жилось в нашем возке! Мы пели. Я слышала рукоплескания. Как это было хорошо — никогда не разлучаться! Мне казалось, что мы живем, окутанные облаком. Я отдавала себе отчет во всем, различала один день от другого; несмотря на свою слепоту, я знала, когда наступает утро, потому что слышала голос Гуинплена, и знала, когда наступает ночь, потому что видела Гуинплена во сне. Я чувствовала, что меня окружает нежное, теплое облако: это была его душа. Мы так долго любили друг друга. Теперь конец, не будет больше песен. Увы! Неужели жизнь кончилась? Ты будешь помнить обо мне, мой любимый?
Голос ее постепенно ослабевал. Жизнь явно ее покидала, ей уже не хватало дыхания. Она судорожно сжимала пальцы — знак приближения последней минуты. Предсмертное хрипение девушки уже переходило с лепет ангела.
Она прошептала:
— Вы будете вспоминать обо мне, неправда ли? Мне было бы грустно умереть, зная, что никто не вспомнит обо мне. Иногда я бывала злая. Простите меня, прошу вас. Я уверена, что, будь на то воля божья, мы могли бы быть очень счастливы, нам ведь нужно так немного, мой Гуинплен; мы зарабатывали бы себе на жизнь и поселились бы вместе в чужих краях; но господь не захотел этого. Я не знаю, почему я умираю. Я ведь не жаловалась на свою слепоту, я никого не обижала. Каким счастьем было бы для меня навеки остаться слепой, никогда с тобой не разлучаясь! Ах, как горько расставаться!
Она прерывисто дышала, ее слова угасали одно за другим, точно огоньки, задуваемые ветром. Ее уже почти не было слышно.
— Гуинплен, — шептала она, — не правда ли, ты будешь помнить обо мне? Мне это будет нужно, когда я умру.
И прибавила:
— Ах, удержите меня!
Потом, помолчав, шепнула:
— Приходи ко мне как можно скорее! Даже у бога я буду несчастной без тебя. Не оставляй меня слишком долго одну, мой милый Гуинплен! Рай был здесь, на земле. Там, наверху, только небо. Ах, я задыхаюсь! Мой любимый! Мой любимый! Мой любимый!
— Сжалься! — крикнул Гуинплен.
— Прощай! — прошептала она.
— Сжалься! — повторил Гуинплен.
И прильнул губами к прекрасным холодеющим рукам Деи.
Одно мгновение она, казалось, уже не дышала.
Вдруг она приподнялась на локтях, глаза ее вспыхнули ярким блеском, и на лице появилась неизъяснимая улыбка.
Ее голос обрел неожиданную звонкость.
— Свет! — вскрикнула она. — Я вижу!
И, упав навзничь, она вся вытянулась и застыла на тюфяке.
Бедный старик, словно раздавленный тяжестью отчаяния, припал лысой головой к ногам Деи и, рыдая, зарылся лицом в складки ее одежды. Он лишился сознания.
Гуинплен был страшен.
Он вскочил на ноги, поднял голову и стал пристально всматриваться в расстилавшееся перед ним бескрайнее черное небо.
Потом, никому не видимый, — разве только некоему незримому существу, присутствовавшему в этом мраке, — он простер руки кверху и сказал:
— Иду!
Он пошел по палубе шхуны, направляясь к ее борту, точно притягиваемый каким-то видением.
В нескольких шагах от него расстилалась бездна.
Он двигался медленно, не глядя себе под ноги.
Лицо его было озарено улыбкой, которая была у Деи перед смертью.
Он шел прямо, словно видя что-то перед собой. В глазах у него светился как бы отблеск души, парящей вдалеке.
Он крикнул:
— Да!
С каждым шагом он приближался к борту.
Он шел решительно, простирая кверху руки, с запрокинутой назад головой, пристально всматриваясь в одну точку, двигаясь, словно призрак.
Он не спешил, не колебался, ступая твердо и неуклонно, как будто перед ним была не зияющая пропасть, не отверстая могила.
Он шептал:
— Будь спокойна, я иду за тобою. Я хорошо вижу знак, который ты подаешь мне.
Он не сводил глаз с одной точки на небе, в самом зените. Он улыбался.
Небо было совершенно черно, звезд не было, но он, несомненно, видел какую-то звезду.
Он пересек палубу.
Еще несколько решительных роковых шагов, и он очутился на самом ее краю.
— Я иду, — сказал он. — Вот и я, Дея!
И продолжал идти. Палуба была без борта. Перед ним чернела пропасть. Он занес над ней ногу.
И упал.
Ночь была непроглядно темная, место глубокое. Вода поглотила его. Это было безмолвное исчезновение во мраке. Никто ничего не видел и не слышал. Судно продолжало плыть вперед, река по-прежнему катила свои волны.
Немного спустя шхуна вышла в океан.
Когда Урсус очнулся, Гуинплена уже не было. Он увидал только Гомо, стоявшего на самом краю палубы, глядя на море, волк жалобно выл в темноте.
Примечания к роману «Человек, который смеётся»
Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) — известный французский естествоиспытатель, автор многотомной «Естественной истории».
Плиний — имеется в виду Плиний Старший» (I в.) — римский писатель и ученый.
…шел по стопам и Гиппократа и Пандара. — Гиппократ (V–IV вв. до н. э.) — греческий врач-естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины. Пандар (VI–V вв. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик; известен своими одами.
…мое состязаться с Раненом и с Видой. — Ранен Никола (1540–1608) — французский поэт; писал по-французски и по-латыни. Вида Марк Иероним (1480–1568) — итальянский епископ и писатель, автор трактата «О поэтическом искусстве».
Салернская школа — известная в средние века медицинская школа, находившаяся в южноитальянском городе Салерно.
…отдавал предпочтение Галену перед Кардана… — Гален Клавдий (130–200) — римский врач и естествоиспытатель, оказал большое влияние на последующее развитие медицины; изучая анатомию, производил вскрытия на животных. Кардана Иеронимо (1501–1576) — итальянский математик, философ и медик, сторонник религиозно-мистического объяснения явлений природы.
Виола да гамба — старинный смычковый струнный музыкальный инструмент.
Шерифы, прево, маршалы — представители административной и судебной власти.
Джеффрис Джордж (1640–1689) — английский политический деятель; будучи главным судьей при Карле II, проявлял крайнюю жестокость.
Акротерион, или акротерий — лепное украшение на карнизе здания.
Караибы — немногочисленное индейское племя, жившее в Южной Америке; в XIX веке слово караибы было синонимом нецивилизованного народа.
Одного зовут Тюрлюпен, другого — Трибуле. — Тюрлюпен — прозвище французского комического актера Анри Леграна, бывшего шутом Людовика XIII. В молодости он был ярмарочным скоморохом. Трибуле — прозвище известного шута Людовика XII и Франциска I.
Мадам де Севинье Мари (1626–1696) — французская писательница; приобрела известность письмами к дочери, отразившими нравы французского дворянства XVII века.
Венсен де Поль — французский священник XVI века, известный своей благотворительностью. Основатель первого приюта для брошенных и искалеченных детей.
Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь (1611–1675) — французский полководец.
Сикстинская капелла — часовня в Ватикане — папском дворце в Риме; славилась своим хором, в котором партии женских голосов исполнялись кастратами.
Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) — французский епископ, придворный проповедник; идеолог абсолютизма, автор работ на богословские темы.
— …курфюрст Гессенский продавал… — В годы войны американских колоний за свою независимость (1775–1783) Англия посылала в Америку наемные войска, покупая для этого крестьян главным образом у немецких князей.
…после трагической авантюры герцога Монмута… — Герцог Монмут (1649–1685) — незаконный сын английского короля Карла II Стюарта, поднял в 1685 году восстание против вступившего на престол Иакова II; восстание было подавлено, Монмут казнен.
Пенн Вильям (1644–1718) — основатель английской колонии в Пенсильвании в Северной Америке.
Нельзя ведь наводнить Европу железными масками… — Имеется в виду легендарный таинственный узник, будто бы содержавшийся в Бастилии по приказу Людовика XIV; на голове заключенного была укреплена железная маска, никогда не снимавшаяся. Предполагалось, что король устранил таким образом одного из претендентов на престол.
…здесь играла роль тесная связь между католической Ирландией и католической Испанией. — В конце XVI века англичане, пользуясь междоусобными войнами ирландских феодалов, сгоняли ирландцев с их земель. На стороне ирландцев-католиков против англичан сражались также испанские и итальянские отряды. К концу XVI века сопротивление ирландцев было сломлено и последние ирландские феодальные поместья, в том числе Литрим, превращены в английские графства.
Аллегра Грегорио (1580–1652) — итальянский церковный композитор, автор известного хорала «Miserere» («Помилуй»).
Урки входили в состав Армады… — Имеется в виду Непобедимая Армада — флот, посланный Испанией против Англии в 1588 году; большая часть его кораблей погибла во время жестокой бури, остальные были разбиты соединенными силами английского и голландского флота. Гибель Армады явилась началом конца морского господства Испании.
Лампа Кардана — тип особо устойчивой подвесной лампы, употреблявшейся на кораблях.
Св. Крепин — католический святой, покровитель цеха сапожников.
…вроде панагии древних кантабров. — Панагия — изображение богоматери, которое носили на груди как амулет, предохраняющий от несчастья. Кантабры — племя, жившее в древности на севере Испании.
…напоминало расставание теней на берегу подземной реки Стикса. — Стикс — подземная река, через которую души умерших перевозились в царство мертвых (греч. миф.).
Палимпсест — в древности и в раннем средневековье — рукопись, написанная на пергаменте по смытому или соскобленному тексту.
Магеллан Фердинанд (ок. 1480–1621) — знаменитый португальский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие.
Сюркуф — французский корсар XVIII века, грабивший английские торговые суда.
Картуш — прозвище Луи Бургиньона, главаря воровской шайки, казненного в Париже в 1721 году.
Уроженец Лангедока орал: «caougagno!» — Во французском фольклоре — Кокань — сказочная страна изобилия.
Антарес — звезда первой величины в созвездии Скорпиона.
…и авгура древнего Рима. — Авгуры — в древнем Риме жрецы-прорицатели, предсказывавшие будущее по полету и пению птиц.
…уселся на ззельгофте… — Эзельгофт — часть снасти парусного корабля, служащая для крепления к мачте поперечной реи.
…эвменид… фурий… химеры… — Эвмениды (благосклонные) — так называли эринний (в древнегреческой мифологии — богини мщения), благосклонно относившихся к раскаявшимся преступникам. Фурии — богини мщения в древнеримской мифологии. Химеры — сказочные чудовища (греч. миф.).
…после гибели «Бланш-Нефа»… — Имеется в виду французский корабль «Бланш-Неф», погибший в проливе Ла-Манш.
Сцилла и Харибда — скалы-чудовища, бывшие причиной гибели многих мореплавателей (греч. миф.).
Жан Барт — французский моряк, живший в XVII веке. За исключительную храбрость во время войны Франции с Голландией получил от Людовика XIV звание дворянина и был назначен командующим эскадры.
Арпан — старинная французская мера земли — около 0,5 гектара.
Георг III — английский король (1760–1820); активно поддерживал европейскую реакцию в ее борьбе против французской буржуазной революции 1789 года.
Рубенс Питер (1577–1640) — великий фламандский художник.
Филоксен (V–IV вв. до н. э.) — древнегреческий писатель, живший в Сиракузах. Был известен своим остроумием.
Анаксагор (V–IV вв. до н. э.) — древнегреческий философ, непоследовательный материалист.
Гарвей Вильям (1578–1658) — английский врач, открывший систему кровообращения.
Кеплер Иоганн (1571–1630) — немецкий астроном.
Кромвель Оливер (1599–1658) — крупнейший деятель английской буржуазной революции XVII века; с 1653 по 1658 год — лорд-протектор, фактический диктатор Англии. Сыграл прогрессивную роль в борьбе за ниспровержение старого общественного порядка в стране.
Карл II Стюарт — английский король (1660–1685). Сын казненного Карла I, нашедший во время английской революции убежище при французском дворе; был возведен на престол буржуазией и обуржуазившейся аристократией, стремившимися восстановить монархию из страха перед углублением революции.
…между Шильоном, где был заточен Бонивар, и Веве, где похоронен Ледло. — Шильон — имеется в виду Шильонский замок, построенный на скале среди Женевского озера. В XVI веке его подземелье служило тюрьмой. Здесь с 1530 по 1536 год был заключен швейцарский республиканец Франсуа Бонивар (1493–1570), судьба которого послужила сюжетом поэмы Байрона «Шильонский узник». Веве — город в Швейцарии. Ледло Эдмунд (1620–1693) — деятель английской буржуазной революции XVII века, после ее поражения бежал в Швейцарию, где прожил до самой смерти.
…он продал Дюнкерк Франции… — В 1662 году Карл II, находившийся в тайном сговоре с французским королем Людовиком XIV, изменнически продал Франции морскую крепость Дюнкерк, опорный пункт англичан на севере Франции.
Монк Джордж (1608–1669) — английский генерал, ближайший помощник Кромвеля, политический авантюрист; в 1660 году содействовал реставрации в Англии Стюартов.
Только потому, что я Тримальхион, вы считаете меня неспособным быть Катаном? — Тримальхион — персонаж романа «Сатирикон» римского писателя Петрония (I в.); нарицательное имя богача, предающегося излишествам. Катон — здесь имеется в виду Марк Порций Катон Старший (III–II вв. до н. э.) — римский государственный деятель. Его имя являлось нарицательным для человека сурового образа жизни и строгих принципов.
Фронда — социально-политическое движение французского феодального дворянства XVII века против абсолютизма.
Мазарини Жюль (1602–1661) — первый министр и фактический правитель Франции в годы малолетства Людовика XIV. Во время протектората Кромвеля вынужден был, оберегая торговые интересы французской буржуазии, добиваться восстановления дипломатических отношений с Англией.
Восстание Мазаньелло — под предводительством Томазо Маваньелло в Неаполе в 1647 году произошло восстание против испанских поработителей.
Тромп Мартин Гапперц (1597–1653) — голландский адмирал; после ряда побед над испанским и английским флотом был разбит англичанами в морском сражении близ Шевенингена в 1653 году.
Навигационный акт — имеется в виду акт, опубликованный в 1651 году Долгим парламентом, согласно которому ввозимые в Англию товары должны были доставляться только на английских кораблях или на судах той страны, где они произведены; наносил удар по посреднической торговле Голландии.
Бредская декларация, подписанная Карлом II в 1660 году, перед его вступлением на английский престол, в голландском городе Бреде, содержала обещание сохранить некоторые завоевания революции.
Вавилонская башня — по библейской легенде башня, которую начали строить люди, чтобы достичь неба; в наказание за дерзость, бог заставил их заговорить на разных языках и, перестав понимать друг друга, они не смогли докончить постройки.
Цивильный лист — при конституционной монархии денежная сумма, ежегодно определяемая парламентом для личного пользования короля.
Пройден Джон (1631–1700) — драматург и поэт, теоретик английского классицизма, выразитель вкусов и настроений английской аристократии эпохи Реставрации. В своей поэме «Абессалом и Ахитофель», написанной в форме библейской аллегории, высмеял противников монархии Стюартов.
Мильтон Джон (1608–1674) — выдающийся английский поэт и деятель английской буржуазной революции XVII века. Его поэма «Потерянный рай» полна отголосков революционных событий.
Эвелин Джон (1620–1706) — английский писатель, автор «Дневника», в котором дана картина современных ему нравов.
Алакок Мария — французская монахиня, жившая во второй половине XVII века.
Герцог Йоркский — титул короля Иакова II, в бытность его наследником.
Вильгельм Оранский — зять Иакова II Стюарта, изгнанного из Англии в результате переворота 1688 года. Возведен на английский престол буржуазией и обуржуазившейся аристократией. Царствовал под именем Вильгельма III (1689–1702).
…вспомнив хотя бы Нинон и Марион. — Имеются в виду французские куртизанки XVII века Нинон де Ланкло и Марион Делорм.
…изящный Калибан оставляет позади, бедного Ариэля. — Калибан, Ариэль — аллегорические образы драмы Шекспира «Буря». Уродливый Калибан — воплощение темных сил природы, одухотворенно-прекрасный Ариэль — ее светлого начала.
Локк Джон (1632–1704) — английский буржуазный философ-материалист. Его труд «Опыт о границах человеческого разума» пользовался большой популярностью среди образованных людей XVII–XVIII веков.
Если бы она заколола себя кинжалом, она сделала бы это, как Лукреция, после падения. — Лукреция — героиня древнеримского предания. Обесчещенная Секстом, сыном римского царя Тарквиния Гордого, Лукреция закололась кинжалом.
В этой Диане таилась Астарта. — Диана — в древнеримской мифологии богиня охоты, воплощение девственности. Астарта — богиня плодородия и чувственной любви у некоторых восточных народов.
«Послание к Пизонам» — произведение римского поэта Горация).
Вспомним Елизавету. — Елизавета Тюдор — английская королева (1558–1603), представительница английского абсолютизма. Восстановила англиканскую церковь, упраздненную при Марии Тюдор. При ней Англия вела успешную войну против Испании, оспаривая у нее колониальное и морское первенство.
Сикст Пятый — римский папа (1585–1590); осуществлял политику воинствующего католицизма.
Мария Стюарт — шотландская королева (1560–1567). Опираясь на английских католиков, католическую Испанию и папство, претендовала на английский престол. Была заключена в тюрьму королевой Елизаветой Тюдор и казнена в 1587 году.
Гораций Флакк Квинт (I в. до н. э.) — знаменитый римский поэт. Автор од, сатир, посланий в др.
Она сделала для Бассомпьера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона. — Бассомпьер Франсуа (1579–1646) — французский маршал и дипломат, в 1626 году был послом при английском дворе. Царь Соломон, царица Савская — персонажи библейской легенды.
Современная Англия, имеющая своего Лойолу в лице Уэсли… — Лойола Игнатий (1491–1556) — испанец, основатель ордена иезуитов, один из главных деятелей воинствующей католической реакции XVI века. Уэсли Джон (1703–1791) — английский богослов, основатель одной из религиозных сект англиканской-церкви (методистов).
Риччо Дэвид (ум. в 1566 г.) — фаворит Марии-Стюарт.
Анна Болейн. (1507–1536) — королева Англии, вторая жена Генриха VIII.
Лавальер Франсуаза (1644–1710) — фаворитка Людовика XIV.
Маргарита Валуа (1552–1616) — первая жена французского короля Генриха IV Наваррского.
За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье. — Олимп — согласно греческой мифологии гора, где обитали боги и музы — покровительницы искусств и литературы. Отель Рамбулье — литературный салон парижской аристократии, основанный в начале XVII века маркизой де Рамбулье. Являлся законодателем светских нравов и литературных вкусов.
Уолпол немногим отличался от Дюбуа. — Уолпол Роберт, граф (1676–1745) — английский государственный деятель, лидер партии вигов, с 1721 по 1742 — премьер-министр. Дюбуа Гильом (1656–1723) — французский кардинал, в годы малолетства Людовика XV фактический правитель Франции.
Мальборо Джон Черчилль (1650–1722) — английский полководец и дипломат, выдвинулся благодаря связи своей сестры Арабеллы Черчилль с герцогом йоркским, будущим Иаковом II. В 1688 году перешел на сторону Вильгельма Оранского и сражался против Иакова II.
Болингброк Генри (1678–1751) — английский государственный деятель и писатель. Премьер-министр при Анне Стюарт.
…мадемуазель Скюдери не имела другого основания уступить Пелиссону. — Мадлена де Скюдери (1607–1701) — французская писательница, автор галантно-героических романов. Пелиссон Поль (1624–1693) — писатель и поэт, связанный с ней тесной дружбой. Был обезображен оспой.
Свифт Джонатан (1667–1745) — знаменитый английский писатель и государственный деятель. Автор «Путешествий Гулливера».
Девериа Эжен (1805–1855) — французский живописец.
В зале клуба были развешаны портреты уродливые людей: Терсита… Дума, Гудибраса, Скаррона… между двумя кривыми — Коклесом и Камоэнсом — стоял Эзоп… — Терсит — один из персонажей «Илиады» Гомера, безобразный горбун. Дунс Скотт — английский философ XIII века. Гудибрас — герой одноименной сатирической поэмы Бетлера, английского сатирика XVII века. Скаррон Поль (1610–1660) — французский писатель. Коклес Гораций — легендарный римский герой. Камоэнс Луис (1524–1580) великий португальский поэт. Эзоп (VI в. до н. э.) — знаменитый греческий баснописец. По преданию был чрезвычайно уродлив.
Мирабо Оноре (1749–1791) — деятель французской буржуазной революции 1789 года; за безобразную внешность современники называли его чудовищем.
Лукреций — Тит Лукреций Карр (I в. до н. э.) — известный римский поэт, автор философской поэмы «О природе вещей».
…посещал таверны и балаганы Лондона и Пяти Портов. — Пять Портов — так, начиная с XI века, называются порты Гастинг, Сэндвич, Дувр, Ромней и Гайт, расположенные на юго-западном побережье Англии.
Королева Анна (1702–1714) — дочь Иакова II, унаследовала английский престол после смерти Вильгельма Оранского. При ней Англия и Шотландия были объединены в единое королевство — Великобританию (1707 г.).
…нарушая все старинные хартии вольностей… — Имеется в виду «Великая хартия вольностей», данная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным под давлением феодалов; она ограничивала власть короля в их пользу.
…стала королевой благодаря… революции 1688 года. — Речь идет о государственном перевороте 1688 года, который английские буржуазные историки называли «славной» или «бескровной» революцией; в результате переворота 1688 года была окончательно ликвидирована феодальная монархия. Иаков II был свергнут; буржуазия в союзе с земельной аристократией возвела на престол Вильгельма Оранского.
Эссекс Роберт (1567–1601) — фаворит английской королевы Елизаветы Тюдор.
…тогда в Англии происходят события 1649 года, а во Франции — 1793 года. — В 1649 году английская буржуазия под давлением народных масс предала казни Карла I; в 1793 году был гильотинирован французский король Людовик XVI.
Галионы — испанские парусные суда XVI–XVII веков.
Люлли Жан-Батист (1632–1687) — известный французский композитор.
…Кристофер Рен вполне подходящий Мансар, Сомерс не хуже Ламуаньона. У Анны был… свой Буало — Поп, свой Кольбер — Годольфин, свой Лувуа… — Кристофер Рен (1632–1723) — английский архитектор. Мансар Франсуа (1598–1662) — французский архитектор. Сомерс Джон (1651–1716) — английский писатель, один из лидеров вигов. Ламуаньон Гильом (1617–1677) — президент парламента при Людовике XV. Буало Никола (1636–1711) — французский поэт, теоретик классицизма. Поп Александр (1688–1744) — английский поэт, теоретик английского классицизма. Кольбер Жан-Батист (1619–1683) — министр финансов Людовика XIV, фактически руководил внутренней и внешней политикой Франции во второй половине XVII века. Годольфин Сидней (ок. 1645–1712) — первый министр казначейства при английской королеве Анне Стюарт. Лувуа Франсуа, маркиз (1639–1691) — военный министр Людовика XIV.
…Виндзор в то время почти не уступал Марли. — Виндзор — дворец английских королей на берегу Темзы. Марли — дворец французских королей вблизи Версаля.
Маркиза де Мальи — одна из фавориток Людовика XV.
Фабр д'Эглантин Филипп-Назер (1755–1794) — французский поэт и деятель французской революции 1789 года. Был членом Конвента.
…сообщник Гая Факса в пороховом заговоре папистов… — имеется в виду неудачная попытка группы реакционеров-католиков взорвать здание английского парламента в день открытия сессии 1605 года с целью уничтожить короля и его приближенных. Гай Фокс — один из главных участников заговора, который должен был, пожертвовав собой, поджечь мину.
Домициан Тит Флавий (I в.) — римский император.
Гелиогабал (III в.) — римский император, известный своей жестокостью. Был убит в результате заговора преторианцами — привилегированным отрядом римской гвардии.
Альберони восхищается здесь герцогом Вандомским… — Альберони Джулио (1664–1752) — политический деятель, дипломат и авантюрист; посланный от Испании во время «войны за испанское наследство» с дипломатическим поручением во враждебную Францию, пользовался доверием герцога Вандомского и с его помощью сделал при французском дворе блестящую карьеру.
Мария Медичи (1573–1642) — вторая жена французского короля Генриха IV, с 1610 года — правительница Франции.
Лебель — камердинер французского короля Людовика XV.
Данжо — маркиз Филипп Данжо де Курсильон (1638–1720) — придворный Людовика XIV, интриган и сводник.
Маркиза де Моншеврейл — придворная дама при дворе Людовика XIV.
Нерон любил смотреть на работу Локусты. — Локуста (I в.) — профессиональная отравительница; с помощью ее ядов римский император Нерон устранял своих политических противников.
Роклор Гастон (1617–1683) — французский генерал, известный при дворе Людовика XIV своим шутовством. Считался автором сборника непристойных анекдотов.
…вместо головы бочка Данаид. — Данаиды — дочери аргосского царя Даная, убившие в первую брачную ночь своих мужей и за это осужденные богами вечно наполнять бездонную бочку (греч. миф.).
Так Зоил ненавидит Гомера. — Зоил (IV в. до н. э.) — греческий грамматик и ритор, подвергавший мелочной критике поэмы Гомера.
Герцог Альба Фернандо Альварес (1507–1582) — испанский государственный деятель и полководец; будучи с 1567 по 1578 год наместником в Нидерландах, с фанатической жестокостью пытался подавить нидерландскую буржуазную революцию.
Воден Жан (1530–1596) — французский политический писатель и экономист, теоретик абсолютизма.
Сизифов труд — синоним бесплодного труда; царь Сизиф, провинившийся перед богами, был осужден ими на то, чтобы вечно вкатывать в гору камень, который, достигнув вершины, снова скатывался вниз (греч. миф.).
Лестер Роберт (1531–1558) — граф Лестерский, фаворит английской королевы Елизаветы Стюарт.
Бекингем Джордж (1592–1628) — английский генерал. Фаворит Иакова I и Карла I.
…пасть жертвой сарказмов Шеридана… — Известный английский драматург-сатирик Ричард Шеридан (1751–1816) был политическим деятелем и примыкал к радикальному крылу партии вигов.
…с развалинами приорства святой Марии Овэр-Рэй, разрушенного Генрихом VIII. — Борясь с папской властью в Англии, английский король Генрих VIII (1509–1547), объявил себя главой новой англиканской церкви, упразднил монастыри и конфисковал церковные земли.
Представьте себе голову веселой Медузы. — Медуза — в греческой мифологии одна из трех горгон (чудовищ женского пола). Взглянув в глаза Медузе, человек превращался в камень.
Если верить манихеям… — Манихеи — последователи религиозного учения, возникшего на Ближнем Востоке в III веке. Основным их догматом являлось учение о добром и злом началах, лежащих якобы в основе мира.
Дафнис и Хлоя — герои одноименного пасторального романа, приписываемого древнегреческому писателю Лонгу (предположительно III в.); нарицательные имена страстных любовников.
Солон (ок. VII–VI вв. до н. э.) — древнегреческий законодатель.
Феспис (или Феспид) — современник Солона, греческий актер и поэт, считался основоположником греческой трагедии.
Конрив Вильям (1670–1729) — английский драматург, автор сатирических комедий.
…грегорианские канонические напевы… столкнулись в Италии с амброзианским каноном, а в Испании — с мозарабическим… — Грегорианские канонические напевы — имеется в виду музыка, введенная в католическое богослужение римским папой Григорием I (590–604). Амброзианский канон — ритмическая мелодия, введенная в церковное пение архиепископом Амвросием (IV в.). Мозарабический канон — церковная музыка мозарабов, отличавшаяся от музыки римско-католического богослужения. Мозарабы — христиане, жившие в части Испании, завоеванной арабами.
Плавт Тит Макций (III–II вв. до н. э.) — знаменитый римский комедиограф.
Оратор, осыпь его градом галек, которые ты держишь у себя во рту! — Подразумевается знаменитый афинский оратор Демосфен (III в. до н. э.), который, по преданию, был косноязычен и упражнялся в произнесении речей, держа во рту гальки — мелкие камешки.
Эрпениус Томас (1584–1624) — голландский ученый-востоковед.
Иов — библейский образ бедного, гонимого праведника, безропотно переносящего все посланные ему богом испытания.
Орест — герой античного мифа и трилогии «Орестейя» древнегреческого трагика Эсхила (525–456 до н. э.), сын царя Агамемнона и Клитемнестры, убил свою мать, мстя ей за убийство отца, и, преследуемый за это богинями кровной мести — эринниями, впал в безумие.
Вожирар — прежде деревня и предместье Парижа; с середины XIX века — один из округов Парижа.
Демокрит (V–IV вв. до н. э.) — великий древнегреческий философ-материалист.
Лактанций (III–IV вв.) — римский писатель, автор христианских проповедей. Утверждал, что римский поэт Вергилий является провозвестником христианства.
Сильвестр II — римский папа с 999 по 1003 год. Автор сочинений на богословские темы.
Диоскорид (I в.) — греческий врач; сочинения его явились основой средневековой медицины.
Хризипп (III в. до н. э.) — греческий философ.
Иосиф — имеется в виду Иосиф Флавий (I в.), историк Иудеи.
Кадм — мифический основатель греческого города Фивы.
Кадамосто Алоизий (1432–1480) — итальянский путешественник, оставил обстоятельные описания своих путешествий.
Клавдий Пульхр (III в. до н. э.) — римский консул. Командуя флотом во время первой Пунической войны, он, по преданию, начал битву вопреки неблагоприятным предсказаниям жрецов и, потерпев поражение, покончил с собой.
Люцифер, Вельзевул — в христианской религиозной литературе имена духов зла.
…если бы Вольтер… не помог Шекспиру… — Вольтер усиленно пропагандировал во Франции произведения Шекспира.
Тринобанты — одно из племен, населявших древнюю Британию.
Атробаты, белги, паризии — племена, населявшие в древности современную территорию Франции и Англии.
…с обличительными речами в духе Гортензия… — Гортензий (II в. до н. э.) — римский оратор.
Минос, Эак и Радамант — судьи в царстве мертвых (греч. миф.).
Фарсальская битва (48 г. до н. э.) — сражение, в котором войска Юлия Цезаря разбили войска Помпея.
Актеон — юноша-охотник, случайно увидевший купающуюся богиню-девственницу Диану и в наказание превращенный ею в оленя (греч. миф.).
Митридат (I в. до н. э.) — понтийский царь; стремясь изгнать римлян из Малой Азии, вел с ними ряд войн. Потерпел поражение от римского полководца Помпея.
Сципион Младший Эмилий (II в. до н. э.) — римский полководец, которому удалось закончить многолетнюю войну с Карфагеном победой Рима.
Элиан (II–III вв.) — римский писатель и оратор, автор сочинений о животных.
Оппиан (II в.) — греческий поэт, автор поэмы о рыбной ловле.
Мандрагора или «адамова голова» — многолетнее растение с разветвленными корнями, которому в средние века приписывали чудесные свойства.
Паризиатида — жена персидского царя Дария II (V в. до н. э.), славившаяся жестокостью и коварством.
Тремеллий Эмануил (1510–1581) — итальянский ученый, востоковед.
Кастелл Эдмунд (1606–1685) — итальянский востоковед.
Аэций (IV в.) — философ и богослов, родом из Сирии.
Урсус почувствовал приблизительно то же, что чувствовал Иона… — По библейскому преданию пророк Иона остался невредимым, пробыв трое суток во чреве кита.
Бедлам — больница для умалишенных в Лондоне.
Авиценна — латинизированное имя таджикского философа, врача и писателя Ибн Сина Абу Али (980-1037).
Эмпирей — по представлению древних греков наиболее высокая часть неба, являвшаяся якобы местопребыванием богов.
Гнафрон — уродливая комическая марионетка французского кукольного театра.
Ангиной — молодой римлянин, живший во II веке и прославившийся своей красотой. Нарицательное имя красивого юноши.
Нейгоф Теодор — авантюрист XVIII века. Объявил себя в 1736 году корсиканским королем.
Мортимер Роджер (1284–1330) — во время малолетства Эдуарда III был правителем Англии. Казнен Эдуардом III по обвинению в измене.
Уорик Ричард Невил (1428–1471) — крупный английский феодал XV века; во время войны Алой и Белой Розы неоднократно участвовал в свержении и провозглашении королей, за что получил прозвище «делателя королей».
Ормонд Джон, граф (1610–1688) — английский политический деятель; будучи вице-королем Ирландии, участвовал в борьбе с войсками Кромвеля.
Дефо Даниэль (ок. 1660–1731) — английский писатель и политический деятель, автор романа «Робинзон Крузо». Дефо написал несколько политических памфлетов против дворянства и церкви. За один из них был приговорен к позорному столбу.
Стиль Ричард (1671–1729) — английский журналист, писатель и драматург, один из родоначальников буржуазной просветительской литературы в Англии; член парламента, из которого был изгнан во время правления тори.
…Гоббса и Гиббона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям Чарльза Черчилля, Юма и Пристли; посаженного в Тауэр Джона Уилкса. — Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ, представитель механистического материализма; в 1640 году бежал во Францию, преследуемый за свои политические убеждения. Гиббон Эдуард (1737–1794) — английский буржуазный историк; подвергался преследованиям за антиклерикализм и вынужден был покинуть Англию. Чарльз Черчилль (1731–1764) — английский поэт-сатирик. Юм Давид (1711–1776) — известный английский философ, субъективный идеалист. Пристли Джозеф (1733–1804) — английский естествоиспытатель, философ-материалист и политический деятель. Преследовался реакционными кругами за сочувствие французской революции. Уилкс Джон (1727–1797) — английский публицист и политический деятель. Был заключен в Тауэр за резкую критику королевского послания парламенту, невзирая на то, что, будучи членом парламента, пользовался неприкосновенностью.
…Георг III арестовал… претендента на престол. — Имеется в виду сын Иакова II — Иаков Стюарт.
Тристан Отшельник (XV в.) — верховный судья при французском короле Людовике XI. Был известен необыкновенной жестокостью.
Шенонсо — французский королевский замок близ города Тура.
Ховард Джон — английский филантроп XVIII века, изучавший состояние современных ему тюрем.
Сен-Симон Клод Анри (1760–1825) — известный социалист-утопист XIX века.
Д'Аржансон Рене — начальник полиции при Людовике XIV.
Аид — царство мертвых (греч. миф.).
Фении — члены ирландского братства, боровшиеся за освобождение Ирландии от английского гнета. В 1867 году восстание фениев было жестоко подавлено правительственными войсками.
…подобен Диомеду, ранившему богиню. — Диомед, один из героев «Илиады», ранил во время боя богиню любви Афродиту, спасающую своего сына Энея.
Бидлоу Роберт (1649–1713) — голландский анатом и естествоиспытатель.
Бекон Фрэнсис (1561–1626) — знаменитый философ, родоначальник английского материализма. При Иакове I занимал должность лорд-канцлера.
Ласнер Пьер Франсуа — французский уголовный преступник, казненный в 1836 году; оставил записки, опубликованные после его казни.
Христина велит схватить Мональдески… — Шведская королева Христина (1626–1689) отреклась от престола в 1654 году и поселилась во Франции. Мональдески — ее фаворит; заподозренный в измене, был убит по ее приказанию в 1657 году.
Симанкасские архивы — архивы испанских королей, хранящиеся в древнем замке испанского города Симанкас.
Абдолиним (IV в. до н. э.) — потомок сидонских царей, которого Александр Македонский, завоевав Сидон, возвел на престол. Был простым садовником.
Мене, текел, фарес — по библейской легенде эта надпись, обозначающая — «Подсчитано, взвешено, поделено», была начертана невидимой рукой на стене зала, где пировал царь Вавилона Валтасар, и предвещала ему близкую гибель.
…Иакова Шестого и Первого… — Сын Марии Стюарт, король Шотландии Иаков VI в 1603 году, после смерти Елизаветы Тюдор, стал королем Англии под именем Иакова I.
Альбукерк — португальский мореплаватель и завоеватель XV века.
Ювенал (I–II вв.) — древнеримский писатель-сатирик, обличавший в своих произведениях нравы современного ему императорского Рима.
Герцог Гиз Генрих (1550–1588) — один из главарей реакционной лиги католиков в период религиозных войн во Франции; был убит по приказанию короля Генриха III, во время приема во дворце.
Тараск — в фольклоре народов южной Франции — сказочный зверь со множеством лап, напоминающий дракона.
Мессалина — жена римского императора Клавдия (I в.), известна своим распутством.
Геба — богиня вечной юности (греч. миф.).
Дамьен Робер — француз, бросившийся в 1757 году с ножом на Людовика XV. Был казнен четвертованием.
…обнаженную ногу, достойную восхищения Перикла и резца Фидия… — Перикл (V в. до н. э.) — правитель Афин; покровительствовал искусствам. Фидий (V в. до н. э.) — знаменитый греческий скульптор.
Альдебаран — звезда в созвездии Тельца.
…прямо из пасти Эреба. — Эреб — самая мрачная часть подземного царства (греч. миф.).
Графиня де Шеврез, герцогиня де Лонгвиль — французские аристократки, участницы Фронды, известны своими любовными приключениями.
Родопис — греческая куртизанка, по преданию стала женой фараона.
Фта — создатель земли и неба (егип. миф.).
Пентесилея — царица амазонок (греч. миф.).
Анна Австрийская (1601–1666) — французская королева, жена Людовика XIII. Будучи после смерти последнего регентшей Франции, состояла в тайном браке с кардиналом Мазарини.
Битва при Фонтенуа — битва 1745 года, в результате которой французы одержали победу над англо-голландскими и австрийскими войсками.
…отрекается ли ваша милость от догмата пресуществления… — Гуинплен должен заявить, что он не католик; по английскому законодательству католики не могли быть членами парламента.
«Книга страшного суда» — всеобщая земельная перепись, проводившаяся в Англии при Вильгельме-Завоевателе в 1086 году и явившаяся актом закрепления крестьян. Проводилась писцами, от которых «как от страшного суда» нельзя было скрыться.
Филипп-Август II — французский король (1180–1223); во время его царствования Франция и Англия боролись за владения на севере Франции. Победили английские войска Иоанна Безземельного.
Филипп IV Красивый — король Франции с 1285 по 1314 год.
Уот Тайлер, лолларды, Уорик, «делатель королей»… — эти зачаточные попытки добиться вольностей… — Уот Тайлер — вождь восстания английских крестьян (1381), требовавших отмены крепостной зависимости. Лолларды — последователи английского религиозного реформатора Уиклифа; вели активную пропаганду социального равенства, участвовали в восстании Уота Тайлера. Восстание Тайлера и движение лоллардов не имели ничего общего с феодальными междоусобицами, во главе которых стоял Уорик.
…выставляют против Генриха IV лже-Ричардов… — Генрих IV (герцог Ланкастерский) захватил в 1399 году английский престол и сверг Ричарда II Йорка; после смерти последнего феодальная знать выдвигала против Генриха IV ряд самозванцев под именем Ричарда II.
Маргарита Анжуйская (1429–1482) — жена английского короля Генриха VI, возглавляла партию ланкастеров в войне Белой и Алой Розы. С помощью Уорика восстановила своего мужа на престоле.
Англия, бывшая бретонской при Утэре Пендрагоне, римской при Цезаре, саксонской при семивластии, датской при Гарольде, нормандской после Вильгельма… — Пендрагон — верховный вождь кельтских племен. В 55–54 годах до нашей эры Британия была завоевана Юлием Цезарем и принадлежала Риму до конца III века. В IV–V веках ее завоевали англы, саксы и юты и образовали семь королевств (эпоха семивластия). В IX-Х веках Англия была завоевана датчанами; юго-западной части Англии удалось освободиться от них, но при короле Гарольде (1036–1039), датчане снова ее заняли. В 1066 году Англия была покорена нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем.
Уолсей Томас (ок. 1475–1530) — кардинал, министр английского короля Генриха VIII.
Лорды, которые при Иакове I привлекали к суду взяточничество в лице Бэкона, при Карле I судят государственную измену в лице Страффорда. — Бэкон, будучи лорд-канцлером при Иакове I, привлекался к суду по обвинению во взяточничестве. Страффорд Томас Вентворт (1593–1641) — первый министр английского короля Карла I, рьяный проводник его политики. Долгий парламент, который вынужден был созвать Карл I в обстановке начинающейся буржуазной революции, обвинил Страффорда в государственной измене. Страффорд был казнен.
…четыре мешка, набитых шерстью… — Мешки, набитые шерстью, на которых сидят должностные лица на заседаниях английского парламента, являются традиционным символом процветания Англии, основным источником доходов которой первоначально была шерсть.
Якобиты — сторонники английского короля Иакова II, изгнанного в 1688 г. из Англии.
Поре Шарль (1675–1741) — французский иезуит, преподававший в коллеже, где в юности учился Вольтер.
Ричардсон Самюэль (1689–1761) — английский писатель-романист, автор романа в письмах «Кларисса Гарлоу». Ловлес (или Ловелас) — отрицательный герой этого романа, развратный светский щеголь.
Катон — здесь имеется в виду Катон Младший (I в. до н. э.) — римский республиканец, ярый противник Юлия Цезаря. После победы последнего и гибели республики покончил с собой.
Аристид (VI–V вв. до н. э.) — афинский политический деятель и полководец. Был прозван Справедливым.
Томас Мор (1478–1535) — один из основоположников утопического социализма, выдающийся ученый-гуманист, автор «Утопии». При Генрихе VIII занимал крупные государственные посты. Был казнен по обвинению в государственной измене.
Брантом Пьер (1540–1614) — французский писатель, автор мемуаров, посвященных быту и нравам придворной среды и аристократии.
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Часть I ФАНТИНА
Книга I Праведник
До тех пор пока силою законов и нравов будет существовать социальное проклятие, которое среди расцвета цивилизации искусственно создает ад и отягчает судьбу, зависящую от бога, роковым предопределением человеческим; до тех пор пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века — принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества; до тех пор пока в некоторых слоях общества будет существовать социальное удушие; иными словами и с точки зрения еще более широкой — до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.
Отвиль-Хауз, 1862 г.Глава 1
Господин Мириэль
В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; архиерейский престол в Дине он занимал с 1806 года.
Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, будет, пожалуй, небесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом г-на Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его собственные поступки. Г-н Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать-двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько мал ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни он целиком посвятил свету и любовным похождениям.
Но вот пришла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель собственной семьи, трагические события 93-го года, быть может, еще более страшные для эмигрантов, следивших за ними издалека сквозь призму своего отчаяния, — не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений, заполнявших его жизнь, внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, ломающей его существование и уничтожающей материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; знали только, что из Италии Мириэль вернулся священником.
В 1804 году г-н Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении.
Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касающееся его прихода, — теперь уже трудно установить, какое именно, — привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:
— Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?
— Государь, — ответил Мириэль, — вы видите доброго человека, а я — великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.
В тот же вечер император спросил у кардинала об имени этого кюре, и немного времени спустя г-н Мириэль с изумлением узнал о том, что его назначили епископом в Динь.
Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни г-на Мириэля, никто не знал. Семья Мириэля была мало известна до революции.
Господину Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря — околесица, прибегая к выразительному языку южан.
Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти россказни и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.
Господин Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, м-ль Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.
Их единственная служанка, г-жа Маглуар, ровесница м-ль Батистины, бывшая прежде «служанкой господина кюре», получила теперь двойное звание: «горничной м-ль Батистины» и «экономки его преосвященства».
Мадмуазель Батистина была высокая, бледная, худощавая и кроткая особа. Она олицетворяла собою идеал всего того, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку просвечивал ангел. Это была девственница, более того — это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.
Госпожа Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых — из-за мучившей ее астмы.
Когда г-н Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после генерал-майора. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал г-н Мириэль.
Когда епископ вступил в должность, город стал ждать, каким он окажется на деле.
Глава 2
Господин Мириэль превращается в монсеньора Бьенвеню
Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.
Это было огромное и прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия монсеньором Анри Пюже — доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, занимавшим архиерейский престол в Дине в 1712 году. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и двор, весьма обширный, со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой — длинной и роскошной галерее, которая была расположена в нижнем этаже и выходила в сад, — монсеньор Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, где присутствовали монсеньоры: Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ князь Амбренский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции; аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, и знаменательная дата — 29 июля 1714 года — была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.
Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.
Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.
— Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время? — спросил он.
— Двадцать шесть, монсеньор.
— Да, я насчитал столько же, — подтвердил епископ.
— Кровати стоят слишком близко одна к другой, — добавил смотритель больницы.
— Да, я это тоже заметил.
— Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.
— Да, и мне показалось, что это так.
— И знаете ли, когда выпадает солнечный день, садик далеко не вмещает всех выздоравливающих.
— И я подумал об этом.
— Во время эпидемий — в нынешнем году это был тиф, а два года тому назад горячка — у нас иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.
— Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.
— Ничего не поделаешь, монсеньор, — сказал смотритель, — приходится мириться.
Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.
С минуту епископ хранил молчание.
— Сударь, — спросил он вдруг смотрителя больницы, — сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?
— В столовой вашего высокопреосвященства? — с изумлением вскричал смотритель.
Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.
— Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, — сказал он как бы про себя. — Послушайте, господин смотритель, я вот что хочу сказать, — продолжал он громче. — Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же — хозяева вы.
На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.
Господин Мириэль не имел состояния, так как семья его была разорена во время революции. Его сестра пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ г-н Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, определил расходование этой суммы следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:
Смета распределения моих домашних расходов
На малую семинарию — тысяча пятьсот ливров
Миссионерской конгрегации — сто ливров
На лазаристов в Мондидье — сто ливров
Семинарии иностранных духовных миссий в Париже — двести ливров
Конгрегации св. Духа — сто пятьдесят ливров
Духовным заведениям Святой Земли — сто ливров
Обществам призрения сирот — триста ливров
Сверх того, тем же обществам в Арле — пятьдесят ливров
Благотворительному обществу поулучшению содержания тюрем — четыреста ливров
Благотворительному обществу вспомоществования и освобождения заключенных — пятьсот ливров
На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств — тысяча ливров
На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии — две тысячи ливров
На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп — сто ливров
Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное обучение девочек из бедных семей — тысяча пятьсот ливров
На бедных — шесть тысяч ливров
На мои личные расходы — тысяча ливров
Итого — пятнадцать тысяч ливров.
За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как мы видим, он называл ее «сметой распределения своих домашних расходов».
Мадмуазель Батистина приняла такое распределение средств с полной покорностью. Для этой святой девушки диньский епископ являлся одновременно и братом и пастырем; другом — по закону кровного родства и наставником — по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала без возражений; когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, г-жа Маглуар, потихоньку ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией м-ль Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старые женщины и старик.
А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии г-жи Маглуар и умелому хозяйничанью м-ль Батистины угостить его хорошим обедом.
Однажды — это было месяца через три после прибытия в Динь — он сказал:
— А все-таки я очень стеснен в средствах!
— Еще бы! — вскричала г-жа Маглуар. — Ведь ваше преосвященство не стребовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.
— А ведь и в самом деле! — сказал епископ. — Госпожа Маглуар, вы совершенно правы.
И он написал соответствующее ходатайство.
Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование г-ну епископу на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».
Это произвело большой шум среди местной буржуазии, и один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал по этому случаю министру вероисповеданий, г-ну Биго де Преамене, конфиденциальную, исполненную раздражения записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:
«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато-Арну и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Все эти священники на один лад — жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает так же, как остальные. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох, уж эти мне попы! Поверьте, господин граф, до тех пор пока император не освободит нас от всех этих долгополых, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Что до меня, я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д. и т. д.».
Зато эти деньги очень обрадовали г-жу Маглуар.
— Вот и хорошо, — сказала она Батистине. — Его высокопреосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас самих. Наконец-то!
В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:
Сумма на содержание экипажа и на разъезды
На мясной бульон для лазаретных больных — тысяча пятьсот ливров
На общество призрения сирот в Эксе — двести пятьдесят ливров
На общество призрения сирот в Драгиньяне — двести пятьдесят ливров
На подкидышей — пятьсот ливров
На сирот — пятьсот ливров
Итого — три тысячи ливров.
Таков был бюджет епископа Мириэля.
Что касается побочных епископских доходов — с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний и т. д., — то епископ с тем большим рвением взимал деньги с богатых, что целиком отдавал их бедным.
В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие — все стучались в двери г-на Мириэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.
Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, — так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И тогда он грабил самого себя.
Согласно обычаю, епископы всегда проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»[473]. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, — говаривал он. — Бьенвеню служит поправкой к «монсеньору».
Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем только одно — он правдив.
Глава 3
Доброму епископу трудная епархия
Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять церквей, подчиненных его преосвященству. Объехать все это — нелегкое дело. Но епископ преодолевал все трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке — если предстояло ехать по равнине, и верхом — в горы. Обе старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.
Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как монсеньор слезает с осла. Несколько горожан вокруг пересмеивались. «Господин мэр и вы, господа горожане, — сказал епископ, — мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я сделал это по необходимости, а вовсе не из тщеславия».
Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами для подражания он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не сочувствовали беднякам, он говорил: «Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели всем остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые разрушаются. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства».
В деревнях, где все падки до наживы и стремятся поскорее убрать с поля собственный урожай, он говорил: «Посмотрите на жителей Амбрена. Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболеет во время жатвы и не может работать, то священник упоминает о нем в своей проповеди и в воскресенье после обедни все поселяне — мужчины, женщины, дети — идут на поле этого бедняка, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар». Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил: «Посмотрите на горцев Девольни, этой дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей». В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил: «Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку». В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылался на кейрасцев. «Знаете, как они поступают? — говорил он. — Маленькое селеньице в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают нескольких наставников, которые и учат, переходя из деревни в деревню и проводя недельку в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, — два пера; те, которые обучают грамоте, счету и латыни, — три пера. Эти последние — великие ученые. Ну, не стыдно ли оставаться невеждами! Поступайте же, как кейрасцы».
Таковы были его речи, серьезные и отечески-заботливые; если не хватало ему примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, — этой особенностью отличалось и красноречие самого Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительное.
Глава 4
Слово не расходится с делом
Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старушек, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.
Госпожа Маглуар любила называть его «ваше высокопреподобие». Однажды, поднявшись с кресла, он подошел к книжному шкафу за какой-то книгой. А стояла она на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее. «Госпожа Маглуар, — сказал он, — принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки».
Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых и, по всей вероятности, близких к смерти родственников по восходящей линии, прямыми наследниками которых являлись ее сыновья. Младшему предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно епископ молча слушал это простодушное и вполне простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда г-жа де Ло без конца повторяла подробности всех этих наследств и всех этих «надежд», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады: «Ах, бог мой! Да о чем вы задумались, кузен?» — «Я думаю, — ответил епископ, — об одной странной вещи, прочитанной мною, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».
В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении одного местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только титулы покойного, но и все ленные и аристократические звания его родных, епископ вскричал: «Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они использовать для своего тщеславия даже могилу!»
При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречивым. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил полным блаженства и очарования. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, немножко ростовщик по имени г-н Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После этой проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает свой акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре: «Посмотри, вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного».
Когда дело касалось милостыни, епископа не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерианцем — подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо. «Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз». Маркиз оглянулся и сухо возразил: «Монсеньор, у меня есть свои бедные». — «Так отдайте их мне», — сказал епископ.
Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:
«Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои, во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восемьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями — дверью и окном и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие — дверь. Причиной этому является вещь, называемая налогом на двери и окна. Поселите-ка в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей — вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у них нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные древесной смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!»
Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп или Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ ко всем сердцам. В хижинах и в горах он был как у себя дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.
Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.
Он никого не осуждал поспешно, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил: «Проследим путь, по которому прошел грех».
«Бывший грешник», как он с улыбкой называл себя сам, он не впадал в крайности ригоризма и вполне открыто, не хмуря бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:
«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.
Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей только в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но, совершенный таким образом, грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.
Быть святым — исключение; быть справедливым — правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.
Как можно меньше грешить — вот закон для человека. Совсем не грешить — это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».
Когда по какому-нибудь случаю все начинали громко кричать и спешили высказать свое возмущение, он говорил, улыбаясь: «Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, в котором повинен каждый. Вот почему те, у кого рыльце в пуху, испугались и так торопятся отвести от себя подозрение».
Он был снисходителен к женщинам и беднякам, на которых лежит тяжкий гнет человеческого общества. Он говорил: «В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые».
Он говорил также: «Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что не дает бесплатного обучения; оно ответственно за темноту, которую насаждает. Когда душа исполнена мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто создает мрак».
Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о различных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.
Как-то он услыхал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре должен был состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный, из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму, но улики имелись только против нее самой. Она одна могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову такая мысль: он оклеветал любовника, обвинив в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Тогда, обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии, и каждый восхищался ловкостью прокурора. Пустив в ход ревность, он из гнева извлек истину, а из мести — правосудие. Епископ слушал молча. Потом он спросил:
— Где будут судить этого мужчину и эту женщину?
— В суде присяжных.
— А где будут судить королевского прокурора? — снова спросил епископ.
В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не слишком образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и общественным писцом. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы сказал следующее: «Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя такую обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место». Его ответ был передан епископу, и тот сказал: «Господин кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне».
Он немедля отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти собственную душу. Он рассказал ему о величайших истинах, а они-то и являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, — епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И стоя, трепещущий, у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспрестанно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.
На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.
Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, такой угрюмый и подавленный еще накануне, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его прониклась миром, и уповал на бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему: «Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там». Когда он спустился с эшафота, в его взгляде светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало — бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре: «Я только что отслужил торжественную панихиду».
Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали: «Это желание порисоваться». Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.
Что до епископа, то зрелище гильотины явилось для него ударом, от которого он долго не мог оправиться.
Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее — потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить, против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинают ее. Гильотина — это сгусток закона, имя ее vindicta[474], она не нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот — это виденье. Эшафот не помост, эшафот — не машина, эшафот — не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее неведомой зловещей инициативой: можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают собственной волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот — это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его мясо, пьет его кровь. Эшафот — это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.
Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который обычно испытывал такое радостное удовлетворение, выполнив любую свою обязанность, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра: «Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?»
С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.
Епископа Мириэля можно было в любое время дня и ночи позвать к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он умел целыми часами просиживать молча рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, а, напротив, старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил: «Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах — то душа вашего дорогого усопшего». Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, обратившую взгляд на могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.
Глава 5
О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны
Домашняя жизнь г-на Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил диньский епископ, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.
Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедни он завтракал ржаным хлебом, запивая его молоком от своих коров. Потом он работал.
Епископ — очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии, обычно это каноник, и почти каждый день — своих старших викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые вороха духовной литературы — молитвенники, епархиальные катехизисы, часословы и т. д. и т. д., писать пастырские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и мэров, вести клерикальную корреспонденцию, административную корреспонденцию: с одной стороны — государство, с другой — папский престол; словом, у него тысяча дел.
Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, что оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и другой работы у него было одно название — «садовничать». «Ум — это сад», — говорил он.
В полдень, если погода была хороша, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, причем часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.
Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.
Время от времени он останавливался, беседовал с маленькими мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных; когда деньги иссякали, он посещал богатых.
Так как он подолгу носил свои сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без фиолетовой ватной мантии. Летом это несколько тяготило его.
По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.
Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а г-жа Маглуар прислуживала им за столом. Ничто не могло быть умереннее этих трапез. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, г-жа Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Каждый священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из одних только овощей, отваренных в воде, и супа на постном масле. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монах».
После ужина он с полчаса беседовал с м-ль Батистиной и г-жой Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на отдельных листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный и даже до известной степени ученый. После него осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них рассуждение на стих из Книги Бытия: «Вначале дух Божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами — с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры Господни»; со словами Иосифа Флавия: «Горний ветер устремился на землю» — и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от Бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он подвергает разбору богословские труды Гюго, епископа Птолемаидского, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что различные небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.
Иногда посреди чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого он неизменно писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к самой книге, в которую они были вписаны. Вот перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: «Переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев».
Вот эта заметка:
«О ты, Сущий!
Экклезиаст именует тебя Всемогущим, книга Маккавеев — Творцом, Послание к ефесянам — Свободой, Барух — Необъятностью, Псалмы — Мудростью и Истиной, Иоанн — Светом, Книга царств — Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит — Святостью, Ездра — Справедливостью, вселенная — Богом, человек — Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».
Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался один в нижнем этаже.
Здесь необходимо будет дать точное представление о жилище диньского епископа.
Глава 6
Кому он поручил охранять свой дом
Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный, три комнаты внизу, три комнаты наверху, под крышей — чердак. За домом — сад в четверть арпана. Женщины помещались во втором этаже, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой отворялась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая — спальней, а третья — молельней. Выйти из этой молельни можно было только через спальню, а из спальни — только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял деревенским кюре, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов.
Бывшая больничная аптека — небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад, — превратилась в кухню и в кладовую.
Кроме того, в саду имелся хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали эти коровы, епископ неизменно каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», — говорил он.
Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе маленькую комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».
Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой не было никакой мебели, за исключением простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой сверх того стоял старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, приличествующим образом покрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.
Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни монсеньора; он всякий раз брал деньги и раздавал их бедным. «Лучший алтарь, — говорил он, — это душа несчастного, который утешился и благодарит бога».
В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей — префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.
Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек, тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.
В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье наполовину искрошилась, да и держался он всего лишь на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у м-ль Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтою, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой; на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.
Когда-то м-ль Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести гостиную мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков, и, увидев, что за пять лет ей удалось отложить для этой цели только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?
Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклянная дверь, выходящая в сад; напротив двери — кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, — изящные туалетные принадлежности, говорящие о не забытых до сих пор привычках прежнего светского человека; еще две двери: одна возле камина — в молельню, другая возле книжного шкафа — в столовую; книжный шкаф со стеклянными дверцами, полный книг; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор и, как правило, холодный; в камине две железные подставки для дров, украшенные на переднем конце двумя вазочками в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром, и служившие образчиком роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертом бархате, — распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облезшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом соломенное кресло. Перед кроватью скамеечка из молельни.
На стене, по обе стороны от кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, сделанные золотыми буквами на тусклом фоне полотна, гласили о том, что портреты изображают: один — аббата Шалио, епископа Сен-Клодского, а другой — аббата Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанского, принадлежащего к монашескому ордену Цистерианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их на прежнем месте. Это были священники и, по всей вероятности, жертвователи — два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил — первого епископом, а второго викарием — в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда г-жа Маглуар сняла портреты, чтобы обтереть с них пыль, епископ обнаружил это обстоятельство, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.
На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи занавесь, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую, г-жа Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов имел форму креста. Епископ часто показывал на него.
— Как хорошо это получилось! — говорил он.
Все без исключения комнаты в доме, и в первом этаже и во втором, были выбелены, как это принято в казармах и больницах.
Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, г-жа Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате м-ль Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался двумя женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ. «Это ничего не отнимает у бедных», — говаривал он.
Следует, однако, признаться, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщовой скатерти всякий день радовал взор г-жи Маглуар. И так как мы изображаем здесь диньского епископа таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил: «Мне было бы не так-то легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой».
Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, г-жа Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.
Там же, в спальне епископа, над изголовьем его кровати висел маленький стенной шкафчик, куда г-жа Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Надо заметить, что ключ от шкафчика всегда оставался в замке.
Сад, вид которого несколько портили неприглядные строения, о которых говорилось выше, состоял из четырех аллей, расходившихся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех г-жа Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы. В саду там и сям росло несколько фруктовых деревьев. Как-то раз г-жа Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства: «Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки». — «Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, — ответил епископ. — Прекрасное столь же полезно, как и полезное». И добавил, помолчав: «Быть может, еще полезнее».
Этот квадрат земли, разбитый на три или четыре грядки, пожалуй, не меньше занимал епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час или два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и сажая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем этого мог бы пожелать настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он вовсе не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался за Жюсье против Линнея. Он не изучал растения, а просто любил цветы. Он глубоко уважал ученых, но еще более уважал ничего не ведающих, и, не переставая отдавать дань уважения тем и другим, он каждый летний вечер поливал свои грядки из зеленой жестяной лейки.
В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходившая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ сразу же приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Всякий прохожий в любой час суток мог открыть дверь — стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта вечно отпертая дверь сильно тревожила обеих женщин, но диньский епископ сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов они заразились его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что это так. Только на г-жу Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысль: «Вот в чем едва уловимое различие: дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда открыта».
На другой книге, озаглавленной «Философия медицинской науки», он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть мои больные: во-первых, те, которых они называют своими больными, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».
Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, о его имени. В приюте особенно нуждается тот, кого это имя стесняет».
Однажды какой-то достойный кюре — я уже не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьери — вздумал, должно быть по наущению г-жи Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кому бы вздумалось войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастие. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: «Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt eam»[475]. Затем заговорил о другом.
Он охотно повторял: «Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, — добавлял он, — должно быть спокойным».
Глава 7
Крават
Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был диньский епископ.
После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который совершенно разорил Олиульские ущелья, один из ближайших его помощников, Крават, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами — остатками шайки Гаспара Бэ — в Ниццском графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-де-л’Эгль и оттуда, ложбинами рек Ибайи и Ибайеты, нередко пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи разоряли весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он всегда ускользал от них, а иногда оказывал открытое сопротивление. Этот негодяй был смельчаком. И вот в самый разгар вызванной им паники в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шателярский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться назад. Крават хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем — это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.
— Поэтому-то, — сказал епископ, — я и полагаю ехать без конвоя.
— Хорошо ли вы обдумали это, монсеньор? — вскричал мэр.
— Настолько хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.
— Уедете?
— Уеду.
— Один?
— Один.
— О нет, монсеньор! Вы этого не сделаете.
— Послушайте, — сказал епископ, — там, в горах, есть маленький бедный приход, я не видел его уже три года. Там живут мои добрые друзья — смирные и честные пастухи. Из каждых тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти очень красивые разноцветные шнурки и играют горные песни на маленьких свирелях с шестью отверстиями. Они нуждаются в том, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который всего боится? Что бы они сказали, если бы я не посетил их?
— Но разбойники, монсеньор, разбойники!
— В самом деле, — сказал епископ, — я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, и они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о господе боге.
— Монсеньор, да ведь их целая шайка! Это стая волков!
— Господин мэр, а может быть, Иисус повелевает мне стать пастырем именно этого стада. Пути господни неисповедимы!
— Монсеньор, они ограбят вас.
— У меня ничего нет.
— Они убьют вас.
— Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полно! Зачем им это?
— О боже! Что, если вы повстречаетесь с ними!
— Я попрошу у них милостыню для моих бедных.
— Не ездите, монсеньор, ради бога! Вы рискуете жизнью.
— Господин мэр, — сказал епископ, — неужели в этом все дело? Я для того живу на свете, чтобы о душах людских пещись, а не о собственной жизни.
Пришлось оставить его в покое. Он уехал, сопровождаемый лишь мальчиком, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шуму и вызвало сильное беспокойство во всей округе.
Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни г-жу Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здрав и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую деревенскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертой шелковой материи, обшитыми потускневшим галуном.
— Ничего, господин кюре, — сказал епископ, — объявим все-таки с кафедры о нашей мессе. Дело как-нибудь уладится.
Начались поиски в соседних церквах. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы приличествующим образом одеть даже соборного певчего.
Среди всех этих хлопот в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника, которые немедленно ускакали. Ящик открыли; в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох — все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором были написаны следующие слова: «Монсеньору Бьенвеню от Кравата».
— Я ведь говорил, что все уладится! — сказал епископ. И добавил, улыбаясь: — Тому, кто довольствуется простым священническим стихарем, бог посылает архиепископскую мантию.
— Не знаю, монсеньор, — покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, — бог или дьявол.
Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:
— Бог.
На обратном пути в Шателяр и в самом Шателяре люди сбегались со всех сторон, любопытствуя посмотреть на своего епископа. М-ль Батистина с г-жой Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре: «Ну что, разве я не был прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора».
Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки — вот истинные воры; пороки — вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли заботиться о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку! Будем думать лишь о том, что угрожает нашей душе». Потом, обратившись к сестре, он сказал: «Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал в грех из-за нас».
Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны; вообще же жизнь его текла однообразно: изо дня в день в определенное время он делал то же, что накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.
Что касается сокровищ Амбренского собора, мы затруднились бы ответить на вопрос о том, что с ними сталось. Это были весьма красивые, весьма соблазнительные вещи, весьма пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена одна заметка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу; она гласит: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено — в собор или в больницу».
Глава 8
Философия за стаканом вина
Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с какими-либо препятствиями вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шагал прямо к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспевания и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек отнюдь не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший всякие мелкие услуги своим сыновьям, зятьям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся не более как детищем Пиго-Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «бреднями простака епископа». Самоуверенно и снисходительно он иногда шутил над этим даже в присутствии самого г-на Мириэля.
Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу*** (тому самому сенатору) и г-ну Мириэлю случилось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, бывший слегка навеселе, но не утративший важной своей осанки, вдруг вскричал:
— Черт возьми, господин епископ, давайте поболтаем! Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами — два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.
— И вы правы, — ответил епископ. — Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покоитесь на пурпурном ложе, господин сенатор.
Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:
— Давайте говорить откровенно.
— И даже чертовски откровенно, — согласился епископ.
— Заявляю вам, — продолжал сенатор, — что маркиз д’Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.
— Они похожи на вас, господин граф, — прервал его епископ.
— Я ненавижу Дидро, — продолжал сенатор. — Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога, и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер вышутил Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет fiat lux[476]. Представьте каплю покрупнее, а ложку побольше — и перед вами мир. Человек — это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог отец? Знаете что, господин епископ, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой это великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, господин епископ, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравого смысла. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся же высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа твоего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь — это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, внизу, — словом, где-то, — не верю ни на йоту. Ах, так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над fas и nefas[477]. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти — лови меня, кто может! Заставьте-ка тень схватить рукою горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изиды, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, черт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Что касается меня, я твердо стою на земле, господин епископ. Бессмертие человека — это еще вилами на воде писано. Ох уж мне все эти прекрасные обещания! Положитесь на них, как же! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы — душа, потом станете ангелом, голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, — кажется, Тертуллиан? — что блаженные будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных кузнечиков. А потом узрят господа. Та-та-та — чепуха все эти царствия небесные. А бог — чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в «Мониторе», но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? Inter pocula[478]. Пожертвовать землей ради рая — это все равно что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурачить себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я — ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда, настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда, насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в эту бездонную дыру. Конец. Finis! Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне — смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать, да это просто смешно. Бабушкины сказки. Бука — для детей, Иегова — для взрослых. Нет, наше завтра — это мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем — все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, наперекор всему живите. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Говорю вам, господин епископ, у меня и в самом деле своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить ребяческой болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они жуют все это. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть господь бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.
Епископ захлопал в ладоши.
— Отлично сказано! — вскричал он. — Какая великолепная штука — этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь; тот не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д’Арк. Люди, которым удалось обзавестись этим превосходным материализмом, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что они могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным; могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, и потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей философией, изысканной, утонченной, доступной одним только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем жизненным радостям. Эта философия извлечена из неведомых глубин, она вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы — добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога оставалась философией народа, — так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.
Глава 9
Сестра о брате
Чтобы дать представление о жизни диньского епископа в семейном кругу и о том, как обе благочестивые старушки подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего будет привести здесь письмо м-ль Батистины к виконтессе де Буашеврон, подруге ее детства. Мы располагаем этим письмом.
«Динь, 16 декабря 18…
Моя дорогая, не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что госпожа Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Госпожа Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного. В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, — она пятнадцати футов высотой, а величиной около восемнадцати квадратных футов, — потолок покрыт, по старинной моде, живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но что всего интереснее — это моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев госпожа Маглуар обнаружила картины — хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах — забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (тут какое-то слово, которое нельзя разобрать) и тому подобное. Госпожа Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения, снова все покроет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два маленьких деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых экю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, и мне больше хотелось бы иметь круглый стол красного дерева.
Я по-прежнему вполне счастлива. Мой брат так добр. Он отдает все, что у него есть, неимущим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, и необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. У нас же почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не так ли?
У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, — так он говорит.
Он не хочет, чтобы я или госпожа Маглуар боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.
Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.
В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять с собой. Целых две недели он пробыл в отсутствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здрав и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» — сказал он. И открыл чемодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской Богоматери, которые ему подарили грабители.
На этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услыхал кто-нибудь из посторонних.
В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это ужасный человек». Теперь я наконец привыкла. Я знаками показываю госпоже Маглуар, чтобы она не прекословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу госпожу Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что, если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к господу богу вместе с моим братом и моим епископом. Госпоже Маглуар было труднее, чем мне, свыкнуться с тем, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все уже вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха и потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а господь бог обитает здесь постоянно.
Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю провидения.
Так надо держать себя с человеком, который велик духом.
Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы справлялись. Вам известно, как он все знает и как много помнит — ведь он по-прежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Каннского округа. Уже пятьсот лет тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роду, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь, Мария-Луиза, была замужем за Адриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: Faux, Fauq и Faoucq.
Моя дорогая, попросите вашего достойного родственника, господина кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и по-прежнему меня любит. Больше мне ничего и не нужно. Она прислала мне поклон через вас, и я счастлива этим. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я с каждым днем все больше худею. Прощайте, бумаги у меня больше нет, поэтому я вынуждена расстаться с вами. Тысячу добрых пожеланий.
Батистина.Р. S. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Этот ребенок так мил! А его младший братишка таскает по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: «Н-но!»»
Как явствует из письма, обе старушки хорошо применились к привычкам епископа — это свойственно лишь женщинам, которые понимают мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Сохраняя неизменно свой кроткий и простодушный вид, диньский епископ совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины трепетали, но не вмешивались. Изредка г-жа Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но никогда во время совершения его или после. Если дело было начато, никто никогда не мешал ему даже жестом. В иные минуты — ему не приходилось об этом говорить им, а может быть, он и сам этого не сознавал, до того совершенна была его скромность — обе женщины смутно понимали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли; и если повиноваться значило исчезнуть — они исчезали. С изумительной тонкостью инстинкта они чувствовали, что порой заботливость может только стеснять. Поэтому даже тогда, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его, то в самую сущность его натуры, что переставали опекать его и поручали это богу.
Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной. Г-жа Маглуар не говорила этого, но она это знала.
Глава 10
Епископ перед неведомым светом
Спустя некоторое время после того, как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, по мнению всего города, еще более безрассудный, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.
Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот — произнесем сразу это страшное слово — был когда-то членом Конвента. Его звали Ж.
В тесном мирке жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. «Вообразите только — члены Конвента! Они существовали в те времена, когда люди говорили друг другу «ты» и «гражданин»! Этот человек был почти чудовищем. Он не голосовал за смерть короля, но был близок к этому. Чуть не цареубийца. Он был страшен. Каким образом по возвращении законных государей этого человека не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову — надо все же проявлять милосердие, — но пожизненная ссылка ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! И т. д. и т. д. Тем более что он безбожник, как и все эти люди…» Пересуды гусей о ястребе.
Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой суровости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.
Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.
Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где группа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Конвента, думал: «Там есть душа, которая одинока».
И внутренний голос говорил ему: «Ты должен навестить этого человека».
Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти отталкивающей. Ибо, в сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».
Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце рознь!
Добрый епископ был в сильном затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.
Но вот однажды в городе распространился слух, что маленький пастух, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» — добавляли при этом некоторые.
Епископ взял свой посох, надел мантию — потому что его сутана, как мы уже говорили, была чересчур изношена, а также и потому, что по вечерам обычно поднимался холодный ветер, — и отправился в путь.
Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед и вдруг, в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, он увидел логовище зверя.
Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.
Перед дверью в старом кресле на колесиках, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.
Возле старика стоял мальчик-подросток, юный пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком.
Епископ молча смотрел на эту сцену. В эту минуту старик заговорил. «Благодарю, — сказал он, — больше мне ничего не нужно». И, оторвавшись от солнца, его улыбающийся взгляд остановился на ребенке.
Епископ подошел ближе. Услышав шум шагов, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.
— За все время, что я здесь, — сказал он, — ко мне приходят впервые. Кто вы, сударь?
Епископ ответил:
— Меня зовут Бьенвеню Мириэль.
— Бьенвеню Мириэль. Мне приходилось слышать это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?
— Да, меня.
Слегка улыбаясь, старик продолжал:
— В таком случае вы мой епископ.
— До некоторой степени.
— Милости просим.
Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Епископ сказал только:
— Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.
— Сударь, — ответил старик, — я скоро буду здоров. — Помолчав немного, он добавил: — Через три часа я умру. — И продолжал: — Я немного врач и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я чувствую это; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня нисколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего человека. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь — простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд. — Старик обернулся к пастушку: — Иди ложись. Ты просидел возле меня всю прошлую ночь. Ты устал.
Мальчик ушел в хижину.
Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:
— Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть — добрые соседи.
Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В этом расставании с жизнью он как-то не ощущал присутствия бога. Скажем прямо — ибо и маленькие противоречия великих сердец должны быть отмечены так же точно, как все остальное, — епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреподобием», был слегка задет тем, что здесь его не называли «монсеньором», и ему почти хотелось ответить на это обращением «гражданин». Он почувствовал себя склонным к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но самому ему совсем не свойственной. В конце концов, этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.
Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.
Епископ же, который обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем упреки совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом вне закона и даже вне закона милосердия.
Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, принадлежал к числу тех восьмидесятилетних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. Революция видела немало людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Столь близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство и самое смерть. Магометанский ангел смерти Азраил повернул бы перед ним вспять, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его предсмертной агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. От них начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей жизненной мощью и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.
Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было ex abrupto[479].
— Я рад за вас, — сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. — Вы все же не голосовали за смерть короля.
Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же». Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:
— Не слишком радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.
Этот суровый тон явился ответом на тон строгий.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил епископ.
— Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран — невежество. Вот за конец этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой ложь, тогда как знание — это власть, источник которой истина. Управлять человеком может одно лишь знание.
— И совесть, — добавил епископ.
— Это одно и то же. Совесть — это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы.
Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него.
Член Конвента продолжал:
— Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение проституции женщины, за уничтожение рабства мужчины, за уничтожение невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости.
— Радости замутненной, — сказал епископ.
— Вы могли бы сказать — радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которого тысяча восемьсот четырнадцатый год, — радости исчезнувшей. Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый строй в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.
— Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.
— У справедливости тоже есть свой гнев, господин епископ, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, но Французская революция — это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенное — пусть так, — но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила, просветила; она пролила на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция — это помазание на царство самой человечности.
Епископ не мог удержаться и прошептал:
— Да? А девяносто третий год?
С почти зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:
— А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгущались в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они наконец разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.
Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:
— Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но более высоким. Удару грома не подобает ошибаться. — И, в упор глядя на члена Конвента, он добавил: — А Людовик Семнадцатый?
Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.
— Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинный ребенок, которого повесили на Гревской площади и который висел там, охваченный веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, ребенок, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, — не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого — другой невинный ребенок, заточенный в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.
— Сударь, — прервал его епископ, — мне не нравится сопоставление этих имен.
— Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступиться?
Наступило молчание. Епископ почти сожалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.
— Ах, господин священник, — продолжал член Конвента, — вы не любите грубой правды. А ведь Христос любил ее. Он брал плеть и выгонял мытарей из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал «Sinite parvulos»[480], то он не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.
— Это правда, — тихо проговорил епископ.
— Я настаиваю на своей мысли, — продолжал член Конвента. — Вы назвали имя Людовика Семнадцатого. Давайте же договоримся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей — и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к более ранним временам, чем девяносто третий год, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.
— Я оплакиваю всех, — сказал епископ.
— В равной мере! — вскричал Ж. — Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.
Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем — машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, — вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.
— Да, сударь, народ страдает давно… Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли расспрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана, который помогает мне. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ — этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал шума колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там, за рощей, у поворота дороги. Говорю вам — я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Итак, я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербоносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия — это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы — один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалясь в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни — вы обладаете ими, как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне мудрость. С кем я говорю? Кто вы?
Епископ опустил голову и ответил:
— Vermis sum[481].
— Земляной червь, разъезжающий в карете! — проворчал член Конвента.
Роли переменились: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.
— Пусть будет так, сударь, — кротко сказал он. — Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание — не добродетель, что милосердие — не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?
Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.
— Прежде чем вам ответить, — сказал он, — я прошу вас извинить меня… Я, сударь, виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть учтивым. Вы оспариваете мои взгляды, я должен ограничиться возражением на ваши доводы. Ваши богатства и жизненные наслаждения — это мои преимущества против вас в нашем споре, но было бы приличнее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.
— Благодарю вас, — ответил епископ.
— Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, — продолжал Ж. — На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?
— Да, безжалостен, — подтвердил епископ. — Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?
— А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем «Те Deum»[482] по поводу драгонад?
Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул; он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.
Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:
— Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год — увы! — покажется ее опровержением. Вы, сударь, считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье — это разбойник, но как вы назовете Монревеля? Фукье-Тенвиль — негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Мальяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет подобрали бы вы для отца Летелье? Журдан-Головорез чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Лувуа. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали от нее на расстоянии. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрывался от крика. А палач говорил женщине — матери и кормилице: «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Тантала, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Лучший мир — вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю, у меня на руках слишком хорошие карты. К тому же — я умираю.
И, отведя взор от епископа, член Конвента закончил свою мысль несколькими спокойными словами:
— Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед.
Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех его внутренних позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:
— Прогресс должен верить в бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист плохой руководитель человечества.
Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной небесной глубины:
— О ты! О идеал! Ты один существуешь!
Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.
Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:
— Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть бог.
Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновенье он прожил те несколько часов, которые еще оставались ему. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.
Епископ понял это, мешкать долее было нельзя; ведь он пришел сюда как священник. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.
— Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы прискорбно, если б наша встреча оказалась напрасной?
Член Конвента открыл глаза. Какая-то суровая, как бы подернутая тенью важность лежала теперь на его лице.
— Господин епископ, — сказал он с медлительностью, которая, быть может, проистекала не столько от упадка физических сил, сколько от чувства внутреннего достоинства, — я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления — и боролся с ними. Я видел тиранию — и уничтожал ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну — и я защищал ее; Франции угрожала опасность — и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, — а я обедал за двадцать су на улице Арбр-Сэк. Я поддерживал угнетенных и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда помогал шествию человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Случалось и так, что я оказывал помощь вам, своим противникам. Во Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство Святой Клары в Болье, — в 1793 году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро, где только мог. После чего меня стали гнать, преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Вот уже сколько лет, как я, несмотря на свои седины, чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я — проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, сам ни к кому ее не питая. Теперь мне восемьдесят шесть лет; я умираю. Чего вы от меня хотите?
— Вашего благословения, — сказал епископ.
И опустился на колени.
Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался.
Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С этой поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились.
Малейшее упоминание об «этом старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.
Само собой разумеется, что это «пастырское посещение» доставило повод для воркотни местным любителям сплетен. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? — говорили они. — Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры — закоренелые еретики. Так зачем ему было ходить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».
Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, которые мнят себя остроумными, позволила себе следующую выходку. «Монсеньор, — сказала она епископу, — все спрашивают, когда вашему преосвященству будет пожалован красный колпак».
«О! Это грубый цвет, — ответил епископ. — Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шляпе».
Глава 11
Оговорка
Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе чувство какого-то недоумения, придавшее еще большую кротость его характеру. И это все.
Хотя монсеньор Бьенвеню менее всего был человеком политики, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к событиям того времени, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-либо отношение.
Итак, вернемся на несколько лет назад.
Немного времени спустя после возведения г-на Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю г-н Мириэль был приглашен Наполеоном в синод епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в соборе Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и г-н Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии и человек, привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он отвечал: «Я им мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я показался им чем-то вроде распахнутой настежь двери».
В другой раз он сказал: «Что же тут удивительного? Все эти высокопреподобия — князья церкви, а я — всего только бедный деревенский епископ».
Дело в том, что он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, и как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих коллег, у него вырвались между прочим такие слова: «Какие прекрасные часы! Какие прекрасные ковры! Какие прекрасные ливреи! Все это должно сильно докучать! Нет, я бы ни за что не хотел обладать таким избытком роскоши. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно! Есть бедняки! Есть бедняки!»
Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши — это ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о парадных службах и празднествах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник — это бессмыслица, место священника должно быть подле бедняков. Но возможно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякой нуждой, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запылившись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который находился бы у пылающего костра и не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе человека, который постоянно работал бы у раскаленной печи и не имел ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, — это его бедность.
По-видимому, именно так думал и диньский епископ.
Впрочем, не следует предполагать, чтобы в отношении некоторых щекотливых пунктов он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри того времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него достаточное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что г-н Мириэль выказал ледяную холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот проезжал через Динь, возвращаясь с острова Эльбы, и не отдал приказа по епархии о служении в церквах молебнов за здравие императора во время Ста дней.
Кроме сестры, м-ль Батистины, у него было два брата: один — генерал, другой — префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладел к первому за то, что, командуя войсками в Провансе и приняв начальство над отрядом в тысячу двести солдат, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал ему дать возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.
Итак, монсеньора Бьенвеню также коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, своя забота. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль — мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто: «Было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновенье не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей — истины, справедливости и милосердия, ярко сияющих над бурной житейской суетой».
Признавая, что бог создал монсеньора Бьенвеню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всесильному Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас лишь тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает обезоруживать нас. В 1813 году подлое нарушение молчания со стороны Законодательного корпуса, до той поры безмолвного и осмелевшего после ряда катастроф, не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году, при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо пятящихся назад и оплевывающих недавнего идола, мы сочли своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего смешного, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как диньский епископ, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.
За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был — мы должны признать это — снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки.
Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на свою должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц, и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманные слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» — таково было его выражение, — чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, благодаря чему в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, — говорил он, — чем носить на сердце трех жаб!» Он охотно и во всеуслышание насмехался над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах! Пусть он убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» — говаривал он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил и назначил на должность привратника собора.
За девять лет монсеньор Бьенвеню своими добрыми делами и кротостью снискал к себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила своего епископа.
Глава 12
Одиночество монсеньора Бьенвеню
Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, — вокруг каждого епископа вьется стая подчиненных аббатов. Именно этих аббатов св. Франциск Сальский в старину и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое жизненное поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власть имущего, у которого бы не было своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого бы не было своих придворных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку монсеньора. Угодить епископу — значит встать на первую ступень, ведущую к должности иподьякона. Надо же пробить себе дорогу — апостольское звание не брезгует доходным местечком.
Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, умеющие молиться — это бесспорно, — но умеющие также домогаться того, что им нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, не стесняются дожидаться в чьей-нибудь передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией — скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним! Люди с влиянием, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи богатые приходы, доходы с церковных имуществ, места архидиаконов, попечителей и другие выгодные кафедральные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь сами, эти планеты движут вперед и своих спутников — настоящая солнечная система в движении. Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту. Со стола их благоденствия крошками сыплются на приближенных маленькие теплые местечки. Чем больше епархия покровителя, тем богаче приход фаворита. А Рим так близко. Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав, вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вот вы камерарий, вот вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет только дымок сжигаемого избирательного листка и ничего больше. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник — это единственный человек, который может законным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол державнейшего из владык! Зато каким питомником упований является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и — кто знает? — быть может, даже искренне поддаваясь самообману. Блажен, кто верует!
Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принялся». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старички, немного грубоватые, как и он сам, как и он, замуровавшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченые, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в сан священника, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Ибо люди хотят, чтобы им помогали расти, повторяем это. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, — опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще большей любовью к самопожертвованию, чем вы этого хотите; от сей чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать — вот высшая мудрость, капля за каплей падающая из тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.
Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь — успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача — это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана — история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте — такова теория! Благосостояние предполагает способности. Выиграйте в лотерее, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке — в этом вся штука! Будьте удачливы — все остальное приложится; будьте баловнем счастья — вас сочтут великим человеком. Не считая пяти или шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты хоть первым встречным — это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость — это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже-Корнель написал «Тиридата»; пусть евнуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр-и-Маас и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице, и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть управляющий торговым домом оказался по увольнении таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, — во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.
Глава 13
Во что он верил
Нам незачем доискиваться, был ли диньский епископ приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших.
Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Никакое тление не может коснуться алмаза. Г-н Мириэль веровал до глубины души. «Credo in Patrem»[483], — часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою бог!»
Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверх веры у епископа был избыток любви. Именно поэтому, quia multum amavit[484], его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинуется педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божию. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он приберегает для животных. В диньском епископе эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Экклезиаста: «Кто знает, куда идет душа животных?» Внешнее безобразие, извращения инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого языковеда, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виновато».
Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.
Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.
Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей. Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем; ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования неистребимы.
В 1815 году — мы, кажется, уже упоминали об этом — епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему казалось не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан — подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».
Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестевшие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Что за славный малый!» — если он молод, и «Что за добряк!» — если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добряк — и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добряк преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, казавшийся величественным благодаря увенчивавшим его сединам, становился еще величественнее благодаря запечатлевшейся на нем глубокой думе; нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Почтение, невыразимое почтение медленно охватывало вас, проникало в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, искушенных и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой.
Итак, молитва, исполнение церковных служб, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы, старушки, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там, наедине с самим собою, сосредоточенный, спокойный и благоговеющий, он сравнивал ясность своего сердца с ясностью небесного эфира. Взволнованный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может, он и сам не мог бы сказать, что совершалось в душе его; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной! Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей — чудесной тайне; о вечности минувшей — тайне, еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; и, не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые придают форму материи, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения — вечный круговорот завязок и развязок, отсюда жизнь и смерть.
Он садился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви своих плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, вся застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.
Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклониться богу в его прекраснейших творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Маленький сад для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его то, что можно возделывать и собирать; над головой — то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле и все звезды на небе.
Глава 14
О чем он думал
Еще несколько слов.
Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя модные сейчас выражения, внушить мысль о том, что диньский епископ в своем роде «пантеист» и что он придерживался — в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый — одной из тех субъективных, присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньора Бьенвеню, не счел бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.
Никаких теорий — и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата отверсты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изъясняют свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.
Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное ослепление. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самое природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, но на земле существуют люди — впрочем, люди ли это? — которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его устрашили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Диньский епископ избрал кратчайшую тропу — Евангелие.
Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила — вот и все.
Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах Священного Писания, являлась ересью, то и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.
Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному — найти самому и передать другим наилучший способ пожалеть и поддержать. Все сущее было для этого редкого по своей доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить.
Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земных золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастия мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» — говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; вот в чем и заключалось все его учение. «Послушайте, — сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом, — да взгляните же на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее — тот и умнее.
Ваше «любите друг друга» — глупость». — «Что ж, — ответил епископ, не вступая в спор, — если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и полностью удовлетворялся ею, отстраняя от себя великие вопросы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке — для апостола в боге, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, материю. Nil и Ens[485], душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.
Монсеньор Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум, строго хранил в душе благоговение перед неведомым.
Книга II Падение
Глава 1
Вечером, после целого дня ходьбы
В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, какой-то путник вошел в городок Динь. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и плотный, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаха из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с прорехой на другом, старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым бечевкой; за спиной у путника висел туго набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты прямо на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.
Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.
Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.
Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья. Ибо он вошел в Динь той же дорогой, которою семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, как он остановился под деревьями бульвара Гасенди и пил воду из фонтана, что в конце аллеи. Вероятно, его мучила сильная жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, как шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.
Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.
Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.
В те времена в Дине имелся прекрасный постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, человек, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоялый двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора в тех краях немало ходило слухов о постоялом дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет горожанам. Но достоверно одно: вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблагодарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», — и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, отсвет славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренобльского».
К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздавались из соседней комнаты. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.
Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:
— Что вам угодно, сударь?
— Поесть и переночевать, — ответил вошедший.
— Это можно, — сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: — Разумеется, за плату.
Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.
— Деньги у меня есть, — сказал он.
— В таком случае к вашим услугам, — ответил трактирщик.
Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук своей палки, присел на низенькую скамейку перед очагом. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.
Между тем трактирщик, продолжая сновать взад и вперед, внимательно разглядывал путника.
— Скоро ли обед? — спросил тот.
— Сейчас будет готов, — ответил трактирщик.
Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на маленьком столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.
Путник ничего не заметил.
Он снова спросил:
— Скоро ли обед?
— Сейчас будет готов, — ответил трактирщик.
Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, словно ожидавший ответа, торопливо развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем он подошел к путнику, который казался погруженным в размышления далеко не веселого свойства.
— Сударь, — сказал он, — я не могу оставить вас у себя.
Незнакомец привстал со своей скамьи.
— Как так! Вы боитесь, что я не заплачу! Хотите, я отдам плату вперед? Говорю вам — у меня есть деньги.
— Дело не в этом.
— А в чем же?
— У вас есть деньги…
— Да, — еще раз подтвердил незнакомец.
— Но у меня-то, — продолжал трактирщик, — нет свободной комнаты.
— Так устройте меня в конюшне, — спокойно возразил незнакомец.
— Не могу.
— Почему?
— Там нет места — все занято лошадьми.
— Ну что ж, — снова возразил незнакомец, — в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.
— Я не могу дать вам обеда.
Это заявление, сделанное сдержанным, но решительным тоном, заставило незнакомца насторожиться. Он встал.
— Ах, так! — вскричал он. — Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. Я хочу есть.
— У меня ничего нет, — сказал трактирщик.
Незнакомец разразился смехом и повернулся к камину и к печам.
— Ничего? А все это?
— Все это мне заказано другими.
— Кем?
— Господами извозчиками.
— Сколько же их?
— Двенадцать.
— Да тут хватит еды на двадцать человек.
— Все это они заказали для себя и уплатили вперед.
Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:
— Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.
Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:
— Уходите отсюда.
В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:
— Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя — Жан Вальжан. А теперь — сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?
С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик продолжал:
— Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.
Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.
Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на пороге своей двери и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми уличными прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тогда подозрительные, испуганные взгляды всей этой группы людей сказали бы ему, что его появление не замедлит всполошить весь город.
Но ничего этого он не видел. Те, кто удручены горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.
Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище.
Приличный трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.
Вдруг в конце улицы мелькнул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.
Это и в самом деле был кабачок — кабачок, что на улице Шафо.
На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Несколько человек сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.
В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоялым двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела в маленький дворик, заваленный навозом.
Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.
— Кто там? — спросил хозяин.
— Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.
— За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.
Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала пришельца с одной стороны, огонь очага — с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.
Кабатчик оказал:
— Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.
Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нывшие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо пришельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение смутного довольства, к которому примешивался другой, скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.
Впрочем, у него был мужественный, энергичный и грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось смиренным, а под конец суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под кучи валежника.
Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д’Асс и… (забыл название — кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и сам рассказывал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал незаметный знак кабатчику. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.
Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:
— Немедленно убирайся отсюда.
Незнакомец обернулся и кротко ответил:
— Ах, так? Вы знаете?..
— Да.
— Меня прогнали из того трактира.
— А теперь тебя выгоняют из этого.
— Куда же мне деваться?
— Куда хочешь.
Путник взял свою палку, ранец и ушел.
На улице несколько мальчишек, которые провожали его от самого «Кольбасского креста» и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он с гневом повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.
Он пошел дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колоколу. Он позвонил.
Окошечко в воротах приоткрылось.
— Господин привратник, — сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, — сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь.
Голос ответил ему:
— Тюрьма не постоялый двор. Пусть вас арестуют, тогда откроют.
Окошечко снова захлопнулось.
Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые из них вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двуствольным ружьем, висевшим на стене. Посредине комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестевший, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую миску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях маленького ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.
На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы только он один.
Вероятно, он подумал, что этот радостный дом не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания.
Он стукнул в стекло тихо и нерешительно.
Никто не услышал его.
Он стукнул еще раз.
Он услыхал, как женщина сказала:
— Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучит.
— Нет, — ответил муж.
Он стукнул в третий раз.
Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.
Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник доходил ему до левого плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, откинув голову назад; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навыкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и, главное, то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.
— Извините, сударь, — сказал путник, — не могли бы вы за плату дать мне тарелку супу и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Скажите, могли бы? За плату.
— Кто вы такой? — спросил хозяин дома.
Человек ответил:
— Я иду из Пюи-Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.
— Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, — сказал крестьянин. — Но почему вы не идете на постоялый двор?
— Там нет места.
— Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. Вы были у Лабара?
— Да.
— И что же?
— Не знаю, право, но он меня не пустил, — с замешательством ответил путник.
— А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?
Замешательство незнакомца возрастало.
— Он тоже не пустил меня, — пробормотал он.
Лицо крестьянина выразило подозрение; он оглядел пришельца с ног до головы и вдруг с каким-то ужасом вскричал:
— Да уж не тот ли вы человек?
Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.
Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?» — женщина вскочила с места, схватила обоих детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя: «Воровское отродье».
Все это произошло гораздо быстрее, нежели можно себе представить. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:
— Убирайся.
— Ради бога, хоть стакан воды, — попросил путник.
— А не хочешь ли пулю в лоб? — ответил крестьянин. Затем он сильно хлопнул дверью, и путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, с шумом задвинулся поперечный железный брус.
Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через решетчатый забор и очутился в саду. Он подошел к землянке; дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие, и она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссейные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере какое-то убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло, и он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.
Он попал в собачью конуру.
Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.
Подобным же образом выбрался он из сада, пятясь к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».
Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже этой соломенной подстилки, выгнанный из этой жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень, и говорят, что какой-то прохожий слышал, как он вскричал: «Собаке — и той лучше, чем мне!»
Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле какое-нибудь дерево, какой-нибудь стог сена, где можно было бы укрыться.
Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, почувствовав себя вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с коротко срезанным жнивьем — такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.
Горизонт был совершенно черен — и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали очень низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет.
Земля поэтому была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно зловещее впечатление, и однообразные, унылые очертания холма мутным сизым пятном вырисовывались на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отвратительного, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм — только одно уродливое дерево, которое, качаясь и вздрагивая под ветром, стояло в нескольких шагах от путника.
Человек этот, без сомнения, не принадлежал к числу людей утонченного духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и этот холм, эта равнина и это дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.
Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.
Было около восьми часов. Не зная улиц, он опять отправился наудачу.
Он дошел таким образом до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.
На углу этой площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.
Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.
В это время какая-то старая женщина вышла из церкви. Она заметила лежащего в темноте человека.
— Что вы здесь делаете, друг мой? — спросила она.
— Разве вы не видите сами, добрая женщина? Я ложусь спать, — ответил он резко и злобно.
Добрая женщина, действительно вполне достойная этого имени, была маркиза де Р.
— На этой скамье? — снова спросила она.
— Девятнадцать лет я спал на голых досках, — сказал человек, — сегодня посплю на голом камне.
— Вы служили в солдатах?
— Да, добрая женщина, в солдатах.
— Почему вы не идете на постоялый двор?
— Потому что у меня нет денег.
— Как жаль! — сказала г-жа де Р. — У меня в кошельке только четыре су.
— Все равно. Давайте.
И он взял четыре су. Г-жа де Р. продолжала:
— Этих денег вам не хватит на постоялый двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.
— Я стучался во все двери.
— И что же?
— Меня гнали отовсюду.
«Добрая женщина» прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на маленький низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.
— Вы говорите, что стучались во все двери? — еще раз спросила она.
— Да.
— А стучались вы в эту?
— Нет.
— Так постучитесь.
Глава 2
Мудрость, предостерегаемая благоразумием
В этот вечер, после своей обычной прогулки по городу, диньский епископ довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему «Об обязанностях», который, к сожалению, так и остался незаконченным. Он тщательно собирал все сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд распадался на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй — об обязанностях каждого отдельного человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности — суть великие обязанности. Их четыре. Святой апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (Матф., VI), обязанности по отношению к самому себе (Матф., V, 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (Матф., VII, 12), обязанности по отношению к творениям божиим (Матф., VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах: обязанности государей и подданных — в Послании к римлянам; судей, жен, матерей и юношей — у св. Петра; мужей, отцов, детей и слуг — в Послании к ефесянам; верующих — в Послании к евреям; девственниц — в Послании к коринфянам. Все эти предписания он прилежно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.
В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на маленьких четвертушках бумаги; как всегда в это время, вошла г-жа Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.
Столовая представляла собою продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.
Госпожа Маглуар действительно кончала накрывать на стол.
Не отрываясь от дела, она разговаривала с м-ль Батистиной.
На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно сильный огонь.
Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят: г-жу Маглуар — низенькую, полную, подвижную; м-ль Батистину — кроткую, худощавую, хрупкую, немного повыше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что г-жа Маглуар была «из простых», а м-ль Батистина — «из господ». Г-жа Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик — единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху по углам двумя булавками, довершали ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марселя. Платье м-ль Батистины было скроено по фасону 1806 года: короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, нашивки и пуговки. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка». Г-жа Маглуар производила впечатление смышленой, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали ей оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, с какой-то смесью почтительности и фамильярности, но стоило монсеньору заговорить, и — мы уже убедились в этом — она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Сама м-ль Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навыкате и длинный, с горбинкой, нос, но все ее лицо, все ее существо — мы уже говорили об этом вначале — дышало невыразимой добротой. Она и всегда была предрасположена к кротости, а вера, милосердие, надежда — эти три добродетели, согревающие душу, — мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее лишь агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!
Впоследствии м-ль Батистина столько раз рассказывала о том, что произошло в епископском доме в этот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.
В ту минуту, когда вошел епископ, г-жа Маглуар что-то с горячностью говорила м-ль Батистине. Она беседовала с мадмуазель на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.
По-видимому, г-жа Маглуар, закупая кое-какую провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается где-то на улицах и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собою и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие неприятности. И что поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и позаботиться о том, чтобы их дома были надлежащим образом закрыты, входы загорожены, а двери снабжены засовами и накрепко заперты.
Госпожа Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодновато, теперь грелся, сидя у камина, да и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу г-жи Маглуар. Она повторила ее. Тогда м-ль Батистина, которой хотелось доставить удовольствие г-же Маглуар, не вызвав при этом недовольства брата, осмелилась робко спросить у него:
— Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?
— Да, я слышал что-то в этом роде, — ответил епископ.
Потом, передвинув несколько свой стул и опершись обеими руками о колени, он обратил к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:
— Ну, в чем дело? Что случилось? Мы, стало быть, находимся в большой опасности?
И г-жа Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел переночевать у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гасенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья — настоящий висельник.
— В самом деле? — спросил епископ.
Этот снисходительный вопрос ободрил г-жу Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:
— Да, ваше высокопреосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. К тому же полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не иметь ночью даже уличных фонарей! Выходишь, а тут тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что…
— Я ничего не говорю, — прервала ее м-ль Батистина. — Все, что делает мой брат, хорошо!
Словно не слыша этого возражения, г-жа Маглуар продолжала:
— Вот мы и говорим, что наш дом совсем ненадежен и что, если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде; они в сохранности, так что это минутное дело; говорю вам, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы на одну только нынешнюю ночь, потому что, говорю вам, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи первый встречный; ну и потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть посреди ночи. О господи, да чего уж тут! Никому нет нужды и спрашивать разрешения…
В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.
— Войдите, — сказал епископ.
Глава 3
Героизм слепого повиновения
Дверь открылась.
Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.
Вошел человек.
Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.
Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.
У г-жи Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.
Мадмуазель Батистина обернулась, увидела входящего человека и, испугавшись, приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.
Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.
Он уже открыл рот, видимо собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:
— Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, по месту назначения. Вот уже четыре дня, как я шагаю пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я был в собачьей конуре. Собака укусила меня и выгнала вон, словно она была человеком. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться там хотя бы в какой-нибудь дверной нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Целый капитал. Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет… Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться?
— Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте на стол еще один прибор.
Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.
— Погодите, — продолжал он, словно не поверив своим ушам, — тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник. Острожник. Я прямо с каторги.
Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.
— Вот мой паспорт. Как видите — желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Я и сам умею читать. Выучился в остроге. Там есть школа для тех, кто желает. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт: «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец…» — ну да это вам безразлично… — «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну, вот! Все меня выбрасывали вон. Ну, а вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?
— Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — постелите чистые простыни на кровати в алькове.
Мы уже говорили о том, какой характер носило повиновение обеих женщин.
Госпожа Маглуар вышла исполнить оба приказания.
Епископ обратился к незнакомцу:
— Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.
Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровом и мрачном, изобразилось необыкновенное изумление, недоверие, радость. Он стал бормотать, словно помешанный:
— Вправду? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не тыкаете мне? «Убирайся прочь, собака!» — вот что всегда говорят мне люди. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Вот спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда. Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати. Вы позволяете мне остаться! Право, вы достойные люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощенья, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?
— Я священник и живу в этом доме, — сказал епископ.
— Священник! — повторил пришелец. — Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы — кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви? Гляди-ка, ну и дурень же я, право! Не заметил вашей скуфейки.
С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. М-ль Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:
— Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо — хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?
— Нет, — ответил епископ, — оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали — сто девять франков?
— И пятнадцать су, — добавил путник.
— Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы заработать это?
— Девятнадцать лет.
— Девятнадцать лет!
Епископ глубоко вздохнул.
Путник продолжал:
— У меня покуда все мои деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грасе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был майоркский епископ, в Марселе. Епископ — это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю про это, но уж очень непонятны мне такие вещи. Вы подумайте только — наш брат и он! Он служил обедню посреди тюремного двора, там устроили престол, а на голове у него была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.
Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь.
Вошла г-жа Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.
— Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте этот прибор как можно ближе к огню. — И, повернувшись к своему гостю, добавил: — Ночной ветер очень холоден в Альпах. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?
Всякий раз, как он произносил слово сударь своим ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. Сударь для каторжника — это все равно что стакан воды для пассажира, пострадавшего при кораблекрушении на «Медузе». Опозоренные жаждут уважения.
— Как тускло горит эта лампа, — заметил епископ.
Госпожа Маглуар поняла епископа, пошла в его спальню, взяла там с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.
— Господин кюре, — сказал пришелец, — вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.
Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.
— Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучат голод и жажда — добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.
Человек изумленно взглянул на него.
— Правда? Вы знали, как меня зовут?
— Да, — ответил епископ, — вас зовут «брат мой».
— Знаете что, господин кюре, — вскричал путник, — входя сюда, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной — у меня как будто и голод прошел.
Епископ посмотрел на него и спросил:
— Вы очень страдали?
— Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, — все равно кандалы. Собаки и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. И все тут.
— Да, — сказал епископ, — вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этого горестного места, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда чувство доброжелательности, кротости и мира, то вы лучше любого из нас.
Между тем г-жа Маглуар подала ужин: суп на постном масле с хлебным мякишем и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смокв, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина.
На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.
— Милости просим! — с живостью сказал он.
Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. М-ль Батистина, державшаяся невозмутимо-спокойно и непринужденно, заняла место налево от брата.
Епископ прочел предобеденную молитву и, согласно своему обыкновению, сам разлил суп. Гость жадно набросился на еду.
Вдруг епископ заметил:
— Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает.
В самом деле, г-жа Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался к ужину кто-либо из гостей, в обычае дома было раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов — невинное хвастовство! Это наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.
Госпожа Маглуар поняла намек, безмолвно вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.
Глава 4
Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье
А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за этим столом, лучше всего будет привести здесь отрывок из письма м-ль Батистины к г-же де Буашеврон, где с простодушной добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:
………………………………………
«…Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:
— Господин кюре, служитель божий, для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.
Между нами говоря, это замечание немного задело меня. Мой брат ответил:
— У них больше работы, чем у меня.
— Нет, — возразил человек, — у них больше денег. Вы бедны, я это хорошо вижу. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы вправду священник? Право же, если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.
— Господь бог более чем справедлив, — ответил мой брат. Затем он спросил: — Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?
— Да, по принудительному маршруту.
Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:
— Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.
— Вы идете в хорошие места, — сказал мой брат. — Во время революции семья моя была разорена, и сначала я нашел убежище в Франш-Конте, где некоторое время жил трудами рук своих. Я был полон желания работать. И я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые фабрики, сталелитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов, причем четыре из них, очень значительные, в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере…
По-моему, я не ошибаюсь, и это именно те названия, которые привел мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.
— Сестрица, — сказал он, — мне кажется, у нас есть родственники в этих краях.
Я ответила:
— Были, и при старом режиме один из них, господин де Люсенэ, служил в Понтарлье начальником городской стражи.
— Все это так, — продолжал брат, — но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал. В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями».
Тут мой брат, не забывая усиленно угощать этого человека, очень подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов: «большие риги», принадлежащие богатым, где держат по сорок-пятьдесят коров и где за лето выделывают от семи до восьми тысяч сыров, и «артельные сырни», принадлежащие беднякам — то есть крестьянам с предгорий, которые сообща содержат своих коров и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел по три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.
За едой этот человек стал понемногу оживать. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, говоря, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне. Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразила одна вещь. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, мой брат в продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о его положении или осведомить его о том, кем является мой брат. Казалось бы, для него как для епископа это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая в будущем вести лучшую жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его жизни. Ведь в ней заключалась и история его проступка, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. И до такой степени, что, говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, добавил он, «счастливы, потому что безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, — это обращаться с ним так же, как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была затаенная мысль моего брата. Так или иначе, я могу сказать только, что если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; в продолжение всего вечера он был совершенно таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судией Гедеоном или с нашим приходским священником.
К концу ужина, когда мы уже закусывали смоквами, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающее. Он больше не говорил и казался очень утомленным. Когда бедная старушка Жербо ушла, брат прочитал послеобеденную молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель». Госпожа Маглуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала г-жу Маглуар отнести на постель гостя шкуру шварцвальдской косули, которая обычно лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что она такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же он купил и ножичек с ручкой слоновой кости, который я употребляю за столом.
Госпожа Маглуар тотчас же вернулась назад, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».
Глава 5
Спокойствие
Пожелав сестре доброй ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой вручил своему гостю и сказал:
— Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.
Путник последовал за ним.
Как уже известно из вышесказанного, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.
В ту минуту, когда они проходили через спальню, г-жа Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.
Епископ проводил своего гостя до самого алькова. Там ожидала его постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на маленький столик.
— Ну, желаю вам спокойной ночи, — сказал епископ. — Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.
— Спасибо вам, господин аббат, — сказал путник.
Не успел он произнести эти исполненные мира слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было — предостережение или угроза? Или он просто повиновался какому-то безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он круто обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло вскричал:
— Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой! — Он помолчал, потом прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное: — Хорошо ли вы подумали о том, что делаете? Почем знать — может быть, мне случалось на своем веку убить человека?
— Про то ведает только бог, — ответил епископ.
Затем, торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего при этом голову, и, не оглядываясь назад, пошел к себе.
Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала алтарь. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву.
Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую ночью бог открывает очам тех, кто бодрствует.
Что касается путника, то он так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном.
Когда епископ возвращался из сада в свою спальню, пробило полночь.
Через несколько минут в маленьком домике все спало.
Глава 6
Жан Вальжан
Посреди ночи Жан Вальжан проснулся. Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца — Жаном Вальжаном, или Влажаном, — по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получившееся от сокращения слов voilà Jean[486].
Жан Вальжан был по характеру задумчив, но не печален, — свойство привязчивых натур. А в общем, этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и незначительным. Совсем еще ребенком он потерял отца и мать. Мать его, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, занимавшийся, как и сын, подрезкой деревьев, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семью детьми — мальчиками и девочками. Эта-то сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему — год. Самому Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и в свою очередь поддержал вырастившую его сестру. Это сделалось само собой, как долг, не без некоторого глухого недовольства со стороны Жана Вальжана. Так, в тяжелом и плохо оплачиваемом труде, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него когда-нибудь была подружка. Ему некогда было влюбляться.
Вечером он приходил домой усталый и молча съедал свой суп. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из своих детей. Казалось, ничего не замечая, он не мешал сестре делать свое дело и, низко согнувшись над столом, продолжал есть, почти уткнувшись носом в свой суп, не убирая длинных волос, падавших ему на глаза и свисавших над миской. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улички, жила фермерша по имени Мари-Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибегали к Мари-Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом уголке аллеи, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что больше проливалось молока им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари-Клод за кринку молока, и дети избегали кары.
В сезон подрезки деревьев он зарабатывал по восемнадцать су в день, а потом нанимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Постепенно нужда все сильнее зажимала в тиски это злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба — в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба.
В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал вовремя и успел еще заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла вместе с ним. Изабо бросился на улицу; вор убегал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.
Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, из которого он отлично стрелял, — он немного промышлял браконьерством, — и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, весьма недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы-горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист — в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость характера, не уничтожая подчас его человечности.
Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловещ этот миг, когда общество отстраняется и навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.
22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главнокомандующим Итальянской армии, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона-Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы — сейчас ему около девяноста лет — все еще хорошо помнит этого беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений — представлений бедного невежественного человека — просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными ударами молота ему заклепывали железный ошейник на затылке, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и последовательно опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление, в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.
Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он превратился в номер 24601. Что сталось с его сестрой? Что сталось с ее семерыми детьми? Кому какое дело до этого? Что станется с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?
Все та же старая история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят — кто знает, куда именно, быть может, каждый своей дорогой — и понемногу потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня деревенской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен-Сюльпис, на улице Хлебопеков. При ней оставался только один ребенок, мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время — задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час — целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданьице: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же во тьме, съежившись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла только убогая кровать, прялка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и дав ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал — ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить; и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.
К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этого невеселого места. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня — потому что светло, ночи — потому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с тем же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году, он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия — три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба.
Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод.
Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.
Что же произошло в этой душе?
Глава 7
Глубь отчаянья
Попытаемся рассказать это.
Общество обязано вглядеться в такого рода явления, ибо оно само создает их.
Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантской койки, он исследовал свою совесть и стал размышлять.
Он объявил себя судьей.
И прежде всего призвал к суду самого себя.
Он признал, что вовсе не был осужден невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что, если бы он попросил, ему, быть может, и не отказали бы в этом хлебе; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали этот хлеб либо из сострадания, либо за работу; что на слова: «Разве может человек ждать, когда он голоден?» — нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для бедных его детишек; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестие, — был дурной выход; словом, он признал себя виновным.
Затем он спросил себя:
Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чашек весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершенный проступок, и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание, отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности — преступлением, повторяющимся каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?
Он спросил себя, вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать своих членов безрассудной своей беспечности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности — с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между недостатком и чрезмерностью — недостатком работы, чрезмерностью наказания?
Он спросил себя, не чудовищно ли, что общество так обращалось именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, были одарены наименее щедро и, следовательно, были наиболее достойны снисхождения?
Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.
Он приговорил его к своей ненависти.
Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец, он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, беззаконием, все же никак не являлось и актом справедливости.
Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; но негодование всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.
К тому же человеческое общество причинило ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему только затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь — война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда уйдет оттуда.
В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-иньорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут лишь усилить могущество зла.
Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду провидение, сотворившее общество, и также вынес ему приговор.
Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны, в нее проник свет, а с другой — тьма.
Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.
Здесь мы не можем не задержаться для минутного размышления.
Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа под влиянием судьбы совершенно преобразиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности, не было ли в душе Жана Вальжана той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может окончательно погасить?
Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы нет, если бы увидел в Тулоне этого каторжника, когда тот в часы отдыха — часы его размышлений, — сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел на колесе какого-нибудь судового во́рота, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый — пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.
Да, несомненно, и мы вовсе не хотим скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг; он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, он стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, — слово надежда.
Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, и даже больше того — мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того, как он испытал столько горя, многое в нем самом осталось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях. Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел в этой тьме, ощупью находя свой путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней ли, или по внешней причине, им овладевал порыв гнева, приступ страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.
Но вот молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он уже не помнил и сам.
Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преображения в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безумные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.
Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним сравниться в этом отношении. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял орудие, которое теперь называют домкратом, а в старину звали orgueil[487], и от которого, упомянем вскользь, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подоспели рабочие.
Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно мечтая о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами — людьми, которые вечно завидуют насекомым и птицам. Вскарабкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины и ног, втискивая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.
Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год зловещий хохот — хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. У него был такой вид, словно он постоянно занят созерцанием чего-то страшного.
И действительно, он был поглощен своими мыслями.
Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать свой взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, он всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий — громада, очертания которой ускользали от него, а давящая масса преисполняла отчаянием; он видел колоссальную пирамиду, называемую нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной груде он вдруг различал там и сям, то совсем рядом с собой, то вдали, на недосягаемых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине — окруженного солнечным нимбом самого императора в ослепительно сияющей короне. И ему казалось, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более зловещим. Все это — законы, предрассудки, события, люди, предметы — кружилось, проносилось над его головой, повинуясь сложному и таинственному велению бога, продиктованному цивилизации, топча и уничтожая его с какой-то невозмутимой жестокостью и неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубь бедствия, возможного для человека, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.
Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?
Если бы зерно проса, попавшее под мельничный жернов, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.
В конце концов, все это — действительность, населенная призраками, фантасмагория, населенная образами из реальной жизни, — привело его к особому душевному состоянию, которое почти невозможно выразить словами.
Случалось, в самый разгар своей тяжкой, мучительной работы он вдруг останавливался. Он начинал думать. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным; все, что окружало его, казалось ему неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон». Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него: надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударяло его палкой.
Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через какое-то подвальное оконце.
В заключение, подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только возможно сделать из этого какие-либо положительные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен — таким воспитала его каторжная тюрьма — к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в полном беспамятстве и является как бы местью за все, что он выстрадал; во-вторых — к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада характера: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокое сознание перенесенных несправедливостей, чувство возмущения даже против добрых, невинных и праведных, если они существуют. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам — та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить — все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как весьма опасного человека.
Из года в год душа его все более черствела — медленно, но непрерывно. Черствое сердце — сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.
Глава 8
Море и мрак
Человек за бортом!
Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.
Человек исчезает, потом появляется снова, он погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного — лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.
Он испускает отчаянные крики, которые замирают в глубинах океана. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, исступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, он упал — все кончено.
Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, окружают его своим ужасным объятием; бездна уносит его в своей качке, водяные лоскутья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его, цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; гнусный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды — воплощенная ненависть.
И все же он борется.
Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, плывет. Он — это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, — сражается с неистощимым.
А где же корабль? Далеко. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.
На человека налетают шквалы, его душит морская пена. Он поднимает глаза — над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он — жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.
Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем они могут помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он — он изнывает в предсмертной муке.
Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечностей — меж океаном и небом: первый — могила, второе — саван.
Надвигается ночь, уже столько часов он плывет, его силы приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся совсем; он один среди гигантской сумеречной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чувствует под водою движение каких-то бесформенных чудищ невидимого; он зовет на помощь.
Людей больше нет. Где же бог?
Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.
Ничего не видно на горизонте. Ничего — в небе.
Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню — они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности.
Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное и шумное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним — омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть; он перестает бороться, он уступает, он сдается; и вот он исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана.
О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О зловещее исчезновение поддержки! О нравственная смерть!
Море — это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море — это безграничное страдание.
Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?
Глава 9
Новые горести
Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» — наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.
У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при выходе из острога.
Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Скажем попросту — обворованным.
На другой день после освобождения, проходя через Грас, он увидел перед воротами завода померанцевых вод людей, выгружавших тюки товара. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су». Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжан запротестовал. Ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».
Он опять счел себя обворованным.
Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.
Освобождение — это еще не свобода. Выйти из острога — еще не значит уйти от осуждения.
Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грасе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.
Глава 10
Человек проснулся
Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополуночи, Жан Вальжан проснулся.
Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, чтобы не нарушить его сон.
Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.
Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружавшую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.
Если человек пережил за день много разных впечатлений, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.
Он находился в таком состоянии духа, когда мысли и представления неясны. В голове у него теснился хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, безмерно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и пропадало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Вот эта мысль, мы сейчас ее откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые г-жа Маглуар разложила за ужином на столе.
Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь… В нескольких шагах… Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха служанка убирала их в маленький шкафчик у изголовья кровати… Он отлично заметил этот шкафчик… С правой стороны, если идти из столовой… Они были тяжелые и притом из старинного серебра… За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков… Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет… Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не «обокрало» его.
Добрый час он провел в колебаниях и сомнениях, к которым примешивалась какая-то внутренняя борьба. Пробило три. Он снова открыл глаза, резко приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который, ложась, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснулся ими пола и внезапно сел, почти сам не сознавая, как это произошло.
Некоторое время он сидел, задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствующего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати; потом принял свое прежнее положение и застыл на месте, снова погрузившись в задумчивость.
Среди этого страшного раздумья та мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она словно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались только на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с какой-то механической назойливостью мелькал перед его глазами.
Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»
Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Поэтому снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате стоял какой-то сумеречный полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, перемежающийся из-за набегавших на луну облаков, походил на сизую дымку, просачивающуюся в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на маленькую задвижку. Он открыл окно, но холодная, резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. Позади нее, в отдалении, Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что за стеной была аллея какого-то бульвара или же обсаженный деревьями переулок.
Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул из него какой-то предмет, положил его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный на одном конце, как копье.
Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно — дубинка.
Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и им давали иногда рабочие орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу.
Он взял подсвечник в правую руку и, задерживая дыхание, бесшумным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.
Глава 11
Что он делает
Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.
Он толкнул дверь.
Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.
Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.
Он подождал с секунду, потом еще раз толкнул дверь, уже смелее.
Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял маленький столик, который углом своим загораживал вход.
Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.
Он решился и в третий раз толкнул дверь, сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо плохо смазанная, вдруг заскрипела во мраке резко и протяжно.
Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.
Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что эта петля внезапно ожила, превратилась в какое-то страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.
Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению; дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.
Он застыл на месте, словно превратившись в соляной столб, не смея шевельнуть пальцем.
Прошло несколько минут. Дверь стояла отворенной настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Ничто там не шевельнулось. Он прислушался. Все безмолвствовало в доме. Скрип ржавой петли не разбудил ни единой души.
Первая опасность миновала, но в душе его продолжало бушевать страшное смятение. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда считал себя погибшим. Теперь он хотел одного — поскорее покончить с задуманным. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.
В комнате царило глубокое спокойствие. Там и сям можно было различить смутные, неясные очертания предметов — днем это просто были разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или молитвенный налой, но теперь, в этот час, все это представлялось лишь темным силуэтом или белесоватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.
Вдруг он остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.
Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и проникновенным искусством вмешивается в наши действия, как бы желая натолкнуть нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, эта туча, словно нарочно, разорвалась и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали до кистей его руки. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько милосердных поступков и столько добрых дел, свесилась с кровати. Лицо его было озарено каким-то смутным выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение какого-то невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников во время сна видится таинственное небо.
Отблеск этого неба лежал на лице епископа.
И в то же время оно светилось изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.
Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, спящий предстал словно в сверкающем венце. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана каким-то не поддающимся описанию полусветом. Эта луна в небе, эта уснувшая природа, этот недвижный сад, этот мирный дом, этот ночной час, эта минута, тишина — все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя эти седые волосы и сомкнутые глаза, это лицо, исполненное надежды и веры, эту старческую голову и этот младенческий сон.
Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, сам того не ведая.
Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника.
Этот сон в таком уединении, рядом с таким человеком, каким был он, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.
Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, — даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочитать что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление — и только. Он смотрел — вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Было очевидно, что он взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?
Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, — это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов размозжить этот череп или поцеловать эту руку.
Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой — свой железный брусок; короткие волосы ощетинились над его нахмуренным лбом.
Епископ все так же спокойно и крепко спал под этим страшным взглядом.
Освещенное лунным бликом, над камином смутно вырисовывалось распятие, которое словно раскрывало им объятия, благословляя одного и прощая другого.
Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял свой подсвечник, видимо, желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел крупными шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, словно тигр перепрыгнув через забор, скрылся.
Глава 12
Епископ за работой
На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала г-жа Маглуар, сильно встревоженная.
— Ваше преосвященство, ваше преосвященство! — кричала она. — Не знает ли ваша милость, где корзинка, в которой я держу серебро?
— Знаю, — ответил епископ.
— Слава богу! — обрадовалась она. — А то я понять не могла, куда это она делась.
Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее г-же Маглуар.
— Вот она, — сказал он.
— То есть как? — удивилась она. — Пустая? А серебро?
— Ах, вы беспокоитесь о серебре? — проговорил епископ. — Я не знаю, где оно.
— Господи помилуй! Оно украдено! Это ваш вчерашний гость — вот кто украл его!
В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, г-жа Маглуар побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял, нагнувшись, и, вздыхая, рассматривал саженец ложечника, сломанный корзинкой при ее падении на клумбу. Услыхав крик г-жи Маглуар, епископ выпрямился.
— Ваше преосвященство! — кричала она. — Он ушел! Серебро украдено!
В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя обшивка ограды была сорвана.
— Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле! Какой негодяй! Он украл наше серебро!
Епископ с минуту молчал, потом поднял на г-жу Маглуар свой серьезный взгляд и кротко возразил ей:
— А где сказано, что это серебро было нашим?
Госпожа Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:
— Госпожа Маглуар, я был не прав, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.
— Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, — возразила г-жа Маглуар. — Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы, ваше преосвященство, будете теперь кушать?
Епископ взглянул на нее с удивлением.
— Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?
Госпожа Маглуар пожала плечами.
— У олова неприятный запах.
— А железных?
Госпожа Маглуар сделала выразительную гримасу.
— Железные дают привкус.
— В таком случае, — сказал епископ, — мы обзаведемся деревянными.
Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, которая слушала его молча, и г-же Маглуар, потихоньку ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.
— Ведь надо же придумать! — бормотала про себя г-жа Маглуар, суетясь у стола. — Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..
Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.
— Войдите, — сказал епископ.
Дверь открылась. Странная и возбужденная группа людей появилась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый — Жан Вальжан.
Жандармский унтер-офицер, по-видимому главный над ними, остановился в дверях. Затем он вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.
— Ваше высокопреосвященство… — начал он.
При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, изумленно поднял голову.
— Высокопреосвященство! — прошептал он. — Значит, это не простой священник…
— Молчать! — сказал жандарм. — Это его высокопреосвященство господин епископ.
Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.
— Ах, это вы! — вскричал он, обращаясь к Жану Вальжану. — Я очень рад вас видеть. Но послушайте, что же это вы? Ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему вы не захватили их вместе с вашими приборами?
Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать никакой человеческий язык.
— Ваше высокопреосвященство, — сказал жандармский унтер-офицер, — следовательно, то, что нам сказал этот человек, — правда? Мы встретили его. У него был такой вид, словно он убегал от кого-то. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.
— И он вам сказал, — улыбаясь, прервал епископ, — что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.
— В таком случае мы можем отпустить его? — спросил унтер-офицер.
— Разумеется, — ответил епископ.
Жандармы выпустили Жана Вальжана, который невольно попятился назад.
— Это правда, что меня отпускают? — произнес он почти невнятно, словно говоря во сне.
— Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? — ответил один из жандармов.
— Друг мой, — сказал епископ, — не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они.
Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул Жану Вальжану. Обе женщины смотрели на это без единого слова, движения или взгляда, которые могли бы помешать епископу.
Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки оба подсвечника.
— А теперь, — сказал епископ, — идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.
Затем он обернулся к жандармам:
— Господа, вы можете идти.
Жандармы вышли.
Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.
Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:
— Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.
Жан Вальжан, совершенно не помнивший, чтобы он что-нибудь обещал, стоял в полном смятении. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. Он торжественно продолжал:
— Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.
Глава 13
Малыш Жерве
Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от погони. Быстрым шагом он шел по полям, выбирая первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он пробродил так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества новых ощущений. Он чувствовал в себе глухой гнев. Против кого? — он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление, с которым он боролся и которому противопоставлял ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это чувство тяготило его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастия. Он спрашивал себя, что же теперь его заменит? Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и доносившийся до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы — столько времени не возникали они перед ним.
Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.
Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой бурой равнине, совершенно пустынной. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего — даже колокольни какой-нибудь отдаленной деревенской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.
Погруженный в свое мрачное раздумье, которое способно было придать еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку.
Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, мальчика лет десяти, который, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, — одного из тех ласковых и веселых малышей, что ходят из края в край в рваных своих штанишках, сквозь которые светятся голые коленки.
Не прерывая своей песенки, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони несколько мелких монет — должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.
Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую только что ему удалось подхватить всю целиком тыльной стороной руки.
Однако на этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.
Жан Вальжан наступил на нее ногой.
Но мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.
Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану.
Место было совершенно пустынное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только слабые крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, которое вплетало в его волосы золотые нити и заливало кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.
— Сударь, — сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности, — а моя монета?
— Как тебя зовут? — спросил Жан Вальжан.
— Малыш Жерве, сударь.
— Убирайся, — сказал Жан Вальжан.
— Сударь, — повторил мальчик, — отдайте мне мою монету.
Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.
— Мою монету, сударь! — еще раз повторил мальчик.
Взгляд Жана Вальжана был по-прежнему устремлен в землю.
— Мою монету! — кричал ребенок. — Мою светленькую монетку! Мои деньги!
Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.
— Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!
Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:
— Кто это?
— Я, сударь, — ответил ребенок. — Малыш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!
И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:
— Вот что, отодвинете вы, наконец, вашу ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!
— Ах, ты все еще здесь! — вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; по-прежнему не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил: — Уходи, покуда цел!
Мальчуган с испугом посмотрел на него, весь задрожал и после нескольких секунд оцепенения пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.
Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в свое раздумье, услышал его плач.
Через несколько мгновений ребенок исчез.
Солнце село.
Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Он ничего не ел целый день; возможно, у него была лихорадка.
Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.
Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли свою палку.
В эту минуту он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную в землю его ногой и блестевшую между камнями.
Это произвело на него действие гальванического тока. «Что это такое?» — пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляда от этого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.
Так прошло несколько минут. Вдруг он судорожно бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.
Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.
Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в том направлении, в котором исчез ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.
Тогда он закричал изо всей силы: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»
Потом замолчал и прислушался.
Никакого ответа.
Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.
Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.
Он снова пошел, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне самым грозным и самым горестным голосом, какой только можно себе представить: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»
Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, несомненно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.
Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:
— Господин кюре, не видали вы тут мальчика?
— Нет, — ответил священник.
— Мальчика по имени Малыш Жерве?
— Я никого не видел.
Жан Вальжан вынул из своего кошеля две пятифранковые монеты и протянул священнику.
— Господин кюре, вот вам на ваших бедных. Господин кюре, это мальчуган лет около десяти. Кажется, он был с сурком и шарманкой. Он прошел здесь… знаете, из этих савояров.
— Я не видел его.
— Малыш Жерве! А он не из ближних сел? Вы не можете мне сказать?
— Если этот мальчик такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.
Жан Вальжан быстро вынул еще две пятифранковые монеты и передал их священнику.
— На ваших бедных, — сказал он. И вдруг добавил в каком-то исступлении: — Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.
Священник стегнул лошадь и ускакал, очень испуганный.
Жан Вальжан побежал в прежнем направлении.
Он пробежал таким образом довольно большое расстояние, он смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Два или три раза он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывался небольшой кустик или камень, почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз вгляделся в даль и прокричал в последний раз: «Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Малыш Жерве!» — но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул: «Я негодяй!»
Сердце его больше не могло выдержать, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.
Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился уже — мы видели это — от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился ангельскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее господу богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным нападением, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда; что если он уступит, то придется отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным и что сейчас завязалась борьба, гигантская и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.
Вглядываясь в открывшийся ему туманный просвет, он шагал словно пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел так, с блуждающим взором? Слышал ли он те таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что, если он хочет стать добрым, ему придется сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?
Здесь нужно еще раз задать себе те вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: доходила ли до его сознания хотя бы смутная тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье воспитывает ум — мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, явился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить чрезмерно яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он совсем перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей вдруг восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.
Одно было достоверно, в одном он не сомневался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, тронувшие его сердце.
Таково было его душевное состояние, когда он встретил Малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»? Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, — украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.
Ибо — странное явление, возможное лишь при тех условиях, в каких находился он, — украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже не был более способен.
Так или иначе, но это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, отделив все неясное и туманное в одну сторону, а свет — в другую, воздействовало на его душу в том состоянии, в каком она тогда была, так же как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.
Прежде всего, даже не успев еще осознать и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему его деньги; потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он — только призрак, а пред ним, облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с тысячей гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.
Как мы уже говорили, чрезмерность несчастий сделала его в некотором роде ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой этого Жана Вальжана, его страшное лицо. Он почти готов был спросить себя, кто этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.
Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она вытесняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.
Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинственной глубине какой-то мерцающий огонек, который принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик и что этим факелом был епископ.
Его мысль попеременно останавливалась на двух людях, стоявших перед его сознанием, — на епископе и Жане Вальжане. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей восторженному состоянию такого рода, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ.
Он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.
Жан Вальжан плакал долго. Он плакал горючими слезами, он плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.
Пока он плакал, сознание его все прояснялось и наконец озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, его первый проступок, его длительное искупление, его внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута его выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, — эта кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более чудовищная, что она произошла уже после прощения епископа, — все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной; в свою душу — и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит сатану в лучах райского солнца.
Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. По-видимому, можно считать достоверным лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Епархиальной улице, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей монсеньора Бьенвеню.
Книга III В 1817 году
Глава 1
1817 год
А год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для г-на Брюгьера де Сорсум. Все парикмахерские заведения, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным своим носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный же подвиг г-на Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до пяти лет огромные шапки из сафьяна с наушниками, сильно напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета в белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им названия департаментов. Наполеон находился на острове Св. Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м-ль Биготтини танцевала; царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Г-н Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, подсмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, а Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели местами от бивуачных костров австрийцев, построивших свои бараки возле Гро-Кайу. Две-три такие колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне[488]. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер, издания Туке, и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою — Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала трем или четырем из своих друзей еще не изданную «Урику». В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада — двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Г-н Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созревал будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже-Шатобриан в лице Маршанжи; лже-Маршанжи в лице д’Арленкура еще не появился. «Клара Альба» и «Малек-Адель» считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим писателем современности. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти.
В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые изображали акробатические упражнения и, придавая особую остроту афишам Франкони, собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Г-н Паэр, автор «Агнезы», добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал небольшими камерными концертами у маркизы де Сасене в улице Виль-л’Эвек. Все молодые девушки распевали «Сент-Авельского отшельника», текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в «Зеркало». Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцога Беррийского, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женили на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м-ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной. «Минерва» писала фамилию Chateaubriand[489] так: Chateaubriant. Эта буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сульт не выиграл ни одного сражения; Наполеон — и это правда — уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходили, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», — и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эра революций была навсегда закончена королем Людовиком XVIII, прозванным «бессмертным автором хартии». На береговом откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово Redivivus[490]. Г-н Пье подготовлял в доме № 4 на улице Терезы тайное сборище с целью упрочить монархию. Ультрароялисты говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О’Магони и де Шапделен, слегка поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Со своей стороны, общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. Г-н Деказ, до некоторой степени либерал, господствовал над умами. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме № 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю г-ну Пилоржу различные варианты «Монархии согласно хартии». Делавшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелец подписывался буквой А; Гофман — буквой Z. Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был упразднен. Лицеи назывались коллежами. Ученики коллежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству герцогине Шартрской о том, что на выставленном повсюду портрете герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имел более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, — крупная неприятность.
Город Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае г-н де Тренкелаг; г-н Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с г-ном Клозелем де Кусерг; г-н де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу «Два Филибера» в Одеоне, на фронтоне которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочитать: «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под следующим заголовком: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», — говорил сей наивный издатель. Общее мнение гласило, что г-н Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть — признак славы, и про него написали такой стишок:
Луазон, воришка, плут, Хоть в орла рядится он, — Ножки сразу выдают, Что гусенок — Луазон.Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Лионскую епархию, то ею теперь управлял де Пен, архиепископ Амазийский. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Дапской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал величественную свою мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д’Анже делал уже попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтинок, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия — словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Г-н де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился почтенным творцом нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции г-на Делаво по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были надавать друг другу тумаков. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, усердно хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой в степень «презренного Грегуара». Оборот речи, который мы только что употребили: «низведен в степень», был объявлен неологизмом г-ном Руайе-Колларом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев входящего в собор Парижской Богоматери графа д’Артуа, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку являлись на Бал дикарей». Крамольные речи; полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали средь бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр-Бра, обнажали свои продажные душонки и верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: Please adjust your dress before leaving[491].
Вот что вперемежку всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими своеобразными подробностями, и иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, — полезны, ибо для человечества нет чересчур мелких фактов, как для растительного мира нет чересчур мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и слагается облик столетий.
В этом-то 1817 году четверо юных парижан придумали «забавную шутку».
Глава 2
Двойной квартет
Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора и четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент — это парижанин: учиться в Париже — все равно что родиться в Париже.
Эти молодые люди ничего значительного собой не представляли, всякому случалось видеть им подобных; четыре образчика «первого встречного», не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, — восклицал романс, — Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее, и первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.
Этих Оскаров звали: одного — Феликс Толомьес из Тулузы, второго — Листолье из Кагора, третьего — Фамейль из Лиможа и последнего — Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фавуритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину — уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.
Фавуритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, немного выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах душевную ясность — спутницу труда, а в душе пушок невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую называли старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели Фантина-Блондинка, переживавшая пору своей первой иллюзии.
Далия, Зефина и в особенности Фавуритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод, и влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей в Гюстава. Бедность и кокетство — пагубные советчицы: первая брюзжит, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате — падение, а потом и камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляют блеском всего, что непорочно и неприступно. Увы, что сталось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!
У Фавуритки, побывавшей в Англии, были две поклонницы — Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и любитель прихвастнуть, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фавуритка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старая женщина, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» — «Нет». — «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Эта мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фавуриткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.
Причиной, которая свела Далию с Листолье, — а быть может, и не с одним Листолье, — и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. Что касается Зефины, то она завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».
Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.
Мудрость и целомудрие — вещи разные; доказательством этому служит то, что Фавуритка, Зефина и Далия — разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств — были девушками мудрыми, а Фантина — девушкой целомудренной.
«Целомудренной? — спросите вы. — А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.
Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.
Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это человеческое существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото — на головке, а жемчуг — во рту.
Она работала, чтобы жить; потом — тоже для того, чтобы жить, — она полюбила, ибо существует и сердечный голод.
Она полюбила Толомьеса.
Для него — любовное похождение, для нее — истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишащие толпами студентов и гризеток, видели начало ее грезы. Фантина в этом лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.
Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он-то и был умнее их всех.
Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты — скандально много для горы Св. Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой сам он говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок — колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы — жизнерадостностью, здоровье — иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете — великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron — по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?
Однажды Толомьес отвел в сторону остальных трех членов компании и с загадочным видом сказал им:
— Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фавуритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, и особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa о miracolo! — Желтолицый, сотвори чудо!» — так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес, когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» В то же самое время наши родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, что время пришло. Давайте потолкуем.
Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха одновременно вырвался из всех четырех глоток, и Блашвель вскричал: «Вот так мысль!»
По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма, они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.
Следствием этого темного дела явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.
Глава 3
Четыре пары
В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «околопарижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка сменилась вагоном, пакетбот — пароходом, и сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года — город, предместьем которого является вся Франция.
Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, и стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фавуритка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот щастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав при этом: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, угостили себя игрой в кольца на обсаженной косыми рядами деревьев площадке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, накупили дудок в Нельи, ели повсюду яблочные пирожные и были совершенно счастливы.
Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутливыми шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»
Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фавуритка и сказала наставительным и материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».
Все четыре девушки были дьявольски хороши собой. Некий поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фавуритка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прислонившись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, и волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать грустными прядями; Зефина и Далия укладывали волосы валиком. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем г-н Дельвенкур отличался от г-на Блондо.
Блашвель, казалось, был создан исключительно для того, чтобы по воскресным дням носить на руке кашемировую шаль Фавуритки с цветной каймой по краям.
Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновьей ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого — он курил.
«Этот Толомьес просто изумителен! — с почтительным уважением говорили о нем приятели. — Какие панталоны! Какая энергия!»
Что касается Фантины, то это была сама радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение — сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, полные тайны, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого — «канзу», искаженное на канебьерский лад: quinze août — означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, при шляпках, украшенных цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывающее и в то же время что-то обнажающее, казалось дерзкой находкой приличия, и, пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это бывает.
Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом, восхитительные линии рук, белая кожа с сетью синих жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка скованная мечтательностью, скульптурные, изысканные формы — вот Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе — живую душу.
Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что они видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе и красоту стиля, и красоту ритма. Стиль — форма идеала, ритм — его движение.
Мы уже сказали, что Фантина была сама радость; Фантина была также сама стыдливость.
Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Вот это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотой булавкой. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать какого-то серьезного и почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы, и нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась вдруг глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обусловливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная и очаровательная ямочка — таинственная примета целомудрия, — благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.
Любовь — грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.
Глава 4
Толомьес так весел, что поет испанскую песенку
Весь этот день от начала и до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, что всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг — то были птицы.
Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, с лесом, сияли радостью жизни.
И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве свои розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин — все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, — кроме той, которая любила. «Ты всегда разыгрываешь из себя недотрогу», — говорила ей Фавуритка.
Таковы истинные радости. Счастливые пары — это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, — все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза — вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А эти легкие возгласы, это преследование друг друга в зеленой траве, эта девическая талия, которую обнимают на бегу, эти словечки, звучащие, как музыка, это обожание, выдающее себя интонацией одного слога, эти вишни, вырванные губами из губ, — все это искрится, проносясь мимо, в каком-то небесном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как отобразить их. «Отплытие на Киферу!» — восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает своих горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятья всем влюбленным, а д’Юрфе видит среди них друидов.
После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж; это было причудливое и прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, всю усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.
Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Угощаю ослами!» — и, договорившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси — происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анахоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты — этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди как следует раскачали большую сетку-качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Поочередно качая красавиц, среди дружного смеха и взлета юбок, образовывавших такие складки, которые восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец — ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, — напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке меж двух деревьев:
Soy de Badajoz. Amor me llama, Toda mi alma Es en mis ojos, Porque enseñas A tus piernas[492].Одна только Фантина отказалась качаться.
— Терпеть не могу, когда так ломаются, — пробормотала Фавуритка довольно едким тоном.
После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, — говорила Фавуритка, — по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, уже совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, и его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.
Время от времени Фавуритка восклицала:
— Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.
— Терпение, — отвечал Толомьес.
Глава 5
У Бомбарды
Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.
Большая, но неуютная комната с альковом и кроватью в глубине ее (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен, и пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем), два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном — гора пышных букетов вперемежку со шляпами, мужскими и дамскими, за другим — четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок; кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и еще больший беспорядок под ним;
Там делали такое ногами под столом, Что гром гремел, дрожало все кругом, —как сказал Мольер.
Вот как обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.
Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тюильрийского дворца. Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах, еще не совсем исчезнувшие в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:
Верните нам отца из Гента, Верните нашего отца.Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; именно в те времена одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелому размышлению, ваше величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Простонародье провинций беспокойно, а парижское — ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом и теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем — это добродушные канальи».
Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это бывает, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презираемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках, она являлась там воплощением свободы, и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не «добродушные канальи», как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу — то же, что афинянин по отношению к греку, никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и леность не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на любое проявление беспечности; но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику — и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье — и вы увидите Аустерлиц. Он — точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве — он вербуется в солдаты; речь идет о свободе — он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны. Первую попавшуюся улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинское ущелье. Пробьет час, и этот обыватель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, и взгляд его станет грозным, дыханье станет подобным буре, и из этой жалкой тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет — в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! Пока его припев всего лишь «Карманьола», он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть «Марсельезу» — и он освободит весь мир.
Написав на полях донесения Англеса эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.
Глава 6
В которой все обожают друг друга
Застольные речи и любовные речи! Те и другие одинаково неуловимы: любовные речи — это облака, застольные — клубы дыма.
Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье трубил в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фавуритка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:
— Блашвель, я обожаю тебя.
Это вызвало у Блашвеля вопрос:
— А что бы ты сделала, Фавуритка, если бы я тебя разлюбил?
— Я! — вскричала Фавуритка. — Ах, не говори этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бы бросилась на тебя, искусала, исцарапала, облила бы тебя водой, заставила тебя арестовать.
Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фавуритка продолжала:
— Да я бы попросту закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая!
Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.
Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила Фавуритку среди общего гама:
— Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?
— Я-то? Да я его ненавижу, — так же тихо ответила Фавуритка, снова берясь за вилку. — Он скупой. Я люблю мальчика, который живет против меня. Такой милый молодой человек. Ты не знаешь его? И сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Вот сейчас он начнет кричать. Голубчик, да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы и чуть не на самую крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает по двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! Он до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я развожу тесто для блинчиков — руки у меня были все в тесте, — да и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Нет, только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова потерять голову из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья! — Фавуритка помолчала немного, потом продолжала: — Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого; и потом, погляди только, какая гадость, — мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете.
Глава 7
Мудрость Толомьеса
Пока одни пели, другие беспорядочно болтали; все голоса сливались в какой-то нестройный шум. Толомьес прервал его.
— Нечего нести вздор, да еще без передышки! — воскликнул он. — Для блестящей беседы надо обдумывать свои слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться. Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать — замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном.
Глухой гул протеста раздался среди присутствовавших.
— Толомьес, оставь нас в покое, — сказал Блашвель.
— Долой тирана! — заявил Фамейль.
— Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! — вскричал Листолье.
— На то и воскресенье, — продолжал Фамейль.
— Мы совершенно трезвы, — добавил Листолье.
— Толомьес, — произнес Блашвель, — оцени мою канальскую выдержку.
— Да, поистине монканальмскую, — скаламбурил Толомьес.
Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.
— Друзья, — вскричал Толомьес тоном человека, вновь обретшего авторитет, — придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур — это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, и разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расползшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, никак не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть, и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра. Моисей — по поводу Исаака, Эсхил — по поводу Полиника, Клеопатра — по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит — «поварешка». Установив это, возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в остротах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. Est modus in rebus[493]. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные оладьи, так не злоупотребляйте же ими. Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору — gula punit gulax. Расстройство пищеварения уполномочено господом богом читать мораль желудкам. И запомните вот что: каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя написать на всем слово finis[494], нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирать на замок свой аппетит, загонять в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я, как-никак, занимался юридическими науками — а это подтверждают сданные мною экзамены, — из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по-латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав — это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген!
Фавуритка слушала с глубоким вниманием.
— Феликс! — сказала она. — Какое красивое слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит — Счастливец.
Толомьес продолжал:
— Квириты, джентльмены, кабаллерос, друзья мои! Хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще! Рецепт таков: лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа; надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс из трав, не забудьте свинцовую пластинку, растворы из эссенции Сатурна и примочки из сахарной воды с уксусом.
— Я предпочитаю женщину, — сказал Листолье.
— Женщину! — подхватил Толомьес. — Берегитесь женщины! Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу! Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея — это ее конкурент.
— Толомьес, ты пьян! — вскричал Блашвель.
— И еще как! — сказал Толомьес.
— В таком случае будь весел, — продолжал Блашвель.
— Согласен, — отвечал Толомьес.
И, наполнив свой стакан, он встал.
— Слава вину! Nunc te, Bacche, canam![495] Прошу прощения у дам — это по-испански. И вот доказательство, сеньоры: каков народ — такова и посудина. Кастильская арроба вмещает шестнадцать литров, кантаро в Аликанте — двенадцать, альмуд Канарских островов — двадцать пять, куартин Балеарских островов — двадцать шесть, бочка царя Петра — тридцать. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он! Сударыни, дружеский совет: не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение! Ошибаться — неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить себя до отупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки, это сладостное любовное приключение!
Кто-то сказал: «Человеку свойственно ошибаться»; я же говорю: влюбленному свойственно ошибаться. Сударыни, я боготворю вас всех. О Зефина, о Жозефина, ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается Фавуритки — о нимфы и музы! — как-то раз, переходя через канаву на улице Герен-Буассо, Блашвель увидал красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых, туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась Фавуриткой. О Фавуритка, у тебя ионические губы. Некогда существовал греческий живописец по имени Эвфорион, прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой рот. Слушай же! До тебя не было в мире существа, достойного этого имени. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву — это ты сотворила ее.
Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О Фавуритка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но, кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я не слишком счастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить обозначениям, которые они дают нам. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Далия, на вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина — умом. Я ничего не скажу о Фантине — это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная; это призрак, принявший образ нимфы и облекшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь гризетки, но ищет убежища в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает; это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем реальном мире! О Фантина, знай: я, Толомьес, — всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь химер! Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О Фантина, дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы — сама расцветающая заря. Сударыни, второй совет: не выходите замуж; замужество — это прививка: быть может, она окажется удачной, а быть может, и неудачной; избегайте этого риска. Впрочем, что я! О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы; и все, что можем сказать мы, мудрецы, не помешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так, но вот что вам надо запомнить, красавицы: вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар! О пол грызунов, твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар! Так вот, слушайте внимательно, сахар — это соль. Всякая соль сушит. А сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови; отсюда свертывание, а затем застой крови; отсюда бугорки в легких; отсюда смерть. И вот почему сахарная болезнь граничит с чахоткой. Итак, не грызите сахар, и вы будете жить! Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы. Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Как в кадрили, сходитесь, расходитесь с дамами. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде. Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть! Хорошенькая женщина — это casus belli[496]; хорошенькая женщина — это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал сабинянок, Вильгельм — саксонок, Цезарь — римлянок. Человек, у которого нет возлюбленной, как ястреб, парит над чужими любовницами; и что касается меня, то я обращаю ко всем этим несчастным бобылям великолепный клич Бонапарта, брошенный им итальянской армии: «Солдаты, у вас ничего нет. У врага есть все».
Толомьес остановился.
— Передохни, Толомьес, — сказал Блашвель.
И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фамейль дружно подхватили одну из тех песен мастеровых, с жалобным напевом, которые сложены из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения древесных веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая с ним вместе. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса:
Отцов-глупцов не в меру Снабжали прихожане, Чтобы Клермон-Тонеру Стать папою в Сен-Жане. Но кто родился шляпой, Вовек не будет папой. И у отцов-глупцов приход Забрал обратно весь доход.Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса; он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал:
— Долой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей. Да здравствует процесс судоговорения и процесс пищеварения. Пусть Юстиниан и Пирушка вступят в брак! О радость глубин! Живи, мироздание! Мир — это крупный бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом! Соловей — это бесплатный Элевью. Приветствую тебя, лето. О Люксембургский сад! О георгики, которые разыгрываются на улице Принцессы и в аллее Обсерватории! О задумчивые солдатики! О прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло, и родился колибри. Поцелуй меня, Фантина!
Он ошибся и поцеловал Фавуритку.
Глава 8
Смерть лошади
— А ведь у Эдона лучше кормят, чем у Бомбарды! — вскричала Зефина.
— Я предпочитаю Бомбарду, — заявил Блашвель. — Здесь больше роскоши. Больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами.
— Лучше б у них так сверкали тарелки, — возразила Фавуритка.
Блашвель настаивал на своем:
— Посмотрите на ножи. У Бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости.
— Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, — заметил Толомьес.
Он смотрел в эту минуту на купол Дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика.
Наступило молчание.
— Толомьес! — вскричал Фамейль. — Только что у нас с Листолье был спор.
— Спор хорошая вещь, — ответил Толомьес, — но ссора лучше.
— Мы спорили о философах.
— Отлично.
— Ты кому отдаешь предпочтение — Декарту или Спинозе?
— Дезожье, — сказал Толомьес.
Вынеся это безапелляционное решение, он выпил и продолжал:
— Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молоть вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знайте, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, — это мадера из виноградников, которые находятся на высоте трехсот семнадцати туаз над уровнем моря! Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его! Триста семнадцать туаз! А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туаз за четыре франка пятьдесят сантимов!
Тут его опять прервал Фамейль:
— Толомьес, твое мнение — закон. Кто твой любимый автор?
— Бер…
— …кен?
— Нет… шу.
И Толомьес продолжал:
— Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне алмею, и с Тигелионом Керонейским, если бы раздобыл мне гетеру. Ибо знайте, о сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои Бомбарды. Мы знаем об этом от Апулея. Увы! Всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях творца! «Nil sub sole novum»[497], — сказал Соломон; «Amor omnibus idem»[498], — сказал Вергилий; и медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа — душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противоположных женских типа: распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка.
Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега и оратор остановились как вкопанные. Это была старая и тощая кляча, вполне заслуживавшая места на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком Бомбарды, одёр, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь!», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием:
Ей был отчизной мир, где возу и карете Равно враждебен темный рок. И, разделив судьбу всех кляч на этом свете, Она сломилась, как цветок.— Бедная лошадка! — вздохнула Фантина.
А Далия вскричала:
— Вот те на! Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Надо же быть такой дурой!
Тут Фавуритка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном:
— Ну, а где же сюрприз?
— Совершенно верно. Час пробил, — ответил Толомьес. — Господа, время удивить наших дам настало. Сударыни, обождите нас здесь несколько минут.
— Сюрприз начинается с поцелуя, — сказал Блашвель.
— В лоб, — добавил Толомьес.
Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй, потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам.
Фавуритка захлопала в ладоши.
— Это уже и сейчас интересно, — сказала она.
— Только не уходите надолго, — негромко проговорила Фантина. — Мы вас ждем.
Глава 9
Веселый конец веселья
Оставшись одни, девицы по двое оперлись на подоконники и принялись болтать, высовываясь из окон и перебрасываясь шутками.
Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка Бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля.
— Возвращайтесь поскорее! — крикнула Фантина.
— Интересно знать, что они принесут нам? — сказала Зефина.
— Уж конечно, что-нибудь красивое, — ответила Далия.
— Мне бы хотелось, — сказала Фавуритка, — чтобы это было что-нибудь золотое.
Вскоре они загляделись на экипажи, проносившиеся по набережной, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и шумно громыхающая колымага, бесформенная под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезающих голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, бешено врезалась в толпу; она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот содом веселил молодых девушек. Фавуритка восклицала:
— Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей.
Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину.
— Как странно! — сказала она. — Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути.
Фавуритка пожала плечами.
— Нет, эта Фантина просто поражает меня. Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пассажир и говорю кондуктору дилижанса: «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни.
Так прошло некоторое время. Вдруг Фавуритка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна.
— Что же это? — произнесла она. — А сюрприз?
— Да, да, — подхватила Далия, — где же этот знаменитый сюрприз?
— Как долго их нет, — вздохнула Фантина.
Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то, похожее на письмо.
— Что это? — спросила Фавуритка.
Лакей ответил:
— Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа.
— Почему же вы не принесли ее сразу?
— Потому, — отвечал слуга, — что господа приказали передать ее вам не раньше чем через час.
Фавуритка быстро вырвала бумагу из его рук. Это и в самом деле было письмо.
— Странно! — сказала она. — Адреса нет. Но вот что здесь написано:
«Это и есть сюрприз».
Она поспешно распечатала письмо, развернула его и прочла (она умела читать):
— «О возлюбленные!
Знайте, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужья и жены называют нас блудными сыновьями; они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинуемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пять горячих коней уже будут мчать нас к папашам и мамашам. Выражаясь высоким слогом Боссюэ, мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальяра. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна — это вы, о прекрасные наши малютки! Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка, возвращаемся рысью, со скоростью трех лье в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с глубоким уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним то же. Прощайте.
Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом.
Подписались:
Блашвель. Фамейль. Листолье. Феликс Толомьес.Post-scriptum. За обед заплачено».
Четыре девушки переглянулись.
Фавуритка первая нарушила молчание.
— Что ж! — воскликнула она. — Как-никак, это забавная шутка.
— Да, очень смешно, — подтвердила Зефина.
— Это, должно быть, выдумка Блашвеля, — продолжала Фавуритка. — Если так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история.
— Нет, — сказала Далия, — это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения.
— В таком случае, — возразила Фавуритка, — смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес!
— Да здравствует Толомьес! — подхватили Далия и Зефина.
И покатились со смеху.
Фантина смеялась вместе с остальными.
Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь; она отдалась Толомьесу, как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.
Книга IV Доверить другому значит иногда бросить на произвол судьбы
Глава 1
В которой одна мать встречает другую мать
В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопеков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Ватерлооский сержант».
Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.
Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурую охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо — под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир — Калибана.
Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее, а во-вторых — чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.
Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой — года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»
Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой — темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овевал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными головками, осиянными счастьем и окропленными светом, высился гигантский передок телеги, весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.
Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:
— Так надо, — рыцарь говорил…Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.
Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:
— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.
— Прекрасной, нежной Иможине, —ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.
Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок; она держала его на руках.
Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок.
Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был чудесно розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.
Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки — воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.
Что касается матери, то она казалась печальной. Ее убогая одежда выдавала в ней работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у нее был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.
Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, — наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звездочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается черная ветка.
Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».
Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.
Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для нее уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал — увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, — она оказалась совершенно одинокой, причем привычка ее к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне ее научили только подписывать свое имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по ее поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьез таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не принимал всерьез это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжкой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь — единственный оставшийся у нее повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала все, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у нее осталось очень мало — около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она немного покашливала.
Нам не придется больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.
К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопеков.
Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением.
Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать.
Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что, когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:
— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.
Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье перед дверью; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.
— Меня зовут госпожа Тенардье, — сказала мать двух девочек. — Мы с мужем держим этот трактир.
И, вернувшись к своему романсу, она снова замурлыкала:
— Так надо, — рыцарь повторил, — Я уезжаю в Палестину.Мамаша Тенардье была рыжая, плотная и неуклюжая женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. И странная вещь — на лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, с самого начала испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие, и тогда не случилось бы того, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял — вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.
Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее.
Она работница; муж ее умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла только сегодня утром, но она несла на руках ребенка, поэтому она устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять брела пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало — она ведь еще такая крошка. Пришлось снова взять ее на руки, и ее сокровище уснуло.
Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть… На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то что мать удерживала ее, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.
Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала:
— Поиграйте втроем.
В этом возрасте легко осваиваются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.
Эта гостья оказалась очень веселой; веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок.
Женщины продолжали беседу.
— Как зовут вашу крошку?
— Козетта…
Козетта — читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали одну бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.
— Сколько ей?
— Скоро три.
— Как моей старшей.
Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство; произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк — сколько страха и сколько счастья!
Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.
— Как быстро сходится эта детвора! — вскричала мамаша Тенардье. — Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!
Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила Тенардье за руку, впилась в нее взглядом и сказала:
— Согласны вы оставить у себя моего ребенка?
Тенардье сделала изумленное движение, не означавшее ни согласия, ни отказа.
Мать Козетты продолжала:
— Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа этого не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне так и перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать». Да, да, пусть они будут как три сестры. И к тому же я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?
— Надо будет подумать, — ответила Тенардье.
— Я стала бы платить по шесть франков в месяц.
Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни:
— Не меньше семи франков. И за полгода вперед.
— Шестью семь сорок два, — сказала Тенардье.
— Я заплачу, — согласилась мать.
— И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, — добавил мужской голос.
— Всего пятьдесят семь франков, — сказала г-жа Тенардье, сопровождая свой подсчет все той же песенкой:
— Так надо, — рыцарь говорил…— Я заплачу, — сказала мать, — у меня есть восемьдесят франков. Мне еще хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь сюда за моей дорогой крошкой.
— Есть у девочки одежа? — раздался снова мужской голос.
— Это мой муж, — сказала Тенардье.
— Разумеется, есть, у нее целое приданое, у дорогой моей бедняжечки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шелковые платьица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.
— Вам придется отдать все это, — снова сказал мужской голос.
— А как же иначе! — удивилась мать. — Вот было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!
Хозяин просунул голову в дверь.
— Ладно, — сказал он.
Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка; она снова завязала свой дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. На такую разлуку с виду решаются спокойно, душа же полна отчаянья.
Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с этой матерью и, придя домой, сказала:
— Я только что встретила женщину, которая так плакала, что просто сердце разрывалось.
Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:
— Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватило пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.
— А ведь я и думать об этом не думала, — ответила жена.
Глава 2
Беглая характеристика двух темных личностей
Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.
Что представляли собой эти Тенардье?
Пока что скажем о них только два слова. Мы дополним этот набросок несколько позже.
Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, — к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.
Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если случайно их подогреет какое-нибудь зловещее пламя. В характере жены таилось животное начало, в характере мужа — прирожденная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая осуществляется лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье.
Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардье. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете темные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем.
Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом — сержантом, как он говорил, — по-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его военных подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, — и намалевал скверно.
То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от «Клелии» к «Лодоиске» и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от м-ль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартелеми-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и даже распространял свое разрушительное действие на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. Она топила в них свой последний разум; именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась несколько мечтательной рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какие премудрости, за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сантиментов — почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримерным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать-пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда ее романтически спускающиеся локоны начали седеть, когда в Памеле проглянула мегера, Тенардье превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Что до младшей, то бедняжку чуть было не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Дюкре-Дюминиля, она отделалась именем Азельма.
Впрочем, упомянем мимоходом, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и призрак социального характера. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта — если еще существуют виконты — зовут Тома́, Пьером или Жаком. Это перемещение имен, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» — аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое проникновение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.
Глава 3
Жаворонок
Чтобы благоденствовать, еще недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.
Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы супругу Тенардье удалось избежать протеста векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственным образом. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбчонки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря — в лохмотья. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки.
Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своем ребенке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».
Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги из месяца в месяц. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она облагодетельствовала нас! Что для нас значат ее семь франков?» И он написал ей, требуя двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и «растет отлично», покорилась и стала присылать по двенадцать франков.
Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Печально думать, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той все казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует воздух, принадлежащий ее дочерям. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее Козетты, ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое созданьице! Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.
Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте — копия матери. Формат меньше, вот и вся разница.
Прошел год, потом другой.
В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардье. Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»
Все думали, что мать бросила Козетту.
Между тем папаша Тенардье, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребенок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» все растет и ест, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! — восклицал он. — Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить по пятнадцать франков.
Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе.
Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух других девочек; как только она немножко подросла — то есть едва достигнув пятилетнего возраста, — она стала служанкой в доме.
— В пять лет! — скажут нам. — Да ведь это неправдоподобно!
Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не знаем о недавнем процессе некоего Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал».
Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардье тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле-Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.
Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы ни за что не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» — говорили про нее Тенардье.
Несправедливость сделала ее угрюмой, а нищета — некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали.
Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в старых дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.
В околотке ее прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое созданьице, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.
Только этот бедный жаворонок никогда не пел.
Книга V По наклонной плоскости
Глава 1
Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла
Что же, однако, сталось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала?
Оставив свою маленькую Козетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль-Приморский.
То было, как мы помним, в 1818 году.
Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател.
Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием.
Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше — подчеркнуть его.
Монрейль-Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности — имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль-Приморский, в производстве «черного стеклянного товара» совершились неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому не известный человек, которому пришла мысль заменить при изготовлении этих изделий древесную смолу камедью и, в частности при выделке браслетов, заменить кованые металлические застежки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию.
В самом деле, это ничтожное изменение в огромной степени снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих — благодеяние для края, во-вторых — улучшить выделку товара — выгода для потребителя, в-третьих — дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, — выгода для фабриканта.
Итак, одна идея дала три результата.
Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател — что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя — что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении; сведения о его прошлом были самые скудные.
Говорили, что, когда он пришел в город, у него было очень мало денег — самое большее несколько сот франков.
Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края.
Когда он появился в Монрейле-Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего.
По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в маленький городок Монрейль-Приморский, здание ратуши было внезапно охвачено сильным пожаром. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двоих детей, которые оказались детьми жандармского капитана; по этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали дядюшка Мадлен.
Глава 2
Мадлен
Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать.
Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности, которую он так изумительно преобразовал, Монрейль-Приморский стал значительным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монрейль-Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские: одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда с полной уверенностью, что получит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин хорошего поведения, от тех и других — честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем большие основания, что Монрейль-Приморский, как гарнизонный город, был местом, полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он — даром провидения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку; теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могучий деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег; не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости.
Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного:
«Будь честным человеком! Будь честной женщиной!»
Как мы уже сказали, посреди всей этой кипучей деятельности, источником и главным двигателем которой был дядюшка Мадлен, он богател и сам, но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году, это все знали, у Лафита на его имя было помещено шестьсот тридцать тысяч франков, но, прежде чем отложить для себя эти шестьсот тридцать тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных.
Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль-Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была только одна школа — жалкая лачуга, грозившая развалиться; он построил две новых — одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалованье; и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: «Самые важные чиновники в государстве — это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют — учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу вспомоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей; он открыл там бесплатную аптеку.
В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили: «Это хитрец, который хочет разбогатеть». Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали: «Это честолюбец». Последнее казалось тем более вероятным, что человек этот был религиозен и даже до известной степени соблюдал обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он аккуратно ходил к ранней обедне. Его набожность не замедлила встревожить местного депутата, которому повсюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена Империи в Законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше, — герцога Отрантского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над богом. Однако, узнав, что богатый фабрикант Мадлен ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его; он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне и к вечерне. В те времена честолюбцы добивались у бога земных благ земными поклонами. От этого страха перед соперником выиграл не только господь бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек, с прежними их стало двенадцать.
Но вот в 1819 году однажды утром в городе распространился слух, что по представлению г-на префекта и ввиду заслуг, оказанных краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монрейля-Приморского. Лица, назвавшие пришельца честолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать: «Ага! А мы что говорили?» Весь город заволновался. Слух оказался обоснованным. Несколько дней спустя назначение появилось в «Монитере». На следующий день Мадлен от него отказался.
В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу, изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку; согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новое волнение в городе. «Так вот чего он хотел! Орденского креста!» Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста.
Решительно, этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав: «В таком случае это какой-то авантюрист».
Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем; он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его; рабочие его фабрики просто преклонялись пред ним, и он принимал их преклонение с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, «люди из общества» начали раскланиваться с ним и в городе его стали называть «господин Мадлен»; рабочие и детвора по-прежнему звали его «дядюшка Мадлен», и это обращение вызывало у него самую добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. «Общество» заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монрейля-Приморского, которые, разумеется, в свое время были закрыты для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему была сделана тысяча лестных предложений. Он отклонил их.
Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. «Это невежественный и невоспитанный человек. Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное, не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоты».
Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали: «Это торгаш». Когда он начал сорить деньгами, про него сказали: «Это честолюбец». Когда он оттолкнул от себя почести, про него сказали: «Это авантюрист». Когда он оттолкнул от себя общество, про него стали говорить: «Это грубиян».
В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монрейле-Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался, но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились просить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, настояния были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение, пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простонародья, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки: «От хорошего мэра может быть большая польза. Как не совестно идти на попятную, если выпал случай сделать добро?»
Это была третья фаза его восхождения. Дядюшка Мадлен превратился в господина Мадлена; господин Мадлен превратился в господина мэра.
Глава 3
Суммы, депонированные у Лафита
Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и вначале. У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему учтивостей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избежать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Что за славный медведь!» — говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям.
Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу, которую читал. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги; книги — это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того как вместе с богатством увеличивались и его досуги, он, видимо, старался употребить их на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор как он поселился в Монрейле-Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми.
Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случалось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно. Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в птиц.
Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса. Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался: поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо, останавливал, схватив за рога, вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревни, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек.
Можно было предположить, что когда-то он живал в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу раствором поваренной соли, и выгонять долгоносиков, развешивая повсюду: на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах — пучки шалфея в цвету. У него были «рецепты», как выводить с полей куколь, журавлиный горох, лисий хвост — все сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят.
Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы; взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал: «Завяла. А ведь, если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья — вкусная зелень, а в старой крапиве — такие же волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птице, а толченая — хороша для рогатого скота. Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли и никаких забот и ухода. Правда, семя ее по мере созревания осыпается, и собрать его бывает нелегко. Вот все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной; ею пренебрегают, и она становится вредной. Тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву! — И после минутного молчания он добавил: — Запомните, друзья мои: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только дурные хозяева».
Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.
Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда; похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце; он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священниками, молящимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным псалмам, полным видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью.
Он творил множество добрых дел тайком, как обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил вдруг дверь отпертой, а иной раз даже взломанной. «Здесь побывали воры!» — восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него «вором» оказывался дядюшка Мадлен.
Он был приветлив и печален. Народ говорил: «Вот богач, а совсем не гордый. Вот счастливец, а с виду невеселый».
Некоторые предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой настоящую монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрещенные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жительниц Монрейля-Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили: «Господин мэр, покажите нам вашу спальню. Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту «пещеру». Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной мебелью из красного дерева, довольно некрасивой, как и вся мебель такого сорта, и оклеенная обоями по двенадцать су за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам, были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, по-видимому, серебряных, «потому что на них имелась проба». Замечание, которое было вполне в духе провинциального городка.
Люди тем не менее продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату и что это келья отшельника, молчальня, могила, склеп.
Шушукались также о том, что у него имеются «колоссальные» суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время. «Так что, — добавляли кумушки, — господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три миллиона». В действительности, как мы уже говорили, эти «два или три миллиона» сводились к сумме в шестьсот тридцать или шестьсот сорок тысяч франков.
Глава 4
Господин Мадлен в Трауре
В начале 1821 года газеты возвестили о смерти диньского епископа г-на Мириэля, прозванного монсеньором Бьенвеню и почившего смертью праведника в возрасте восьмидесяти двух лет.
Диньский епископ — добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, — ослеп за несколько лет до кончины, но не печалился о своей слепоте, так как сестра его была рядом.
Заметим мимоходом, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым — это поистине одна из самых странных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне»; видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня; каждую минуту проявлять свою собственную нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел, — все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, вернее сказать — любят вопреки вам; этой-то уверенностью и обладает слепой. В такой скорби видеть заботу о себе — значит видеть ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью! Любовью, целиком сотканной из добродетели. Там, где есть уверенность, кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И эта найденная и испытанная душа — женщина. Чья-то рука поддерживает вас — это ее рука; чьи-то уста прикасаются к вашему лбу — это ее уста; совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание — это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, никогда не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот несгибающийся тростник, касаться своими руками провидения и брать его в объятия — боже великий, какое блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами; если она удаляется, то лишь затем, чтобы снова вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, — это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг; вы — сияние посреди ночи. А тысяча мелких забот! Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, самые неуловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме.
Из этого-то рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай.
Извещение о его смерти было перепечатано местной монрейльской газетой. На следующий день г-н Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе.
В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение г-на Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по диньском епископе», — говорили в салонах; это предположение сильно повысило г-на Мадлена в глазах монрейльской знати, и все немедленно прониклись к нему уважением. Микроскопическое сен-жерменское предместье городка решило снять карантин с г-на Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. Г-н Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького «большого света», считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него:
— Скажите, господин мэр, покойный диньский епископ был, вероятно, в родстве с вами?
— Нет, сударыня, — ответил он.
— Почему же вы носите по нем траур? — снова спросила старушка.
— Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме, — ответил он.
Было замечено еще одно обстоятельство: каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, г-н мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебывало очень много.
Глава 5
Смутные вспышки молний
Мало-помалу и с течением времени всякая неприязнь утихала. Вначале г-н Мадлен, согласно неписаному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем исчезло и это; уважение сделалось полным, искренним, единодушным, и, наконец, настало время — это было около 1821 года, — когда слова «господин мэр» произносились в Монрейле-Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова «монсеньор епископ» произносились в 1815 году в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы посоветоваться с г-ном Мадленом. Он решал споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая, переходя в течение шести-семи лет от одного к другому, наконец охватила весь край.
Один только человек в городе и во всем округе оставался чужд этой болезни и, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, не поддавался ей, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. Казалось, в некоторых людях и в самом деле таится животный инстинкт; природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он подсказывает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе; он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется никаким советам разума, никакому разлагающему воздействию рассудка и, независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно уведомляет человека-собаку о близости человека-кошки и человека-лису — о близости человека-льва.
Нередко, когда г-н Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпаемый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготе серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался ему вслед и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду; потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он поджимал губы к самому носу — многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так: «Кто такой этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет».
Этот суровый, почти угрожающе суровый человек принадлежал к числу тех людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу.
Его звали Жавер, и он служил в полиции.
В Монрейле-Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции г-на Шабулье, секретаря графа Англеса — министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жавер появился в Монрейле-Приморском, Мадлен успел уже стать крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена.
У некоторых полицейских чиновников бывают какие-то своеобразные лица: выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала.
Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно — соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира; и это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что — от устрицы до орла, от свиньи до тигра — все животные таятся в людях, и каждое в отдельности — в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном одновременно.
Животные суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные — это всего лишь тени, то бог не одарил их восприимчивостью к воспитанию в полном смысле этого слова; да и к чему им она? Наши же души, напротив, существуя реально и обладая конечной своей целью, получили от бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит.
Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предрешает сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем.
Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится какой-то представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский чиновник Жавер.
Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, выросши, он непременно сожрал бы остальных волчат.
Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер.
Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Выросши, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей: тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет; у него был выбор только между этими двумя классами; в то же время он чувствовал в себе какие-то задатки моральной стойкости, порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к той цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию. И преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем.
В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах.
Но прежде чем перейти к дальнейшему, давайте уточним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу.
Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чащи и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен: тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расползались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер бывал серьезен, это был дог; когда он смеялся, это был тигр. Далее: узкий череп, массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездообразная неизгладимая морщина, словно печать гнева, мрачный взгляд, злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий.
Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, — из уважения к власти и из ненависти к бунту; а в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями того же бунта. Он был проникнут какой-то слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, начиная от первого министра и кончая сельским стражником; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем тем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: «Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает не прав». О вторых он говорил: «Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может». Он целиком разделял крайние убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать этих демонов и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромен и надменен, как все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах: следить и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире; он верил в полезность своего дела, свято чтил свои обязанности, он был шпионом, как бывают священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки! Он арестовал бы родного отца за побег с каторги и донес бы на родную мать, уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с тем чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим — жизнь, полная лишений, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга, полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщик, изваянный из мрамора, Брут в шкуре Видока — вот что такое был Жавер.
Вся его особа изобличала человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой, вы не видели его глаз, исчезавших под бровями, вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке, вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами, вы не видели его палки, которую он носил под полой редингота. Но вот приходила надобность — и изо всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, зловещий взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка.
В свободные свои минуты, которые выпадали не часто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи.
Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством.
Легко понять, что Жавер был грозой для того разряда людей, который в ежегодном статистическом отчете министерства юстиции значится под рубрикой: Темные личности. При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение.
Таков был этот страшный человек.
Жавер был недреманным оком, постоянно устремленным на г-на Мадлена. Оком, полным догадок и подозрений. В конце концов г-н Мадлен заметил это, но, видимо, не придал этому никакого значения. Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его; казалось, он с полным равнодушием выносил этот тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно.
По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что, побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно занимался поисками следов, какие только мог оставить дядюшка Мадлен за собой в прошлом. Очевидно, ему удалось узнать — и иногда он намеками говорил об этом, — что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе. Как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой: «Теперь, кажется, он в моих руках!» После этого целых три дня он ходил, задумавшись, и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась.
Впрочем, в человеческом существе нет ничего непогрешимого — такова необходимая поправка к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным, — и сущность инстинкта состоит именно в том, что он может поколебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом и животное оказалось бы умнее человека.
Очевидно, Жавер был немного сбит с толку полнейшей естественностью и спокойствием г-на Мадлена.
Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на г-на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах.
Глава 6
Дедушка Фошлеван
Как-то утром г-н Мадлен шел по одному из немощеных монрейльских переулков. Вдруг он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика крестьянина, которого звали дядюшка Фошлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой.
Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались у г-на Мадлена в это время. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком.
При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие стоны. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок — и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом — приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом.
Но вот подошел г-н Мадлен. Все почтительно расступились.
— Помогите! — кричал старик Фошлеван. — Добрые люди, спасите старика!
Господин Мадлен обратился к присутствующим:
— Нет ли домкрата?
— За ним пошли, — отвечал один крестьянин.
— А скоро его сюда доставят?
— Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу, но на это понадобится добрая четверть часа.
— Четверть часа! — вскричал Мадлен.
Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой все глубже уходила в грунт и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра.
— Нельзя ждать четверть часа, — сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг.
— Ничего не поделаешь!
— Да ведь будет уже поздно! Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?
— Как не видеть!
— Послушайте, — продолжал Мадлен, — пока еще под телегой довольно места, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем? Кто хочет заработать пять луидоров?
Никто в толпе не сдвинулся с места.
— Десять луидоров, — сказал Мадлен.
Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал:
— Тут нужна дьявольская сила. И рискуешь, что тебя самого придавит!
— Ну же! — настаивал Мадлен. — Двадцать луидоров!
Прежнее молчание.
— Желания-то у них хватает, — произнес чей-то голос.
Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его, когда подошел.
— А вот силы не хватает, — продолжал Жавер. — Чтобы сделать подобную вещь, поднять на спине такую телегу, как эта, надо быть страшным силачом. — И, пристально глядя на г-на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово: — Господин Мадлен, в своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете.
Мадлен вздрогнул.
Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена взгляда, Жавер добавил:
— Это был один каторжник.
— Вот как! — отозвался Мадлен.
— Каторжник из Тулонской тюрьмы.
Мадлен побледнел.
Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил:
— Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Домкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!
Мадлен оглядел толпу.
— Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику?
Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал:
— В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это тот каторжник.
— Ох! Сейчас меня раздавит! — крикнул старик.
Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он был уже под телегой.
Наступила страшная минута ожидания и тишины.
На глазах у всех Мадлен, почти плашмя лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен! Вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен! Уходите! Видно, уж мне на роду написано так умереть! Оставьте меня! Не то вас и самого задавит!» Мадлен ничего не отвечал.
Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги.
Вдруг вся эта громада пошатнулась, телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос: «Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последние силы.
Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен.
Мадлен встал на ноги. Он был смертельно-бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и называл самим господом богом. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.
Глава 7
Фошлеван становится садовником в Париже
Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в самом здании его фабрики; уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена: «Я покупаю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Фошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями сестер и местного священника, г-н Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент-Антуан в Париже.
Вскоре после этого случая г-н Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел г-на Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой своего хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к г-ну мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение.
На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле-Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее знаменательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства имеется один непогрешимый барометр: это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налога сократились в Монрейльском округе на три четверти, благодаря чему г-н де Виллель, тогдашний министр финансов, часто приводил этот округ в пример другим.
Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым, она не могла проявить в нем особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого; главная задача была разрешена: она жила своим трудом.
Глава 8
Госпожа Виктюрньен тратит тридцать пять франков во имя нравственности
Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, ее охватила радость. Жить честным трудом — какая милость неба! И в самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем и зажила почти счастливо. Она сняла маленькую комнатку и омеблировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок; в этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни.
Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке.
В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье. Но писать она не умела, научившись только подписывать свое имя, поэтому ей приходилось для переписки с ними обращаться к общественному писцу.
Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали тихонько поговаривать о том, что Фантина «пишет письма» и что она «завела шашни».
Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки меньше всего касаются. «Почему этот господин выходит только в сумерках? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому? Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее «полным-полно» этой бумаги?» И т. п., и т. п. Есть особы, которые, ради того чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел; и все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать. Из непреодолимой потребности разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизни, к великой радости того, кто «раскрыл все» без всякой выгоды для себя, повинуясь одному лишь инстинкту. И это очень печально.
Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камины, быстро пожирающие дрова; они требуют много топлива, а топливо — это ближний.
Итак, за Фантиной стали наблюдать.
При этом многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам.
Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то.
Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, — мучительный и трудный процесс.
Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать и адрес: «Милостивому государю, господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле». Выпытали все в кабачке у общественного писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина, без того чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантины есть ребенок. «Судя по всему, это шлюха». Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала: «Я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка!»
Кумушка, проделавшая это, была мегера по имени г-жа Виктюрньен, блюстительница и опекунша всеобщей добродетели. Г-же Виктюрньен было пятьдесят шесть лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, но когда-то эта женщина была молода. В молодости, в разгаре 93-го года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была сухая, злая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть своего покойника монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Это была черная душонка, отдававшая чернецом. Во время Реставрации она стала святошей, и столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась землица, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Аррасском епископстве. Вот эта-то самая г-жа Виктюрньен съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка».
На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг, однажды утром, надзирательница мастерской вручила ей от имени г-на мэра пятьдесят франков и, заявив, что она уволена, посоветовала ей, также от имени г-на мэра, уехать из города.
Это случилось именно в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати.
Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она ушла из мастерской и вернулась в свою комнату. Итак, теперь ее проступок был известен всем.
Она почувствовала себя не в силах защищаться дальше. Кто-то посоветовал ей повидать г-на мэра; она не посмела. Г-н мэр дал ей пятьдесят франков, потому что он был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорилась этому приговору.
Глава 9
Торжество госпожи Виктюрньен
Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась.
Между тем сам г-н Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств! Г-н Мадлен, как правило, почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил некую старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, умея оделять подаянием, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Г-н Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная полной властью и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину.
Что до пятидесяти франков, то она взяла их из суммы, которая была предоставлена г-ном Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работницам.
Фантина стала искать места служанки; она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель — и какую мебель! — сказал ей: «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков.
Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая по двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардье.
Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свою свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за уменьем жить малым идет уменье жить ничем. Это как бы две комнаты: в первой темно, во второй непроглядный мрак.
Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, а одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су некоторые слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде. В конце концов такое уменье становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и немного приободрилась.
В этот период своей жизни она как-то раз сказала соседке: «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Ну что ж! Страдания, тревога и кусочек хлеба, с одной стороны, огорчения — с другой, все это вполне насытит меня».
Видеть возле себя Козетту было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка разделять ее лишения? И потом она ведь должна Тенардье! Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу! Где взять их?
Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать: Моргорита, если была в этом надобность, но верившая в бога, что является высшей ученостью.
Внизу, на дне, есть много таких праведниц: когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое «завтра».
В первое время Фантина испытывала такой стыд, что не решалась выйти из дому.
Когда она шла по улице, ей казалось, что люди оборачиваются ей вслед и показывают на нее пальцем; все смотрели на нее, но никто не здоровался; едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра.
В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас по крайней мере никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как бы Фантине хотелось вернуться в Париж! Но это было невозможно.
Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два или три она отбросила стеснение и начала выходить как ни в чем не бывало. «Мне все равно», — говорила она. И шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной.
Госпожа Виктюрньен иногда видела из окна Фантину, когда та проходила мимо, замечала жалкое состояние «этой твари», поставленной благодаря ей «на надлежащее место», и торжествовала. У злых людей — свои, подлые, радости.
Непосильная работа утомляла Фантину, и легкий сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке: «Пощупайте, какие у меня горячие руки».
И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.
Глава 10
Последствия торжества
Она была уволена с фабрики в конце зимы; прошло лето, и снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня, вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо — словно отдушина, а день — как темный подвал. У солнца нищенский вид. Ужасное время года! Зима все превращает в камень — и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя.
Она зарабатывала слишком мало. Долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами, содержание которых приводило ее в отчаянье, а уплата за них почтовых сборов просто разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта ходит в эти холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив это письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к одному цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула гребень из прически. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса.
— Какие замечательные волосы! — вскричал цирюльник.
— А сколько бы вы дали мне за них? — спросила она.
— Десять франков.
— Стригите.
Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье.
Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине. Бедный Жаворонок продолжал дрогнуть от холода.
Фантина думала: «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженую голову, и все еще была красива.
Черное дело свершалось в сердце Фантины. Лишившись отрады расчесывать свои волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену; однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее несчастий, она начала ненавидеть и его — его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь.
Услыхав однажды это пение и этот смех, одна старуха работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо кончит».
И вот, с бешенством в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, какой-то бродячий музыкант, проходимец; он бил ее и вскоре бросил с таким же отвращением, с каким она сошлась с ним.
Она обожала своего ребенка.
Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого маленького ангела. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной» — и смеялась от радости. Кашель больше не покидал ее, и она часто вся обливалась потом.
Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет».
Фантина громко расхохоталась и сказала старухе соседке: «Они сошли с ума! Сорок франков! Сколько это? Два наполеондора! Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!»
Однако она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз.
Потом она спустилась с лестницы и вприпрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать.
Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее: «С чего это вы так развеселились?»
Она ответила: «Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово — крестьяне!»
Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.
Фантина вмешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул: «Эй ты, хохотунья, у тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый».
— Что это еще за резцы у меня? — спросила Фантина.
— Резцы, — важно отвечал зубной лекарь, — это передние зубы. Два верхних зуба.
— Какой ужас! — вскричала Фантина.
— Два наполеондора! — прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. — И выпадает же людям счастье!
Фантина убежала и закрыла уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:
— Поразмысли, красотка! Два наполеондора не валяются на улице. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.
Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.
— Вы только представьте себе! Это просто какой-то изверг. И как только подобным людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы! Какое чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».
— И сколько он тебе предложил? — спросила Маргарита.
— Два наполеондора.
— Это сорок франков.
— Да, — сказала Фантина, — это сорок франков.
Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.
Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:
— Скажите, вы не знаете, что это такое — сыпная горячка?
— Знаю, — ответила престарелая девица, — это такая болезнь.
— И на нее требуется много лекарств?
— О да. Страшно много.
— А что при этом болит?
— Да все болит, все тело.
— И к детям она, значит, тоже пристает?
— О, к детям-то всего чаще.
— А бывает ли, чтобы от нее умирали?
— Сколько угодно, — ответила Маргарита.
Фантина вышла на улицу и еще раз перечитала письмо.
Вечером она вышла из дому, и люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.
На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она совсем не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, и от нее остался лишь маленький огарок.
Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге и вскричала:
— Господи помилуй! Вся свечка сгорела! Видно, случилось что-то недоброе!
И она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженую голову.
За эту ночь Фантина постарела на десять лет.
— Иисусе! — изумилась Маргарита. — Что это такое с тобой случилось, Фантина?
— Ничего, — ответила Фантина. — Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.
С этими словами она показала старой деве на два наполеондора, блестевшие на столе.
— Господи Иисусе! — снова вскричала Маргарита. — Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?
— Достала, — ответила Фантина.
И она улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.
Два передних зуба были вырваны.
Она послала в Монфермейль сорок франков.
А между тем со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта не была больна.
Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже сгибая спину. У Фантины уже не было кровати, у нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький розан засох. Глиняный кувшин из-под масла, в другом углу, теперь служил для воды; зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фантина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может, из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки, и это было заметно по особым некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы делали ей сцены и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее были теперь очень блестящие, и она ощущала постоянную боль в спине, у верхушки левой лопатки. Она сильно кашляла. Она глубоко ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг один подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к девяти су. Семнадцать часов работы за девять су! Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее обратно почти всю обстановку, без конца повторял: «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи боже! Чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, и в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Около этого времени Тенардье написал ей, что он положительно был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и немедленно; в противном случае он вышвырнет маленькую Козетту, хоть она только еще оправляется от тяжелой болезни, на холод, на улицу, а там — будь что будет, пусть околевает, это ее дело. «Сто франков, — подумала Фантина. — Но разве есть ремесло, при котором можно заработать сто су в день?»
— Ну что ж! — сказала она. — Продадим остальное.
И несчастная стала публичной женщиной.
Глава 11
Christus nos liberavit[499]
Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.
У кого? У нищеты.
У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение.
Святой завет Иисуса Христа руководит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что рабство упразднено европейской цивилизацией. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, и имя его — проституция.
Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и притом величайший позор.
В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает; она обесчещена и сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все то, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорилась судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится. Пусть разверзнутся над ней хляби небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан! Что ей до того? Она — как губка, насыщенная до предела.
Так по крайней мере кажется ей самой, но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу и что чаша его выпита до дна.
Увы! Что же представляют собой все эти судьбы, беспорядочно толкаемые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные?
Тот, кому ведомо сие, видит весь этот мрак.
Он один. Имя его — бог.
Глава 12
Досуг господина Баматабуа
Во всех маленьких городках, а в частности и в Монрейле-Приморском, всегда имеется особая порода молодых людей, которые в провинции проедают свои полторы тысячи ливров ренты с таким же видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов, — это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума; люди, которые в гостиной показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят: «Мои луга, мои леса, мои крестьяне», освистывают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задевают гарнизонных офицеров, чтобы доказать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазеют на приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кафе, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, торгуются из-за гроша, утрируют моду, восхищаются трагедией, презирают женщин, донашивают до дыр свои старые сапоги, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа, и Парижу, глядя на него сквозь призму Понт-а-Мусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят.
Господин Феликс Толомьес, несомненно, был бы одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже.
Будь они богаче, про них сказали бы: «Это щеголи». Будь они победнее, про них сказали бы: «Это лодыри». Но, в сущности говоря, это просто тунеядцы. Среди таких тунеядцев есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели; попадаются и негодяи.
В те времена щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, одетых один на другой, причем синий и красный надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и доходящих до самых плеч, а также из более светлых, оливковых же, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов, менявшихся от одного до одиннадцати — предел, которого никто не преступал. Присоедините к этому полусапожки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями, волосы, взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами Потье. Вдобавок ко всему — усы и шпоры. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц, а шпоры — пешеходов.
У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее.
Это происходило во времена борьбы южноамериканских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морильо. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались «морильо»; либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название «боливаров».
Месяцев через восемь или десять после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года, вечером, на улице, покрытой только что выпавшим снегом, один из этих франтов, из этих бездельников — человек «благонамеренный», ибо голова у него была увенчана «морильо», закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, — забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье и с цветами на голове перед витриной офицерской кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды.
Всякий раз, как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например: «Вот так уродина! Да уберешься ли ты наконец? Эх ты, беззубая!» И т. п., и т. п. Имя этого франта было господин Баматабуа. Женщина, унылое разряженное привидение, сновавшее взад и вперед по снегу, не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча, с мрачной настойчивостью, продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало шалопая, и, воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, заглушая смех, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья, между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикий вопль, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим от водки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно недоставало двух передних зубов. То была Фантина.
На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался широкий круг зрителей, которые хохотали, гикали и били в ладоши; мужчина отбивался, шляпа его упала на землю, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженая, вся посиневшая, страшная.
Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину за лиф ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал: «Иди за мной».
Женщина подняла голову, и ее истошный крик внезапно оборвался. Глаза ее остекленели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса. Она узнала Жавера.
Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул.
Глава 13
Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции
Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и крупным шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Туча зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия.
Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату со стеклянной зарешеченной дверью, выходившей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть — все равно что полакомиться.
Войдя в комнату, Фантина опустилась на пол в углу, неподвижная и безмолвная, съежившись, как испуганная собачонка.
Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать.
Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и, по своему усмотрению, отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту — он сознавал это — табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно правильнее разрешить великую задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел там, на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны какой-то выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. И он сам видел это, он, Жавер. Не прерывая молчания, он писал.
Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал:
— Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. — Потом, обернувшись к Фантине, добавил: — Ты отсидишь шесть месяцев.
Несчастная задрожала.
— Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! — вскричала она. — Шесть месяцев зарабатывать по семь су в день! Что же будет с Козеттой? С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь я и так должна Тенардье больше ста франков, знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?
Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу, истоптанному грязными сапогами всех этих людей.
— Господин Жавер, — говорила она, в отчаянии ломая руки, — умоляю вас, пощадите меня. Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что это так! Клянусь вам господом богом, я не виновата. Этот господин, которого я даже не знаю, ни с того ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать нам снег за ворот, когда мы спокойно ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова! А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина! Беззубая! Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя: «Ну что ж, этот господин забавляется». Я вела себя с ним по-хорошему, я с ним не разговаривала. Вот тут-то он и сунул мне снег за спину. Господин Жавер, добрый господин надзиратель! Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась. Но знаете, в первую минуту не владеешь собой. Бывает, и погорячишься. И когда вам за спину неожиданно попадает такое холодное… Я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения. О господи, мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только по семь су в день, правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне привезут мою крошку. Боже великий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю, так гадко! О моя Козетта, мой маленький святой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти Тенардье — крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Им нужны деньги, и все тут. Не сажайте меня в тюрьму! Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу, иди куда глаза глядят, среди зимы. Вы должны сжалиться над ней, вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь, но она еще не может, она ведь совсем маленькая. В конце концов, я не такая уж дурная женщина. Не подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Сжальтесь надо мной, господин Жавер!
Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до земли, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. Великая скорбь — это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полу сюртука. Она смягчила бы каменное сердце; но деревянное сердце смягчить нельзя.
— Ну, — сказал Жавер, — хватит, я выслушал тебя! Ты, кажется, все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев, и сам господь бог не сможет тут ничего поделать.
При этих торжественных словах: «Сам господь бог не может тут ничего поделать», она поняла, что приговор произнесен. Она совсем припала к земле и прошептала:
— Помилуйте!
Жавер повернулся к ней спиной.
Солдаты схватили ее за руки.
За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел какой-то человек. Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины.
В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал:
— Погодите минуту!
Жавер поднял глаза и узнал г-на Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему принужденно и с досадой.
— Извините, господин мэр… — начал он.
Это обращение «господин мэр» произвело на Фантину странное действие. Она сразу встала на ноги, во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к г-ну Мадлену и, устремив на него помутившийся взгляд, выкрикнула:
— Ах, вот что! Так это ты — господин мэр?!
И, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо.
Господин Мадлен вытер лицо и сказал:
— Инспектор Жавер, отпустите эту женщину на свободу.
Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал одно за другим, и почти одновременно, самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, было столь чудовищно, что даже при самых ужасных своих предположениях он счел бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. С другой стороны, в глубине души он смутно и с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем, может быть, некогда был этот мэр, и тогда, к его ужасу, совершившееся преступление начинало представляться ему вполне естественным. Когда же этот мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал: «Отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось; он лишился дара мысли и дара речи; доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел.
Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла обнаженную руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:
— На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев! Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверно, ослышалась. Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь! Дорогой мой господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу? Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите только, господин Жавер, что он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен нескольких негодниц. Ну, разве это не чудовищно? Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом! И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег, с этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение — вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну, и живи как знаешь. А у меня ведь была моя маленькая Козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он погубил мне снегом все платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте мне, господин Жавер, я никогда нарочно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут гораздо счастливее. О господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили? Правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я вовремя вношу квартирную плату, все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи! Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымила.
Господин Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его обратно в карман и спросил Фантину:
— Как вы сказали, сколько у вас долгу?
Фантина, не сводившая глаз с Жавера, обернулась в его сторону:
— Не с тобой говорят! — И обратилась к солдатам: — А видели вы, ребята, как я плюнула ему в физиономию? Ага, старый мошенник мэр, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь! Я боюсь только господина Жавера, моего доброго господина Жавера!
Сказав это, она снова обратилась к Жаверу:
— Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто: мужчина для забавы сунул женщине за ворот немного снегу и насмешил господ офицеров — надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете! А потом приходите вы — вы должны ведь навести порядок; вот вы и уводите женщину, которая провинилась; но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу; это ради малютки, ведь, если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри не попадайся снова, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть теперь делают со мной все, что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо, я совсем не ожидала, что этот господин сунет мне снег за ворот, и потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашляю, и здесь, в желудке, у меня словно клубок какой-то, так и жжет. Доктор сказал мне: «Лечитесь». Да вот, троньте, дайте руку, не бойтесь, вот здесь…
Она больше не плакала, голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди громадную грубую руку Жавера и смотрела на него с улыбкой.
Вдруг она торопливо поправила платье, опустила задравшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила вполголоса:
— Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили. Я ухожу.
Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице.
До этой минуты Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в землю, похожий на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали.
Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти — выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти: свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека.
— Сержант, — крикнул он, — разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто разрешил вам отпустить ее?
— Я, — сказал Мадлен.
Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому как пойманный вор выпускает из рук украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась и с этой минуты, не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, попеременно, в зависимости от того, который из них говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера и с Жавера на Мадлена.
Было очевидно, что Жавер, как говорится, совершенно «спятил», если он позволил себе сказать сержанту то, что он сказал, после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что «начальство» не могло отдать такого приказания и что господин мэр попросту оговорился? А может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались перед его глазами, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство — словом, все общество в целом олицетворяется в нем одном, в Жавере?
Как бы там ни было, но когда г-н Мадлен произнес: «Я», полицейский надзиратель Жавер обернулся к господину мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа едва заметной мелкой дрожью, и — неслыханное дело — сказал, опустив глаза, но твердым голосом:
— Господин мэр, это невозможно.
— Как так? — спросил г-н Мадлен.
— Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина.
— Полицейский надзиратель Жавер, — возразил г-н Мадлен примирительным и спокойным тоном, — послушайте. Вы честный человек, и мы легко поймем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину; там еще оставались группы людей, я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его.
Жавер ответил:
— Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр.
— Это мое дело, — возразил г-н Мадлен. — Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему, как мне угодно.
— Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия.
— Полицейский надзиратель Жавер, — возразил г-н Мадлен, — высшее правосудие — это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю.
— А я, господин мэр, не знаю, верить ли мне своим глазам.
— В таком случае ограничьтесь повиновением.
— Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев.
Господин Мадлен мягко ответил ему:
— Запомните хорошенько: она не проведет в тюрьме ни одного дня.
После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном:
— Мне очень жаль, что я должен ослушаться господина мэра, это впервые в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно господину мэру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Именно ему и принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, из тесаного камня. Вот оно что бывает на белом свете! Как хотите, господин мэр, а это проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я, и я арестую девицу Фантину.
Тогда г-н Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, какого еще никто в городе от него не слышал:
— Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу.
Жавер хотел было сделать еще одну, последнюю попытку:
— Однако, господин мэр…
— Что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря тысяча семьсот девяносто девятого года о произвольном аресте.
— Позвольте, господин мэр…
— Ни слова больше.
— Но я…
— Ступайте, — сказал г-н Мадлен.
Жавер принял этот удар грудью, не дрогнув, не опустив глаза, как русский солдат. Он низко поклонился господину мэру и вышел.
Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед.
Она тоже была во власти странного смятения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка; один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина; один говорил, как ее злой дух, другой — как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом — вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, — этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен! И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление! Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу?.. Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом г-на Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таившее в себе радость, доверие и любовь.
Когда Жавер вышел, г-н Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как сдержанный человек, который не хочет дать волю слезам, сказал ей:
— Я слышал то, что вы рассказали. Я ничего не знал об этом. Думаю, что все это правда, и больше того, чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы работали в моей мастерской. Отчего же вы не обратились прямо ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить; я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если сами не пожелаете. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. И даже, — слушайте, я утверждаю это, — если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед богом. О бедная женщина!
Это было свыше сил бедной Фантины. Взять к себе Козетту! Бросить эту гнусную жизнь! Жить свободно, богато, счастливо, честно и с Козеттой! Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство! Она взглянула на человека, который говорил ей все это, почти бессмысленным взглядом и могла лишь простонать: «О-о-о!» Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и, прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами.
Тут она лишилась сознания.
Книга VI Жавер
Глава 1
Начало отдохновения
Господин Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где жил он сам, и поручил ее сестрам, которые сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула.
На другой день около полудня Фантина проснулась и услышала у своей постели, совсем близко, чье-то дыхание; она отвернула полог и увидела стоявшего подле нее г-на Мадлена, который устремил взгляд куда-то поверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию.
Отныне г-н Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь нарушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила:
— Что это вы делаете?
Господин Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее за руку, он пощупал пульс и спросил:
— Как вы себя чувствуете?
— Хорошо, я немного поспала, — ответила она, — кажется, мне лучше. Это скоро пройдет.
Тогда, отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал:
— Я молился страдальцу, который там, в небесах.
И мысленно добавил: «За страдалицу, которая здесь, на земле».
Ночь и утро г-н Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал:
— Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуйте, ваш удел — удел избранных! Ибо именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты: они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, — начало рая. Пройти через него было необходимо.
Он глубоко вздохнул. А она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту.
Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монрейля-Приморского. Оно было адресовано в Париж, и надпись на конверте гласила: «Господину Шабулье, секретарю господина префекта полиции». Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке.
Господин Мадлен поспешил написать супругам Тенардье. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста, с тем чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в Монрейль-Приморский, где его ожидает больная мать.
Тенардье был потрясен. «Черт побери, — сказал он жене, — мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта пичуга превратится в дойную корову. Я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-нибудь простофиля втюрился в мамашу».
Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета, один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами Эпонину и Азельму, перенесших длительную болезнь. Что касается Козетты, то, как мы уже говорили, она не была больна. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Под счетом Тенардье приписал: «Получено в счет долга триста франков».
Господин Мадлен немедленно послал еще триста франков и написал: «Поскорее привезите Козетту».
— Черта с два! — сказал Тенардье. — Нет, мы не выпустим из рук ребенка.
Между тем Фантина все не поправлялась. Она по-прежнему лежала в больнице.
Вначале сестры приняли «эту девку» и ухаживали за ней с каким-то брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно оттопырены губы дев мудрых, взирающих на дев неразумных. Это извечное презрение весталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были проникнуты кротостью и смирением, а страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры услышали, как она громко бредила в жару: «Я была грешницей, но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя Козетта была со мной, я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я и грешила ради нее одной, вот почему бог прощает меня. Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себе благословение господа бога. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы, ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них еще не отпали».
Господин Мадлен навещал ее по два раза в день, и всякий раз она спрашивала его:
— Скоро ли я увижу мою Козетту?
Он отвечал:
— Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту.
И бледное лицо матери сияло.
— О, как я буду счастлива! — говорила она.
Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаэнека. Врач выслушал Фантину и покачал головой.
Господин Мадлен спросил врача:
— Ну, как?
— У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть? — ответил врач вопросом.
— Да.
— Так поторопитесь с его приездом.
Господин Мадлен вздрогнул.
Фантина спросила у него:
— Что сказал врач?
Сделав над собой усилие, г-н Мадлен улыбнулся.
— Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком и что это вылечит вас.
— О да! — вскричала она. — Он прав. Почему только эти Тенардье так долго держат у себя мою Козетту? Но она приедет. О, наконец-то счастье близко, оно тут, я уже вижу его!
Тенардье, однако, «не выпускал ребенка из рук» и отвиливал всевозможными способами. То Козетта не совсем здорова и нельзя ей пускаться в путь посреди зимы. То ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и т. д., и т. д.
— Я пошлю кого-нибудь за Козеттой, — сказал дядюшка Мадлен. — А если понадобится, поеду сам.
Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать:
«Господин Тенардье,
Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь с уважением
Фантина».Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу, которую мы называем нашей жизнью. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности.
Глава 2
Каким образом Жан может превратиться в Шан
Однажды утром, когда г-н Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, г-н Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более, чем когда-либо, и с тех пор г-н Мадлен ни разу его не видел.
— Пусть войдет, — сказал он.
Жавер вошел.
Господин Мадлен продолжал сидеть у камина, с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении правил распорядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он даже не пошевельнулся. Совершенно невольно он вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность.
Жавер почтительно поклонился г-ну мэру, который сидел к нему спиной. Г-н мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах.
Жавер сделал два-три шага вперед и, не прерывая молчания, остановился.
Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и капрала, этого неспособного на ложь шпика и непорочного сыщика, — физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к г-ну Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, наблюдая Жавера в эту минуту, непременно сказал бы себе: «Что-то случилось». Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился г-ну Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, ни подозрительности; он остановился в нескольких шагах от мэра, позади его кресла, и теперь стоял почти навытяжку, с безыскусственным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением; он ждал без единого слова или жеста, полный непритворного смирения и спокойной покорности, когда г-ну мэру угодно будет обернуться к нему, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем предположить, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние.
Наконец г-н мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил:
— Ну! Что такое? В чем дело, Жавер?
Жавер с минуту молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простоты:
— Дело в том, господин мэр, что совершено преступное деяние.
— Какое?
— Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу, и притом самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения.
— Кто этот низший чин администрации? — спросил г-н Мадлен.
— Я, — сказал Жавер.
— Вы?
— Я.
— А кто то должностное лицо, которое имеет основания быть недовольным этим низшим чином?
— Вы, господин мэр.
Господин Мадлен приподнялся со своего кресла. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал:
— Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения.
Господин Мадлен, изумленный, хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его:
— Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку — это почетно. Я совершил проступок, я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали.
И, помолчав, он добавил:
— Господин мэр, в прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо.
— Да почему? За что? — вскричал г-н Мадлен. — Что за вздор! Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступное деяние, направленное против меня? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили…
— Выгнали, — поправил его Жавер.
— Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не понимаю…
— Сейчас поймете, господин мэр.
Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально:
— Господин мэр, полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас.
— Донесли?
— Да. В полицейскую префектуру Парижа.
Господин Мадлен, смеявшийся немногим чаще, чем Жавер, вдруг рассмеялся:
— Как на мэра, вмешавшегося в распоряжения полиции?
— Нет, как на бывшего каторжника.
Мэр сделался бледен, как полотно.
Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал:
— Я думал, что это так. У меня давно уже были кое-какие подозрения. Сходство, справки, которые вы наводили в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, — не знаю и сам, что еще… разные пустяки! Но так или иначе, а я принимал вас за некоего Жана Вальжана.
— За некоего… Как вы его назвали?
— За Жана Вальжана. Это каторжник, которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога этот Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение — ограбил на большой дороге маленького савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе… Словом, я сделал это. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру.
Господин Мадлен, который уже несколько минут снова занимался своими протоколами, спросил с выражением полнейшего равнодушия:
— И что же вам там ответили?
— Что я сошел с ума.
— Ну?
— Ну, и они были правы.
— Хорошо, что вы сами сознаете это!
— Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся.
Листок бумаги, который держал г-н Мадлен, выскользнул у него из рук; он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с неизъяснимым выражением:
— Ах, так!
Жавер продолжал:
— Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе, возле Альи-Высокая-Колокольня, жил какой-то старикашка, по имени Шанматье. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у… впрочем, это неважно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным: ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в кутузку. Пока что дело пахло исправительным домом, не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Эге! Да я знаю этого человека. Это старый острожник. Погляди-ка на меня, дружище! Ты — Жан Вальжан!..» — «Жан Вальжан? Какой Жан Вальжан?» — Шанматье прикидывается удивленным. «Не валяй дурака, — говорит тогда Бреве. — Ты — Жан Вальжан! Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне. И я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается. Черт возьми! Вы, конечно, понимаете, почему! Начинается расследование. Раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах и в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано, и, наконец, он оказывается в этих краях. Ну-с, кем же был Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. Крестное имя этого Вальжана было Жан, а мать его носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе из острога он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам — Шанматье! Вы ведь следите за моим рассказом? Навели справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не оказалось. Где она — неизвестно. Знаете, среди людей этого класса нередки такие исчезновения целого семейства. Вы ищете — и никого уже не находите. Если эти люди не грязь, то они — пыль. И так как от начала этих событий прошло тридцать лет, в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Тогда обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве, остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана. Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпайль и Шенильдье. Их выписывают из острога и привозят в Аррас. Устраивают им очную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений. Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст — ему пятьдесят четыре года, — тот же рост, та же наружность — словом, тот же человек, тот самый. Вот в это-то время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках! Я написал судебному следователю. Он вызвал меня, мне показали Шанматье…
— И что же? — прервал его г-н Мадлен.
Лицо Жавера, не умеющего лгать, было печально. Он ответил:
— Господин мэр, правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек несомненно Жан Вальжан. Я тоже узнал его.
— Вы уверены в этом? — спросил г-н Мадлен очень тихо.
Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте.
— Еще бы!
Задумавшись, он с минуту машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил:
— И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как это я мог думать иначе. Простите меня, господин мэр.
Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца тому назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех: «Ступайте!» — Жавер, этот высокомерный человек, был, сам того не зная, исполнен простоты и достоинства. Г-н Мадлен ответил на его просьбу лишь следующим внезапным вопросом:
— А что говорит этот человек?
— Да что уж, господин мэр, его дело плохо! Если это Жан Вальжан, тут рецидив. Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок: для ребенка — это шалость, для взрослого — проступок, для каторжника — преступление. Это кража, и притом за оградой владения. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. К тому же имеется еще история с маленьким савояром, которая, надеюсь, всплывет наружу. Черт побери, тут уж есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан хитрая бестия! Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать — и котелок закипает, когда ставишь его на огонь, — другой не согласится быть Жаном Вальжаном и так далее, и тому подобное. А этот делает вид, что ничего не понимает, и говорит: «Я Шанматье, я не был на каторге!» Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма! Ну, да все равно, доказательства налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в аррасский суд! Я еду туда. Меня вызывают свидетелем.
Между тем г-н Мадлен снова отвернулся к своему письменному столу и спокойно разбирал бумаги, читая их и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу:
— Ну, довольно, Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что, Жавер, немедленно сходите к тетушке Бюзопье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольв, и скажите ей, чтобы она подала жалобу на возчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой и ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем вы пойдете к господину Шарселе, улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене ле Босе на улице Гаро-Блан, и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать? Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или десять едете в Аррас по этому делу?..
— Нет, господин мэр, раньше.
— Когда же?
— Мне казалось, что я уже сказал вам, господин мэр, — дело разбирается в суде завтра, я еду сегодня с вечерним дилижансом.
Господин Мадлен сделал едва уловимое движение.
— И сколько времени оно продлится?
— Самое большее — день. Приговор будет вынесен не позже чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показание и сейчас же вернусь сюда.
— Хорошо, — сказал г-н Мадлен.
И он жестом отпустил Жавера.
Однако Жавер не уходил.
— Простите, господин мэр, — сказал он.
— Что еще? — спросил г-н Мадлен.
— Господин мэр, мне остается еще напомнить вам об одном обстоятельстве.
— О каком?
— О том, что я должен быть уволен со службы.
Господин Мадлен встал.
— Жавер, вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление опять-таки касается одного меня. Жавер, вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте.
Жавер взглянул на г-на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил:
— Господин мэр, я не могу согласиться с вами.
— Повторяю, это касается меня одного, — сказал г-н Мадлен.
Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал:
— Что до преувеличения, то нет, я ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Однако это еще терпимо. Подозревать — наше право, право полиции; хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, — в этом уже, пожалуй, кроется некоторое беззаконие. Но вот, не имея доказательств, в порыве гнева, из мести, я донес на вас как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо! Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть! Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. «И что же?» — спросите вы. Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг. По отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое, что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как! Я, значит, был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком! Но в таком случае все те, которые говорят: «Что за подлец этот Жавер!» — оказались бы правы! Господин мэр, я не хочу, чтобы вы были добры ко мне; ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и я лично отказываюсь от нее. Доброта, отдающая предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, — такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Господи помилуй! Быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно! Окажись вы тем, за кого я вас принимал, — ого! Я бы уж не был добр с вами; вы бы тогда увидели! Господин мэр, я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе: «Смотри у меня! Если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди!» И я споткнулся, я совершил промах. Тем хуже для меня! Уволен, прогнан, вышвырнут! Пусть, так и надо. У меня есть руки, пойду работать землепашцем, кем угодно. Господин мэр, интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера.
Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим какое-то своеобразное величие этому странному носителю чести.
— Посмотрим, — проговорил г-н Мадлен.
И протянул ему руку.
Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном:
— Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику.
И он добавил сквозь зубы:
— Да, доносчику! С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик.
Затем он низко поклонился и направился к двери.
Здесь он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз:
— Господин мэр, я не оставлю службы до тех пор, пока мне не назначат заместителя.
Он вышел. Г-н Мадлен сидел в задумчивости, прислушиваясь к звуку твердых и уверенных шагов, постепенно затихавших на каменных плитах коридора.
Книга VII Дело Шанматье
Глава 1
Сестра Симплиция
Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле-Приморском, но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое потрясающее воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них в мельчайших подробностях.
Среди этих подробностей читатель встретит два или три обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине.
После посещения Жавера, около полудня г-н Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину.
Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию.
Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лазаристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую — сестра Симплиция.
Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к господу богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам эту грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно: и капуцина и урсулинку. Эту деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто; первый становится вторым без особых затруднений; невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготовляет почву для сближения и сразу ставит сельского жителя на один уровень с монахом. Блуза пошире — вот вам и ряса. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня, родом из Марина близ Понтуазы; дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюзжала, подслащала лекарственный отвар, в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, почти насильно навязывала им бога и сердито глушила их агонию молитвами.
Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слиты воедино безграничная свобода и полное порабощение: «Не будет у них иной обители — как больница, иной кельи — как наемный угол, иной часовни — как приходская церковь, иного монастырского двора — как улицы города или же больничные палаты, иной ограды — как послушание, иной решетки — как страх божий, иного покрывала — как скромность». Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал возраста сестры Симплиции; она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа — мы не смеем сказать «женщина» — кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная и не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кротка, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной; она говорила ровно столько, сколько было необходимо, и звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедальне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о боге. Подчеркнем одну особенность. Полная неспособность солгать, никогда в жизни не сказать, даже по необходимости, даже невольно, чего бы то ни было, не соответствующего истине, — такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье: «Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку — трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции». Мелкая ложь, невинная ложь — да полно, существует ли она! Ложь — это воплощение зла. Солгать немного — невозможно; тот, кто лжет, лжет до конца; ложь — это олицетворение дьявола; у Сатаны есть два имени: он зовется Сатаной, и он зовется Ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, — белизна, сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен-Венсен де Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случаен. Как известно, Симплиция Сицилийская — это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракуз, не согласилась сказать, что родилась в Сежесте, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души.
У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась: она питала пристрастие к сладостям, и она любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом и по-латыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник.
Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней.
Господин Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине.
Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине.
Фантина каждый день так ждала появления г-на Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость. Она говорила сестрам: «Я только тогда и живу, когда приходит господин мэр».
В этот день ее сильно лихорадило. Увидев г-на Мадлена, она сейчас же спросила:
— А Козетта?
— Скоро, — ответил он, улыбаясь.
Господин Мадлен держал себя с Фантиной так же, как обычно. Только вместо получаса он, к великому удовольствию Фантины, просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должна нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо: «Ей значительно хуже».
Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.
Глава 2
Проницательность дядюшки Скофлера
Из мэрии он направился на другой конец города, к некоему фламандцу Скауфлеру, а на французский лад — Скофлеру, который отдавал внаем лошадей и «кабриолеты по желанию».
Чтобы кратчайшим путем добраться до этого Скофлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал г-н Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда г-н Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее: уже миновав дом священника, г-н мэр остановился, немного постоял на месте, потом вернулся обратно и дошел до ворот этого дома; в воротах была калитка с железным стукальцем; он быстро взялся за стукальце и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье; однако по прошествии нескольких секунд, вместо того чтобы громко постучать, он тихонько опустил стукальце и пошел дальше с поспешностью, которой до того не обнаруживал.
Господин Мадлен застал Скофлера дома, за починкой конской сбруи.
— Дядюшка Скофлер, — сказал он, — есть у вас хорошая лошадь?
— У меня все лошади хороши, господин мэр, — возразил фламандец. — Что значит, по-вашему, «хорошая лошадь»?
— Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день.
— Черт возьми! — воскликнул фламандец. — Двадцать лье!
— Да.
— Запряженная в кабриолет?
— Да.
— А сколько времени она будет отдыхать после такого конца?
— Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день.
— И проделать такой же путь?
— Да.
— Черт возьми! Черт возьми! Как вы сказали? Двадцать лье?
Господин Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламандцу. Это были цифры: пять, шесть и восемь с половиной.
— Видите? — оказал он. — Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно что двадцать лье.
— Господин мэр, — сказал фламандец, — у меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверно, как-нибудь случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего Булонэ. Горяча, как огонь. Сперва ее думали объездить под седло — куда там! Брыкается, скидывает всех на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней и делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Везти — согласна, нести на себе — ни за что. Видно, уж так она про себя и порешила.
— И она пройдет такое расстояние?
— Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше чем за восемь часов, но только при некоторых условиях.
— При каких же?
— Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть; она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоялого двора не отсыпал у нее овса, а то я замечал, что на постоялых дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают.
— За этим последят.
— Во-вторых… А что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр?
— Да.
— А умеете ли вы, господин мэр, править?
— Да.
— Хорошо, но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь.
— Согласен.
— Но послушайте, господин мэр, ведь, если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой.
— Об этом мы уже договорились.
— В-третьих… Я возьму с вас по тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Ни на грош меньше, и прокорм коня за ваш счет, господин мэр.
Господин Мадлен вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.
— Вот вам за два дня вперед.
— И в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком тильбюри.
— Согласен.
— Экипаж легкий, но открытый.
— Это мне безразлично.
— Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима?
Господин Мадлен не ответил.
— И что на улице стоит сильный холод? — продолжал фламандец.
Господин Мадлен хранил молчание.
— И что может пойти дождь?
Господин Мадлен поднял голову и сказал:
— Завтра, в половине пятого утра, тильбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей.
— Слушаю, господин мэр, — ответил Скофлер; потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламандцы так искусно прикрывают хитрость: — Да! Только сейчас вспомнил! Ведь вы, господин мэр, еще не сказали, куда вы едете. Куда это вы едете, господин мэр?
Он только об этом и думал с самого начала разговора, но, сам не зная почему, не решался задать этот вопрос.
— Надежны ли передние ноги у вашей лошади? — спросил г-н Мадлен.
— О да, господин мэр. Только немного придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места?
— Не забудьте: быть у моих дверей точно в половине пятого утра, — ответил г-н Мадлен и вышел.
Фламандец остался «в дураках», как он сам признавался впоследствии.
Не прошло и двух-трех минут после ухода г-на мэра, как дверь отворилась снова; это был г-н мэр.
У него был все тот же бесстрастный и рассеянный вид.
— Господин Скофлер, — спросил он, — во сколько вы цените лошадь и тильбюри?
— А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?
— Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолет и лошадь?
— В пятьсот франков, господин мэр.
— Вот они.
Господин Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и на этот раз больше не вернулся.
Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков. Впрочем, лошадь с тильбюри вместе стоила не больше ста экю.
Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы это, черт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос.
— Он едет в Париж, — сказала жена.
— Не думаю, — возразил муж.
Господин Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и внимательно исследовал.
— Пять, шесть, восемь с половиной. Да это, должно быть, означает расстояние между почтовыми станциями.
Он обернулся к жене.
— Понял.
— Ну?
— Пять миль отсюда до Эсдена, шесть от Эсдена до Сен-Поля, восемь с половиной от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Аррас.
Тем временем г-д Мадлен вернулся домой.
Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение и он хотел избежать его. Он сразу поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей; он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой г-на Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив:
— Уж не захворал ли господин мэр? У него сегодня был какой-то странный вид.
Комната этого кассира приходилась как раз под комнатой г-на Мадлена. Он не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся: сквозь сон он услыхал над головой какой-то шум. Он прислушался. Это был шум шагов: казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги г-на Мадлена. Это удивило его: обычно в спальне г-на Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук открывшейся и снова захлопнувшейся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина — и вот снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни г-на Мадлена. Отблеск дрожал; казалось, его отбрасывала туда не лампа, а скорее топящийся камин. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто. При таком холоде это открытое окно вызывало чувство недоумения. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные размеренные шаги раздавались над его головой.
Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто.
Вот что происходило в комнате г-на Мадлена.
Глава 3
Буря в душе
Читатель, вероятно, догадался, что г-н Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.
Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести; пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, — это небо; есть зрелище более величественное, чем небо, — это глубь человеческой души.
Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы ничтожнейшего из людей, это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть — это хаос химер, вожделений и дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых мы сами стыдимся, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей. Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом какого-либо человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь, загляните в эту душу, загляните в этот мрак. Там, под этой видимостью спокойствия, происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов с гидрами, там сонмища призраков, как у Мильтона, и фантасмагорические круги, как у Данте. Как темна бесконечность, которую каждый человек носит в себе и с которою в отчаянье он соразмеряет причуды своего ума и поступки своей жизни!
Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, отворить которую не решился. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешимости на пороге. Войдем, однако ж.
Нам осталось немногое добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с Малышом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение, — произошло преображение.
Он сумел исчезнуть, продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники — как память; незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию, попал в Монрейль-Приморский, где ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили, совершил там то, о чем мы уже рассказали, ухитрился стать одновременно неуловимым и недоступным, и отныне, обосновавшись в Монрейле-Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом и что первая половина его существования уничтожается второю, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления: скрыть свое имя и освятить свою жизнь; уйти от людей и возвратиться к богу.
Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно; оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением: оба побуждали его держаться в тени, оба учили быть доброжелательным и простым, оба давали одни и те же советы. Бывало, однако ж, что между ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле-Приморском и его окрестностях называли г-ном Мадленом, не колеблясь жертвовал первым ради второго, жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию он хранил у себя подсвечники епископа, открыто носил по нем траур, он расспрашивал всех маленьких савояров, появлявшихся в городе, наводил справки о семьях, проживающих в Фавероле, и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководясь примером мудрецов, святых и праведников, он считал, и мы уже упоминали об этом, что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном.
Правда, надобно заметить, что никогда еще с ним не случалось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В ту секунду, как было названо имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянел от роковой своенравности своей судьбы, но вскоре его пронизала дрожь, та дрожь, которая предшествует сильным потрясениям; он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он почувствовал, как нависли над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя, освободить этого Шанматье из тюрьмы и сесть туда самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: «Нет! Нет! Что это я!» Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом.
Разумеется, было бы прекрасно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, посреди чудесно начатого искупления, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью идти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо; это было бы прекрасно; но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе, и должны говорить лишь о том, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами; г-н Мадлен поспешил собраться с мыслями, подавил свое волнение, осознал присутствие Жавера и всю сопряженную с этим опасность; с твердостью отчаянья, отложив решение вопроса, он постарался отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал обратно свое спокойствие — так борец подбирает с земли щит, выбитый из его рук.
Весь остаток дня он провел в том же состоянии: вихрь в душе, внешне — глубокое бесстрастие; он сделал лишь одно: принял так называемые «предварительные меры». Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу; смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя только одно — что ему нанесен жестокий удар. Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину и, движимый инстинктом доброты, затянул свое посещение, подумав, что должен был поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней на тот случай, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствуя, что, может быть, ему придется поехать в Аррас, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе, что, будучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела, и заказал у Скофлера тильбюри, чтобы на всякий случай быть готовым.
Он пообедал с недурным аппетитом.
Придя в себя, он стал размышлять.
Он вдумался в положение вещей и нашел его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг среди своего раздумья он, под влиянием какого-то почти необъяснимого чувства тревоги, встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного.
Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его.
Ему казалось, что кто-то может его увидеть.
Кто же был этот «кто-то»?
Увы! То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть.
Его совесть, иначе говоря — бог.
Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя: его охватило чувство безопасности и одиночества; заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным; погасив свечу, он счел себя невидимым. Тогда он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал думать во мраке.
«Что же это случилось? Не сплю ли я? Что такое мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера и что он так говорил со мной? Кто такой этот Шанматье? Говорят, он похож на меня. Ужели это возможно? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и так далек от каких бы то ни было подозрений. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем окончится все это? Как быть?»
Вот какая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли, они убегали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их.
Этот потрясавший его волю и рассудок ураган, посреди которого он пытался отыскать просвет и твердое решение, рождал лишь мучительную тревогу.
Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звезды. Он вернулся к столу и сел на прежнее место. Так прошел первый час.
Мало-помалу, однако, расплывчатые очертания его мыслей стали принимать более определенные и устойчивые формы, и он мог представить себе в истинном свете свое положение если не в целом, то хотя бы в некоторых деталях. И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его господином.
Но это открытие только усилило его растерянность.
Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи он больше всего в мире боялся одного — услышать когда-нибудь, как произнесут это имя; он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь и — кто знает? — быть может, также и его новая душа. Он содрогался при одной мысли о том, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова — «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним; что этот грозный свет, предназначенный рассеять тайну, которой он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму; что это имя уже не будет для него страшным, что эта разорванная завеса лишь углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый и почтенный гражданин «господин Мадлен» окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, — если бы кто-нибудь сказал ему это, он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле; все это нагромождение невероятностей стало реальным фактом, и бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность.
Мысли его продолжали проясняться. Он все более и более отчетливо понимал свое положение.
Ему казалось, что он проснулся от какого-то страшного сна и теперь, среди ночи, скользит, дрожа и тщетно силясь удержаться, по откосу, на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого, чужого человека, которого рок принимал за него и толкал в пропасть. Для того чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее — либо он сам, либо тот, другой.
От него требовалось лишь одно: не мешать судьбе.
Теперь в его сознании воцарилась полная ясность, и он сказал себе, что место его на галерах пустует, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление Малыша Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И он сказал себе также, что в эту минуту у него нашелся заместитель, что, по-видимому, некоему Шанматье выпало на долю это несчастье; что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем г-на Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора — тот камень, который, подобно могильному камню, опустившись раз, не поднимется никогда.
Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неописуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни, нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного, смесь иронии, радости и отчаянья, — нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха.
Внезапно он снова зажег свечу.
«Что же это? — сказал он себе. — Чего мне бояться? Зачем об этом думать? Я спасен. Все кончено. Существовала лишь одна полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь; теперь эта дверь замурована, и навсегда! Этот Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный, облекшийся в плоть инстинкт ищейки, который, кажется, разгадал меня — да, наверное, разгадал, можно поклясться в этом! — и преследовал неотступно, этот страшный охотничий пес, который вечно делал надо мной стойку, наконец-то запутался, потерял след и погнался за другой дичью! Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал своего Жана Вальжана! Кто знает, быть может даже, он захочет переехать в другой город! И все это совершилось помимо меня! Я тут ни при чем! Да в конце концов, что же во всем этом плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось какое-то несчастье! Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук провидения. Очевидно, такова его воля! Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? И я еще недоволен? Чего же мне еще надо? Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность — я достиг ее! Так угодно богу. Я не должен противиться его воле. А почему ему угодно это? Чтобы я мог продолжать начатое, чтобы я мог творить добро, чтобы я мог в будущем стать высоким и поощряющим примером, наконец, чтобы наложенная на меня эпитимья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья! Не понимаю, право, отчего я побоялся зайти к этому славному кюре и, поведав ему все, как на исповеди, попросить у него совета. Без сомнения, он сказал бы мне то же самое. Решено, пусть все идет своим чередом! Пусть все вершит господь!»
Так беседовал он с сокровенными глубинами своей совести, наклонясь над краем того, что можно было назвать бездной его собственной души. Он встал со стула и начал шагать по комнате. «Вот что, — сказал он, — довольно думать об этом. Решение принято!» Но он не испытал при этом ни малейшей радости.
Напротив.
Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет это приливом, преступник — угрызениями совести. Бог вздымает душу, как океан.
Через несколько секунд он опять помимо воли возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать, выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь той таинственной силе, которая приказывала ему: «Думай!», как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: «Иди!»
Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, остановиться на одном необходимом замечании.
Люди, конечно, разговаривают сами с собой; нет такого мыслящего существа, с которым не случалось бы этого. Быть может даже, слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде: «он сказал», «он воскликнул». Мы говорим, мы беседуем, мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении; все говорит, за исключением уст. Реальные душевные движения невидимы, неосязаемы, но тем не менее они реальны.
Итак, он спросил себя: к чему же он пришел? Он задал себе вопрос: что же представляло собой это «принятое решение»? Он признался перед самим собой, что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит господь» были попросту ужасны. Допустить ошибку, свершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием — словом, ничего не делать — значило все делать! Это была последняя ступень недостойного лицемерия! Это было преступление, низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное!
Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого помысла и злого дела.
И он плюнул с отвращением.
Он продолжал себя допрашивать. Он сурово спросил, что означали его собственные слова: «Я достиг цели!» И заявил себе, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Ужели ради такой мелочи сделал он все то, что сделал? Разве не было у него иной — высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! Ведь только этого, одного лишь этого всегда хотел он сам, и именно это повелел ему епископ! Закрыть дверь в прошлое? Боже великий, да разве таким образом он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь! Он вновь станет вором, и притом самым презренным из воров! Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие, его место под солнцем! Он станет убийцей! Он убьет, убьет душу этого жалкого человека, он обречет его на ту ужасную смерть заживо, на ту смерть под открытым небом, которая называется каторгой! И напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой столь роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана — вот это действительно значило завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попав туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это! Если он не сделает этого — значит, он никогда ничего не сделал! Вся его жизнь окажется бесполезной, раскаяние — бесплодным, и ему останется сказать лишь одно: к чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, возле него; что, мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой; что он пристально смотрит на него; что отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин восхищения в его глазах; что все видели лишь его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо; что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его совесть. Итак, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего. Увы! Вот она, величайшая из жертв, горчайшая из побед, самое тяжкое из усилий, но так надо. Горестный удел! Он может стать праведным перед лицом бога, только опозорив себя в глазах людей!
— Что ж, — сказал он, — надо решиться! Надо исполнить свой долг! Надо спасти этого человека!
Он произнес эти слова громко, даже не заметив, что говорит вслух.
Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его, и тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть: «Г-ну Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж».
Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году.
Наблюдая, как г-н Мадлен, погруженный в глубокое раздумье, занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения.
Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и снова начал шагать по комнате.
Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом: «Ступай! Назови свое имя! Донеси на себя!»
Он видел также перед собой, словно ожившими и принявшими осязаемую форму, два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрыть свое имя, освятить свою душу. Впервые они появились перед ним каждый в отдельности, и он увидел, что их рознило. Он понял, что один из них был безусловно добрым, тогда как другой мог стать дурным; что один означал само отречение, а другой — себялюбие; что один говорил: ближний, а другой говорил: я; что источником одного был свет, а другого — тьма.
Они боролись между собой, и он наблюдал их борьбу. По мере того как он размышлял, они все росли перед его умственным взором; они приобрели теперь исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, какое-то божество сражается с каким-то великаном.
Он был исполнен ужаса, но ему казалось, что доброе начало берет верх.
Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома — великое испытание.
Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его в принятом решении.
Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что как-никак он совершил кражу.
И он ответил себе: «Если этот человек действительно украл лишь несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он? Доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник — значит вор».
Мгновением позже ему пришла в голову другая мысль; быть может, если он выдаст себя, героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание и его помилуют.
Но это предположение быстро исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у Малыша Жерве превращает его в рецидивиста, что это дело, несомненно, всплывет наружу и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам.
Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешения и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг; что, быть может даже, исполнив его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения; что, если он даст всему идти «своим чередом» и останется в Монрейле-Приморском, уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, общее почтение и благоговение, его милосердие, богатство, известность, его добродетель — все это будет отравлено горечью преступления; и чего стоили бы все его благие дела, завершенные таким гнусным делом! Если же он принесет себя в жертву, то все — каторга, позорный столб, железный ошейник, зеленый колпак, непрерывная работа, беспощадные оскорбления — все будет проникнуто небесной благодатью!
И наконец он сказал себе, что обязан так поступить, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что так или иначе, но приходится выбирать: либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор.
Перебирая в уме такое множество мрачных мыслей, он не терял мужества, но мозг его начал утомляться. Невольно он начал думать о другом, о совершенно безразличных вещах.
В висках у него стучало. Он все еще ходил взад и вперед. Пробило полночь — сначала в приходской церкви, потом в ратуше. Он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему вспомнилось, что несколько дней назад он видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью: «Антуан Альбен из Роменвиля».
Ему стало холодно. Он растопил камин, но не догадался закрыть окно.
Между тем им опять начало овладевать оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробило полночь. Наконец ему это удалось.
«Ах, да, — подумал он, — я решил донести на себя».
И вдруг он вспомнил о Фантине.
— Как же так? — оказал он. — А что будет с этой несчастной?
И тут на него снова нахлынули сомнения.
Образ Фантины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменилось, он воскликнул:
— Что же это такое? Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя! Что мне делать — молчать или донести на себя; скрыть себя или спасти свою душу; быть достойным презрения, но всеми уважаемым должностным лицом или опозоренным, но достойным уважения каторжником? Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне одному! Но, господи боже, ведь все это себялюбие! Не совсем обычные формы себялюбия, но все же себялюбие! А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне — что тогда получится из всего этого? Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют, Шанматье выпускают на свободу, меня снова отправляют на каторгу, все это хорошо, а дальше? Что происходит здесь? Да, здесь! Здесь — целый край, город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети, весь этот бедный люд! Все это создал я, это я дал им всем средства к существованию; повсюду, где бы ни дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною; я создал довольство, торговый оборот, кредит, до меня не было ничего; я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь; если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение, и причиной несчастья которой невольно явился я! А этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери! Разве я не обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я донесу на себя. Ну, а если я не донесу на себя? Что же будет, если я не донесу на себя?
Задав себе этот вопрос, он остановился; на миг им овладела какая-то нерешительность, какие-то сомнения; но это длилось недолго, и он спокойно ответил самому себе:
— Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда, но ведь, черт возьми, он вор! Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, — он украл! А я, я останусь здесь и буду продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю — мне самому ничего не надо, на что мне деньги? Все, что я делаю, я делаю не для себя! Общее благоденствие все возрастает, промышленность пробуждается и оживает, заводов и фабрик становится все больше, семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы! Население увеличивается, на месте отдельных ферм рождаются деревни, на месте голых пустырей рождаются фермы; нужда исчезнет, а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления! И эта бедная мать воспитает своего ребенка! И весь край заживет богато и честно! Да нет, с ума я, что ли, сошел, совсем потерял рассудок, что пойду доносить на себя? Право же, надо все обдумать и не ускорять событий. Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека — да ведь это, в конце концов, настоящая мелодрама! — только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном, и собираюсь спасти от наказания, может быть чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого-то негодяя, — должен погибнуть целый край! Несчастная женщина должна околеть в больнице, а бедная малютка — на мостовой, как собака! Но ведь это чудовищно! И мать даже не увидит своего ребенка! А ребенок так и погибнет, почти не зная матери! И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим! Хороша ж эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными, спасает старого бродягу, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, которому на каторге к тому же будет, несомненно, лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края, матерей, жен, детей! Бедняжка Козетта! У нее ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье! Какие, должно быть, негодяи эти люди! И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным! Я пойду доносить на себя! Сделаю эту неслыханную глупость! Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на эти укоры совести, которые будут мучить меня одного, на этот дурной поступок, который пятнает лишь мою собственную душу, — да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель.
Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен.
Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли; истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что, опустившись на самое дно этой мысли, роясь ощупью в этих темных недрах, он наконец отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском.
«Да, — думал он, — это так. Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет своим чередом! Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы. Я — Мадлен и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану! Это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается как хочет! Я тут ни при чем. Это роковое имя, реющее среди мрака; и если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, что ж, тем хуже для этой головы!»
Он посмотрелся в маленькое зеркальце, стоявшее на камине, и сказал:
— Ну вот! Я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид.
Он походил еще немного, потом внезапно остановился.
— Вот что! — сказал он. — Не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня, немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено: все это должно исчезнуть!
Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул маленький ключ.
Он вставил этот ключ в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были оклеены стены. Открылся тайничок, нечто вроде незаметного снаружи шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным колпаком камина. В этом тайничке лежали какие-то лохмотья, синяя холщовая блуза, потертые штаны, старый ранец и толстая терновая палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он проходил через Динь в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния.
Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду.
Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все — лохмотья, палку и ранец.
Затем он снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными теперь, когда шкаф был пуст, заслонил дверцу высоким креслом.
Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры.
Ранец, вместе с лежавшими в нем отвратительными тряпками, догорел, и в золе блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького савояра.
Но он не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол.
Вдруг взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине в отсветах огня.
«Ах, да! — подумал он. — В этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это».
Он взял подсвечники.
Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу.
Нагнувшись над очагом, он с минуту погрелся. Ему стало очень хорошо. «Как славно! Тепло!» — проговорил он.
Он помешал горящие угли одним из подсвечников.
Еще секунда, и они очутились бы в огне.
Но в это самое мгновенье ему почудилось, что какой-то голос внутри его крикнул: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»
Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное.
«Да, да, кончай свое дело! — говорил голос. — Заверши его! Уничтожь эти подсвечники! Истреби это воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Погуби Шанматье! Это будет отлично. Можешь поздравить себя! Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Вот человек, вот старик, который не понимает, чего от него хотят, который, быть может, ничего не сделал дурного, невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоем имени, невинный, над которым твое имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его жизни пройдет в мерзости и позоре! Отлично! Ты же будь честным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почетом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и окруженный восхищением; а в это время, пока ты будешь здесь, среди радости и света, кто-то, на кого наденут твою красную арестантскую куртку, будет носить твое обесчещенное имя и влачить на каторге твою цепь! Да, ты ловко устроил все это! О, презренный!»
Пот градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил внутри его, еще не кончил. Голос продолжал:
«Жан Вальжан! Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко; но раздастся один голос, которого не услышит никто и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек! Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до господа бога!»
Этот голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, постепенно становился громче и теперь, оглушительный и грозный, гулко отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он услышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам.
— Кто здесь? — спросил он вслух, в полной растерянности.
Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе:
— Как я глуп! Кому же здесь быть?
И все же здесь был некто; но этот «некто» не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз.
Господин Мадлен поставил подсвечник на камин.
И снова начал он то монотонное и зловещее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели.
Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло его. Когда с нами случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути, могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался.
Оба решения, которые он принял — сперва одно, потом другое, — внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность этот Шанматье, которого приняли за него! То самое средство, которое, как ему казалось сначала, было ниспослано судьбой, чтобы упрочить его положение, разверзало перед ним пропасть!
На миг он заглянул в будущее. Донести на себя, боже великий! Выдать себя! С безмерным отчаяньем он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. Итак, ему предстояло сказать «прости» этому существованию — такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе! Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям! Не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров! Расстанется с этим домом, который выстроил он сам, с этой маленькой комнаткой! Все казалось ему сейчас таким чудесным. Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим маленьким некрашеным столом. Старуха привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренний кофе. И вместо этого — боже правый! — каторга, железный ошейник, арестантская куртка, цепь на ноге, тяжелая работа, карцер — все эти ужасы, уже изведанные! И это в его возрасте, после того как он был тем, кем он был! Если бы еще он был молод! Но на старости лет слышать «ты» от первого встречного, давать себя обыскивать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары! Ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги! Каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток из пальмового дерева, проверяющий звенья цепи! Терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить: «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монрейле-Приморском!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта, в паре с другим каторжником, по судовой лестнице, возвращаясь в плавучий острог! О, какая мука! Ужели судьба может быть зла, как мыслящее существо, и так же уродлива, как человеческое сердце!
И все время, снова и снова, он возвращался к мучительной дилемме, лежащей в основе его тяжелого раздумья: остаться в раю и там превратиться в демона или же вернуться в ад и стать там ангелом.
Что делать, боже великий, что делать?
Буря, укрощенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились какая-то неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль» и вместе с ним два стиха из песенки, которую он слышал когда-то. Ему вспомнилось, что Роменвиль — это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень.
Он потерял равновесие — не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного.
Минутами, борясь с усталостью, он силился вновь овладеть своим рассудком. Он пытался в последний раз, и уже навсегда, поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя? Должен ли молчать? Ему никак не удавалось мыслить отчетливо. Всевозможные доводы, которые намечало его воображение, словно теряли форму и, колеблясь, рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что, какое бы решение из этих двух он ни принял, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет; что — направо ли, налево ли — перед ним равно зияет могила; что сейчас он переживает предсмертную агонию, агонию своего счастья или агонию своей добродетели.
Увы! Все сомнения вновь завладели им. Он был так же далек от решения, как и вначале.
Так билась под гнетом мучительной тревоги эта злополучная душа. За тысячу восемьсот лет до того, как жил этот несчастный человек, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, дувшим из бесконечности, таинственное существо, воплотившее в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстраняло рукою страшную чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму, в звездных глубинах неба.
Глава 4
Страдание принимает во сне странные образы
Пробило три часа полуночи; он шагал так, почти без отдыха, уже пять часов подряд и наконец в изнеможении опустился на стул.
Здесь он заснул, и ему приснился сон.
Сон этот, как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного, но он произвел на него большое впечатление. Этот кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаем нужным привести здесь дословно ее содержание.
Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи оказалась бы неполной. Это эпизод из мрачных скитаний больной души.
Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись: Сон, который приснился мне в ту ночь.
«Я находился в поле. В широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило — днем или ночью.
Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, с тем братом, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл.
Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и, с тех пор как поселилась в комнате, выходившей на улицу, всегда шила у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно, оттого что это окно было открыто.
В поле не было ни одного дерева.
Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек, тело у него было цвета пепла, и сидел он верхом на лошади цвета земли. У человека не было волос; мы видели его голый череп и на черепе жилы. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не сказав ни слова.
Брат сказал мне: «Пойдем ложбиной».
Мы пошли ложбиной, где не увидели ни кустика, ни горсточки мха. Все было цвета земли, даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял, что брата уже нет со мной.
Заметив деревню, я вошел в нее. Мне подумалось, что, должно быть, это Роменвиль (почему Роменвиль?)[500].
Первая улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой улице. На перекрестке этих улиц стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Что это за местность? Где я?» Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта, и вошел в дом.
Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Чей это дом? Где я?» Человек ничего не ответил.
При доме был сад. Я вышел из дома и вошел в сад. Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него: «Что это за сад? Где я?» Человек ничего не ответил.
Я блуждал по этой деревне и тут заметил, что это город. Все улицы были пустынны, все двери отворены. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало по комнатам, не гуляло в садах. Но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял человек, который молчал. И везде было только по одному человеку. Эти люди смотрели, как я проходил мимо.
Я вышел из города и стал бродить по полям.
Спустя некоторое время я обернулся и увидел целую толпу, шедшую за мной следом. Я узнал всех тех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Незаметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были цвета земли.
И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?»
Я хотел было ответить, но увидел, что возле меня никого нет».
Он проснулся. Он весь продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на своих петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас. Свеча догорала. Было еще совсем темно.
Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда не светилась в небе.
Из окна видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно прозвучавший по мостовой, заставил его опустить глаза.
Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке.
Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения. «Как странно! — подумал он. — Их нет в небе, теперь они спустились на землю».
Однако мгла эта рассеялась: другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его, — он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить очертания этого экипажа. То было тильбюри, запряженное маленькой белой лошадью. Услышанный им шум — был топот конских копыт по мостовой.
«Что это за экипаж? — подумал он. — Кто мог приехать так рано?»
В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он весь задрожал и крикнул страшным голосом:
— Кто там?
Чей-то голос ответил:
— Это я, господин мэр.
Он узнал голос старушки, своей привратницы.
— Что такое? — спросил он. — Что вам нужно?
— Господин мэр, только что пробило пять часов утра.
— Ну и что же?
— Господин мэр, кабриолет подали.
— Какой кабриолет?
— Тильбюри.
— Какое тильбюри?
— А разве вы не заказывали тильбюри, господин мэр?
— Нет, — ответил он.
— А кучер говорит, что приехал за господином мэром.
— Какой кучер?
— Кучер от господина Скофлера.
— От Скофлера?
Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния.
— Ах, да! — сказал он. — От Скофлера.
Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась.
Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась спросить еще раз:
— Что прикажете ответить ему, господин мэр?
— Хорошо, скажите, что я сейчас сойду вниз.
Глава 5
Палки в колесах
В ту эпоху почтовое сообщение между Аррасом и Монрейлем-Приморским еще осуществлялось при помощи маленьких кареток времен Империи. Эти каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей; в них было только два места — одно для нарочного, другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии; такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный и продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а сама каретка — в желтый.
Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались какими-то уродливыми и горбатыми; издали, когда они медленно ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами, которые, при короткой передней части туловища, тащат за собой огромную заднюю его часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи, после прихода парижской почты, прибывала в Монрейль-Приморский около пяти часов утра.
В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль-Приморский по эсденской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькое, запряженное белой лошадью тильбюри, которое направлялось в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью.
— Вот человек, которому чертовски некогда! — заметил почтарь.
Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в единоборстве с самим собою, в душевной муке, вполне достойной сострадания.
Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал вперед наудачу. Куда? Конечно, в Аррас; но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в эту ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий поймет это. Кому из людей не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в эту мрачную пещеру неведомого?
Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильней, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность самых первых минут.
Зачем он ехал в Аррас?
Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера: что, каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и самому в этом разобраться; что этого требует даже и простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем; что, не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать; что издали всегда делаешь из мухи слона; что, быть может, увидев этого Шанматье, вероятно, негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место; что там, правда, будет Жавер, будут Бреве, Шенильдье и Кошпайль, но разве они узнают его? — какая нелепость! — а Жавер теперь далек от всяких подозрений; что все предположения и все догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямее предположений и догадок; что, следовательно, никакой опасности и не существует.
Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их; что, как бы ни была жестока его судьба, но, в конце концов, она в его руках, что он сам волен в ней. Он жадно цеплялся за эту мысль.
Однако, если говорить откровенно, он предпочел бы не ехать в Аррас.
И все же он ехал туда.
Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая по два с половиной лье в час.
По мере того как кабриолет подвигался вперед, он чувствовал, как в нем самом что-то отступает назад.
Перед восходом солнца он был в открытом поле; город Монрейль-Приморский уже остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт; он смотрел, не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои призраки, так же как и у вечера. Он не видел их, но помимо его сознания эти мрачные силуэты деревьев и холмов, путем какого-то почти физического проникновения, добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе.
Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе: «А люди спокойно спят там, внутри!»
Топот лошади, позвякиванье бубенчиков на сбруе, стук колес по мощеной дороге сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело, и тоскливым — когда ему грустно.
Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь овсом и дать ей передохнуть.
Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе, которая отличается чрезмерно большой головой и брюхом, короткой шеей, но вместе с тем и широкой грудью, широким крупом, крепкими бабками и поджарыми сильными ногами, — некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины.
Он не вышел из тильбюри. Конюх, принесший овес, вдруг нагнулся и начал рассматривать левое колесо.
— И много вы проехали так? — спросил он.
— А что? — ответил путник, по-прежнему погруженный в свои мысли.
— Я говорю — вы издалека? — повторил конюх.
— Я проехал пять лье.
— Ого!
— Почему «ого»?
Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал:
— Потому что, если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверти лье.
Путник выскочил из тильбюри.
— Что вы говорите, друг мой?
— Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошадью в какую-нибудь придорожную канаву. Да вы взгляните сами.
Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы; ступица тоже пострадала: гайка на ней едва держалась.
— Скажите, друг мой, — спросил путник у конюха, — нет ли здесь у вас тележника?
— Как не быть, сударь.
— Так я попрошу вас, сходите за ним.
— Да он здесь, в двух шагах. Эй! Дядюшка Бургальяр!
Дядюшка Бургальяр, тележник, стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу.
— Вы можете немедленно починить это колесо?
— Могу, сударь.
— Когда мне можно будет выехать?
— Завтра.
— Как завтра?
— Тут хватит работы на целый день. А что, сударь, разве вы так спешите?
— Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже чем через час.
— Это никак нельзя, сударь.
— Я не постою за деньгами.
— Никак нельзя.
— Ну, хорошо. Через два часа.
— Нет, сегодня нельзя. Ведь надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь, вы никак не сможете выехать до завтра.
— Но дело, по которому я еду, не терпит до завтра. А что, если не чинить это колесо, а просто заменить его новым?
— Это как же?
— Да ведь вы тележник?
— Точно так, сударь.
— Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же.
— Колеса взамен вот этого?
— Да.
— Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса ведь делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу.
— Так продайте мне пару колес.
— Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси.
— Да вы попробуйте.
— Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас ведь здесь глухое место.
— А нет ли у вас кабриолета напрокат?
Каретный мастер с первого же взгляда распознал, что тильбюри было наемное. Он пожал плечами.
— Недурно же вы разделываетесь с кабриолетами, которые берете напрокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал.
— А не найдется ли у вас продажного кабриолета?
— Нет, не найдется.
— Как? Даже и двуколки? Как видите, я не привередлив.
— У нас здесь глухое место. Правда, — добавил тележник, — есть у меня в сарае одна старая коляска. Хозяин ее, из наших городских, поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее напрокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и, кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара.
— Я найму пару почтовых лошадей.
— А вы куда едете, сударь?
— В Аррас.
— И хотите добраться туда за один день?
— Непременно.
— Это на почтовых-то лошадях?
— Почему бы и нет?
— А ничего, если вы приедете туда часа этак в четыре утра?
— Нет, это поздно.
— Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях… А разрешение на это при вас, сударь?
— Да.
— Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Аррасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки, лошадей нанимают где только можно — и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков.
— Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас здесь продажное седло.
— Найтись-то найдется, да ходит ли ваша лошадь под седлом?
— Правда, я совсем забыл об этом. Нет, под седлом она не ходит.
— Ну, значит…
— Да неужели я не найду в деревне наемную лошадь?
— Лошадь, которая без передышки добежит до самого Арраса?
— Да.
— В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся ни за пятьсот, ни даже за тысячу франков.
— Как же быть?
— Сказать по чести, самое лучшее будет, если я починю ваше колесо и вы отложите поездку до завтра.
— Завтра будет уже поздно.
— Ничего не поделаешь!
— Кажется, здесь проходит почтовая карета на Аррас. Когда она должна прибыть?
— Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам, и туда и оттуда.
— Скажите, неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?
— Целый день, да еще какой работы!
— А если взять помощника?
— Хоть десятерых.
— Нельзя ли связать спицы веревками?
— Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя. Да и обод еле держится.
— Нет ли в городе человека, который отдает внаем лошадей?
— Нет.
— Нет ли другого тележника?
Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили:
— Нет.
Он почувствовал невыразимую радость.
В дело вмешалось провидение — это было очевидно. Это оно сломало колесо тильбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу, он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все возможные средства; он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками; ему не в чем было упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то уже не по своей вине; это не его воля, это воля провидения.
Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно и полной грудью. Ему показалось, что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась.
Он решил, что теперь бог на его стороне и что этим он явил ему свое присутствие.
Он сказал себе, что сделал все возможное и что сейчас ему остается лишь одно: спокойно вернуться обратно.
Если бы беседа с тележником происходила в зале трактира, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и кончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю; но разговор этот происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает кружок любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановилось несколько случайных прохожих. Послушав немного, какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал.
В ту минуту, как путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, этот мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина.
— Сударь, — сказала она, — правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?
При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его.
Он ответил:
— Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет.
И поспешил добавить:
— Но здесь его нет.
— Есть, — ответила старуха.
— У кого же это? — спросил тележник.
— У меня, — ответила старуха.
Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его.
У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело:
— И не двуколка это, а настоящая трясучка, кузов у нее стоит прямо на оси; сиденье, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее прямо течет; колеса все проржавели; и уедешь на ней ненамного дальше, чем на этом тильбюри, — настоящая рухлядь! Несдобровать тому, кто на ней поедет, и т. д., и т. д.
Они говорили правду, но эта трясучка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах и на ней можно было ехать в Аррас.
Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тильбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра.
Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад испытал некоторую радость при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов, он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает.
И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам.
Выезжая из Эсдена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший: «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором еще было что-то лихорадочное и судорожное, что-то похожее на надежду.
Это был сын той старухи.
— Сударь, — сказал он, — ведь это я раздобыл двуколку.
— Ну и что же?
— А вы мне ничего не дали.
Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким.
— Ах, это ты, негодный мальчишка? — крикнул он. — Ты ничего не получишь!
Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью.
Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была бодрая и везла за двоих, но стоял февраль месяц, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка — не тильбюри. Она была неуклюжа и очень тяжела. А вдобавок еще множество подъемов в гору.
Чтобы добраться от Эсдена до Сен-Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье!
В Сен-Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвести ее в конюшню. Верный обещанию, данному им Скофлеру, он сам стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны.
Трактирщица вошла в конюшню.
— Не угодно ли вам будет позавтракать, сударь?
— В самом деле, — сказал он, — я действительно сильно проголодался.
Он последовал за женщиной; у нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой.
— Только поскорее, — сказал он, — мне надо сейчас же ехать. Я спешу.
Толстуха фламандка торопливо поставила ему прибор. Он смотрел на служанку с чувством удовольствия.
«В этом все дело, — подумал он, — я не завтракал сегодня».
Ему подали еду. Он набросился на хлеб, откусил кусок, потом медленно положил хлеб на стол и больше не дотронулся до него.
За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник сказал ему:
— Отчего это хлеб у них такой горький?
Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади.
Через час он выехал из Сен-Поля, направляясь в Тенк, откуда до Арраса было только пять лье.
Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом новом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть тысячу предметов в первый и последний раз — что может быть печальнее этого и вместе с тем глубже! Путешествовать — значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки — тьма; вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение; каждое событие — это поворот дороги; и вдруг приходит старость. Вы чувствуете какой-то толчок, вокруг черно; вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который привез вас сюда, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке.
Вечерело, уже дети выходили из школы, когда путник въехал в Тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в Тенке. Когда он выезжал из деревни, рабочий, мостивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал:
— До чего заморили лошадь.
В самом деле, бедное животное уже плелось шагом.
— Вы куда едете, в Аррас? — спросил рабочий.
— Да.
— Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете.
Путник остановил лошадь и спросил у рабочего:
— Сколько еще отсюда до Арраса?
— Добрых семь лье.
— Как же так? По почтовому расписанию значится только пять с четвертью.
— А-а! Вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, — сказал рабочий. — В четверти часа отсюда она загорожена, и проезда нет.
— В самом деле?
— Сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку и, когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Аррас, через Мон-Сент-Элуа.
— Но ведь скоро стемнеет. Я могу заблудиться.
— Так вы не здешний?
— Нет.
— Это хуже. Тем более что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, — сказал рабочий, — я вам дам совет. Лошадь у вас устала, воротитесь-ка вы в Тенк. Там есть хороший постоялый двор, переночуете там. А завтра поедете в Аррас.
— Я должен быть в Аррасе сегодня вечером.
— Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите там пристяжную. А конюх проводит вас по проселочной дороге.
Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью, с хорошей пристяжной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки.
Между тем времени было потеряно много — путник чувствовал это.
Стало уже совсем темно.
Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник сказал почтарю:
— Гони рысью, получишь на выпивку вдвойне.
На одной из рытвин переломился валек.
— Сударь, — сказал почтарь, — сломался валек. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью очень трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Аррасе.
— Есть у тебя веревка и нож? — спросил путник.
— Есть, сударь.
Он срезал с дерева ветку и сделал валек.
На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскачь.
Равнина была окутана мраком. Короткие и черные клочья тумана снизу наплывали на холмы и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал во всех концах горизонта, словно кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг застыло от страха. Все трепещет пред этим могучим дыханием ночи!
Холод пронизывал путника до костей. Он не ел со вчерашнего дня. Ему смутно припоминалось другое ночное странствие — по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера.
Пробили часы на какой-то отдаленной колокольне. Он спросил у конюха:
— Который это час?
— Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье.
В эту минуту ему впервые пришло в голову — и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, — что, возможно, все его усилия напрасны; что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела; что он должен был осведомиться хотя бы об этом; что опрометчиво было ехать наобум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра; что это дело не могло затянуться надолго — вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени; что после него оставалось только установить тождество личности, то есть пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей; словом, что он приедет, когда все уже будет кончено.
Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и оставили за собой Мон-Сент-Элуа.
Становилось все темнее и темнее.
Глава 6
Испытание сестры Симплиции
Между тем Фантина в эту самую минуту была преисполнена радости.
Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейшая лихорадка; ее мучили какие-то сны. Утром, во время посещения врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет г-н Мадлен.
Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее совсем ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и начинали сиять, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света.
Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она всякий раз неизменно отвечала: «Хорошо. Но мне хотелось бы видеть господина Мадлена».
Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла свой последний стыд и свою последнюю радость, она была собственной тенью, теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отраставших белокурых волосах появилась седина. Увы! Как искусно болезнь надевает на нас личину старости!
В полдень врач пришел еще раз, сделал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу г-н мэр, и покачал головой.
Обычно г-н Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты.
Около половины третьего Фантина начала волноваться. На протяжении двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини: «Сестрица, который час?»
Но вот пробило три часа. После третьего удара Фантина, которая в обычное время лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые, желтые руки, и монахиня услышала, как из ее груди вырвался тот глубокий вздох, который говорит, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь.
Однако никто не вошел, дверь оставалась закрытой.
Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробило четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку.
Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складки.
Прошло полчаса, прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку.
Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничьего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее нисходил какой-то мрак. Она была бледна, как смерть, и губы у нее совсем посинели. Время от времени она улыбалась.
Пробило пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко: «Завтра я ухожу, и он нехорошо поступил, что не пришел сегодня!»
Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что г-н Мадлен запаздывал.
А Фантина смотрела теперь вверх, на полог своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, подобно дуновению ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:
Чудесных вещей мы накупим, гуляя По тихим предместьям в воскресный денек. Ах, белая роза, малютка родная, Ах, белая роза, мой нежный цветок! Вчера мне Пречистая Дева предстала — Стоит возле печки в плаще золотом И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала — Я дочку тебе принесла под плащом». — Скорей, мы забыли купить покрывало, Беги за иголкой, за ниткой, холстом. Чудесных вещей мы накупим, гуляя По тихим предместьям в воскресный денек. «Пречистая, вот колыбель, поджидая, Стоит в уголке за кроватью моей. Найдется ль у бога звезда золотая, Моей ненаглядной дочурки светлей?» — Хозяйка, что делать с холстом? — Дорогая, Садись, для малютки приданое шей! Ах, белая роза, малютка родная, Ах, белая роза, мой нежный цветок! — Ты холст постирай. — Где же? — В речке прохладной. Не пачкай, не порть — сядь у печки с иглой И юбочку сделай да лифчик нарядный, А я на нем вышью цветок голубой. — О горе! Не стало твоей ненаглядной! Что делать? — Мне саван готовь гробовой. Чудесных вещей мы накупим, гуляя По тихим предместьям в воскресный денек. Ах, белая роза, малютка родная, Ах, белая роза, мой нежный цветок!Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой, суровой жизнью, почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы.
На башенных часах пробило шесть. Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее.
Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице справиться, не пришел ли домой г-н мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась.
Фантина по-прежнему лежала неподвижно, казалось, она вся ушла в свои мысли.
Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что г-н мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадью, — уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на аррасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его по дороге на Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали.
Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины, причем сестра задавала вопросы, а служанка высказывала свои догадки. Тем временем Фантина, с присущей некоторым органическим недугам лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесок. Внезапно она вскричала:
— Вы говорите о господине Мадлене! Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит?
Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге.
— Отвечайте же! — кричала Фантина.
Служанка пролепетала:
— Привратница сказала, что он не может прийти сегодня.
— Дитя мое, — сказала сестра, — успокойтесь, лягте.
Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время раздирающим душу тоном:
— Не может прийти? Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать.
Служанка торопливо проговорила на ухо монахине: «Скажите, что он в муниципальном совете».
Сестра Симплиция слегка покраснела: служанка посоветовала ей солгать. С другой стороны, она и сама понимала, что сказать больной правду — значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину свой спокойный, грустный взгляд и сказала:
— Господин мэр уехал.
Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерной радостью засияло ее страдальческое лицо.
— Уехал! — вскричала она. — Он поехал за Козеттой!
Она протянула обе руки к небу, вся преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились; она тихо читала молитву.
Помолившись, она сказала:
— Сестрица, сейчас я лягу, я буду делать все, что мне прикажут; я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко, я знаю, что нехорошо говорить громко; но, видите ли, милая сестрица, я так рада. Господь бог так добр, господин Мадлен так добр, подумайте только, он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой!
Она улеглась, помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее маленький серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией.
— Дитя мое, — сказала сестра, — теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше.
Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры, и та с огорчением ощутила эту испарину.
— Сегодня утром он уехал в Париж. А ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермейль немного левее. Помните, как вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил: «Скоро, скоро!» Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица, не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова, у меня больше нигде ничего не болит, я увижу Козетту… я даже захотела есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку! И потом она так мила, да вот вы увидите сами! Если бы вы знали, какие у нее пальчики — хорошенькие, розовые! У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные! Такие вот! Теперь она уже, наверно, совсем большая. Шутка ли сказать, ей семь лет. Настоящая барышня. Я зову ее Козеттой, но ее правильное имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Надо бы людям всегда помнить, что жизнь у нас не вечная! О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе так холодно? По крайней мере взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он приедет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль — это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он показался таким длинным. Но дилижансы ходят очень быстро! Завтра он будет здесь с Козеттой. Скажите, сколько отсюда до Монфермейля?
Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила:
— О, я уверена, что завтра он уже может быть здесь.
— Завтра! Завтра! — повторяла Фантина. — Завтра я увижу Козетту! Вы знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать, если угодно.
Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившейся в ней перемены. Она вся порозовела, голос ее звучал естественно и живо, лицо сияло улыбкой. Она то и дело смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери — это почти то же, что радость ребенка.
— Вот что, — сказала монахиня, — теперь вы счастливы, так будьте же послушны и перестаньте разговаривать.
Фантина положила голову на подушку и вполголоса говорила:
— Да, да, ложись, будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все те, кто здесь, правы.
Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова.
Сестра задернула полог, надеясь, что она задремлет.
Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полог, он увидел при свете ночника устремленные на него большие и спокойные глаза Фантины.
Она сказала ему:
— Господин доктор, мне ведь позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?
Врач решил, что она бредит. Она добавила:
— Посмотрите, тут как раз хватит места.
Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело: г-н Мадлен уехал на день или два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что г-н мэр отправился в Монфермейль; в сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру.
Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала:
— Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит, — ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки.
— Дайте руку, — сказал врач.
Она протянула руку и вскричала со смехом:
— Ах, да! Ведь и правда, вы не знаете еще! Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта.
Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело.
— Господин доктор, — продолжала она, — сказала ли вам сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?
Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье, на случай если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре:
— Ей лучше. Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком — как знать? — бывают иногда такие изумительные переломы; известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много тайн! Быть может, мы еще и спасем ее.
Глава 7
Приезжий обеспечивает себе обратный путь
Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота Почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента; отослав пристяжную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку; затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся там, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть — здесь не было его вины. И в глубине души он не досадовал на это.
Вышла хозяйка гостиницы.
— Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?
Он отрицательно покачал головой.
— А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала.
При этих словах он нарушил молчание.
— Вы думаете, что ей не под силу пуститься в обратный путь завтра утром?
— Помилуйте, сударь! Ей надобно отдохнуть по крайней мере двое суток.
Он спросил:
— Кажется, здесь помещается почтовая контора?
— Да, сударь.
Хозяйка проводила его в эту контору, он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль-Приморский с почтовой каретой; место рядом с почтарем оказалось еще не занятым; он оставил его за собой и заплатил за него. «Сударь, — сказал конторщик, — только не опаздывайте, карета отправляется ровно в час ночи».
Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу.
Он совсем не знал Арраса; улицы были малолюдны, он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через небольшую речку Креншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел какой-то горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, причем предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать.
— Сударь, — сказал он, — скажите, пожалуйста, где находится здание суда?
— Вы, должно быть, нездешний, сударь, — ответил прохожий, уже почти старик, — пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура, так как здание суда сейчас ремонтируется и судебные заседания происходят в префектуре.
— И суд присяжных тоже заседает там? — спросил он.
— Конечно. Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзье, который был епископом в восемьдесят втором году, выстроил там большой зал. В этом-то зале и заседает суд.
Доро́гой старик сказал ему:
— Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас немного поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов.
Однако, когда они вышли к широкой площади, старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания.
— Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это-то и есть судебный зал. Там светло. Значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что — вас интересует это дело? Это, должно быть, уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля?
Он ответил:
— Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката.
— Ах, так? — сказал старик. — Да вот и дверь, сударь. Та, возле которой стоит часовой. Вам надо будет только подняться по главной лестнице.
Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в какой-то комнате, где было много народа и где отдельные группы людей вперемешку со стряпчими в судейских мантиях перешептывались между собой.
Сердце всегда невольно сжимается при виде этих фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, какими-то темными ульями, где жужжащие духи сообща замышляют мрачные козни.
Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одним из приемных залов епископского дверца, а теперь служила залом ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большого зала, где заседал суд присяжных.
Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему.
— Сударь, — спросил он, — в каком положении дело?
— Дело кончено, — ответил стряпчий.
— Кончено!
Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся.
— Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?
— Нет. Я никого здесь не знаю. И каков приговор — обвинительный?
— Конечно. Ничего иного нельзя было и ждать.
— Каторжные работы?..
— Пожизненная каторга.
— Значит, тождество личности установлено? — произнес путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать.
— Какое там тождество? — ответил стряпчий. — Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Эта женщина убила своего ребенка, детоубийство было доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге.
— Так это женщина? — проговорил он.
— Разумеется, женщина. Девица Лимозен. А вы о чем говорите?
— Да так, ни о чем. Но если дело кончено, то почему же зал все еще освещен?
— Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад.
— Какое же дело?
— О, тоже очень простое. Какой-то бродяга, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия. За одну эту физиономию я бы сослал его на галеры.
— Сударь, — спросил путник, — есть ли возможность попасть в зал?
— Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится.
— Где вход?
— Здесь. Через эти большие двери.
Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли его, как раскаленное железо. Узнав, что ничего еще не кончено, он вздохнул; но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби.
Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Эта сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один и тот же день два несложных и коротких дела. Начали с детоубийства, а теперь разбиралось дело каторжника, рецидивиста, «обратной кобылки». Последний украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано; зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, и свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден: товарищ прокурора очень искусен и никогда не «упускает» своих подсудимых; это человек с умом, он даже стихи пишет.
У двери в зал заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него:
— Скажите, скоро ли откроют двери?
— Их совсем не откроют, — ответил пристав.
— Как! Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв?
— Заседание уже началось, — ответил пристав, — но дверей открывать не будут.
— Почему?
— Потому что зал полон.
— Как? Неужели нет ни одного места?
— Ни одного. Дверь заперта, и никого больше в зал не пустят.
Помолчав, судебный пристав добавил:
— Правда, за креслом господина председателя есть еще два или три свободных места, но господин председатель разрешает занимать их только должностным лицам.
С этими словами пристав повернулся к нему спиной.
Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через зал ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился и каждую секунду лишь вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки лестницы, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря быстро набросал на нем одну строчку: «Г-н Мадлен, мэр Монрейля-Приморского». Затем быстрым шагом он снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел прямо к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном:
— Передайте господину председателю.
Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.
Глава 8
Вход для избранных
Сам того не подозревая, мэр Монрейля-Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булонэ, вышла в конце концов за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла: из всех ста сорока одной общины Монрейльското округа не нашлось бы такой, которая бы не была ему чем-либо обязана. Он умудрялся даже, если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Так, были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булони, механическую льнопрядильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере-на-Канше. Повсюду с благоговением повторяли имя г-на Мадлена. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю-Приморскому, которым управляет такой мэр.
Член королевского суда в Дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное столь глубоким и столь единодушным уважением. Когда судебный служитель, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в зал заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю, добавил: «Этот господин хочет присутствовать на заседании суда», председатель живо повернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек и передал ее служителю со словами: «Пропустите».
Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей зала на том же месте и в той же позе, как его оставил судебный пристав. Словно сквозь сон, он услыхал чьи-то обращенные к нему слова: «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее и, так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть: «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену».
Он скомкал записку в руке, словно в этих немногих словах таился для него какой-то странный и горький привкус.
Он последовал за приставом.
Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного служителя, с которым он только что расстался: «Сударь, это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний позади кресла господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, которыми он только что проходил.
Судебный пристав оставил его одного. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это не удавалось ему. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас именно в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и одновременно грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он.
Он ничего не ел более суток, он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого; ему казалось, что он вообще ничего не чувствует.
Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана-Никола Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть по ошибке, девятым июня II года и в котором Паш посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения, подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его два или три раза кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте.
Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от зала заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его, вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее; потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, и крупные капли потекли по вискам.
Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест — тот не поддающийся описанию жест, который должен означать и так ясно означает: «Черт возьми! Да кто же может меня заставить?» Затем он быстро повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату; теперь он был вне ее: в коридоре, в длинном и узком коридоре со ступеньками и переходами, образующем множество углов и поворотов, скупо освещенном фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, — словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался: ни малейшего шума ни впереди, ни позади него; он пустился бежать, словно спасаясь от погони.
Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задыхаясь, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным; он выпрямился, весь дрожа.
И тогда, один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может, и не только от холода, он задумался.
Перед этим он думал всю ночь, думал весь день; теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил: «Увы!»
Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно изнемогая. Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно.
Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно какая-то грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру.
Он не мог отвести от нее взгляда.
Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери.
Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из соседнего зала; но он не слушал и не слышал.
Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку; дверь отворилась.
Он был в зале заседаний.
Глава 9
Место, где слагаются убеждения
Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь кругом.
Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины; здесь на глазах у толпы развертывались перипетии уголовного процесса во всей их убогой и зловещей торжественности.
В том конце зала, где он сейчас находился, — судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или просто сидящие, полузакрыв глаза; в другом конце — толпа оборванных людей; стряпчие в самых разнообразных позах; солдаты с честными и суровыми лицами; стены, обитые старыми панелями и все в пятнах; грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой; почерневшие захватанные двери; на гвоздях, вбитых в обшивку стен, кенкеты, какие горят в кабачках и дают больше копоти, нежели света; сальные свечи в медных подсвечниках на столах; полумрак, неприглядность, тоска; и тем не менее все вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием.
Никто в этой толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к маленькой дверке в стене, по левую руку от председателя; на этой скамье, освещенной несколькими свечами, меж двух жандармов сидел человек.
Это был тот самый человек.
Вошедший не искал его: он увидел его сразу. Его глаза сами собой остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место.
Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего; разумеется, это лицо не было точной копией его лица, но манера держать себя, общий вид были поразительно схожи: те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза, точно такая же, какая была на нем самом в тот день, когда, исполненный ненависти и схоронив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в Динь.
И, содрогнувшись, он сказал себе: «О боже! Неужели я опять стану таким?»
Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное.
При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его, председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля-Приморского, поклонился ему. Товарищ прокурора, который встречался с г-ном Мадленом в Монрейле-Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Новоприбывший едва заметил все это. Он был во власти какой-то галлюцинации; он смотрел на другое.
Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства — все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы, они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж мысли — нет, теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось: чудовищные призраки прошлого вновь обступили его; они воскресли со всей грозной силой реальности.
Зияющая бездна разверзлась перед ним.
Он ужаснулся ей, закрыл глаза и вскричал в самой сокровенной глубине своей души: «Никогда!»
И благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь свое второе «я». Человека на скамье подсудимых все присутствовавшие звали — Жан Вальжан!
У него на глазах происходило нечто невероятное: перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его собственный призрак.
Все, все было здесь: та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили ему приговор, бог отсутствовал.
Позади него был стул; он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всего зала. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему полностью вернулось ощущение действительности; он достиг той степени спокойствия, при которой уже можно слушать.
Господин Баматабуа был в числе присяжных.
Новоприбывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. И кроме того, как мы уже упоминали, зал был освещен очень скудно.
В ту минуту, когда он вошел, защитник обвиняемого заканчивал свою речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело тянулось уже три часа. Уже три часа кряду толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое существо, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым «левадой Пьерона»; в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, выслушали свидетелей, все показания совпали, судебное разбирательство пролило полную ясность на это дело. Обвинение гласило: «Перед нами не только вор, укравший несколько яблок, не простой мародер; перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый, опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер, совершил на большой дороге вооруженное нападение на некоего маленького савояра по имени Малыш Жерве; это преступление предусмотрено статьей 383 Уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда тождество личности будет установлено судебным порядком. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слушая эти обвинения, видя единодушие свидетельских показаний, подсудимый прежде всего казался удивленным. Иногда он принимался жестикулировать, словно хотел сказать знаками: «Нет, нет», иногда же тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура с головы до пят являлась олицетворенным отрицанием. Он выглядел каким-то идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим посреди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало самое страшное будущее; справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам, ждала этого приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него бесчисленными бедами. В случае если бы тождество личности было установлено, а дело Малыша Жерве в дальнейшем тоже бы закончилось обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? Почему он так безучастен? Что это — слабоумие или притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да, пожалуй, и самих присяжных, на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время загадочное; драма была не только мрачной, она была темной.
Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Роморантене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется супругом, а жена супругой. Париж — средоточием искусств и цивилизации, король — монархом, монсеньор епископ — святым прелатом, помощник прокурора — красноречивым представителем обвинения, защитительная речь — словесами, коим мы только что внимали, век Людовика XIV — великим веком, театр — храмом Мельпомены, царствующая фамилия — августейшей нашей династией, концерт — музыкальным празднеством, начальник военного округа — доблестным воином, который и пр., воспитанники семинарии — нашими кроткими левитами, ошибки, вменяемые прессе, — клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов, и пр., и пр. Итак, адвокат начал с выяснения вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Боссюэ в своей надгробной речи вынужден был упомянуть о некоей курице и с честью вышел из этого затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, перелезал через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка (которую адвокат предпочитал именовать «ветвью»), но он сказал, что нашел ветку на дороге и подобрал ее. Имелось ли хоть одно доказательство противного? Конечно, эта ветка была сломана и похищена путем вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародером; конечно, вор существовал; но где доказательство, что этим вором был именно Шанматье? Только одно: предположение, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение было как будто бы подкреплено вескими доводами: подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался там подрезкой деревьев, имя Шанматье вполне могло произойти из Жана Матье, — все это совершенно справедливо; наконец, четыре свидетеля, не колеблясь, самым определенным образом признали в Шанматье каторжника Жана Вальжана. Всем этим заявлениям, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить лишь одно — запирательство своего подзащитного, запирательство заинтересованного лица; но, если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый — и защитник «чистосердечно» признает это — избрал «дурную систему самозащиты». Он упорно отрицает все — и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он, без сомнения, поступил бы более благоразумно и снискал бы этим благосклонность своих судей; защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно надеясь скрыть все, не признаваясь ни в чем. Он поступал нехорошо, но разве не следовало принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительные несчастья на каторге, длительная нищета после каторги — все это привело его к одичанию и т. д., и т. д. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу Малыша Жерве, то он, адвокат, не собирается обсуждать его, оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям с просьбой применить к подсудимому, в случае если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, обычное полицейское взыскание, которое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства.
Товарищ прокурора выступил с ответной речью. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора.
Он похвалил защитника за его «лояльность» и весьма искусно использовал эту лояльность. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, по-видимому, признавал и сам, что подсудимый — это Жан Вальжан. Что и было принято к сведению. Итак, этот человек — Жан Вальжан. Этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще и, прибегнув к искусной антономазии, обрушился на безнравственность романтической школы, бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из «Еженедельника» и из «Орифламмы»; влиянию этой-то извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Исчерпав эти рассуждения, он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой этот Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и т. д., и т. д. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе расиновского Ферамена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные «содрогнулись». Прокурор покончил с характеристикой и, в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера «Ведомостей префектуры», продолжал: «И подобный человек и пр., и пр., бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к существованию и пр., и пр., приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и мало исправленный пребыванием на каторге, как это доказывает нападение на Малыша Жерве, совершенное им, и пр., и пр, пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез и пр., и пр., отрицает очевидность, кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до своего тождества с Жаном Вальжаном. Помимо сотни других улик, которые мы не будем повторять здесь, его опознали четыре свидетеля: неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из его прежних сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шенильдье и Кошпайль. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Запирательство. Какая закоренелость! Господа присяжные заседатели, творите правосудие и пр., и пр.».
В то время как товарищ прокурора говорил, подсудимый слушал его разинув рот, с каким-то удивлением, не лишенным и некоторой доли восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени, в наиболее патетических местах обвинительного заключения, в те минуты, когда красноречие выходит из берегов, изливаясь в потоке позорящих эпитетов, и поражает подсудимого настоящими раскатами грома, он медленно качал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители, сидевшие от него ближе других, слышали, как он сказал вполголоса два или три раза: «А все оттого, что они не спросили у господина Балу!» Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на этот его придурковатый вид, явно рассчитанный заранее, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие, и указывающий со всей очевидностью на «глубокую испорченность» этого человека. Он закончил, оговорив, что еще займется делом Малыша Жерве, и потребовал сурового приговора.
Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор грозил пожизненными каторжными работами.
Защитник встал, поздравил «господина товарища прокурора» с его «изумительной речью», потом привел все возражения, какие мог, но силы изменяли ему; было ясно, что почва ускользает у него из-под ног.
Глава 10
Система запирательства
Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом:
— Подсудимый, имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание?
Человек стоял на месте, комкая в руках свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса.
Председатель повторил его еще раз.
На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного; он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, своего защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто, вперемешку и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно.
Он сказал:
— Вот что. Я был тележником в Париже и служил у господина Балу. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении — никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь руку об руку, только бы согреться; но хозяева этого не любят — по-ихнему, это лишняя проволочка времени. Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое. Тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченый человек. А мне уж стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. К тому же в Париже все такой нехороший народ! «Старый хрыч, старый дурак!» — только и слышишь, как твое дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого, хозяева пользовались моими годами. Правда, у меня была дочь-прачка, занималась стиркой на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бадье, ветер хлещет прямо в лицо; мороз не мороз — все равно приходится стирать; у некоторых людей белья мало, и они не могут ждать подолгу; а если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, и брызги так и обдают вас со всех сторон. Юбка намокает снизу доверху. Все мокро насквозь. Она работала и в прачечной, в приюте Красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье. Стираешь под краном, а полощешь рядом, в лохани. Помещение закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это большой вред для глаз. Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать — уж очень сильно она уставала. Муж бил ее. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала по танцулькам. Такая уж смирная уродилась. Помнится мне, был вторник на Масленой неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите кого хотите. Да что это я — «Спросите»! Какой я дурень! Ведь Париж — что омут, кто знает там дядюшку Шанматье? А все-таки я вам опять скажу про господина Балу, вот съездили бы вы к господину Балу. А то я уж и вовсе не понимаю, что вам от меня нужно.
Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз он прервал свою речь и поздоровался с каким-то человеком, сидевшим в публике. Своеобразные показания, которые он выкрикивал словно наобум, походили на икоту, и каждое из них он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели разразились смехом. Взглянув на публику и видя, что все хохочут, он, не понимая причины этого смеха, стал смеяться и сам.
Это было страшно.
Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово.
Он напомнил «господам присяжным», что «ссылка на упомянутого Балу, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, была совершенно бесполезной. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось». Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил его внимательно выслушать его слова и добавил:
— Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый, я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших собственных интересах ясно высказаться по следующим двум пунктам: во-первых, действительно ли вы перелезли через стену левады Пьерона, действительно ли сломали ветку и украли яблоки — другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном, отвечайте — да или нет?
Подсудимый тряхнул головой с видом смышленого человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал:
— Для начала…
Потом он посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал.
— Подсудимый, — снова начал товарищ прокурора суровым тоном, — будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана Матье — девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев. Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену левады Пьерона и совершили там кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов.
Теперь подсудимый уже сидел; но, когда товарищ прокурора замолчал, он неожиданно вскочил с места и крикнул:
— Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из Альи, шел после проливного дождя, и вся земля была совсем желтая, лужи, знаете, разлились тогда, и только с краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а все наговаривают на меня и твердят: «Отвечайте!» Вон и жандарм — он, видно, славный малый — толкает меня под локоть и тихонько шепчет: «Да отвечай же». А я не умею все как следует объяснить, я ведь совсем неученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите: «Жан Вальжан, Жан Матье!» — а я и знать не знаю этих людей. Это, должно быть, крестьяне. А я работал у господина Балу, на Госпитальном бульваре, и зовут меня Шанматье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтоб там родиться. А оно было бы неплохо. Я думаю, что отец с матерью попросту бродяжничали по дорогам. По правде сказать, мне и самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Малышом, а теперь кличут Стариной. Вот и все мои крестные имена, хотите — верьте, хотите — нет. Я жил в Оверни, жил в Фавероле. Ну так что же из этого, черт побери! Разве нельзя жить в Оверни или в Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорю вам, я ничего не крал, я — дядюшка Шанматье. Я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне все ваши глупости, да и все тут! Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались?
Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю:
— Господин председатель, ввиду сбивчивых, но весьма искусных отпирательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему никак не удастся — об этом мы предупреждаем его заранее, — мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить в этот зал арестантов Бреве, Кошпайля и Шенильдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них допрос касательно тождества личности подсудимого с каторжником Жаном Вальжаном.
— Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, — ответил председатель, — что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание и даже город немедленно после дачи показаний. Мы дали ему разрешение на это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого.
— Совершенно верно, господин председатель, — продолжал товарищ прокурора. — И ввиду отсутствия сьёра Жавера я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этом самом зале несколько часов назад. Жавер — это человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показание: «Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть запирательство подсудимого. Я прекрасно узнал его. Этого человека зовут не Шанматье; это бывший каторжник по имени Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершил попытки к бегству. Помимо кражи у Малыша Жерве и на леваде Пьерона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства, покойного епископа диньского. В бытность мою помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я прекрасно узнал его».
Это определенное показание, видимо, произвело сильное впечатление и на публику, и на присяжных. Заканчивая свою речь, товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы ввиду отсутствия Жавера были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля — Бреве, Шенильдье и Кошпайль.
Председатель отдал приказание одному из судебных служителей, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердца; все, как один, сидели, затаив дыхание.
На бывшем каторжнике Бреве была надета черная с серым куртка — обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В той тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху Реставрации.
— Бреве, — сказал председатель, — вы подверглись позорящему вас приговору и не можете быть приведены к присяге.
Бреве опустил глаза.
— Тем не менее, — продолжал председатель, — даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я надеюсь на это, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним своим словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. Подсудимый, встаньте! Бреве, хорошенько вглядитесь в подсудимого, напрягите память и скажите, повинуясь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек — ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан.
Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям.
— Да, господин председатель. Я первый узнал его и стою на своем. Этот человек — Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в тысяча семьсот девяносто шестом году и освободился оттуда в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый вид — может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его, и у меня нет сомнений.
— Садитесь, — сказал председатель, — а вы, подсудимый, продолжайте стоять.
Ввели Шенильдье. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда нарочно ради этого дела. Это был человечек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный; вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд — выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадье.
Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенильдье вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться и спросил у него, так же как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана.
Шенильдье покатился со смеху.
— Вот тебе и раз! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротишь нос, старина?
— Садитесь, — сказал председатель.
Судебный пристав ввел Кошпайля. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенильдье, с галер и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кошпайль был не менее дик и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает вчерне, делая их дикими зверьми, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников.
Сделав попытку растрогать его несколькими патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана.
— Это Жан Вальжан, — сказал Кошпайль. — У нас его даже звали Жан Домкрат, такой это был силач.
Каждое показание этих трех людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого, — ропот, который все возрастал и становился все более длительным всякий раз, как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Что до подсудимого, то он выслушивал их с тем удивленным выражением лица, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, услышали, как он пробормотал сквозь зубы: «Вот так так! Тоже нашелся!» После второго он сказал несколько громче и почти одобрительно: «Ловко!» После третьего он вскричал: «Ну и брехун!»
Председатель обратился к нему:
— Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?
Он ответил:
— Я ведь говорю: «Ну и брехун!»
Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Очевидно было, что участь этого человека решена.
— Приставы, — сказал председатель, — водворите тишину. Я закрываю прения.
В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал:
— Бреве, Шенильдье, Кошпайль! Взгляните-ка сюда!
Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий ужас, так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди зала. Председатель, товарищ прокурора, г-н Баматабуа, еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос:
— Господин Мадлен!
Глава 11
Удивление Шанматье возрастает
Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке, в его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка, редингот его был тщательно застегнут. Он был очень бледен и слегка дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Аррас только начинали седеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь.
Все головы обратились в его сторону. Впечатление было неописуемое. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. Голос прозвучал такой мукой, но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека.
Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители двинуться с места, как человек, которого в эту минуту все называли еще господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпайлю, Бреве и Шенильдье.
— Вы не узнаете меня? — спросил он.
Все трое остолбенели от изумления и только отрицательно покачали головой. Кошпайль, оробев, отдал честь по-военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, г-н Мадлен кротко сказал им:
— Господа присяжные, прикажите освободить подсудимого. Господин председатель, прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я — Жан Вальжан.
Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое.
Лицо председателя выразило печаль и сочувствие; он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шепотом сказал несколько слов заседателям. Затем он обратился к публике и спросил тоном, который поняли все:
— Нет ли здесь врача?
Потом заговорил товарищ прокурора.
— Господа присяжные, — сказал он, — необычный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете, хотя бы понаслышке, достопочтенного господина Мадлена, мэра Монрейля-Приморского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой.
Господин Мадлен не дал товарищу прокурора договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова, которые он произнес, — слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад.
— Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большую ошибку. Отпустите на свободу этого человека, я выполняю свой долг, несчастный осужденный — это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь, и я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит всевышний, и этого для меня довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем; я разбогател, стал мэром, я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. Есть многое, о чем я не могу говорить сейчас, я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь; когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал монсеньора епископа — это правда; я обокрал Малыша Жерве — это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем, — и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа судьи, человек, так низко павший, как я, не имеет права укорять провидение или давать советы обществу; но, видите ли, позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным; каторга переделала меня. Я был тупым — я стал злым; я был поленом — я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома у меня, в камине, в куче золы вы найдете монету в сорок су, которую я украл у Малыша Жерве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О боже! Господин помощник прокурора качает головой, вы говорите: «Господин Мадлен сошел с ума». Вы не верите мне! Как это мучительно! Но по крайней мере не осуждайте этого человека! Как? Эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу!
Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах.
Он обернулся к трем каторжникам:
— А вот я вас сразу узнал! Бреве! Помните ли вы…
Он запнулся, с минуту молчал, колеблясь, потом сказал:
— Помнишь ли ты вязаные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?
Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал:
— Шенильдье или Шельмадье, как ты называешь себя, у тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы: П.К.Р.[501]. Однако они видны до сих пор. Отвечай, правда это?
— Правда, — ответил Шенильдье.
Он обратился к Кошпайлю:
— Кошпайль, на сгибе левой руки у тебя выжжена порохом синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, первое марта тысяча восемьсот пятнадцатого года. Засучи рукав.
Кошпайль засучил рукав, все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе поднес лампу; дата была видна.
Несчастный человек обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без содрогания.
То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаянья.
— Теперь вы видите, что я Жан Вальжан, — сказал он.
В этом зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; здесь были только напряженные взгляды, растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть; товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять, председатель — что он здесь для того, чтобы председательствовать, защитник — что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь: ни один вопрос не был задан, ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть может, не отдавал себе отчета в своих чувствах; никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души; но все чувствовали себя внутренне ослепленными.
Теперь уже не было сомнений в том, что перед судом стоял настоящий Жан Вальжан. Это было ясно как день.
Его появление немедленно рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны, все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию, поняли сразу и с первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности, колебания, мелкие трудности, могущие возникнуть, потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка.
Это впечатление длилось недолго, но в то мгновение оно было неотразимо.
— Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания, — продолжал Жан Вальжан. — Никто не задерживает меня, и я ухожу. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я, знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно.
Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступилась, давая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, но достоверно одно — что она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал:
— Господин товарищ прокурора, я в вашем распоряжении.
Затем он обернулся к публике:
— Вы все — все, кто находится здесь, — наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой! А я, когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал, считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось.
Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые ему услужить.
Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица, именуемого Шанматье, и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума, и ничего не понимая во всем этом бреде.
Книга VIII Удар рикошетом
Глава 1
В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы
Начало светать. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз, однако бессонница ее была полна радостных видений; под утро она заснула. Воспользовавшись этим сном, сестра Симплиция, ни на шаг не отходившая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над своими снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула — перед ней стоял г-н Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно.
— Как! Это вы, господин мэр? — воскликнула она.
Он спросил вполголоса:
— Как здоровье этой бедной женщины?
— Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядком напугала нас.
И она рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что г-н мэр уехал в Монфермейль за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать г-на мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда.
— Это хорошо, — сказал он, — вы правильно поступили, что не разуверяли ее.
— Да, господин мэр, — продолжала сестра, — но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка.
На минуту он задумался.
— Бог наставит нас, — сказал он.
— Однако нельзя же солгать, — прошептала сестра.
В комнате стало уже совсем светло. Лицо г-на Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза.
— О боже! — вскричала она. — Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели.
— Побелели? — повторил он.
У сестры Симплиции не было зеркала; она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда маленькое зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Г-н Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал: «В самом деле!»
Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо думая о другом.
От всего этого на сестру пахнуло чем-то леденящим и неведомым.
Он спросил:
— Можно мне повидать ее?
— А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком? — произнесла сестра, едва отважившись на такой вопрос.
— Непременно, но на это понадобится не менее двух или трех дней.
— Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, — робко продолжала сестра, — то она так и не узнала бы о том, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного, а когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко лжи.
Господин Мадлен задумался на несколько минут, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью:
— Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться.
Монахиня, видимо, не заметила этого «быть может», придававшего словам г-на мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос:
— Она спит, но, раз это нужно, господин мэр, войдите к ней.
Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную, затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полог. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздирающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну, щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало, словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее сейчас, никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть.
Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок; она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу.
Некоторое время г-н Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как это было два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что тогда: она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а его совсем побелели.
Сестра не вошла к Фантине вместе с ним, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании.
Вдруг она открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой:
— А Козетта?
Глава 2
Фантина счастлива
Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости; она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос: «А Козетта?» — задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что г-н Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала:
— Я знала, что вы здесь. Я спала и видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, и вас окружали фигуры ангелов.
Он поднял глаза к распятию.
— Но скажите же мне, где Козетта? — продолжала она. — Почему вы не положили ее прямо ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась.
Он бессознательно ответил ей что-то, но никогда впоследствии не мог припомнить, что именно.
К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к г-ну Мадлену.
— Голубушка, — сказал врач, — успокойтесь. Ваш ребенок здесь.
Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы.
— О, принесите же мне ее! — вскричала она.
Трогательная иллюзия матери! Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках.
— Нет еще, — возразил врач, — не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас.
Она стремительно перебила его:
— Но ведь я уже здорова, говорю вам, здорова! До чего он глуп, этот доктор! Слышите вы! Я хочу видеть моего ребенка, и все тут!
— Вот видите, как вы горячитесь, — сказал врач. — До тех пор пока вы будете вести себя так, я не разрешу вам держать возле себя вашу дочку. Недостаточно еще увидеть ребенка, надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам.
Бедная мать опустила голову.
— Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня. В прежнее время я бы не стала так разговаривать, как сейчас, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю, вы боитесь, чтобы я не взволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но, клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее; она так и стоит у меня перед глазами с самого вчерашнего вечера. Знаете что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве не понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым нарочно для меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне мою Козетту. У меня уже нет жара, я ведь выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятное здешним сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут: надо дать ей ее ребенка.
Господин Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и «быть умницей», как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, — старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она ни сдерживалась, она все же не могла не задать г-ну Мадлену тысячи вопросов:
— Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно: как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно! Она забыла меня за столько времени, бедная крошка! Дети ведь такие беспамятные. Все равно что птички. Сегодня видят одно, завтра другое и сразу все забывают. По крайней мере чистое ли было на ней белье? Аккуратно ли держали ее эти Тенардье? Как они кормили ее? О, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в дни нужды! Теперь все прошло. Я так рада! Ах, как бы мне хотелось увидеть ее! Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь, правда, она красавица? Вы, наверно, очень озябли в этом дилижансе? Скажите, неужели нельзя принести ее сюда, хотя бы на одну минуточку? А потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели…
Он взял ее за руку.
— Козетта красавица, — сказал он, — Козетта здорова, вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель.
В самом деле, приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове.
Фантина не стала возражать; она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах:
— Не правда ли, Монфермейль — это довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардье? В тех краях бывает мало народу. Это не постоялый двор, а какая-то харчевня.
Не выпуская ее руки, г-н Мадлен смотрел на нее с тревогой; очевидно было, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра.
Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины:
— Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее!
Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться.
Во дворе играл ребенок — девочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы! В какие только человеческие переживания не вторгаются иногда детские игры! Песенку этой-то девочки и услыхала Фантина.
— О! — вскричала она. — Это моя Козетта! Я узнаю ее голосок!
Ребенок исчез так же быстро, как появился; голосок умолк; Фантина прислушивалась еще некоторое время, потом лицо ее омрачилось, и г-н Мадлен услышал, как она прошептала: «Какой дурной человек этот доктор, что не позволяет мне увидеть мою дочку! У этого человека и лицо злое».
Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой: «Какие мы будем с ней счастливые! Во-первых, у нас будет небольшой садик! Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверно, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками. А я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати! Когда же она в первый раз пойдет к причастию?»
Она начала считать по пальцам.
— …Один, два, три, четыре… сейчас ей семь. Значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки, она будет похожа на маленькую женщину. О добрая моя сестрица, вы еще не знаете, до чего я глупа — я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию!
И она рассмеялась.
Он уже не держал руку Фантины. Он слушал эти слова, как слушают дуновение ветерка, опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его.
Она больше не говорила, она больше не дышала; она приподнялась на своем ложе, ее худое плечо показалось из-под спустившейся сорочки; лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно, и расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты.
— Боже мой! — вскричал он. — Что с вами, Фантина?
Она не ответила, она не отрывала глаз от того, на что смотрела; она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак взглянуть назад.
Он обернулся и увидел Жавера.
Глава 3
Жавер доволен
Вот что произошло.
Пробило половину первого ночи, когда г-н Мадлен вышел из зала аррасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монрейль-Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить Фантину.
Едва он успел покинуть зал заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от первоначального потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля-Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, должно было объясниться в свое время, и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех — публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям г-на Мадлена — другими словами, истинного Жана Вальжана — все дело в корне изменилось и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенциозных замечаний, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и т. д., и т. д.; председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу.
Однако товарищу прокурора требовался ведь какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена.
Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос «касательно нового обвиняемого, касательно особы г-на мэра города Монрейля-Приморского и касательно необходимости его задержать». Эта коллекция «касательных» принадлежит перу г-на товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было вершиться своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек незлой и довольно неглупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покоробило то, что мэр Монрейля-Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово император, а не Буонапарте.
Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрейль-Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу.
Как известно, Жавер вернулся в Монрейль-Приморский немедленно после дачи показаний.
Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного.
Нарочный тоже был из агентов полиции, человек весьма опытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил: «Полицейскому надзирателю Жаверу предписывается задержать сьёра Мадлена, мэра Монрейля-Приморского, в лице коего суд на заседании от сего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана».
Если бы при входе Жавера в переднюю больницы его увидел человек посторонний, то никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что в нем происходит, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако человек, изучивший его насквозь, внимательно присмотревшись к нему, ощутил бы трепет. Застежка его кожаного воротничка, вместо того чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение.
Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире; он был методически строг в обращении с преступниками и непреклонно суров в отношении пуговиц своей одежды.
Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок — значит, в душе его произошла такая буря, какую можно было бы назвать разве только внутренним землетрясением.
Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он без всяких околичностей явился в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают г-на мэра, указать ему, где лежит Фантина.
Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или полицейского шпика отворил дверь и вошел.
Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за его спиной.
С минуту он простоял так, не замеченный никем. Внезапно Фантина подняла глаза, увидела его и заставила обернуться г-на Мадлена.
В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хоть и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Никакому человеческому чувству не дано порой вселять такой ужас, как это дано радости.
То было лицо сатаны, который вновь обрел своего грешника.
Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся тина со дна взбаламученных вод всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след и в течение нескольких минут принимал Шанматье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознания, что он угадал истину с самого начала и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей наготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии.
Жавер в эту минуту был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою полезность и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции — в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, совесть по мерке закона, общественная кара — все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; он словно вырастал, окруженный ореолом; в его победе еще жил отзвук вызова и поединка; надменный, блистательный, он стоял, выставляя напоказ среди бела дня сверхъестественное животное начало какого-то свирепого ангела мщения; в грозной тени свершаемого им дела неясно проступал пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле.
Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.
Честность, искренность, прямодушие, убежденность, преданность долгу — это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок — заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние, зловещее, но требующее уважения. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.
Глава 4
Законная власть восстанавливает свои права
Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда г-н мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, закричала в томительной тревоге:
— Господин Мадлен, спасите меня!
Жан Вальжан — отныне мы уже не будем называть его иначе — поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине:
— Успокойтесь. Он пришел не за вами.
Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему:
— Я знаю, что вам нужно.
Жавер ответил:
— Живо! Идем!
В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то исступленное, что-то дикое. Жавер не сказал: «Живо! Идем!» Он сказал: «Живидем!» Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки; то была уже не человеческая речь, то было рычание.
На сей раз он поступил не так, как обычно: он не объявил о цели своего прихода, он не предъявил даже приказа о доставке арестованного. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал: «Живо! Идем!»
Произнеся эти слова, он не сделал ни шагу; он только метнул на Жана Вальжана тот взгляд, который он закидывал, как крюк, насильственно притягивая им к себе свои несчастные жертвы.
Этот самый взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем.
При окрике Жавера Фантина открыла глаза. Но ведь г-н мэр был здесь. Чего же ей было бояться?
Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул:
— Эй, как тебя там! Пойдешь ты или нет?
Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и г-на мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней. Она задрожала.
И вот она увидела нечто невероятное, нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду.
Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот г-на мэра; она увидела, как г-н мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир.
Жавер, действительно, взял за шиворот Жана Вальжана.
— Господин мэр! — вскричала Фантина.
Жавер разразился смехом, своим ужасным смехом, обнажавшим его зубы до десен.
— Никакого господина мэра здесь больше нет!
Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник редингота. Он сказал:
— Жавер…
— Я для тебя «господин полицейский надзиратель», — перебил его Жавер.
— Сударь, — снова начал Жан Вальжан, — мне хотелось бы сказать вам несколько слов наедине.
— Громко! Говори громко! — ответил Жавер. — Со мной не шепчутся!
Жан Вальжан продолжал, понизив голос:
— Я хочу обратиться к вам с просьбой…
— А я приказываю тебе говорить громко.
— Но этого не должен слышать никто, кроме вас…
— Какое мне дело? Я не желаю слушать!
Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил торопливо и очень тихо:
— Дайте мне три дня! Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины! Я уплачу все, что будет нужно. Вы можете меня сопровождать, если захотите.
— Да ты шутишь! — крикнул Жавер. — Право же, я не считал тебя за дурака! Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки! Ха-ха-ха! Здорово! Вот это здорово!
Фантина затрепетала.
— За моим ребенком! — вскричала она. — Поехать за моим ребенком! Значит, ее здесь нет? Сестрица, отвечайте мне: где Козетта? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!
Жавер топнул ногой.
— И эта туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка! Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями! Ну, нет! Теперь все это переменится. Давно пора!
Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник редингота Жана Вальжана:
— Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то я и держу! Вот и все!
Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки; она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из глубины груди, зубы застучали, она в отчаянье протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати и упала на грудь; рот и глаза остались открытыми, взор погас.
Она была мертва.
Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка, потом сказал Жаверу:
— Вы убили эту женщину.
— Хватит! — с яростью крикнул Жавер. — Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обойдемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то — наручники!
В углу комнаты стояла старенькая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств; Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновенье ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулам, вынул из него прут, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.
Жан Вальжан, с железным брусом в руках, медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу:
— Не советую вам мешать мне в эту минуту.
Достоверно известно одно: Жавер вздрогнул.
У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке свою палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана.
Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую Фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно только беспредельное сострадание. После нескольких минут этой задумчивости он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей.
Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно лишь одно: сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего, часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилы.
Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего дитяти; он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.
Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило какое-то непостижимое сияние.
Смерть — это переход к вечному свету.
Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан опустился на колени перед этой рукой, осторожно поднял ее и приложился к ней губами.
Потом он встал и обернулся к Жаверу.
— Теперь я в вашем распоряжении, — сказал он.
Глава 5
По мертвецу и могила
Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму.
Арест г-на Мадлена произвел в Монрейле-Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что при этих словах — бывший каторжник — почти все отвернулись от него. За какие-нибудь два часа все добро, сделанное им, было забыто и он стал только «каторжником». Правда, подробности происшествия в Аррасе еще не были известны. Целый день повсюду в городе слышались такого рода разговоры:
— Вы еще не знаете? Он каторжник, отбывший срок. — Кто это он? — Да наш мэр. — Как! Господин Мадлен? — Да. — Неужели? — Его и звали-то не Мадлен, у него какое-то жуткое имя — не то Бежан, не то Божан, не то Бужан… — Ах, бог мой! — Его посадили. — Посадили! — В тюрьму, в городскую тюрьму, покамест его не переведут. — Покамест не переведут! Так его переведут? Куда же это? — Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дороге, совершенный им в былые годы. — Ну вот! Так я и знала! Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Он отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему навстречу. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто.
Особенно возмущались им в так называемых салонах.
Одна пожилая дама, подписчица газеты «Белое знамя», высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно.
— Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам!
Так рассеялся в Монрейле-Приморском миф, называвшийся когда-то г-ном Мадленом. Только три или четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу.
Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в каморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на запоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь — сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины.
Около того часа, когда г-н Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты г-на Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. После этого она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Бедная славная старушка проделала все это совершенно бессознательно.
Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и вскричала:
— Господи Иисусе! Подумать только! А я-то повесила его ключ на гвоздик!
В эту самую минуту окно ее каморки отворилось, в отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе.
Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, заглушая готовый сорваться крик.
Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого редингота.
То был г-н Мадлен.
В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова, сердце у нее прямо «захолонуло», как выразилась она, рассказывая впоследствии о своем приключении.
— О господи, это вы, господин мэр! — вскричала она наконец. — А я-то думала, что вы…
Она запнулась, конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром.
Он докончил ее мысль.
— В тюрьме, — сказал он. — Я и был там. Я выломал железный прут в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела той бедной женщины.
Старуха поспешно повиновалась.
Он не стал предостерегать ее; он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам.
Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным.
Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату.
Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротился за свечой и снова вошел в комнату.
Эта предосторожность была не лишней; как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание.
Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи. Привратница «прибралась в комнате», но, в отличие от прочих дней, аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня.
Он взял листок бумаги, написал на нем: «Вот два железных наконечника моей палки и украденная у Малыша Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных», потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна, в которые он завернул оба серебряных подсвечника. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения, и, заворачивая подсвечники епископа, он в то же время жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им с собой при побеге.
Последнее было обнаружено по хлебным крошкам, найденным на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже.
Кто-то два раза тихо постучал в дверь.
— Войдите, — сказал он.
Вошла сестра Симплиция.
Она была бледна, глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что, до какой бы степени совершенства или черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясения этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала.
Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку со словами:
— Сестрица, передайте это нашему кюре.
Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него.
— Можете прочесть, — сказал он.
Она прочитала: «Я прошу господина кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное — бедным».
Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить:
— Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз эту несчастную страдалицу?
— Нет, — сказал он, — за мной погоня, меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой.
Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи привратницы, громко и пронзительно кричавшей:
— Клянусь господом богом, сударь, что во весь день и во весь вечер сюда не входила ни одна душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!
Мужской голос ответил:
— Однако в этой комнате горит свет.
Они узнали голос Жавера.
Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и встал в этот угол.
Сестра Симплиция упала на колени возле стола.
Дверь отворилась.
Вошел Жавер.
Из коридора послышалось перешептывание нескольких человек и заверения привратницы.
Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.
Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала.
Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге.
Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал ни возражений, ни ограничений. И разумеется, духовная власть стояла для него превыше всего: он был набожен, соблюдал обряды и был так же педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня — существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь затем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину.
Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.
Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. И вторым его побуждением было — остаться и по крайней мере отважиться на вопрос.
Перед ним была та самая сестра Симплиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней.
— Сестрица, — сказал он, — вы одна в этой комнате?
Наступила ужасная минута, бедная привратница едва не лишилась сознания.
Сестра подняла глаза и ответила:
— Да.
— Значит, — продолжал Жавер, — простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, — значит, вы не видели сегодня вечером одну личность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан?
— Нет, — ответила сестра.
Она солгала. Она солгала два раза кряду, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву.
— Прошу прощения, — сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел.
О святая девушка! Вот уже много лет, как тебя нет в этом мире; ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь!
Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства: на столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая.
Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля-Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме своей блузы. Не была ли это та самая блуза?
Еще одно слово о Фантине.
У всех нас есть одна общая мать — земля. Этой-то матери и возвратили Фантину.
Кюре считал, что хорошо поступил, — и может быть, действительно поступил хорошо, — сохранив возможно большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов, о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым — то есть общей могилой.
Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят бесплатно и где бесследно исчезают бедняки. К счастью, богу известно, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с чужим прахом. Она была брошена в общественную могилу. Ее могила была подобна ее ложу.
Часть II КОЗЕТТА
Книга I Ватерлоо
Глава 1
Что можно встретить по дороге из Нивеля
В прошлом (1861) году, солнечным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла-Гюльп. Он шел по широкому, обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа-Сеньер-Исаак. На западе уже виднелась шиферная колокольня Брен-л’Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади себя раскинувшуюся на холме рощу и на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава № 4», — кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».
Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, куда из-под мостовой арки в дорожной насыпи струился ручей. Группы не густых, но ярко-зеленых деревьев, оживлявших долину по одну сторону шоссе, разбегались с противоположной стороны по лугам и в изящном беспорядке тянулись к Брен-л’Алле.
Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымящаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась по ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоялого двора, около лужи, в которой плескалась стая уток, вела в кустарники скверно вымощенная дорожка. Туда и направился прохожий.
Пройдя около сотни шагов вдоль ограды пятнадцатого столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами, с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались вперемежку всевозможные весенние цветы. Ворота были закрыты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый заржавленный молоток.
Ярко светило солнце; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Маленькая смелая пташка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.
Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись, и появилась крестьянка.
Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.
— Сюда попало французское ядро, — сказала она. Потом добавила: — А вот здесь повыше на воротах, около гвоздя, — это след картечи, но она не пробила дерева насквозь.
— Как называется это место? — спросил прохожий.
— Гугомон, — ответила крестьянка.
Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.
Он находился на поле битвы при Ватерлоо.
Глава 2
Гугомон
Гугомон — вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон; первый неподатливый сук под ударом его топора.
Некогда это был замок, ныне — всего только ферма. Гугомон для знатока старины — «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который сделал богатый дар шестому капелланству аббатства Вилье.
Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.
Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле шестнадцатого века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят впечатление величия. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота, времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот — навозная яма, мотыги и лопаты, несколько тачек, старый колодец с каменной плитой на передней его стенке и железной вертушкой на вороте, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, шпалерное грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену этой часовни, — таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры ворошат клювами пыль. Слышится рычание большой собаки, она щерит клыки и заменяет теперь англичан.
Англичане здесь достойны были изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.
Гугомон, изображенный на карте в горизонтальном плане, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные — ворота замка, и северные — ворота фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жерома; здесь столкнулись дивизии Гильемино, Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб, Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна лишь с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не могла.
Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколоченные к двум перекладинам, и на них отчетливо видны шрамы, полученные во время атаки.
В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. Яростен был бой за этот вход. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.
Еще до сей поры ураган боя ощущается на этом дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре; это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.
Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.
Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное крыло здания — все, что осталось от Гугомонского замка. Замок послужил крепостью, часовня — блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон — из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, изо всех окон, изо всех отдушин, изо всех щелей в стенах, — притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.
В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, вся рассевшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Эта лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене, на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосягаемые ступени крепко сидят в своих гнездах. Вся остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорастать сквозь лестницу с 1815 года.
Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времени этой бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой там уцелел — грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре стены, выбеленные известкой, против престола дверь, два маленьких полукруглых окна, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама — такова эта часовня. Около аналоя прибита деревянная, пятнадцатого века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем вытесненные из нее, подожгли ее. Пламя охватило это ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию.
Стены все испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: «Henquines»[502]. А дальше: «Conde de Rio Maïor[503]. Marques у Marquesa de Almagro (Habana)»[504]. Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили друг друга.
Именно возле двери этой часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро.
Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают более воды. Почему же из него не черпают более воды? Потому что он набит скелетами.
Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.
Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют всему несчастному разбежавшемуся населению. Еще доныне сохранились ясные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места этих жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.
Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножнами сабель, заставили этого запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был приносить им пить, черпая воду из этого колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.
После сражения очень торопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, — дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф — непременное дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все. Говорят, что в ночь после погребенья из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи.
Этот колодец расположен особняком посредине двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца — вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились лишь балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой.
Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью бесформенными обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и от времени до времени из соседних рощ залетает сюда какая-нибудь пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.
Единственный жилой дом среди этих развалин — ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.
Семья, ныне живущая в этом доме, является потомством давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне: «Я была свидетельницей происходившего. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя старшая сестра боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали к земле ухом. А я повторяла за пушкой: «Бум, бум».
Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.
Вид фруктового сада ужасен.
Он состоит из трех частей, вернее сказать — из трех актов драмы. Первая часть — цветник, вторая — фруктовый сад, третья — роща. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа — строения замка и ферма, налево — плетень, направо — стена, в глубине — стена. Правая стена кирпичная, стена в глубине — каменная. Прежде всего входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной, облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.
Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.
Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение какого-нибудь часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, что стены тут и сейчас готовы ринуться в бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на различной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь на южной стене, со стороны которой велось главное наступление. Снаружи эта стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом лишь эту изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду — на английскую гвардию, на тридцать восемь орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль; и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.
Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обагрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батарея Келлермана, вся источена картечью.
Но и этот фруктовый сад, как всякий иной сад, не остается безучастным к приходу весны. И в нем распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнущим на них бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блакман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая, больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.
Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блакман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, — и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка, и, если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо!»
Глава 3
18 июня 1815 года
Возвратимся назад — это право каждого повествователя — и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.
Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужным лишь легкий дождь; достаточно было тучи, пронесшейся по небу вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира.
Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что почва размокла и необходимо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.
Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира: «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию — вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал исход их пушкой. Его гений — гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск — вот его цель; разить, разить, разить непрестанно — и это дело он доверил ядру. Устрашающая система, которая в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым этого мрачного мастера ратного дела.
18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона — двести сорок.
Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя и битва могла бы начаться в шесть утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.
Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?
Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего, дуновение которого ощущал? Перестал ли — что так важно для главнокомандующего — сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микеланджело стареть — значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон верного чутья победы? Не дошел ли он уже до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возничий судьбы просто в беспримерного сорвиголову?
Мы этого отнюдь не думаем.
Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон-Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море — вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.
Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования; к тому же она описана, и мастерски описана, Наполеоном — с одной точки зрения, и целой плеядой историков[505] — с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, сами останемся лишь отдаленным зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над этой землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему воззрений. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке — этом загадочном обвиняемом, — то мы судим его, как судит народ — этот простодушный судия.
Глава 4
«А»
Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо лишь вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая палочка этой буквы — дорога на Нивель, правая — дорога на Женап, поперечная черточка буквы А — проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен-л’Алле. Верхняя точка буквы А — Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка — Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка — Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает правую палочку буквы А, расположен Ге-Сент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва — символ высокого героизма императорской гвардии.
Треугольник, заключенный в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, — это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось все сражение.
Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Д’Эрлон стоял против Пиктона, а Рейль — против Гиля.
За вершиной буквы А, позади плато Мон-Сен-Жан, находится Суаньский лес.
Что же касается самой равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый последующий вал встает над предыдущим, а все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.
Два неприятельских войска на поле битвы — это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все: любой куст — опора, угол стены — защита; отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, вовремя пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг — все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы — побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего тщательно всматриваться во всякую группу деревьев, проверять малейший холмик.
Оба полководца внимательно изучили равнину Мон-Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. Еще за год до того Веллингтон ее исследовал с мудрой предусмотрительностью, на случай большого сражения. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались на стороне Веллингтона, худшие — на стороне Наполеона. Английская армия находилась наверху, а французская внизу.
Почти излишне изображать здесь Наполеона в утро 18 июня 1815 года, на коне, с подзорной трубой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Этот спокойный профиль под маленькой форменной шапочкой Бриеннской школы, этот зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком, по углам которого вышиты буквы N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, — весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.
Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.
Ясность истории неумолима. История таит в себе то странное и божественное свойство, что, будучи сама светом, и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, и мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца. Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, порабощенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе.
Глава 5
Quid obscurum[506] сражений
Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан — в большей степени, чем для французов.
Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. Там и сям в углублениях долины скопилась вода, словно в бассейнах; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, примятые беспорядочным потоком этих двигающихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в небольших долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.
Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.
Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге-Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего в своем тылу Папелот.
Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево — таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь еще четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон.
Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен-л’Алле, оттуда к Галю, — ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге-Сент взят приступом.
Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Эти молодые солдаты отважно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустрашимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом; новобранцы выказали здесь чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.
После взятия Ге-Сента исход битвы стал сомнительным.
В этом дне от двенадцати до четырех часов есть темный промежуток; средина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленками и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, — все это представляется рядом картин, но не рядами войск, построенных по правилам стратегии, и интересно для Сальватора Розы, но не для Грибоваля.
Во всякой битве всегда есть что-то общее с бурей. Quid obscurum, quid divinum![507] Каждый историк изображает несколько поразивших его в этой схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то, как рыхлый грунт — здесь быстрее, а там медленнее — поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Вот издержки, которые нельзя предвидеть.
Линия расположения войск колышется и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт армий колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы, людские рифы непрерывно перемещаются, одни впереди других; там, где только что была пехота, появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите — его уж нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются назад. Какой-то могильный ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает эти трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? Колебание. Устойчивость математического плана выражает лишь минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос. Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мельчает, переходя в стычку, она дробится и распыляется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, «относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основные контуры борьбы, и ни одному повествователю, каким бы добросовестным он ни был, не дано запечатлеть полностью облик той грозной тучи, имя которой — битва.
Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо.
Но все же после полудня, в известный момент, исход битвы начал определяться.
Глава 6
Четыре часа пополудни
К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль — правым крылом, Пиктон — левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Не сметь отступать!» Уже слабевший Гиль стал под защиту Веллингтона, Пиктон был убит. В ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка, французы сразили пулей в голову навылет генерала Пиктона. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге-Сент: Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге-Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых только сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражающихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев не существовало более; могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии — пятая и шестая — разгромлены.
Гугомон был обречен, Ге-Сент взят, — оставался еще один оплот, центр. Он держался непоколебимо. Веллингтон усилил его. Он туда вызвал Гиля, находившегося в Мерб-Брене, он туда вызвал Шассе, находившегося в Брен-л’Алле.
Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди — откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка шестнадцатого века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато там и сям англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была помещена в засаде, в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.
Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, был в выгодном положении.
Уязвимое место этой позиции представлял Суаньский лес, смежный в то время с полем боя и перерезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки — расстроиться, артиллерия — погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь явилось бы беспорядочным бегством.
Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, сверх того, дивизию Клинтона. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда, он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в лощине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженной прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.
Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным откосом. Но работа над этим укреплением не была завершена; не хватило времени обнести его палисадом.
Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрастный, верхом на коне, не трогаясь с места, весь день простоял чуть впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?» — «Поступать так, как я», — ответил Веллингтон. Клинтону он коротко приказал: «Держаться до последнего человека». Было очевидно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» — кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.
Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли назад. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все другое вдруг исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся, Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон.
Глава 7
Наполеон в духе
Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит богу.
«Ridet Caesar, Pompeius flebit»[508], — говорили воины легиона Fulminatrix[509]. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.
Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы, смежные с Россомом, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен-л’ Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, прибудет в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; и спутник его услышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова: «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже не были больше заодно.
Ни на секунду он не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» — говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.
В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности, бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! — воскликнул Наполеон. — Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».
Утром на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, с охапкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Вот забавная шахматная доска!»
Вследствие ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста». В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то рассказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал — сегодня». Император подсмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не до такой степени прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, то была манера Наполеона. «Он охотно шутил», — говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», — говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, скорее своеобразными, нежели остроумными», — говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполина стоят того, чтобы на них остановиться. Это он называл своих гренадер «ворчунами»; он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», — вот фраза одного из них. Во время тайного переезда с острова Эльбы во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на своей шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и сам ответил: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на подобную шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеоном несколько раз овладевал приступ смеха. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружившись перьями и положив лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.
В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, барабанной дробью, звучаньем сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, — император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»
С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия, что может показаться невероятным, успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя, по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения фронта войск в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи из двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов — д’Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон-Сен-Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, сказал: «Вот двадцать четыре прелестные девушки, генерал».
Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него саперов первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежносгь была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления: заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строящихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль».
Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Женапа в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья — в семь часов вечера — между Бель-Альянс и Ге-Сент была очень опасна; это довольно высокий пригорок, существующий еще и теперь; позади него, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг пригорка ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной — scabra rubigine. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у своего основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина, как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел сам в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины.
Теперь холмистых неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем более разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя». Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в отлогий откос по направлению к нивельской дороге, но почти отвесный со стороны женапской дороги. Высоту его можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель; слева могила англичан, справа — немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина — усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Мон-Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге-Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали нельзя было и подозревать.
Что же это был за ров? Поясним. Брен-л’Алле — одна бельгийская деревня. Оэн — другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких извилинах местности, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы, вследствие чего во многих местах превращается в овраг. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон-Сен-Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегала глубоко внизу. Оба ее откоса были срыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. На большей части протяжения эта дорога, как и когда-то, представляет собою траншею, доходящую порой до двенадцати футов глубины; слишком крутые откосы ее местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-л’Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя» и даты его гибели: «февраль 1637»[510]. Дорога настолько глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест, верхушка которого исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на скате, поросшем травою, с левой стороны дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан.
В день битвы эта дорога, на присутствие которой тогда ничего не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине крутого откоса или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, — иначе говоря, страшно опасна.
Глава 8
Император задает вопрос проводнику Лакосту
Итак, утром в день Ватерлоо Наполеон был доволен.
Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.
И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии — упорное сопротивление Гугомона и Ге-Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролегающую внизу дорогу; слишком слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи; бесполезный маневр Пирэ при Брен-л’Алле, почти полностью уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок, батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье — этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы — как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге-Сента; дивизия Марконье, зажатая между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пактом и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д’Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков; тревожное сообщение черного гусара-пруссака, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа; опоздание Груши́; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, — все эти бурные события, словно грозовые облака, проносившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык глядеть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался сложением, цифра за цифрой, прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму — победу. Пусть неудачным оказалось начало, это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» — казалось, говорил он року.
Представляя собою сочетание света и тьмы, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло — ее терпимость к себе. Он имел — или верил в то, что имеет, — на своей стороне потворство, можно почти сказать сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.
Однако тому, у кого были позади Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не надлежало бы доверять Ватерлоо. Уже зловеще хмурилось небо над его головой.
В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон-Сен-Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.
Загнать Веллингтона в Суаньский лес и там разгромить — вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.
Тогда император, обдумывая эту грозную развязку, в последний раз оглядел в подзорную трубку все поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, взирала на него снизу вверх с каким-то благоговением. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в группы деревьев, в квадраты ржи, тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально он всматривался в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев — одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, и другую — на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню Святого Николая, что на повороте дороги в Брен-л’Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности, тая коварный умысел.
Император выпрямился и задумался.
Веллингтон отступил.
Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.
Внезапно обернувшись. Наполеон спешно отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.
Наполеон был одним из гениев-громовержцев.
И вот теперь молния ударила в него самого.
Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато Мон-Сен-Жан.
Глава 9
Неожиданность
Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра-Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря — тысяча сто девяносто семь человек, и гвардейские уланы — восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре, и, развернувшись в две шеренги между женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом — кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами.
Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись.
Тогда представилось грозное зрелище.
Вся эта кавалерия, с саблями наголо, с развевающимися по ветру штандартами, с поднятыми вверх трубами, сформированная в колонны по дивизионам, единым духом, как один человек, с точностью бронзового тарана, пробивающего брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубь, поглотившую уже стольких людей, скрылась там в дыму, потом, вырвавшись из этого мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Они поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Состоя из двух дивизий, они двигались двумя колоннами: дивизия Ватье — справа, дивизия Делора — слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо.
Ничего подобного не было видано со времени взятия тяжелой кавалерией большого московского редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось, что вся эта масса людей превратилась в сказочного дива и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь разорванное местами огромное облако дыма, извивались и вздувались, как кольца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар — хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А над всем этим — кирасы, как чешуя гидры.
Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпопеях, повествовавших о полулюдях-полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человечьими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные; боги и звери одновременно.
Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, в тени скрытой батареи, английская инфантерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть — на второй, взяв ружья на изготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч лошадей, бежавших крупной рысью, попеременный и мерный стук их копыт, бряцанье сабель, звяканье кирас и какое-то могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.
Вдруг — о ужас! — налево от англичан, направо от нас, среди раздавшегося страшного вопля, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся необузданной ярости и готовые к смертоносной атаке на неприятельские каре и батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в ложбине дорога на Оэн.
Мгновение это было ужасно. Перед ними, непредвиденный, круто обрываясь вниз под самыми копытами лошадей, меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, а третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались назад, падали на круп, скользили по откосу ногами вверх, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли все уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти.
Это было началом проигрыша сражения.
Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на этой оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.
Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.
Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако, предупрежденный видом маленькой белой часовни на пересечении этой дороги с нивельским шоссе, он насторожился и спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.
Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.
Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был бог.
Победа Бонапарта при Ватерлоо не входила больше в расчеты девятнадцатого века. Подготавливался другой ряд событий, где Наполеону уже не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до того.
Пробил час падения этого необыкновенного человека.
Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Этот избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный, в конечном итоге, мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли те правила и те основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы — все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна внемлет им.
На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено.
Он мешал богу.
Ватерлоо отнюдь не битва. Это изменение облика всей вселенной.
Глава 10
Плато Мон-Сен-Жан
Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.
Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее.
Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности.
Колонна Ватье одна пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороной, влево, пришла в целости.
Кирасиры ринулись на английские каре.
Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах, с пистолетами в руках, — такова была эта атака.
В сражениях бывают минуты, когда душа человека до того ожесточается, что превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском.
Тогда наступило нечто страшное.
Весь фронт английских каре был атакован сразу. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзался, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди этих четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, а кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные лошадьми. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, никогда не видали при других битвах. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди самой массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры — не кавалерия, а ураган. Каждое каре превратилось в вулкан, атакованный тучей; лава боролась с молнией.
Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане, в глубоком спокойствии опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминавшим об Аргосе. Сабля кирасира, отсекшая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.
Кирасирам, сравнительно немногочисленным, к тому же понесшим потери при катастрофе в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.
Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди — каре, позади — Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четыреста гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую — Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться во все стороны. Но не все ли равно им было? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.
Кроме того, в тылу у них непрерывно гремела батарея. Только при таком условии эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции музея Ватерлоо.
Против таких французов могли устоять только такие же англичане.
То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра-Денуэта. Плато Мон-Сен-Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту, — вернее говоря, в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться.
Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегла на плато. Битва длилась два часа.
Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой на дороге в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»[511]
Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.
Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба они, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый?
Борьба на плато продолжалась.
Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы определить этого. Достоверно лишь одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги — на Нивель, Женап, Ла-Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из людей, поднявших труп, до сих пор проживает в Мон-Сен-Жан. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.
Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.
Кирасиры не достигли желаемой цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю.
Но поражение англичан казалось неизбежным: армия ужасающим образом истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Их нет, — отвечал Веллингтон, — пусть даст себя убить!» Почти в ту же самую минуту — и это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий — Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму? Сотворить мне ее, что ли!»
Однако английская армия была более истощена. Яростные броски этих исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк; иными батальонами командовали теперь только капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге-Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван-Клузе устилали своими трупами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не оставалось почти ни единого человека от тех голландских гренадер, которые в 1811 году в одних рядах с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. Если у французов во время атаки кирасир выбыли из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, то у англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омптеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен, и на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; у 79-го полка горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, — его впоследствии судили и разжаловали, — повернул вспять, испугавшись рукопашной схватки, и бежал Суаньским лесом, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили: «Спасите!» От Вер-Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII — в Генте. За исключением слабого резерва, построенного эшелонами позади лазарета на ферме Мон-Сен-Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, сбитые с лафетов.
Эти факты подтверждены Сиборном, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кригс-комиссар Винцент, испанский кригс-комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»
Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона.
И тут наступил перелом в этой исполинской драме.
Глава 11
Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова
Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши́, а явился Блюхер — смерть вместо жизни.
Судьба порой делает такие крутые повороты: человек рассчитывал на мировой трон, а перед ним возникает остров Св. Елены.
Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу повыше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба девятнадцатого века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым иным путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя.
Между тем один лишь час промедления (так говорит генерал Мюфлинг) — и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона: «Битва при Ватерлоо была бы проиграна».
Как явствует из всего, Блюхеру пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-ле-Мон и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель-Сен-Ламбер.
Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы эти великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь.
Еще в полдень император первый в зрительную трубу заметил на горизонте нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там вдали облако, мне кажется, это войско», — сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Сульт, что вы видите в направлении Шапель-Сен-Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зрительную трубу, ответил: «Четыре или пять тысяч человек, ваше величество. Очевидно, Груши́!» Между тем все это хранило неподвижность, утопая в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали «облако», замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство же говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона.
Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем построиться в боевом порядке; но в пять часов, при виде бедственного положения Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии».
Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетали даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве позади Наполеона.
Глава 12
Гвардия
Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловом Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерии Цитена, оттесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзело и Кио, окруженный Лобо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов, и среди этого ужасного развала — вступающая в бой гвардия.
Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики.
Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот самый момент — а было восемь часов вечера, — тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий ярко-багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило.
Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван — все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили; но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, и целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших позади плетней, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и началась беспримерная резня. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики: «Спасайся кто может!» — вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаемая все возраставшим градом снарядов, теряя все больше людей с каждым своим шагом. Тут не было ни робких, ни нерешительных. Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.
Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплющенным крестом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» — крикнул он Друэ д’Эрлону. Под этим сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хотел бы заполучить в живот все эти английские ядра!» Несчастный, ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!
Глава 13
Катастрофа
Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер.
Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно — у Гугомона, Ге-Сента, Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» раздалось: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дюрюта мечутся в замешательстве, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток — это бегство; друзья убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и рассеиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом втянуты в этот поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман — перед Ванделером, Лобо — перед Бюловом, Моран — перед Пирхом, Домон и Сюбервик — перед принцем Вильгельмом Прусским. Гийо, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!» — теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и по мертвым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса — все запружено этой обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, — царит один невообразимый ужас. Там — Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там — львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!
В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение; но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома по правую сторону дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, угрожавший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери одной женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась резней побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр-Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа, миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.
Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то все эти великие души сложили оружие. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная ни что сказать, ни что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. Hoc erat in fatis[512]. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо — это тот стержень, на котором держится девятнадцатый век. Исчезновение великого человека необходимо было для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал бог.
В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в думы, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед, — великий лунатик, влекомый этой погибшей мечтой.
Глава 14
Последнее каре
Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступающих, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого и лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие на равнине Мон-Сен-Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд.
В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон-Сен-Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине у подножия склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало бороться. Командовал им незаметный офицер по имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь на мгновение, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к этим затихающим мрачным громовым раскатам.
Когда от всего легиона осталась лишь горсть людей, когда их знамя превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял некий священный ужас перед этими полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся толпились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В сумеречной темноте они слышали, как заряжают орудия; зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам всех английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Кольвиль — по словам одних, а по словам других — Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, крикнул, взволнованный: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Merde!»
Глава 15
Камброн
Из уважения к французскому читателю это слово, быть может самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не должно повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.
На свой страх и риск мы преступим этот запрет.
Итак, среди этих исполинов был титан — Камброн.
Крикнуть это слово и затем умереть, что может быть величественнее? Ибо желать умереть — это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя.
Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это Камброн.
Поразить подобным словом гром, который вас убивает, — это значит победить!
Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Груши́, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог этой победе тем грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников — это непостижимо!
Это оскорбить молнию. В этом эсхиловское величие.
Слово Камброна подобно звуку, сопровождающему образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; это избыток смертной муки, вызвавший взрыв. Кто же победил?
Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего часа, этот никому не ведомый солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в ту минуту, когда он дошел до бешенства, ему предлагают это посмешище — жизнь. Как не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а позади этих ста тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли свои пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, — и остался один Камброн; чтобы протестовать, остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом этой величайшей и жалкой победы, перед этой победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, больше того, изнемогая под гнетом численности, силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это — значит быть победителем!
В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль нашел «Марсельезу», — это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свое свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, — этого было бы недостаточно, — он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.
В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; заклубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали недвижимо, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу агонии. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон-Сен-Жан, на промокшей от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.
Глава 16
Quot libras in duce?[513]
Сражение при Ватерлоо — загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона — это паника[514], Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснительные примечания сбивчивы. Одни запинаются, другие что-то невнятно лепечут. Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; один Шарас — хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся — уловил своим острым взглядом характерные черты этой катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослепленные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.
В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли.
Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера — значит лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных похождений меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо не более как бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном — Байрон. Нашему веку присуще широкое возникновение идей; в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их прирожденным свойством, оно вытекает из их сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в девятнадцатом веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так вздувается после грозы ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели — эти игроки — могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, и воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.
Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция.
Водружать там льва не стоило.
Впрочем, Ватерлоо — это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги — это противоположности. Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего и очной ставки более необычайной. С одной стороны — точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая предписанные правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой — интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, нечеловеческое чутье, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон — это Барем войны, Наполеон — ее Микеланджело; и на этот раз гений был побежден расчетом.
Один и другой кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Груши́ — тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера — тот прибыл.
Веллингтон — это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатишестилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея все против себя и ничего за себя, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на все объединенные силы Европы и самым нелепым образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, распылил одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Болье, за Болье Вурмсера, за Вурмсером Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.
Чтобы получить настоящего Вурмсера, было бы достаточно выбелить волосы Веллингтона.
Ватерлоо — это первостепенная битва, выигранная второстепенным полководцем.
Но кем следует восхищаться в сражении при Ватерлоо — это Англией, английской твердостью, английской решимостью, английским темпераментом. Самое великолепное, что было в этой битве, — это, не во гнев ей будь сказано, сама Англия. Не ее полководец, но ее армия.
Веллингтон с поразительной неблагодарностью заявляет в своем письме к лорду Батгерсту, что его армия, армия, сражавшаяся 18 июня 1815 года, была «отвратительной армией». Что думает об этом мрачное скопище человеческих костей, зарытых на полях Ватерлоо?
Англия была слишком скромна по отношению к Веллингтону. Возвеличить подобным образом Веллингтона — это умалить Англию. Веллингтон такой же герой, как и прочие, не больше. Эти серые шотландцы, эти конные гвардейцы, эти полки Метленда и Митчела, эта пехота Пакка и Кемпта, эта кавалерия Понсонби и Сомерсета, эти горцы, играющие на волынке под картечью, эти батальоны Риландта, эти только что призванные новобранцы, едва умеющие владеть оружием, но давшие отпор испытанным рубакам Эслинга и Риволи, — вот кто велик. Веллингтон был стоек, в этом его заслуга, и мы этого не оспариваем; но самый незаметный из его пехотинцев и кавалеристов был не менее тверд, чем он. Железные солдаты стоили своего железного герцога. Что же касается нас, то все наши хвалы мы отдадим английскому солдату. Если кто и заслуживает памятника в честь победы, то это Англия. Было бы правильнее, если бы колонна Ватерлоо вместо фигуры одного человека возносила к облакам статую, символизирующую народ.
Но наши слова возмутят эту великую Англию. Несмотря на свой 1688 и наш 1789 годы, она все еще не утратила феодальных иллюзий. Она продолжает верить в право наследования и в иерархию. Этот народ, которого никто не превзошел в могуществе и славе, уважает себя как нацию, но не как народ. Как народ он добровольно подчиняется лорду, признавая его своим господином. Как рабочий он позволяет презирать себя; как солдат он позволяет бить себя палкой.
Припомним, что после сражения при Инкермане сержант, который, как известно, спас армию, не мог быть упомянут лордом Рагланом, ибо английская военная иерархия не позволяет вносить в рапорт имена героев, не имеющих офицерского чина.
Но что всего сильнее поражает нас в сражении при Ватерлоо — это изумительное искусство, проявленное случаем. Ночной дождь, стена в Гугомоне, оэнская дорога, Груши́, не слыхавший пушечной пальбы, проводник, обманувший Наполеона, проводник, указавший правильный путь Бюлову, — все это стихийное бедствие было превосходно подготовлено и проведено.
В итоге, следует это отметить, в битве при Ватерлоо преобладала резня, а не бой.
Из всех битв, подготовленных согласно принятым правилам, Ватерлоо отличалось наименьшим протяжением фронта сравнительно с числом сражавшихся. У Наполеона три четверти мили, у Веллингтона полмили; по семьдесят две тысячи сражающихся с каждой стороны. Следствием этой тесноты и явилась резня.
Был сделан подсчет, и установлено следующее соотношение. Потеря людьми при Аустерлице: у французов четырнадцать процентов, у русских тридцать процентов, у австрийцев сорок четыре процента; при Ваграме: у французов тринадцать процентов, у австрийцев четырнадцать; под Москвой: у французов тридцать семь процентов, у русских сорок четыре; при Бауцене: у французов тринадцать процентов, у русских и пруссаков четырнадцать; при Ватерлоо: у французов пятьдесят шесть процентов, у союзников тридцать один. Общий итог потерь для Ватерлоо — сорок один процент. Сто сорок четыре тысячи сражавшихся; шестьдесят тысяч убитых.
Поле Ватерлоо ныне дышит тем покоем, который присущ земле — этой бесстрастной опоре человека, и оно похоже теперь на любую равнину.
Но по ночам встает над ней какой-то призрачный туман, и если там окажется какой-либо путник, если он вглядывается, если он вслушивается, если грезит, подобно Вергилию на мрачных Филиппских полях, то им овладевает галлюцинация, он словно присутствует при этой катастрофе. Перед ним вновь оживает страшное 18 июня: исчезает искусственный курган-памятник, пропадает лев, поле битвы вновь обретает свой настоящий облик; колышутся на равнине ряды пехоты, на горизонте стремительно проносится конница; потрясенный мечтатель видит сверкание сабель, блеск штыков, вспышки взрывающихся бомб, чудовищную перекличку громов; ему слышится хрипение в глубине могилы, смутный гул призрачной битвы. Вот эти тени — гренадеры; вон те мерцающие огоньки — кирасиры; этот скелет — Наполеон; тот скелет — Веллингтон. Все уже давно истлело, но продолжает сшибаться и бороться, и овраги обагряются кровью, и дрожат дерева, и до самых облаков вздымается неистовство битвы, и смутно возникают во мраке все эти зловещие высоты, Мон-Сен-Жан, Гугомон, Фришмон, Папелот и Плансенуа, покрытые роями истребляющих друг друга привидений.
Глава 17
Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?
Существует весьма почтенная либеральная школа, которая отнюдь не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо — лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, было полной неожиданностью.
В сущности, Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это Европа — против Франции; Петербург, Берлин, Вена — против Парижа; это status quo[515] — против дерзанья; это штурм 14 июля 1789 года путем атаки 20 марта 1815 года; это сигнал к боевым действиям монархических держав против не поддающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, — такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи предопределенной и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо — в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, а после Ватерлоо — в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол форейтора, а на шведский — сержанта, используя неравенство для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом; а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, — оратора. Фуа повержен наземь у Гугомона — и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспосабливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком — внутри государства. Ватерлоо, одним ударом покончив с мечом, разрушающим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная победа была в свою очередь побеждена свободой.
Одним словом, бесспорно лишь одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан наклонялось над Францией, словно над своей добычей, — все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи, она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.
Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы отнюдь не было преднамеренной его целью. Контрреволюция была поневоле либеральной, так же как Наполеон благодаря сходному феномену был поневоле революционером. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.
Глава 18
Восстановление священного права
Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.
Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало в варварские времена. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого — контрреволюция, не хватило дыхания, оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то Империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания; но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем — это ночь. Но когда эта ночь исчезла, казалось, наступило затмение.
Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в девятнадцатом веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз non pluribus impar[516] вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.
Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В Венсенском рву поднялась из глубины надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в тот самый месяц, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился маленький четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был заточен в тюрьму, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу пруссаку: «Пройдите здесь, а не там».
Этот 1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая и нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с 1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма. Так змеи меняют кожу.
Наполеон одновременно и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ — это пушечное мясо, так влюбленное в своего канонира, — искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», — сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он — да умер? — воскликнул солдат. — Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась какая-то огромная, зияющая пустота.
И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз!» — как было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо[517].
Перед лицом этой старинной преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда — Свобода. Молодое поколение обратило к нему свой восторженный взор. Странное явление: увлекались одновременно и этим будущим — Свободой, и этим прошедшим — Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу, а Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх этот внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала Св. Елены.
Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.
Вот что такое Ватерлоо.
Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской богоматери.
Глава 19
Поле битвы ночью
Вернемся — этого требует наша книга — на роковое поле битвы.
18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера, она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно проследить иногда это ужасное сообщничество ночи.
Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.
Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного — обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Пруссаки, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батгерсту.
Изречение «Sic vos non vobis»[518] как нельзя более удачно применимо к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жан был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено, Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.
Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть у войны своя устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть у нее, признаемся в том, и свое уродство. Одна из самых невероятных его форм — это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.
Кто совершает это? Кто подобным образом порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиною славы? Некоторые философы, в том числе и Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, говорят они, и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем — герой, ночью — вампир. Они, мол, имеют некоторое право слегка обшарить того, кого собственной рукой превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов — на это не способна одна и та же рука.
Достоверно лишь то, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, и особенно солдаты современные.
За каждой армией тянется хвост, и вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники, полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в тех сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, но никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры — весь этот сброд волочился во время похода вслед за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация не ответственны за них. Они говорили по-итальянски — и следовали за немцами; говорили по-французски — и следовали за англичанами. Именно один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, и обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на самом поле битвы при Серизоле в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» — явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж; дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.
Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали.
Зловеще светила луна над этой равниной.
Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о которых мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж.
На нем была блуза, смахивающая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался назад. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было, очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. От времени до времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться в том, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».
Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.
Внимательно вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоящей у нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л’Алле, небольшую повозку маркитанта, с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.
Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Пусть обагренная кровью лежала внизу земля, луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. В лугах ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые корой от падения, тихо покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густые кустарники. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.
Издали смутно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.
Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом на горизонте, напоминая развернутое рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.
Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге. При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце содрогается от ужаса.
Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, — и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться за что-нибудь, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»
Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сровняли дорогу с полем и лежали в уровень с краями ложбины, как плотно утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной — такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной этому месту стороны — со стороны женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.
Ночной бродяга, виденный нами мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал какой-то отвратительный смотр этим мертвецам. Он шагал по крови.
Вдруг он остановился.
В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и людских останков выступала рука, освещенная луной.
На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.
Бродяга нагнулся, присел на мгновение на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.
Собственно, он не встал, а остался на коленях, в неловкой и испуганной позе, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при свершении некоторых действий.
Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.
Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.
— Гляди-ка! — сказал он. — Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милее выходец с того света, чем жандарм.
Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.
— Вон оно что! — пробормотал бродяга. — Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!
Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок во тьме дороги если не бездыханного, то, во всяком случае, потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если это слово употребимо здесь, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.
На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.
Бродяга сорвал этот крест, исчезнувший тут же в одном из глубоких тайников его шинели.
Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.
Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.
— Спасибо, — пробормотал он слабым голосом.
Резкость движений прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.
Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышался шум шагов: вероятно, приближался какой-нибудь патруль.
— Кто выиграл сражение? — чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.
— Англичане, — ответил грабитель.
Офицер продолжал:
— Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе.
Это было уже сделано.
Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:
— Карманы пусты.
— Меня ограбили, — сказал офицер, — жаль. Это досталось бы вам.
Шаги патрульных слышались все отчетливее.
— Кто-то идет, — прошептал бродяга, собираясь встать.
Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:
— Вы спасли мне жизнь. Кто вы?
Грабитель быстро, шепотом, ответил:
— Я, как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь из беды, как знаете.
— В каком вы чине?
— Сержант.
— Ваша фамилия?
— Тенардье.
— Я не забуду ее, — сказал офицер. — А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.
Книга II Корабль «Орион»
Глава 1
Номер 24601 становится номером 9430
Жан Вальжан был опять арестован.
Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся лишь тем, что приведем здесь две краткие заметки, опубликованные газетами того времени несколько месяцев спустя после поразительного происшествия в Монрейле-Приморском.
Эти заметки несколько кратки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало «Судебной газеты».
Первую заметку мы заимствуем из газеты «Белое знамя». Она датирована 25 июля 1823 года:
«Один из округов Па-де-Кале явился ареной довольно необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад благодаря новым способам производства возобновил старинный местный промысел — выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил одновременно округ. В благодарность за его заслуги его избрали мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой вклад, превышавший полмиллиона, который он нажил, впрочем, как говорят, вполне законно, из доходов от своего производства. Узнать, куда спрятал он эти деньги, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».
Вторая заметка, несколько более подробная, взята из «Парижской газеты» от того же числа:
«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции; он переменил свое имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста от потрясения скончалась. Этот негодяй, обладающий геркулесовской силой, нашел способ бежать, но спустя три-четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между деревней Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался этими тремя-четырьмя днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот-семьсот тысяч франков. Согласно обвинительному акту, он запрятал эти деньги в таком месте, которое было известно лишь ему одному, и захватить деньги не удалось. Как бы там ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Варского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фернейский патриарх, —
Приходят из Савойи каждый год И сажею забитый дымоход Искусно в вашем доме прочищают.Этот бандит отказался от защиты. В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного прокурора было установлено, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, в бесконечном милосердии своем, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же направлен в Тулон на галеры».
Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, и среди них «Конституционалист», изобразили это смягчение приговора как торжество партии духовенства.
Жан Вальжан переменил на каторге номер. Он стал зваться номером 9430.
Чтобы уже более не возвращаться к этому вопросу, заметим, однако, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все то, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбылось; не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался тот жестокий дележ, неизбежный при жизненном крушении выдающегося человека, тот роковой распад процветающих дел, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили страну, другие оставили ремесло. Отныне все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; всюду возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал — и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания сразу сменился духом борьбы, сердечность — черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора — взаимной ненавистью. Нити, завязанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ производства подменили, продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт, заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.
Само государство заметило, что где-то кого-то не стало. Менее чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление в феврале 1827 года.
Глава 2
В которой прочтут двустишие, сочиненное, быть может, дьяволом
Прежде чем продолжить нашу повесть, будет кстати рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.
В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа — это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто почитает все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфермейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в глуши леса, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы — огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый — приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты замечаешь, что этот человек — обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, — просто-напросто торчащие у него за спиной навозные вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и умираешь в течение недели. Второй способ — наблюдать за ним, дождаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты уже умрешь в течение месяца. Наконец, третий способ — совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года.
Поскольку все три способа равно имеют свои неудобства, то второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц, но ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытают удачу, нередко, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если доверять преданию и особенно двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил зловредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Этот Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.
Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь, роешь, трудишься целую ночь (потому что это делается именно ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда наконец докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» — твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение, сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Вот обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:
Fodit, et in fossa thesauros condit opaca As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque[519].Как будто и доныне там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает ни слова, но следует принять во внимание, что Трифон жил в двенадцатом веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а карты — до Карла VI.
Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрывать ружья вам в лицо.
Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этой самой деревушке заметили, что один старый шоссейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В той местности ходили слухи, будто Башка был когда-то на каторге; он состоял под наблюдением полиции, и так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за пониженную плату на починку шоссейной дороги между Ганьи и Ланьи.
На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтительный, слишком смиренный, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Поговаривали, что он, видимо, связан с разбойничьей шайкой, его подозревали и в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяницей.
А заметили за ним вот что.
С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил в лес со своей киркой. Его встречали под вечер на самых пустынных лужайках, в самой дикой лесной чаще, где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал чужих глаз и что в его поступках кроется какая-то тайна.
В деревне говорили: «Ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает. По правде сказать, у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера». А вольнодумцы добавляли: «Еще посмотрим, кто кого надует: Башка сатану или сатана Башку». Старухи при этом усиленно крестились.
Однако блуждания Башки по лесу кончились, он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом.
Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется, — отнюдь не баснословные сокровища, упоминаемые в легенде, но какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий, несомненно, узнал. Больше всех заинтересованы были школьный учитель и трактирщик Тенардье, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с Башкой.
— Правда, он был на каторге, — говорил Тенардье. — Но, господи боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено!
Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой.
— Подвергнем его пытке вином, — сообразил Тенардье.
Приложили все старания и заставили старого бродягу пить. Башка выпил очень много, но сказал очень мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же, упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также соединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные слова, Тенардье и школьный учитель представили себе следующую картину.
Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату и кирку, «вроде как припрятанные». Но он решил, что эти лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился было. Однако вечером того же дня, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, как по дороге, ведущей в лесную глубь, шел «один человек, не из местных жителей, которого он, Башка, прекрасно знал». В переводе Тенардье это означало: товарищ по каторге. Башка наотрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес какой-то сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или маленького сундучка. Башка удивился. Однако только спустя семь-восемь минут ему пришло на ум последовать за «знакомцем». Но было уже поздно, тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. «Ночь была месячная». Спустя два или три часа Башка заметил, как тот человек выходил из кустарников, неся с собой уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, не подумав даже заговорить с ним, ибо знал, что тот втрое сильнее его, вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит и если увидит, что и его самого узнали. Трогательное излияние чувств у двух повстречавшихся старых друзей! Но лопата и кирка были для Башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но не нашел там ни того, ни другого. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, значит, в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял свои розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана. Напрасно!
Он ничего не «добыл». В Монфермейле стали забывать об этом. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли: «Уж будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял: тут наверняка объявился дьявол».
Глава 3
Из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы разбить его одним ударом молотка
В конце октября того же, 1823 года жители Тулона увидели, как после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в средиземноморской эскадре.
Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело впечатление, выйдя на рейд. На нем развевался — не вспомню уже какой — флаг, и в его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов, на которые «Орион» отвечал выстрелом на выстрел; итого двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно с правилами этикета, а также с установленным порядком на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и закате солнца, при открытии и закрытии ворот и пр., и пр., цивилизованный мир на всем земном шаре каждые двадцать четыре часа производит сто пятьдесят тысяч холостых выстрелов. Считая по шести франков каждый пушечный выстрел, это составляет девятьсот тысяч франков в день, триста миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду.
1823 год был годом, который Реставрация окрестила «эпохой Испанской войны».
Эта война заключала в себе одной много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов; о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, — иначе говоря, выполняющей долг старшинства; об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам; о господине герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами «героем Андюжара», который в позе триумфатора, идущей несколько вразрез с его безмятежным обликом, укрощал старый реальный терроризм инквизиции, схватившийся с химерическим терроризмом либералов; о воскресших, к великому ужасу знатных вдов, санкюлотах под именем descamisados[520]; о монархизме, ставящем препоны прогрессу, получившему название анархии; о внезапно прерванной подспудной деятельности теорий 89-го года; о запрете, наложенном Европой на совершающую свое кругосветное путешествие французскую мысль; о стоящем рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кариньяне — впоследствии Карле-Альберте, который принимал участие в этом крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув гренадерские красной шерсти эполеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах Империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой; о трехцветном знамени, развевающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя; о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам; об усмиренном штыками духе свободы и нововведений; о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами; о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано собственной ее мыслью. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков; о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, позор для некоторых, а славы — ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV, и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная участь: она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики.
В ней было совершено несколько смелых нападений — взятие Трокадеро является среди них одной из блестящих военных операций; но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали надтреснуто, все вместе внушало сомнение, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот ложный триумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно, к победе примешивалась мысль о лихоимстве: казалось, здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. Эта война действительно умаляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось: «Французский банк».
Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилась осажденная ими Сарагосса, в 1823 году хмурились от того, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей, и начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Баллестероса.
С точки зрения еще более серьезной, должно также подчеркнуть, что, оскорбляя во Франции дух армии, эта война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, этого сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие. Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе — это французская революция: сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» — воскликнул Бонапарт.
Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И именно Франция творила это чудовищное насилие; правда, по принуждению, ибо, исключая войны освободительные, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. «Пассивное повиновение» — вот слово, определяющее их действия. Армия представляет собою необычайный и мастерской образчик расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества вопреки человечеству.
Что же касается Бурбонов, то война 1823 года была для них роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантюр «священного права». Франция, восстановив el rey neto[521] в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, Бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легковерие губит троны. Не следует дремать ни под тенью мансенилового дерева, ни под крылом армии.
Но возвратимся к кораблю «Орион».
Во время маневров армии под командованием принца-генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что «Орион» принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт.
Появление военного корабля в гавани таит в себе какую-то притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище — величественно, а толпа любит все величественное.
Линейный корабль, борющийся со стихией, — пример одного из самых великолепных столкновений человеческого гения с могуществом природы.
Линейный корабль представляет собой сочетание частей, от самых тяжелых, какие только существуют, до самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться сразу с тремя состояниями вещества — твердым, жидким и газообразным — и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и надкрылий, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа — компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн — дерево, против скал — железо, медь и свинец, против мрака — свет, против беспредельного простора — магнитная стрелка.
Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестиэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон та огромная балка — рея; эта массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз, — грот-мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти саженям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот-мачта возвышается на двести семнадцать футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас — якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей с одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль? — спросите вы. Три тысячи кубических метров. Это настоящий плавучий лес.
Кроме того, необходимо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне; паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к этому диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В нынешнее время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собою изумительную машину под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров, и с паровым котлом в две тысячи пятьсот лошадиных сил.
Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюитера представляет собою один из величайших образцов человеческой изобретательности. Силы его так же неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью; оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятного разлива волн, оно плывет, оно царит.
Но наступает час, когда буря переламывает эту рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку, когда ветер гнет, словно тростник, эту грот-мачту вышиною в четыреста футов, когда этот якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда эти чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи.
Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкутся около этих удивительных орудий войны и мореходства.
И вот ежедневно, с утра до вечера, набережные, мол и откосы шлюза Тулонской гавани были усеяны толпами праздношатающихся и «зевак», как говорят в Париже, у которых только и было дела, что глазеть на «Орион».
Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои раковин, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить эти раковины, и затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепления подводной части. Вблизи Балеарских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на гальюне, а также повредил руслени фок-мачты. Вследствие этих повреждений «Орион» и возвратился в Тулонскую гавань.
Он бросил якорь около Арсенала. Судно снаряжали и чинили. Со стороны штирборта корпус корабля поврежден не был, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух.
Однажды утром толпа, глазевшая на корабль, оказалась свидетельницей несчастного случая.
Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой, который должен был взять верхний угол грот-марселя на штирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной Арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, и человек повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним, на головокружительной глубине, расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в праще.
Помочь ему — значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос — все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки — не отважился на это. Тем временем несчастный марсовой начал уставать; разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было нельзя, но по всем его движениям ясно было, что силы его иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждое усилие, которое он делал, чтобы подтянуться вверх, только усиливало колебание снасти. Он не кричал, опасаясь утратить остаток сил. Все ожидали, что он вот-вот выпустит веревку, и иногда отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жердь, ветка дерева олицетворяют собою жизнь, и страшно наблюдать, как отделяется от них живое существо и падает наподобие спелого плода.
Вдруг все заметили человека, карабкавшегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде — значит, каторжник; на нем была зеленая шапка — значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову; человек этот не был молод.
Действительно, один из каторжников, посланных из острога работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру и, среди смятения и суматохи экипажа, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. В ту минуту никто не заметил, с какой легкостью была разбита эта цепь. Об этом вспомнили лишь впоследствии.
В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось, взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую он захватил с собою, другой же оставил висеть свободным, затем начал на руках скользить по этой веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога: вместо одного человека теперь над бездной висели двое.
Казалось, паук готовился схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова, все испытывают тот же трепет, у всех одинаково сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных.
Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя: еще минута, и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул к себе наверх матроса. С минуту он подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рее до эзельгофта, а оттуда до марса, где передал на руки товарищей.
Толпа принялась рукоплескать; некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали, женщины на набережной обнимались, слышен был единодушный, звучавший какой-то яростью умиления крик: «Помиловать его!»
А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все взоры устремились на него. Было мгновение, когда толпу охватил страх: то ли от усталости, то ли по причине головокружения, но он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа испустила громкий вопль — каторжник упал в море.
Падение это грозило ему гибелью. Фрегат «Альжезирас» стоял на якоре возле «Ориона», и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека поспешно бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их, всех снова охватила тревога. Человек не выплывал. Он канул в море, не возмутив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лот, ныряли. Тщетно! Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли.
На следующий день в тулонской газете появилась заметка: «17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавшей на борту «Ориона», спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части Арсенала. В тюремных списках человек этот числился под № 9430, имя его — Жан Вальжан».
Книга III Исполнение обещания, данного умершей
Глава 1
Вопрос о водоснабжении в Монфермейле
Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Ныне это довольно большое торговое местечко, украшенное выбеленными виллами, а по воскресным дням — и жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это была затерянная в лесах деревенька. Правда, там и сям в ней попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был только деревенькой. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхающие на даче стряпчие еще не набрели на нее. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели сельский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как местечко находилось на возвышенности.
За ней приходилось идти довольно далеко. Конец деревни, который поближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из небольшого родника на склоне косогора, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.
Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе и хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды одному старичку, который занимался ремеслом водовоза в Монфермейле и этим зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.
Это и было постоянным источником ужаса для несчастного создания, которое читатель, быть может, не забыл, — для маленькой Козетты. Вспомните, что держать Козетту было выгодно для супругов Тенардье по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной только мысли о том, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.
Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно оживленно. В первую половину зимы погода стояла мягкая: не было еще ни морозов, ни снегопада. Приехавшие из Парижа фокусники получили от мэра разрешение поставить свои балаганы на главной улице села, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопеков, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоялые дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю жизни в эту глухую, спокойную деревушку. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу Caracara Polyborus; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Несколько бравых старых солдат-бонапартистов, живших на покое в деревушке, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что такая трехцветная кокарда — исключительный феномен, созданный господом богом специально для их зверинца.
В рождественский сочельник несколько возчиков и странствующих торговцев сидели вокруг стола, на котором горело четыре или пять свечей, в низкой зале харчевни Тенардье. Эта зала ничем не отличалась от залы любого кабачка: столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики, мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору среди горожан предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из узорчатой белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в ярко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике.
Кроме разговоров политических, главной темой которых были война в Испании и господин герцог Ангулемский, среди громкого гомона слышались замечания, имевшие чисто местный интерес, вроде:
— Вон сколько выжали вина кругом Нантера и Сюрена, — кто считал, что получит бочек десять, получил все двенадцать. Из-под давила ручьями текло. — Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? — В этих местах не к чему ждать, пока он поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. — Стало быть, это совсем слабое вино? — У них вина еще послабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.
И т. д.
Потом слышались выкрики мельника:
— Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается пропасть мелких зерен, копаться с ними нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набито гвоздей. Посудите сами, сколько скверной трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы в этом не виноваты.
В простенке между окнами косарь, сидевший за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:
— Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна, сударь. Но все одно, трава эта ваша молоденькая да неподатливая пока что. Уж очень нежна, так и клонится под косой.
И т. д.
Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. Одетая в лохмотья, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для маленьких девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и болтовня звонких детских голосов: то были Эпонина и Азельма.
В углу, возле печи, на гвозде висела плеть.
Порой пронзительный плач ребенка, находившегося где-то в доме, врывался в шум харчевни. Это кричал маленький сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, — говорила она, — вероятно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». — «А ну его! Надоел он мне!» — отвечала мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.
Глава 2
Два законченных портрета
До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.
Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Г-жа Тенардье приближалась к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женой было полное соответствие возраста.
Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с нею сохранил еще некоторое воспоминание об этой высокой, белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, огромной и подвижной супруге Тенардье. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она одна делала все по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала — одним словом, была и грозой, и ясным днем, и домовым этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта, мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке голоса Тенардье: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был настоящий крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой самым странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Эта Тенардье являлась как бы сочетанием рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали: «Это жандарм»; заметив, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик»; увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали: «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.
Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий и тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал отменным здоровьем, — с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он рисовался тем, что пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его пьяным. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой — старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и материалиста. Чтобы придать вес своим словам, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как это ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Подобного рода разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один, против эскадрона гусар смерти, прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить стену дома блистательной вывеской, а окрестному люду — прозвать его харчевню «кабачком сержанта при Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В деревне толковали, что он когда-то готовился в священники.
Мы же полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии каким-нибудь фламандцем из Лилля, в Париже — французом, в Брюсселе — бельгийцем и чувствовал себя в своей тарелке как по эту, так и по ту сторону границы. Его подвиг при Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитрые уловки, рискованные предприятия составляли содержание его жизни; нечистая совесть влечет за собой неупорядоченное существование. Не лишено вероятности, что в бурное время 18 июня 1815 года Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, разъезжая повсюду, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей — муж, жена и дети — в какой-нибудь хромоногой тележке за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.
Эти «деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, не представляли все же собою настолько значительных средств, чтобы обеспечить надолго этого солдатских вин раздатчика, превратившегося в кабатчика.
В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он крестился. Он был краснобай и выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них иногда орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.
Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владеющий собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид — наихудший; ему свойственно лицемерие.
Это не означает, что при случае Тенардье не был способен прийти в такую же ярость, как и его жена, хотя бывало это с ним редко. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!
Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурить глаза в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем.
Всякий входящий в первый раз в харчевню, глядя на жену Тенардье, говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И тем и другим был ее супруг. Она исполняла, он придумывал. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда только знака, и мастодонт повиновался. Для жены Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если б и возникло у нее какое-либо разногласие с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, недопустимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не перечила ему. Она никогда не совершала той ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя единодушие их конечной целью имело одно лишь зло, но в покорности жены Тенардье своему мужу таилось какое-то благоговейное поклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; некоторые формы уродства имеют право существовать даже в самых недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные — она чувствовала лишь его когти.
Эта женщина была ужасным существом; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина — тот был поглощен только одной мыслью: разбогатеть.
Однако ему это не удавалось. Для такого великого таланта, каким он был, не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо прокормиться.
Само собою разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в ограниченном смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.
В 1823 году Тенардье имел около полутора тысяч франков неотложного долга, и это очень его тревожило.
Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа тех людей, которые прекрасно понимали, в самом глубоком и современном значении этого слова, то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных — предметом торговли, — иначе говоря, гостеприимство. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся меткостью своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.
Порой у него вырывались, словно вспышками света, исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, — толковал он ей однажды яростным шепотом, — уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»
Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, — омерзительный и ужасный союз.
В то время как муж раздумывал и соображал, жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, а жадно жила настоящей минутой.
Таковы были эти два существа. Козетта, находясь между ними, испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по-своему: Козетту избивали до полусмерти — в этом виновата была жена; она ходила зимой босая — в этом виноват был муж.
Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была тщедушна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней; свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой запуталась и билась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ самого рабства. Это была муха в услужении у пауков.
Бедный ребенок терпел все и молчал.
Что же происходит в этих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, такие беззащитные, такие маленькие, оказываются среди подобных людей?
Глава 3
Людям вино, а лошадям вода
Приехали еще четыре новых путешественника.
Козетта погрузилась в печальные размышления; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.
Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»
Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, как на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была та жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же было мгновение, когда девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и открыла кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.
— Вот тебе и на! — проговорила хозяйка. — Воды больше нет! — и помолчала.
Девочка затаила дыхание.
— Ба! — продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. — Хватит и этого.
Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа еще чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.
Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.
Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую пору без фонаря только кошке по двору шататься». И, слыша это, Козетта дрожала от страха.
Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубо крикнул:
— Почему моя лошадь не поена?
— Как не поена? Ее поили, — ответила Тенардье.
— А я вам говорю нет, хозяйка! — возразил торговец.
Козетта вылезла из-под стола.
— О сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.
Это была неправда. Козетта лгала.
— Вот тоже выискалась, сама от горшка два вершка, а наврала с целую гору! — воскликнул торговец. — Говорю тебе, мерзавка, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки отлично знаю.
Козетта настаивала на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:
— Пила, даже вволю пила.
— Хватит! — гневно возразил торговец. — Ничего не пила. Сейчас же дать ей воды, и дело с концом!
Козетта залезла обратно под стол.
— Что верно, то верно, — сказала трактирщица, — если скотина не поена, то ее следует напоить.
Она огляделась по сторонам:
— А где же другая скотина?
Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, в противоположном его конце, почти под самыми ногами посетителей.
— Ну-ка вылезай! — крикнула она.
Козетта выползла из своего убежища.
— Ты, собачье отродье! Ступай напои лошадь!
— Но, сударыня, — робко возразила Козетта, — ведь больше нет воды.
Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:
— Так беги принеси. Ну, живо!
Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.
Ведро было больше ее самой, девочка могла бы свободно поместиться в нем.
Трактирщица снова стала к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, отведала ее и проворчала:
— Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не отцедила.
Пошарив в ящике стола, где валялись вперемешку мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:
— На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су.
На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в этот карман.
С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.
— Ну, пошла живей! — крикнула трактирщица.
Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.
Глава 4
На сцене появляется кукла
Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Все будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на предстоявшую полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светилась на небе.
Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, мелкими стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной настолько богатой или расточительной матери, чтобы купить эту куклу своему ребенку. Эпонина и Азельма часами любовались ею, и даже Козетта, правда украдкой, нет-нет да и взглядывала на нее.
Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Вся лавочка казалась ей дворцом, а кукла — сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в каком-то призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такой «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала: «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаз от волшебной лавки. Чем больше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Она вообразила, что видит рай. Позади большой куклы сидели еще куклы, поменьше; и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим господом богом.
Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.
— Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! — кричала Тенардье, которая, выглянув в окно, увидела застывшую в восхищении Козетту.
Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.
Глава 5
Малютка одна
Харчевня Тенардье находилась в той части деревни, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.
Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопеков и вблизи церкви, ее путь освещали огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ею стало овладевать какое-то волнение, поэтому она на ходу изо всей силы громыхала дужкой ведра. Этот шум разгонял ее одиночество.
Чем дальше она продвигалась, тем гуще становился мрак. На улицах не было ни души. Все же ей встретилась одна женщина, которая, поравнявшись с ней, пробормотала сквозь зубы: «Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?» Потом, всмотревшись, женщина узнала Козетту. «Гляди-ка! — сказала она. — Да это Жаворонок!»
Таким образом, Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, которыми заканчивается местечко Монфермейль со стороны Шеля. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. От времени до времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи — то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Однако по мере того как она подвигалась вперед, она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как свойственно напуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная и пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услыхала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! — воскликнула она. — Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.
Но едва сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь представилась ей тетка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди — призрак хозяйки, позади — все духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из деревни она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, продолжала она свой путь.
Она бежала бегом, еле сдерживая рыданья.
Ночной шум леса охватил ее со всех сторон. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны всеобъемлющий мрак; с другой — пылинка.
От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала, так как ходила по ней несколько раз в день. Странное дело, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидать что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарниках. Так она дошла до родника.
Это было узкое природное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», и выложенное несколькими большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.
Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к этому роднику. Нащупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее утроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву.
Сделав это, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось тотчас же вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей ей надо было отдохнуть. Она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.
Козетта закрыла глаза, затем открыла их вновь, не понимая почему, но не в силах сделать иначе. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.
Над ее головой небо было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими дымные полотнища. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.
Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, которая пугала ее. Планета действительно в эту минуту стояла очень низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Чудилось, то была пламенеющая рана.
Холодный ветер дул с равнины. Мрачен был лес, не шелестели в нем листья, и не брезжил там тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Сухой вереск, гонимый ветром, быстро пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.
От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью один не проходит по лесу без страха. Тени и деревья — два опасных сгустка темноты. Призрачная действительность возникает в смутной глуби. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве — или в собственном мозгу — проплывает нечто смутное и неуловимое, словно грезы задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно, и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи — отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное покачивание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, — против всего этого чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребенка.
Леса — обители тайны и ужаса, и трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.
Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает этот безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что, наверно, она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.
Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как закоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею — бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была боязнь перед хозяйкой, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватилась обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.
Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелым, она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватилась за дужку. На этот раз она шла дольше, но пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понурив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; от времени до времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из ведра, обливала ее голые ножки. Это происходило в глубине леса, зимней ночью, вдали от людского взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это раздирающее душу зрелище.
Видела это, конечно, и мать ее, увы!
Ибо в мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.
Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания сжимали ей горло, но плакать она не смела, так сильно боялась она своей хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.
Однако, идя очень медленно, она мало подвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время своих стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться в Монфермейль, и что Тенардье опять прибьет ее. Эта тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Достигнув знакомого ей старого каштанового дерева, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, и, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»
В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взялся за дужку ведра, которое она несла.
Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.
Ребенок не испугался.
Глава 6
Которая, быть может, доказывает сообразительность Башки
После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитал самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.
В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.
Как по своей одежде, так и по всему своему облику он воплощал тот тип, который можно назвать благородным нищим. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью — довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто столь беден и столь полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток редингот из грубого темно-желтого сукна — этот цвет не казался в те времена слишком странным, — закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, по морщинистому лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, сквозившей во всех движениях, ему не дали бы и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он нес маленький сверток, завязанный в носовой платок, а правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно отделана и не казалась слишком грубой: сучки были обрублены, а набалдашник сделан из красного сургуча — под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.
Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек, без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.
В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы и стенные. Они говорили: «Уже два часа — вон король возвращается в Тюильри».
И одни выбегали навстречу, другие отходили в сторону, ибо проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило даже известное впечатление. Это было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; не в силах ходить, он хотел мчаться; этот хромой человек охотно бы взнуздал молнию. Он проезжал, спокойный и суровый, среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди лишь мельком успевали заглянуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, крепкое, румяное лицо, свеженапудренные волосы с взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисающей на штатское платье, орден Золотого руна, крест Святого Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Св. Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, надевал ее, редко отвечая на приветствия. Холодно глядел он на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то весь успех, который он там стяжал, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».
Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.
Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не подозревал об этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д’Авре его заметить. В этот день герцог д’Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству: «Вот довольно подозрительная личность». Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и так как уж начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции, графа Англеса.
Сбив с толку полицейского, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но не раз еще оглядывался, желая убедиться, что за ним никто не следует. В четверть пятого, то есть когда уже стало совсем темно, он проходил мимо театра Порт-Сен-Мартен, где в этот день давали пьесу «Два каторжника». Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо, поразила его: хотя он и шел торопливо, однако остановился прочитать ее. Спустя мгновение он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана.
Пешеход спросил:
— Есть свободное место?
— Только одно, рядом со мной, на козлах, — ответил кучер.
— Я беру его.
— Садитесь.
Но прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал плату вперед.
— Вы едете до Ланьи? — спросил кучер.
— Да, — ответил человек.
Он уплатил за проезд до Ланьи.
Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать своих лошадей.
Он закутался в свой плащ. Было холодно. Но пассажир, казалось, не замечал ничего. Таким образом проехали Гурне и Нельи-на-Марне.
Около шести часов вечера подъехали к Шелю. Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.
— Я сойду здесь, — сказал пассажир.
Он взял свой сверток и палку и соскочил с дилижанса.
Минуту спустя он пропал из виду.
В трактир он не вошел.
Когда через некоторое время дилижанс снова тронулся в путь, держа на Ланьи, то не повстречал этого человека и на главной улице Шеля.
Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.
— Этот человек не здешний, я не знаю его, — сказал он. — У него такой вид, точно он без гроша в кармане, а между тем он не скаредничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты в домах, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе как сквозь землю провалился.
Но человек не провалился сквозь землю, а торопливо шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, как будто он очень хорошо знал его окрестности и уже не раз бывал здесь.
Он быстро пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, окаймленное деревьями шоссе, ведущее из Ганьи в Ланьи, он услыхал шаги прохожих. Поспешив укрыться во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Лишь две или три звезды светились на небе.
Именно в этом месте и начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял направо, пересек поля и быстрым шагом дошел до леса.
Оказавшись в лесу, он замедлил шаги и стал внимательно присматриваться к каждому дереву, медленно подвигаясь вперед, словно искал что-то, и держался таинственной, ему одному известной дороги. Было мгновение, когда ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался он до прогалины, где лежала груда больших, белевших в темноте камней. Поспешно подойдя к ним, он окинул их внимательным взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к этому дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.
Против дерева — это был ясень — рос каштан, болевший отпаданием коры. К нему взамен повязки была прибита полоска цинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до этой цинковой полоски.
Затем он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрытой.
Сделав это, он осмотрелся и продолжал свой путь через лес.
Это и был тот самый человек, который только что встретился с Козеттой.
Пробираясь сквозь лесную поросль по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее вновь и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была совсем маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он тут же очутился возле нее и молча взялся за дужку ведра.
Глава 7
Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем
Козетта, как мы уже сказали, не испугалась.
Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.
— Дитя мое, твоя ноша слишком тяжела для тебя.
Козетта подняла голову и ответила:
— Да, сударь.
— Дай мне, — сказал он, — я понесу.
Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.
— Это действительно очень тяжело, — пробормотал он сквозь зубы. Потом спросил: — Сколько тебе лет, малютка?
— Восемь лет, сударь.
— И ты идешь издалека?
— От ручья, который в лесу.
— А далеко тебе еще идти?
— Добрых четверть часа.
Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:
— Значит, у тебя нет матери?
— Я не знаю, — ответила девочка. И прежде чем он успел вновь заговорить, она добавила: — Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. — И помолчав, продолжала: — Наверно, никогда и не было.
Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи ребенка, стараясь в темноте разглядеть лицо.
Худенькое и жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете неба.
— Как тебя зовут?
— Козетта.
Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял свои руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал вперед.
Спустя мгновение он спросил:
— Где ты живешь, малютка?
— В Монфермейле, — может, вы знаете, где это?
— Мы идем туда?
— Да, сударь.
Немного погодя он снова спросил:
— Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?
— Госпожа Тенардье.
Незнакомец продолжал голосом, которому силился придать равнодушие, но который, однако, странно дрожал:
— А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается?
— Она моя хозяйка, — ответил ребенок. — Она содержит постоялый двор.
— Постоялый двор? — переспросил путник. — Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.
— А мы туда идем, — ответила девочка.
Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на чувство радости и надежды, обращенное к небесам.
Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:
— Разве у госпожи Тенардье нет служанки?
— Нет, сударь.
— Разве ты у нее одна?
— Да, сударь.
Вновь наступило молчание. Потом Козетта сказала:
— Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.
— Какие маленькие девочки?
— Понина и Зельма.
Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.
— Кто же это Понина и Зельма?
— Это барышни госпожи Тенардье. Ну, просто ее дочери.
— А что же они делают?
— О! — воскликнул ребенок. — У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.
— Весь день?
— Да, сударь.
— А ты?
— А я работаю.
— Весь день?
Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:
— Да, сударь. — С минуту помолчав, Козетта добавила: — Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.
— Как же ты играешь?
— Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла их куклами. У меня есть только оловянная сабелька, вот такой длины. — И девочка показала на мизинец.
— Ею ничего нельзя резать?
— Можно, сударь, — ответила девочка, — например, салат и головы мухам.
Они дошли до деревни; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее и хранил теперь мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:
— Тут что же, ярмарка?
— Нет, сударь, это Рождество.
Когда они подходили уже к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки:
— Сударь.
— Да, дитя мое?
— Вот мы уже совсем близко от дома.
— И что же?
— Можно мне теперь у вас взять ведро?
— Зачем?
— Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.
Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.
Глава 8
Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом
Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем она постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица, держа в руке свечу.
— А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!
— Сударыня, — сказала, задрожав, Козетта, — вот господин, который хотел бы переночевать у нас.
Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой — это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, желая разглядеть вновь прибывшего.
— Это вы, сударь?
— Да, сударыня, — ответил человек, притронувшись рукой к шляпе.
Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также осмотр одежды и багажа путешественника, который бегло произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, снова сменившуюся угрюмым выражением. Она сухо произнесла:
— Входите, милейший.
«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особенное внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в подобном случае обозначает: «голь перекатная». Тогда трактирщица воскликнула:
— Ах, любезный, мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.
— Поместите меня, куда вам будет угодно — на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, — сказал путник.
— Сорок су.
— Сорок су? Ладно.
— В добрый час.
— Сорок су! — шепнул один из возчиков кабатчице. — Но ведь комната стоит только двадцать су.
— А с него сорок, — ответила она тоже шепотом. — Дешевле я не беру с бедняков.
— Правильно, — кротким голосом заметил ее муж, — пускать к себе такой народ — только портить добрую славу заведения.
Тем временем человек, положив на скамью свой узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды для своей лошади, отправился сам напоить ее. Козетта опять уселась на обычное место под кухонным столом и взялась за свое вязание.
Человек налил себе вина и, едва пригубив из стакана, с каким-то странным вниманием разглядывал ребенка.
Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливой, она была бы миловидной. Мы уже набросали в общих чертах этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез. Уголки ее рта были опущены с тем выражением привычного страданья, которое наблюдаешь у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». Огонь, освещавший Козетту в это мгновение, выдавал ее резко выступающие кости и подчеркивал ее ужасную худобу. Так как ее постоянно знобило, то у нее образовалась привычка тесно сжимать колени. Вся ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала лишь дырявая холстина; ни лоскутка шерсти. Там и сям просвечивало тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна — следы прикосновения хозяйской длани. Голые тонкие ножки покраснели от холода. Глубокие впадины над ключицами были жалостны до слез. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест — все выражало и обличало лишь одно: страх.
Козетта была вся проникнута этим страхом, он ее как бы окутывал. Страх вынуждал ее тесно прижимать к себе локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков притаился ужас.
Этот страх был так велик, что, возвратясь домой совершенно измокшей, Козетта не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько уселась за свою работу.
Взгляд этого восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные мгновения казалось, что она на пути к слабоумию или к помешательству.
Никогда, мы уже упоминали об этом, не знала она, что такое молитва, никогда не переступала порога церкви. «Разве у меня есть для этого время?» — говорила ее хозяйка.
Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.
Вдруг трактирщица воскликнула:
— Постой! А хлеб где?
Козетта, как всегда, стоило только хозяйке повысить голос, быстро вылезла из-под стола.
Она совершенно забыла об этом хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала:
— Сударыня, булочная была уже заперта.
— Надо было постучаться.
— Я стучалась, сударыня.
— Ну и что же?
— Мне не отперли.
— Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, — сказала Тенардье, — и если ты соврала, то попляшешь у меня как следует. А покамест дай-ка сюда пятнадцать су.
Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки в пятнадцать су там не было.
— Ну, — крикнула трактирщица, — ты оглохла, что ли?
Козетта вывернула карман. Пусто. Но куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.
— Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? — прохрипела Тенардье. — А может, ты вздумала их у меня украсть?
С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.
Это грозное движение вернуло Козетте силы, она закричала: «Простите! Простите! Я больше не буду!»
Тенардье сняла плеть.
В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили, играли в кости и ни на что не обращали внимания.
Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.
— Виноват, сударыня, — вмешался неизвестный, — я сейчас видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилось по полу. Не эти ли деньги?
Он тут же наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.
— Так и есть, вот она, — сказал он, выпрямляясь.
И он протянул тетке Тенардье серебряную монетку.
— Та самая! — воскликнула тетка Тенардье.
Отнюдь не «та самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»
Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчетная доверчивость.
— Ну как, вы будете ужинать? — спросила трактирщица у приезжего.
Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.
— Кто он, этот человек? — процедила она сквозь зубы. — Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову украсть деньги, валявшиеся на полу.
Тут открылась дверь, и вошли Эпонина и Азельма.
Это были две прехорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, очень миленькие, одна — с блестящими каштановыми косичками вокруг головы, другая — с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи нисколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Сверх того они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливым, но полным обожания голосом: «А, вот, наконец, и вы пожаловали!»
Притянув поочередно каждую к себе на колени, она пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила, воскликнув: «Нечего сказать, хороши!»
Девочки уселись в углу, возле очага. В руках они держали куклу, которую тормошили на все лады, укладывая ее то у одной, то у другой на коленях, и весело щебетали. От времени до времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.
Эпонина и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам всем вместе не было и двадцати четырех лет, а они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны — зависть, с другой — пренебрежение.
Кукла сестер Тенардье была совсем полинявшая, совсем старая и вся поломанная, но тем не менее она казалась Козетте восхитительной: ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, — употребляя выражение, понятное для всех детей.
Вдруг тетка Тенардье, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.
— А вот я тебя и поймала! — закричала она. — Так-то ты работаешь? Погоди, вот возьму плетку, она-то уж заставит тебя поработать!
Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.
— Сударыня, — промолвил он, улыбаясь почти робко, — чего уж там, пусть ее поиграет!
Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был подобный редингот, смел бы выражать свою волю, — этого трактирщица допустить не могла. Она резко возразила:
— Девчонка должна работать, раз она ест мой хлеб. Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.
— А что же это она делает? — спросил незнакомец мягким голосом, странно противоречившим его нищенской одежде и широким плечам носильщика.
Трактирщица снизошла до ответа:
— Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Прежние, можно сказать, все износились, и дети скоро останутся совсем босыми.
Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:
— А когда же она окончит эту пару?
— Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре, этакая лентяйка!
— И сколько могут стоить эти чулки, когда они будут готовы?
Трактирщица окинула его презрительным взглядом.
— Не меньше тридцати су.
— А уступили бы вы их за пять франков? — снова спросил человек.
— Черт возьми! — грубо засмеявшись, вскричал один возчик, слышавший этот разговор. — Пять франков? Тьфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!
Тут Тенардье решил, что пора вмешаться в разговор.
— Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы не умеем ни в чем отказывать путешественникам.
— Но денежки на стол! — резко и решительно заявила его супруга.
— Я покупаю эти чулки, — ответил незнакомец, затем, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: — И плачу за них. — Потом он повернулся к Козетте: — Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.
Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.
— И вправду, гляди-ка! — воскликнул он. — Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!
Тенардье подошел и молча положил деньги в жилетный карман.
Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.
Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:
— Сударыня, это правда? Я могу поиграть?
— Играй! — бешеным голосом ответила тетка Тенардье.
— Спасибо, сударыня, — ответила Козетта.
И в то время как ее уста благодарили хозяйку, вся ее маленькая душа возносила благодарность приезжему.
Тенардье снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:
— Кем он может быть, этот желтый человек?
— Мне приходилось встречать миллионеров, — величественно ответил Тенардье, — которые носили такие же рединготы.
Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади нее, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.
Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Они только что успешно завершили очень ответственное дело — завладели кошкой. Бросив на пол куклу, Эпонина, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье и судорожные движения. Поглощенная этой серьезной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, лишь только хочешь его запечатлеть.
— Знаешь, сестричка, эта вот кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тепленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду дама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты понемножку увидишь ее усики и удивишься. А потом ты увидишь ее ушки, а потом ты увидишь ее хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь: «О боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».
Азельма с восхищением слушала Эпонину.
Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардье подзадоривал их и вторил им.
Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпонина пеленали котенка, Козетта пеленала свою саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.
Кукла — одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов в девочке. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто — есть некто, — в этом все будущее женщины. Мечтая и болтая, заготовляя игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платьица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка — в девушку, девушка — в женщину. Первый ребенок — последняя кукла.
Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей.
Козетта сделала себе куклу из сабли.
Тем временем тетка Тенардье подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, — решила она, — может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»
Она облокотилась на стол.
— Сударь… — сказала она.
При слове «сударь» мужчина обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».
— Видите ли, сударь, — продолжала она со своей слащавой вежливостью, которая была еще неприятней, чем ее грубость, — мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я не возражаю, если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.
— Значит, это не ваш ребенок? — спросил человек.
— Бог с вами, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уже шесть месяцев, как мы напрасно пишем к ней на родину, нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.
— Вот как? — ответил человек и снова задумался.
— Хороша была эта мать, — добавила трактирщица. — Бросила собственное дитя.
В продолжение всей этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз со своей хозяйки. Но слушала она рассеянно, до нее долетали лишь обрывки фраз.
Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли свой гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда приплели Пресвятую Деву и младенца Иисуса. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась укачивать то подобие младенца в пеленках, которое соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»
После новых настояний хозяйки желтый человек, «миллионер», согласился наконец поужинать.
— Что прикажете подать, сударь?
— Хлеба и сыру, — ответил он.
«Наверно, нищий», — решила тетка Тенардье.
Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.
Вдруг Козегта умолкла: обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую девочки позабыли, занявшись кошкой, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.
Тогда она выпустила из рук запеленутую саблю, лишь наполовину удовлетворявшую ее сердце, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпонина и Азельма играли с кошкой; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, — на нее никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было столь редким для нее, что таило в себе все неистовство наслаждения.
Никто ничего не заметил, кроме проезжего, медленно поглощавшего свой скудный ужин.
Это блаженство длилось с четверть часа.
Но как осторожна ни была при этом Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выходит из тени и ярко освещена огнем очага. Эта розовая и блестящая нога, выступавшая из темноты, вдруг поразила взгляд Азельмы, которая сказала Эпонине: «Погляди-ка, сестрица!»
Обе девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!
Эпонина встала и, не выпуская кошки, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.
— Да оставь ты меня в покое. Ну, что тебе надо? — спросила мать.
— Мама, — ответила девочка, — да посмотри же!
И указала пальцем на Козетту.
А Козетта, вся охваченная восторгом, ничего не видела и ничего не слышала.
Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое вызывается сильнейшей яростью по поводу мелочей жизни и которое заслужило подобного рода женщинам прозвище «мегеры».
На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет синюю орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.
Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:
— Козетта!
Козетта так вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.
— Козетта! — повторила кабатчица.
Козетта взяла куклу и с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием, осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки, и — страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка — она заломила их. Наконец пришло то, к чему ни одно переживание дня не могло вынудить ее, — ни ее путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже мрачные, услышанные ею слова хозяйки, — пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.
Приезжий встал из-за стола.
— Что случилось? — спросил он.
— Да разве вы не видите? — воскликнула кабатчица, указывая пальцем на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.
— Ну, и что же? — снова спросил человек.
— Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! — ответила Тенардье.
— И только-то? — сказал человек. — Что ж тут такого, если она и поиграла этой куклой?
— Но она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! — продолжала кабатчица.
При этих словах рыдания Козетты усилились.
— Ты замолчишь или нет! — крикнула тетка Тенардье.
Незнакомец направился прямо к выходной двери, открыл ее и вышел.
Лишь только он скрылся, кабатчица воспользовалась его отсутствием и так ткнула под столом ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.
Дверь отворилась, человек появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую все деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:
— Возьми, это тебе.
По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел смутно разглядеть эту игрушечную лавку, так ярко освещенную плошками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.
Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с этой куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», — она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.
Она больше не плакала, не кричала, — казалось, она не осмеливалась даже дышать.
Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли истуканами. Пьяницы и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.
Тетка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое — то есть вор?»
На физиономии супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик поочередно смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновенье. Подойдя к жене, он шепнул: «Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластывайся перед этим человеком!»
Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.
— Ну что же, Козетта, — сказала Тенардье кисло-сладким голосом, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, — почему же ты не берешь свою куклу?
Тогда Козетта осмелилась выползти из своего угла.
— Козетточка, — ласково подхватил Тенардье, — господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.
Козетта глядела на волшебную куклу с чувством какого-то ужаса. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы ей вдруг сказали: «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство, как в это мгновение.
Ей казалось, что, лишь только она дотронется до куклы, раздастся удар грома.
До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.
Однако сила притяжения победила. Козетта наконец приблизилась к кукле и, повернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:
— Можно, сударыня?
Нет слов передать этот тон, одновременно отчаянный, испуганный и восхищенный.
— Понятно, можно! — ответила кабатчица. — Она твоя. Ведь господин дарит ее тебе.
— Правда, сударь? — переспросила Козетта. — Разве это правда? Она моя, эта дама?
У проезжего глаза были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в ее ручонку.
Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту язык у нее высовывался самым неумеренным образом. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.
— Я буду звать ее Катериной, — сказала она.
Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и перемешались с лентами и ярко-розовым муслиновым платьицем куклы.
— Сударыня, — спросила она, — а можно мне посадить ее на стул?
— Да, дитя мое, — ответила кабатчица.
Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.
Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.
— Играй же, Козетта, — сказал проезжий.
— О, я играю! — ответил ребенок.
Этот проезжий, этот неизвестный, которого, казалось, само провидение ниспослало Козетте, был в эту минуту тем, кого кабатчица ненавидела больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать всем поступкам мужа, но сейчас это было свыше ее сил. Поспешно отправила она дочерей спать и спросила у желтого человека «позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово уморилась», — с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта отправилась спать, унося в объятиях Катерину.
Время от времени тетка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по собственному ее выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более яростными, что не решалась произносить их громко.
— Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Хочет подарить ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваше величество», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Рехнулся он, что ли, этот непонятный старикашка?
— Ничего не рехнулся! Все это очень просто, — возразил Тенардье. — А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина — филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?
Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот ни другой не терпели возражений.
Неизвестный облокотился на стол и вновь задумался. Все прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чудак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.
Протекло несколько часов. Полуночная служба отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражники разошлись, кабак закрылся, нижняя зала опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте, в той же позе. Порой он менял только руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор как ушла Козетта, он не произнес ни слова.
Супруги Тенардье из любопытства и приличия оставались в зале. «Он всю ночь, что ли, собирается этак провести?» — ворчала Тенардье. Когда пробило два, она сдалась, заявив мужу: «Я иду спать. Делай с ним что хочешь». Супруг уселся около стола в углу, зажег свечу и принялся читать «Французский вестник».
Так прошел добрый час. Достойный трактирщик прочел по крайней мере раза три «Французский вестник» от даты газеты до имени издателя включительно. Проезжий не трогался с места.
Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек оставался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» — подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло пробудить его от дум.
Наконец Тенардье, сняв свой колпак, осторожно подошел к нему и отважился спросить:
— Не угодно ли вам, сударь, идти почивать?
Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась какая-то пышность и одновременно почтительность. Подобные слова обладают таинственным и замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.
— Да, — сказал незнакомец, — вы правы. Где ваша конюшня?
— Сударь, — усмехаясь, произнес Тенардье, — я провожу вас, сударь.
Он взял подсвечник, незнакомец взял свой сверток и палку, и Тенардье повел его в комнату первого этажа, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в форме лодки и занавески из красного коленкора.
— Это что такое? — спросил путник.
— Это наша собственная спальня, — ответил трактирщик. — Мы с супругой теперь спим в другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.
— Мне больше по душе конюшня, — резко сказал незнакомец.
Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтивого замечания.
Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно сильный огонь.
На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и померанцевых цветов.
— А это что такое? — спросил проезжий.
— Сударь, — ответил Тенардье, — это подвенечный убор моей супруги.
Незнакомец окинул этот предмет взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»
Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот жалкий домишко, чтобы открыть в нем кабак, то уже нашел эту комнату подобным образом обставленною; он купил эту мебель и сторговал померанцевые цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».
Когда путешественник обернулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.
Трактирщик удалился в свою комнату. Жена уже лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:
— Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.
— Прыткая какая! — холодно ответил Тенардье.
Больше они не обменялись ни словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.
Путешественник же, лишь только хозяин ушел, положил в угол свой сверток и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом он снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору, который вывел его на лестницу. Тут он услыхал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле какого-то трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей. Это углубление было не чем иным, как обратной стороной ступеней. Там, среди всевозможных старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.
Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.
Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.
Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. От времени до времени Козетта тяжко вздыхала, словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.
Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Проезжий вошел в нее. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые маленькие, очень беленькие кроватки. Это были кроватки Эпонины и Азельмы. Позади этих кроваток, наполовину скрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, кричавший весь вечер.
Проезжий предположил, что эта комната была смежной с комнатой супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит такой скудный огонь, если он вообще горит, и от которых веет холодом. В этом камине не было огня, в нем не было даже золы; но то, что стояло в нем, привлекло, однако, внимание путешественника. То были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Проезжий вспомнил прелестный старинный обычай детей ставить в камин в рождественский сочельник свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него какой-нибудь ослепительный подарок. Эпонина и Азельма не упустили такого случая, и каждая поставила в камин по башмачку.
Проезжий нагнулся.
Фея, то есть мать, уже побывала здесь, и в каждом башмачке блестела великолепная монета в десять су, совершенно новенькая.
Человек выпрямился и уже собирался удалиться, но заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, самое грубое, ужасное деревенское сабо, наполовину разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта, с той трогательной детской доверчивостью, которая, никогда не отчаиваясь, способна постоянно терпеть разочарования, поставила — и она тоже — свое сабо в камин.
Как божественна и трогательна была эта надежда в ребенке, который знавал одно лишь горе!
В этом сабо ничего не лежало.
Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.
Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.
Глава 9
Тенардье за делом
На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардье, сидя в нижней зале трактира за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путешественника в желтом рединготе.
Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Они не произносили ни слова. Он сосредоточенно размышлял, она же испытывала то благоговейное чувство, с которым человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним чудесное творение человеческого ума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.
Спустя добрых четверть часа, после нескольких поправок, Тенардье создал следующий шедевр:
Счет господину из № 1
Ужин — 3 фр.
Комната — 10 фр.
Свеча — 5 фр.
Топка — 4 фр.
Услуги — 1 фр.
Итого — 23 фр.
Вместо «услуги» написано было «усслуги».
— Двадцать три франка! — воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось некоторое сомнение.
Тенардье, как все великие артисты, не был, однако, удовлетворен.
— Пфа! — пыхнул он.
То было восклицание Кастльри, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.
— Ты прав, господин Тенардье, он действительно нам столько должен, — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей. — Это справедливо, но многовато. Он не захочет платить.
Тенардье засмеялся своим холодным смехом и ответил:
— Заплатит.
Этот смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось подобным тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате. Немного погодя он добавил:
— Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!
Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, отдался размышлениям.
— Кстати, — опять заговорила жена, — ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня прямо сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!
Тенардье закурил трубку и сказал между двумя затяжками:
— Ты подашь счет этому человеку.
Затем он вышел.
Только он скрылся за дверью, как в залу вошел проезжий.
Тенардье тут же показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.
Желтый человек держал в руке свою палку и сверток.
— Так рано и уже на ногах? — воскликнула кабатчица. — Разве вы покидаете нас, сударь?
Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубая физиономия выражала несвойственные ей чувства смущения и беспокойства.
Представить подобный счет человеку, похожему «точь-в-точь на нищего», казалось ей неудобным.
У проезжего был озабоченный и рассеянный вид. Он ответил:
— Да, сударыня, я ухожу.
— Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?
— Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?
Тенардье молча подала ему сложенный счет.
Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.
— Сударыня, — спросил он, — а хорошо ли идут ваши дела здесь, в Монфермейле?
— Так себе, сударь, — ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал взрыва возмущения. — Ах, сударь, — продолжала она жалобным и плаксивым тоном, — тяжелое время теперь! Вдобавок и людей-то зажиточных в нашей округе очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли, еще и эта девчонка влетает нам в копеечку!
— Какая девчонка?
— Ну, девчонка-то, помните? Козетта. Жаворонок, как ее тут в деревне прозвали.
— А-а! — протянул незнакомец.
Она продолжала:
— И дурацкие же у этих мужиков клички! Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Вы сами знаете, сударь, какие ужасные деньги дерет с нас правительство. А кроме того, у меня ведь есть свои дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка.
Тогда незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, спросил:
— А что, если бы вас освободили от нее?
— От кого? От Козетты?
— Да.
Красная и свирепая физиономия кабатчицы расплылась в омерзительной улыбке.
— О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите ее, унесите, осыпьте ее сахаром, начините трюфелями, выпейте ее, скушайте, и да благословит вас Пресвятая Дева и все святые угодники!
— Хорошо.
— Правда? Вы возьмете ее?
— Я возьму ее.
— Сейчас?
— Сейчас. Позовите ребенка.
— Козетта! — закричала Тенардье.
— А пока, — продолжал путник, — я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?
Взглянув на счет, он не мог скрыть удивления:
— Двадцать три франка! — Он посмотрел на трактирщицу и повторил: — Двадцать три франка? — В том, как произнесены были во второй раз эти три слова, скрывался оттенок, проводящий грань между восклицанием и вопросом.
У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к удару. Она ответила твердо:
— Ну да, сударь! Двадцать три франка.
Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.
— Приведите малютку, — сказал он.
В это мгновение на середину комнаты выступил сам Тенардье.
— Этот господин должен двадцать шесть су, — сказал он.
— Как двадцать шесть су? — вскричала жена.
— Двадцать су за комнату, — холодно ответил Тенардье, — и шесть су за ужин. Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать немного с господином проезжим. Оставь нас одних, жена.
Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что великий актер вступил на подмостки, и, не возразив ни слова, удалилась.
Как только они остались одни, Тенардье предложил проезжему стул. Проезжий сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло непривычно добродушное и простоватое выражение.
— Сударь, — сказал он, — послушайте, скажу вам прямо: я обожаю это дитя.
Незнакомец пристально взглянул на него.
— Какое дитя?
Тенардье продолжал:
— Смешно просто! А вот привязываешься к ним. На что мне все эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.
— Да кого же? — переспросил незнакомец.
— А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать во имя божье. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее, и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли вы, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.
Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.
— Прошу меня простить, сударь, — продолжал Тенардье, — но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека очень порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье… но мне надо знать. Вы понимаете? Предположим, я отпущу ее и пожертвую собой, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названый отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи, которые превышают наши силы. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, так ведь?
Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезным и решительным тоном:
— Господин Тенардье, отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Согласны вы? Да или нет?
Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так и Тенардье понял, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, и изучая его, словно математик. Он выслеживал его из личного расчета, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже угадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто был этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кем же он был? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы там ни было, завязав разговор с этим человеком и, уверенный в том, что тут кроется какая-то тайна, что проезжий не без умысла желает остаться в тени, он чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была проста при всей ее загадочности, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он взвесил все это в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямолинейно и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решающий момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.
— Сударь, — заявил он, — мне нужны полторы тысячи франков.
Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил их на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:
— Приведите Козетту.
Что же делала все это время Козетта?
Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка изображен был прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Она не знала, что такое золотой, она никогда их не видела, и поспешно спрятала монету в карман передника, словно украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой — неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей дар это был, однако испытывала какое-то смешанное чувство и радости, и страха. Она была довольна; еще более она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед всем этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем уже успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом размышляла об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле — таком богатом и добром. С момента встречи с этим стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытавшая счастья меньше, чем самая незаметная пташка небесная, никогда не знала, что значит жить, приютившись под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь — тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже не была одинока; кто-то стоял подле нее.
Она проворно принялась за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого накануне выпала монета в пятнадцать су, отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и, надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, неподвижная, позабыв о своей метелке, обо всем на свете, уйдя в созерцание этой звезды, блистающей в глубине ее кармашка.
В такую-то минуту и застигла ее тетка Тенардье.
По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумаком и не обругала ее.
— Козетта, — сказала она почти кротко, — иди скорее.
Спустя минуту Козетта входила в нижнюю залу.
Незнакомец взял принесенный им сверток и развязал его. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки — одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.
— Дитя мое, — сказал незнакомец, — возьми все это и пойди скорее переоденься.
День еще только занимался, когда те из жителей Монфермейля, которые начали отпирать свои двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку маленькую девочку в трауре, державшую розовую куклу. Они шли по направлению к Ливри.
Это были наш незнакомец и Козетта.
Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.
Козетта уходила. С кем? Она не ведала. Куда? Она не знала. Лишь одно ей было понятно: она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.
Бедное, кроткое существо, чье сердце до сей поры знало одно лишь горе!
Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя на небо. Свой луидор она положила в кармашек нового передника. От времени до времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею сам господь бог.
Глава 10
Кто ищет лучшего, может найти худшее
Тетка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда проезжий и Козетта ушли, то Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.
— И только-то? — удивилась она.
Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки.
Удар попал в цель.
— Ты права, конечно! — ответил он. — Я дурак! Дай-ка мне мою шляпу.
Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и поспешно вышел, но сначала ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал по указанному ему пути.
«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое, а я — болван, — рассуждал он сам с собой. — Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, — все это весьма странно; под этим скрывается немало тайн. Но уловленную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей — это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать. — Все эти мысли вихрем кружились в его голове. — Я болван», — повторял он.
Когда выходишь из Монфермейля и достигаешь поворота, образуемого дорогой, ведущей в Ливри, то далеко вперед видно, как эта дорога бежит по плато. Дойдя до этого места, Тенардье рассчитывал увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, сколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и ребенок, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил в ту же сторону.
Правда, они опередили его, но ведь ребенок идет медленно, а Тенардье шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.
Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.
— Надо было захватить с собой ружье, — пробормотал он.
Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые иногда незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя лишь наполовину. При спокойной и ровной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» — мы не говорим «быть» — честным, как принято выражаться, торговцем, порядочным гражданином. И в то же время, при иных условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам сатана в иные мгновения, сидя на корточках в каком-нибудь углу трущобы, где жил Тенардье, предавался размышлениям перед этим высочайшим образцом человеческой низости.
После минутного колебания Тенардье подумал: «Ну нет! А то они успеют скрыться!»
И он продолжал свой путь вперед быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стайку куропаток.
И в самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискосок большую прогалину, что направо от лесной дороги на Бельвю, и достиг той заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил уже такое множество догадок. Эта шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели под ним отдохнуть. Ребенок был так мал, что его не было видно, зато видна была голова куклы.
Тенардье не ошибся. Незнакомец уселся там, чтобы дать Козетте немного передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого искал.
— Прошу прощения, сударь, — проговорил он, запыхавшись, — извольте получить ваши полторы тысячи франков.
С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.
Тот взглянул на него.
— Что это значит?
Тенардье ответил почтительно:
— Сударь, это значит, что я беру Козетту обратно.
Козетта вздрогнула и прижалась к старику.
А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отделяя каждый слог:
— Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?
— Да, сударь, я беру ее. Сейчас я объясню вам, почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдавать ее вам. Видите ли, я честный человек. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. И мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы ответите мне: «Но мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно?
Человек, не отвечая, порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.
Трактирщик задрожал от радости.
«Прекрасно! — подумал он. — Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить».
Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было совершенно пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Он открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а простой клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику, сказав: «Вы правы. Прочтите».
Тенардье взял бумажку и прочел:
«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.
Господин Тенардье,
Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь с уважением
Фантина».— Вам знакома эта подпись, — добавил путник.
Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал ее.
Возражать было нечего. Он был сильно и вдвойне раздосадован: тем, что приходится отказаться от денег, на которые он рассчитывал, и тем, что был побежден.
— Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, — сказал незнакомец.
Тенардье пришлось отступать по всем правилам.
— Подпись довольно ловко подделана, — проворчал он сквозь зубы. — Ну да ладно!
Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.
— Пускай будет так, сударь, — сказал он, — поскольку вы являетесь подателем этого письма. Но надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.
Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:
— Господин Тенардье, в январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков; но в феврале вы послали ей счет на пятьсот франков; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; согласно условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается долгу тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.
Тенардье испытал то же чувство, что волк, схваченный стальными челюстями капкана.
«Что за черт этот человек!» — подумал он.
И поступил так, как поступает волк: рванулся вон из капкана. Ведь однажды его уже выручило нахальство.
— Господин-имени-которого-не-имею-чести-знать, — сказал он решительно, оставляя на этот раз в стороне вежливые свои приемы, — я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.
Незнакомец спокойно сказал:
— Идем, Козетта.
Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал свою палку, лежавшую на земле.
Тенардье отметил про себя увесистость дубинки и уединенность местности.
Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.
Они уходили все дальше. Тенардье глядел на его широкие, слегка согбенные плечи и на его внушительные кулаки.
Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, — подумал он, — пошел на охоту без ружья!»
И все же он не хотел сдаваться до конца.
— Мне надо знать, куда он пойдет, — пробормотал он. И, держась все время поодаль, последовал за ними. В руках у него оставались две вещи: насмешка — клочок бумажки с подписью «Фантина», и утешение — полторы тысячи франков.
Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понурив голову, задумчивый и грустный. Зима сделала лес сквозным, и потому Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался от них на довольно значительном расстоянии. От времени до времени человек оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в лесную поросль, среди которой им легко было скрыться.
— Тьфу ты пропасть! — воскликнул Тенардье и ускорил шаг.
Густота лесной чащи принудила его близко подойти к ним. Когда человек вошел в самую ее глубь, то обернулся. Напрасно Тенардье старался укрыться среди кустов, ему не удалось спрятаться от старика. Тот бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг человек снова оглянулся и снова заметил трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардье, был так мрачен, что тот счел «бесполезным» дальнейшее преследование. Тенардье круто повернулся домой.
Глава 11
Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею
Жан Вальжан не умер.
Упав в море, точнее бросившись туда, он был, как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принайтовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что являлось для него прибыльной специальностью. Затем Жан Вальжан, подобно всем этим несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем он направился к Гран-Вилару, около Бриансона в Верхних Альпах. То было лихорадочное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому не ведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сивриэ; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в местности, называемой Гранж-де-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Периге в Брюни, кантоне Шапель-Гонаге. Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.
Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки семи-восьми лет и подыскать себе жилье. Сделав это, он направился в Монфермейль.
Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже предпринимал в самом Монфермейле или в его окрестностях таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.
Впрочем, его считали умершим, и это еще сильнее сгущало опустившуюся на него тьму. В Париже ему попалась в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Он почувствовал себя успокоенным, почти умиротворенным, словно действительно умер.
Вечером того же дня, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он в сумерки вошел с ребенком в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет, доставивший его к эспланаде Обсерватории, где он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба, уже глубокой ночью, направились по пустынным улицам, прилегавшим к Урсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.
Для Козетты это был необычайный и полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в уединенных харчевнях хлеб и сыр, часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, и Жан Вальжан заметил это по своей руке, которую она сильнее тянула на ходу. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.
Книга IV Лачуга Горбо
Глава 1
Хозяин Горбо
Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в глухую окраину Сальпетриер, поднялся бы вдоль бульвара до Итальянской заставы, то он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, — здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, — здесь попадались городские домики и улочки. Но это не был и город — на улицах пролегали колеи, как на больших проезжих дорогах, и росла трава; это не было и село — дома были слишком высоки. Тогда что же представляла собой эта окраина, одновременно и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.
Это был старый квартал Конного рынка.
Если прохожий отваживался выйти за пределы четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался тем более миновать Малую Банкирскую улицу и, оставив вправо от себя конопляник, обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, грудами пней, опилок и щепы, на верхушке которых лаял сторожевой пес, затем длинную низкую развалившуюся стену с маленькой черной грязной дверью, покрытую мхом, который весной прорастал цветами, и далее, уже в самом глухом месте, отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, весьма мало известной. Там, вблизи завода и между двумя оградами садов, виднелась в ту пору лачуга, которая казалась с первого взгляда маленькой, словно хижина, а на самом деле была огромной, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковым своим фасадом — отсюда и обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был скрыт. Видны были только дверь и окно.
Лачуга эта была двухэтажной.
Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: тогда как дверь годилась бы разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло украшать какой-нибудь особняк.
Эта дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась непосредственно на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками той же ширины, что и сама дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен куда-то в темноту. Верхняя часть грубого проема, в котором ходила дверь, скрывалась за узкой доской с выпиленным в середине ее треугольным отверстием, служившим одновременно и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери кистью, обмакнутой в чернила, двумя мазками была изображена цифра 52, а над дверью той же кистью намалевана цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На треугольной форточке, заменяя занавеску, висели какие-то грязные тряпки.
Окно было широкое и довольно высокое, с решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако эти стекла отличались самыми разнообразными повреждениями, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни скорее служили угрозой для прохожих, чем защитой для обитателей лачуги. То там, то тут на этих жалюзи не хватало поперечных планок, их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему предназначалось быть жалюзи, превратилось в ставни.
Дверь, казавшаяся отвратительной, и это окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые пошли бы вместе, шагая бок о бок, но, прикрытые одинаковыми лохмотьями, обладали бы различной внешностью: один — напоминая профессионального попрошайку, другой — бывшего дворянина.
Лестница вела в главную, очень обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разнообразных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на каморки. Окнами они выходили на соседние пустопорожние участки. Все это темное, скучное, тусклое, печальное и унылое строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях оказывались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразную и живописную подробность такого рода жилищ составляют громадные пауки.
Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда забрасывали проходящие мимо дети.
Часть этого здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая доныне, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию в целом — не более ста лет. Для собора сто лет — юность, для жилого дома — старость. Словно людскому жилью свойственна человеческая бренность, а жилищу бога — его бессмертие.
Почтальоны называли эту лачугу номером 50–52, но в квартале она известна была как дом Горбо.
Поясним происхождение этого названия.
Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия целые коллекции анекдотов и хранящие в своей памяти, словно посаженные на булавки, самые мимолетные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле были два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар[522] — два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот случай был слишком соблазнительным, чтобы судейские писцы не сделали его поводом для зубоскальства. По всем галереям Дворца правосудия тотчас же разошлась составленная в стихах, хотя и довольно нескладных, сия пародия:
На груду папок раз ворона взобралась, Арестный лист она во рту зажала. Лиса, приятным запахом прельстясь, Из лесу прибежала И перед ней такую речь держала: «Здорово, друг!..» и т. д.Почтенные законники, смущенные плоской шуткой и уязвленные в своем достоинстве хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю. Челобитие подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош Эмон — слева, оба набожно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, встававшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил этим судейским крючкам переменить — вернее, слегка изменить их фамилии. Так, господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше, он только получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар[523], так что новая фамилия не менее подходила к нему, чем старая.
Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под № 50–52 на Госпитальном бульваре. Он же был и творцом этого огромного окна.
Вот почему лачуга называлась домом Горбо.
Напротив дома № 50–52, среди других деревьев бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший; прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, не вымощенная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и резко обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.
Застава была близко. Стена, опоясывающая Париж, еще существовала в 1823 году.
Эта застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролегала дорога, ведущая в Бисетр. Именно через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день своей казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Именно здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло обнаружить правосудие, — темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка, оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на той роковой улице Крульбарб, где Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври под раскаты грома, как в мелодраме. Еще несколько шагов, и вы подойдете к безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к этому детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к этой жалкой и позорной Гревской площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, не дерзнув ни мужественно отменить ее, ни открыто выступить ее сторонниками.
Тридцать семь лет тому назад, если не упоминать о площади Сен-Жак, которой словно предопределено было всегда внушать ужас, возможно, самым мрачным уголком на всем этом мрачном бульваре была эта столь мало привлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга № 50–52.
Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Скорбные мысли овладевали вами, вы чувствовали, что находитесь между Сальпетриер, чей высокий купол можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды которого вы находились; то есть между безумием женщины и безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись только бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих на казармы или монастыри. Повсюду бараки, строительный мусор, старые стены — черные, словно траурный покров, новые стены — белые, словно саван; повсюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в струнку постройки, длинные и холодные линии плоских фасадов и гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе — леденящее, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает сердца, как симметрия. Ибо симметрия — это скука, а скука и есть сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад, где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.
Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет день, особенно зимой, чье леденящее дыхание срывает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет в облаках луне оконце, бульвар становится вдруг страшным. Черные его линии уходят во мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает все связанные с виселицей бесчисленные предания об этом месте. В уединенности квартала, где совершено было столько преступлений, таилось что-то жуткое. Чудилось, будто в этой темноте всюду расставлены западни, смутные очертания теней внушали подозрение, а длинные четырехугольные углубления между деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.
Летом в сумерках кое-где на замшелых, старых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо выпрашивали милостыню.
Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, стремился уже тогда преобразиться. Кто хотел его видеть, должен был поспешить это сделать. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь деталь. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что вокруг этих крупных средоточий движения людей от грохота этих мощных машин, от дыхания этих чудовищных коней цивилизации, пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается, готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.
С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и омнибусов, который проносится по ним три-четыре раза в день в определенное время, оттеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, тем не менее они вполне отвечают действительности: как верно то, что в крупных городах солнце заставляет появляться дома, обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, повсюду расползаются и тянутся тротуары, даже там, где нет еще прохожих. Однажды утром, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день цивилизация добралась до улицы Урсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.
Глава 2
Гнездо совы и славки
Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.
Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, затем тщательно запер ее за собой и поднялся по лестнице, продолжая нести на руках Козетту.
Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер им другую дверь. Комната, войдя в которую он тотчас же заперся, напоминала довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу стояла топившаяся печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был маленький чулан, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил ребенка на эту кровать, что тот не проснулся.
Он высек огонь и зажег свечу — все это заранее было приготовлено на столе; затем, как и накануне, устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, почти граничившие с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, с кем она, и продолжала спать, не ведая, где она.
Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ручку этого ребенка.
Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.
То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.
Он опустился на колени перед кроватью Козетты.
Наступил день, а ребенок продолжал спать. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Вдруг тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.
— Да, сударыня! — внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. — Сейчас! Сейчас!
Она спрыгнула с кровати и со слипавшимися еще ото сна глазами протянула руки в угол комнаты.
— Боже мой! А где же моя метла? — воскликнула она.
Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.
— Ах, да! Ведь я и забыла! — сказала она. — С добрым утром, сударь.
Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей — радость и счастье.
В ногах своей постели Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она задавала тысячу вопросов Жану Вальжану. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардье? Не придет ли она за ней? и т. д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!»
Это была отвратительная конура; но Козетта чувствовала себя в ней свободной.
— Надо мне ее подмести? — спросила она наконец.
— Играй, — ответил Жан Вальжая.
Так прошел весь день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива возле этой куклы и этого человека.
Глава 3
Слившись, два несчастья дают счастье
На рассвете следующего дня Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.
Что-то неизведанное проникало в его душу.
Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он жил один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюдимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное и отдаленное воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.
Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, освободил, он ощутил, как вся душа его дрогнула. Все, что было в ней страстного и нежного, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое; ибо смутно и сладостно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.
Бедное, старое, неискушенное сердце!
Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.
Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели; Козетта зажгла зарю любви.
Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.
Сама того не замечая, изменилась и Козетта, бедная крошка! Она была так мала, когда мать покинула ее, что совсем ее не помнила. Как все дети, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, она пыталась любить. Но это ей не удавалось. Все ее оттолкнули — и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но та издохла; после этого никому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно сказать, но мы уже упоминали об этом; в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но — увы! — лишена была этой возможности. И потому с первого же дня все ее мысли и чувства стали любовью к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение сердечной радости.
Этот добрый человек даже не казался ей больше ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.
Таково действие зари, детства, юности, радости. Новизна места и жизни имела здесь немалое значение. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.
Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила эти два лишенные корней существования, столь различные по возрасту, но столь похожие по скорби. И действительно, эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана Вальжана — ребенка. Встретиться — значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно осознали, как они необходимы друг другу, и слились нерасторжимо.
Отделенные от всего мира могильной стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собою Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты.
Таким образом, таинственное ощущение, которое возникло в Козетте, когда Жан Вальжан в темноте взял ее за руку в чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью. Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли господней.
Итак, Жан Вальжан удачно выбрал свое убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.
Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, и нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живущих как напротив, так и рядом.
Нижний этаж дома № 50–52 представлял собою нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним. Отделяясь от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой перегородкой между этажами этой лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.
Старуха именовалась «главной жилицей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он выразил желание поселиться здесь с внучкой. Уплатив за шесть месяцев вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.
Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливое существование.
С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц, есть своя утренняя песенка.
Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.
Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев; она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.
Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь эта цель стала иною: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.
В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.
Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть — в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться.
Она звала его «отец», иного имени его она не знала.
Он проводил целые часы, глядя, как она одевает и раздевает куклу, и слушая ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной интереса, люди представлялись добрыми и справедливыми; он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, вся освещенная Козеттой, словно лучезарным сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.
Правда, это только наше личное мнение, но если уж говорить до конца, то мы полагаем, что Жан Вальжан, когда он полюбил Козетту, нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в Фантине, и общественное мнение, олицетворенное в лице Жавера. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь, яркое и торжествующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может, Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! В действительности он был нисколько не крепче Козетты. Он ей оказал покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок этот был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия твоих весов, о судьба!
Глава 4
Наблюдения главной жилицы
Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-либо церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, то она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею.
Козетта оказалась очень веселой девочкой.
Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.
Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую застал в первый день; только застекленную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.
Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сострадательные старушки, оглянувшись на него, подавали ему су. Жан Вальжан принимал это су и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просящего подаяние, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свои отрицательные стороны. В квартале его стали примечать и прозвали «нищим, подающим милостыню».
Старуха, «главная жилица», существо хитрое, снедаемое завистливым любопытством к ближнему, тщательно следила за Жаном Вальжаном, хотя он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красы у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та, ничего не зная, ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, что показалось любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, словно старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к этой двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда какую-то желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха с ужасом разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в сильном испуге.
Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? — подумала старуха. — Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. Эта история с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала множество толков среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель.
Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Старуха занималась хозяйством в комнате, а Козетта побежала смотреть, как пилят дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась основательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина тщательно прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, другие билеты по тысяче франков.
Кроме того, она обнаружила, что в карманах лежит множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, что она уже видела, но объемистый бумажник, большой нож и — подозрительная подробность — несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман этого редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.
Так дожили обитатели лачуги до конца зимы.
Глава 5
Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон
Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю заделанного общественного колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо него, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.
Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сильно сгорбившийся человек, как всегда, бормочет свои молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему и протянул свое подаяние. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносным, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что перед ним, при свете уличного фонаря, мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, но знакомый и грозный образ. У него было такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Оцепенев от ужаса, он отпрянул назад, не смея ни дышать, ни говорить, ни оставаться на месте, ни бежать, и глядел на нищего, который, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанную тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может, таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. У нищего был тот же рост, те же лохмотья, тот же облик, как обычно. «Ба! — подумал Жан Вальжан. — Я сумасшедший! Мне померещилось! Это невозможно!» И он вернулся домой, глубоко потрясенный.
Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицом Жавера.
Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, — это заставило бы его еще раз поднять голову.
На следующий день, при наступлении сумерек, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте. «Здравствуй, милый человек», — решительно обратился к нему Жан Вальжан, подавая су. Нищий поднял голову и жалобно произнес: «Спасибо, добрый господин». Это, несомненно, был старый псаломщик.
Жан Вальжан совершенно успокоился. «Где, черт возьми, я увидел тут Жавера? — подумал он, сам над собой подсмеиваясь. — Не начинает ли у меня портиться зрение?» Больше он об этом не думал.
Спустя несколько дней, часов около восьми вечера, Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и опять закрылась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилица, кроме него, проживающая в доме, ложилась всегда спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, возможно, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках, к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.
Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги остановились. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на своем стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ничего более, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь своей комнаты, увидел сквозь замочную скважину свет. Этот свет казался какой-то зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.
Прошло несколько мгновений, и свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал ни малейшего шума шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял сапоги.
Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать и всю ночь не мог сомкнуть глаз.
На рассвете, когда он от усталости задремал, его разбудил скрип открывавшейся двери в одной из пустовавших комнатушек в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, приложив глаз к замочной скважине, пытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его дверей. Действительно, это оказался мужчина, который на сей раз прошел мимо комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще слишком темно, чтобы можно было различить его лицо; но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера!
Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз через окно, выходившее на бульвар. Но для этого окно надо было открыть, на что он не осмелился.
Несомненно, этот человек вошел со своим ключом и как к себе домой. Но кто дал ему этот ключ? Что все это означало?
В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее проницательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя как всегда.
Подметая комнату, она сказала:
— Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?
В те времена в этом квартале восемь часов вечера уже считалось глубокой ночью.
— А ведь правда, слыхал. Кто же это был? — спросил он самым естественным тоном.
— Это новый жилец, который поселился в доме.
— А зовут его?..
— Толком не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Вроде этого, — ответила старуха.
— А кто же он, этот господин Дюмон?
Старуха взглянула на него своими пронырливыми глазками и ответила:
— Такой же рантье, как и вы.
Может быть, у нее не было никакой задней мысли, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.
Когда старуха ушла, он сложил стопкой сотню франков, хранящихся у него в шкафу, и, завернув их в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу.
При наступлении сумерек, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар из конца в конец. Нигде не было ни души. Бульвар оказался совсем пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.
Он снова поднялся к себе.
— Идем, — сказал он Козетте.
И, взяв ее за руку, он вышел из дома.
Книга V Ночная охота с немой сворой
Глава 1
Стратегические ходы
К этим страницам, а также и к другим, с которыми встретится читатель в дальнейшем, необходимо дать пояснение.
Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж — его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне уже ушел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он существовал еще. Быть может, там, куда автор поведет читателя, со словами: «Вот на такой-то улице стоял такой-то дом», — нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Самому же ему современный Париж неведом, и он пишет, видя пред собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, эти стены чужды, деревья — случайность на твоем пути, что дома, в которые не входишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, простой булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти горячо любимы тобой, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу души своей, крови своей, сердца своего ты оставил на этом булыжнике. Все эти места, которых не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и непрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.
Итак, да будет нам дозволено говорить о минувшем так, как о настоящем. Предупредив об этом читателя, мы продолжаем.
Жан Вальжан тотчас же покинул бульвар и углубился в улицы, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь назад, чтобы удостовериться, что за ним не следят.
Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. В охотничьей травле этот прием называется «ложным уходом в логово».
Стояло полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что эта теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем пустынным улочкам, смежным с улицей Поливо, за ним никто не следует.
Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сообщили какую-то пассивность ее натуре. Кроме того — и к этой присущей ей особенности нам придется еще не раз возвращаться, — она, не слишком разбираясь в них, привыкла к странностям старика и к причудам судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.
Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он сам; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Таким образом, не было у него никакой четкой мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что сам он — Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться более в лачугу Горбо. Словно поднятый из берлоги зверь, он искал какую-нибудь нору, где мог бы схорониться, пока не найдет надежного жилья.
Жан Вальжан покружил в разных направлениях по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, точно были еще в силе строгие порядки Средневековья и давался сигнал о тушении огня. Различными способами, согласно с требованиями высокой стратегии, он пробрался из Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л’Эрмит. На этих улицах имелись ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и напали на его след, то сейчас уже утеряли.
Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он пересекал улицу Понтуаз против бюро полицейского пристава, помещавшегося в доме № 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин, которые один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского бюро — их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому № 14. Шедший во главе показался ему безусловно подозрительным.
— Идем, дитя, — сказал он Козетте и поспешил покинуть улицу Понтуаз.
Он сделал круг, обогнул уже запертый по случаю позднего времени Патриарший пассаж, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и углубился в Почтовую улицу.
Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.
(Само собою разумеется, что Новая Сент-Женевьевская улица — старая улица, и по Почтовой улице разве только раз в десять лет проезжает почтовая карета. В тринадцатом столетии эта Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название — Горшечная.)
Луна ярко освещала этот перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.
И действительно, не прошло и трех минут, как они появились вновь. Теперь их было уже четверо, все высокого роста, в долгополых темных рединготах, круглых шляпах и с толстыми дубинками в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.
Они собрались кучкой на середине перекрестка, словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Жан Вальжан узнал Жавера.
Глава 2
К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки
Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, она длилась еще для этих людей. Он воспользовался их нерешительностью: это было потерянное для них время, но выигранное для него. Выйдя из-под ворот, где он притаился, он пошел вперед по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.
Он ускорил шаг.
Быстро достиг он горшечной фабрики Гобле, на фасаде которой была отчетливо видна освещенная лунным светом старинная надпись:
Здесь фабрика Гобле и сына. Прохожий, покупать спеши! Горшки, тазы, котлы, кувшины — Все предлагаем от души.Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегающим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынны. Никто не шел за ним. Он облегченно вздохнул.
Он достиг Аустерлицкого моста.
В ту пору еще взимали мостовую пошлину.
Жан Вальжан подошел к будке сборщика пошлины и протянул су.
— С вас полагается два су, — сказал ему старик инвалид. — Вы несете ребенка, который сам может ходить. Платите за двоих.
Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.
Одновременно с ним через мост проезжала большая повозка, направляясь также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрывшись в ее тени.
На середине моста у Козетты затекли ноги, и она пожелала идти сама. Он спустил ее на землю и повел за руку.
Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, необходимо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство. Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Его искали, правда, но погони за ним не было.
Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась улочка Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем войти в нее, он оглянулся.
С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.
Четыре темные тени только что появились на мосту.
Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.
Эти четыре тени были его четыре преследователя.
Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.
В нем лишь брезжила надежда, что, может быть, эти люди не успели еще взойти на мост в то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.
В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.
Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.
Глава 3
Смотри план Парижа 1727 года
Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы Y. Которую же избрать?
Не колеблясь, он выбрал правую.
Почему?
Потому, что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое — в поля, то есть в безлюдье.
Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.
Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.
От времени до времени он оглядывался назад. Он старался держаться теневой стороны прямо тянувшейся перед ним улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, немного успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он в какой-то миг заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение.
Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, проскользнув в нее, еще раз сбить преследователей со следа.
Он добежал до какой-то стены.
Эта стена, однако, нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль поперечного переулка, примыкавшего к улице, по которой шел Жан Вальжан.
Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.
Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.
Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой собой представляла. Вот где было спасение!
В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.
Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.
Жан Вальжан отпрянул назад.
Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других — преобразили. Вспаханные поля, дровяные склады и старые дома исчезли. Теперь там уж появились широкие новые улицы, площади, цирки, ипподромы, железнодорожные вокзалы, тюрьма Мазас: прогресс, как мы видим, и его исправительное средство.
Полвека тому назад, на обиходном народном языке, который весь основан на преданиях и именует Институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу — «Федо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша, Малый Пикпюс — все эти старинные названия уцелели и до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.
Малый Пикпюс, который, кстати, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощеные, улицы почти не застроенные. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни проезжающего экипажа; изредка кое-где мерцали в окнах огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где — низкие домишки и длинные, высотою с дом, ограды.
Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во времена Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал оказался окончательно погребенным под выросшими новыми зданиями. В настоящее время он не существует более. Малый Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тьери в улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена в Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по своей форме был похож на букву Y, образуемую разветвлением улицы Зеленая дорога, левая ветвь которой носила название улочки Пикпюс, а правая — улицы Полонсо. Обе ветви этой буквы Y на своих концах были соединены как бы перекладиной. Перекладина эта называлась улицей Прямой стены. Здесь заканчивалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и достигал конца улицы Полонсо, слева оказывалась улица Прямой стены, сворачивающая под прямым углом, впереди — стена этой улицы, а направо — продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, называемый тупиком Жанро.
Здесь-то и остановился Жан Вальжан.
Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу улицы Прямой стены и улочки Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Этот призрак подстерегал его.
Что делать?
Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он заметил мгновение назад и что двигалось в темноте на некотором расстоянии позади него, были, несомненно, Жавер и его помощники. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер был хорошо знаком с этим маленьким лабиринтом и принял свои меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, столь отвечавшие действительности, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим ветром, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на улочку Пикпюс: там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, залитой лунным сиянием мостовой. Идти вперед — попасть в руки этого человека. Идти назад — попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. С отчаянием взглянул он на небо.
Глава 4
В поисках спасения
Чтобы понять все дальнейшее, следует точно представить себе переулок Прямой стены и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался налево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой же виднелось лишь одно строение строгих очертаний, состоящее из нескольких особняков, которые постепенно повышались то на один, то на два этажа, по мере своего приближения к улочке Пикпюс. Таким образом, будучи очень высоким со стороны улочки Пикпюс, это здание было значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, оно очень понижалось и переходило в стену. Но стена не обрывалась на улице; она окружала сильно срезанный конец квартала, скрытая в этом месте своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой — в переулке Прямой стены.
От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома № 49, а по улице Прямой стены, где отрезок ее был много короче, — до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и боковой фасад которого она срезала, образуя новый вдававшийся вглубь угол. Этот боковой фасад выглядел угрюмо, в нем было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.
Облик местности, восстанавливаемой здесь нами с величайшей точностью, несомненно, пробудит самое живое о ней воспоминание в старожилах этого квартала.
Стену на срезанном углу целиком занимало нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкось и вкривь друг к другу, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.
В этом месте стену осеняли ветви липы, а со стороны улицы Полонсо ее обвивал плющ.
Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, это здание привлекло к себе своей мрачностью и уединенностью. Он быстро окинул его взглядом, подумав, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, возможно, он будет спасен. Вначале это было только мыслью и надеждой, но не намерением.
В средней части переднего фасада этого здания, выходившего на улицу Прямой стены, возле всех окон на всех этажах имелись старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Сотней своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листвы виноградные лозы, вьющиеся вверх по фасадам старинных ферм.
Это своеобразное шпалерное дерево с жестяными и железными сучьями было первое, что бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к уличной тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом! Но труба была расшатана, испорчена и еле держалась на стене. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже и слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. И как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?
Он отказался от намерения карабкаться вверх по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.
Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не сможет заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней мере спрятаться и провести там остаток ночи.
Время шло. Медлить было опасно.
Он быстро ощупал ворота и тут же обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.
С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их даже менее крепкими; доски в них сгнили; железные полосы — их было всего три — заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.
Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это не были ворота. На них не видно было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посредине. Соединенные друг с другом железные полосы пересекали их от края до края. Сквозь щели досок он разглядел грубо скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери — не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения. Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.
Глава 5
Что было бы немыслимо при газовом освещении
В эту минуту до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан отважился осторожно выглянуть из-за угла. Взвод солдат из семи-восьми человек выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него.
Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все пролеты дверей и проходные аллейки.
По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был какой-то ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.
Среди солдат были также два помощника Жавера.
Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату навек Козетты, — иначе говоря, жизнь, подобную пребыванию в могиле.
У него оставалась лишь одна возможность.
Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две сумы: в одной из них заключались мысли святого, в другой — опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам.
Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды, — даже до высоты шестого этажа, только изредка пользуясь выступающими в них камнями. Это было то же искусство, что стяжало столь страшную и громкую славу тому уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль.
Жан Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. В ней было приблизительно восемнадцать футов высоты. Угол, образуемый этой стеной и боковым фасадом большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника, вероятно, с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.
Эта каменная кладка была около пяти футов высоты, а в том расстоянии, которое надо было преодолеть от его верхушки до гребня стены, — не более четырнадцати футов.
Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.
Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не умела взбираться на стены. Бросить ее? Но это даже и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе было невозможно. Чтобы успешно совершить это удивительное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.
Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь, на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством, несомненно, он отдал бы его за веревку.
Крайним жизненным обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.
Отчаявшийся взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.
В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии друг от друга. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закрепленной в выемке прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась эта веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Сама же веревка помещалась в металлическом футляре.
Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок маленького шкафа и мгновение спустя вернулся к Козетте. В руках у него была веревка. В борьбе с роком они действуют стремительно, эти мрачные изобретатели отчаянных средств.
Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Таким образом, фонарь в тупике Жанро тоже не горел, и можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висел ниже обычного.
А между тем поздний час, безлюдие, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение — все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте уже давно бы громко плакал. Она же ограничилась только тем, что дернула Жана Вальжана за полу его редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.
— Отец, мне страшно! — сказала она тихонько. — Кто это там идет?
— Тише! — ответил несчастный. — Это Тенардье.
Козетта задрожала. Он добавил:
— Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардье за тобой следит, она придет и заберет тебя.
Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями — это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, — он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела Козетты под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковым фасадом дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой — перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.
Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардье ввергли ее в какое-то оцепенение.
Вдруг она услыхала, как Жан Вальжан тихонько окликнул ее:
— Прислонись к стене!
Она повиновалась.
— Не говори ни слова и не бойся, — продолжал Жан Вальжан.
И она почувствовала, что ее поднимают.
Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.
Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался до срезанного угла стены. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.
Это оказалось удачным совпадением, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.
Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, едва собрался сойти с гребня стены, как сильнейший шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовый голос Жавера:
— Обыщите тупик! За улицей Прямой стены следят, за переулком Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!
Солдаты ринулись к тупику Жанро.
Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной, или присутствие духа, но Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.
Глава 6
Начало загадки
Жан Вальжан очутился в каком-то очень большом и странном саду — в одном из тех унылых садов, которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам — купы высоких старых деревьев, а посредине — открытая полянка, на которой можно было различить огромное одиноко стоящее дерево, несколько кривых и взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестевшими в лунном свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Там и сям стояли каменные скамьи, казавшиеся черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие — покрылись зеленой плесенью.
Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, и за нею, возле самой стены, каменная статуя — ее изувеченное лицо казалось лишь смутно белевшей во мраке бесформенной маской.
Это строение представляло собой какие-то развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходившее на улицу Прямой стены и в переулок Пикпюс, обращено было двумя своими внутренними фасадами, стоявшими под прямым углом, в сад. Эти внутренние фасады выглядели еще мрачнее, чем главный. Все окна были зарешечены, нигде ни одного огонька. В верхних этажах над ними выступали навесы, как в тюрьмах. Одно крыло здания отбрасывало на другое свою тень, стлавшуюся по саду, словно огромное черное покрывало.
Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Однако можно было смутно разглядеть какие-то стены, скрещивавшиеся друг с другом, как будто за ними находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.
Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.
Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше.
Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану. Слышен был беспорядочный шум, который производил патруль, обшаривая тупик и улицу, стук прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским агентам, расставленным на посты, его проклятия вперемежку со словами, разобрать которые было трудно.
Через четверть часа этот похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан затаил дыхание.
И тихонько закрыл рукой рот Козетте.
Впрочем, уединенное место, где находились они, дышало таким необычайным спокойствием, что даже этот ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог его встревожить. Казалось, что стены здесь сложены из тех глухих камней, о которых говорит Священное писание.
Вдруг среди этой глубокой тишины возникли иные звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, настолько же сладостные, насколько прежние были ужасны. Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет молитвы и гармонии: в черном и устрашающем безмолвии ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской наивностью, — те неземные голоса, которые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвышавшегося над деревьями сада. По мере того как удалялся оглушительный шум скопища демонов, казалось, хор ангелов приближался в темноте.
Козетта и Жан Вальжан упали на колени.
Они не понимали, что происходит, не знали, где они, но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чувствовали, что надо склониться ниц.
В этих голосах было что-то странное: невзирая на них, здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было нездешнее пение в необитаемом жилище.
Пока пели эти голоса, Жан Вальжан ни о чем не думал. Он видел уже не темную ночь: он видел голубой небосвод. Ему казалось, что душа его расправляет крылья — те крылья, которые чувствует в себе каждый из нас.
Пение умолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого Жан Вальжан сказать не мог. Часы экстаза пролетают как мгновение.
Все снова погрузилось в тишину. Ни звука на улице, ни звука в саду. Что угрожало, что ободряло — все исчезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый шелест сухих травинок, колеблемых ветром.
Глава 7
Продолжение загадки
Дул прохладный ночной ветер — значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, прислонившись к нему головкой, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, и их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.
Она вся дрожала.
— Тебе хочется спать? — спросил он.
— Мне очень холодно, — ответила девочка.
Спустя мгновение она спросила:
— А она все еще здесь?
— Кто? — спросил Жан Вальжан.
— Госпожа Тенардье.
Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.
— А, вот оно что! Она уже давно ушла, — ответил он. — Не бойся ничего.
Ребенок облегченно вздохнул, словно с души его спала тяжесть.
Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял свой редингот и укутал им Козетту.
— Теперь тебе теплее? — спросил он.
— О да, отец!
— Хорошо, подожди меня минутку. Я сейчас вернусь.
Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.
Миновав внутренний угол здания, он подошел к овальным окнам, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. Все они выходили из довольно обширного, вымощенного широкими плитами и разделенного арками и колоннами зала, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет лился из ночника, горевшего в углу. Зал этот был пуст, все в нем было недвижимо. Однако, всмотревшись, он заметил на полу что-то, казалось, покрытое саваном и походившее на человеческую фигуру. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, словно в смертном покое. Возле него на полу тянулось что-то похожее на змею, и можно было подумать, что шею этой зловещей фигуры обвивала веревка.
Весь зал тонул в густом тумане, как бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более жуткий характер.
Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он в своей жизни бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в этом неведомом месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это был живой человек.
У него хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, поспевает это существо.
Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени его подгибались; он обливался потом.
Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, — здание, которое ангельскими голосами созывает души во мраке, а когда те идут на призыв, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер по улице. Это не был сон. Чтобы поверить этому, Жан Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.
Холод, волнение, тревога, переживания вечера — все это вызвало у него настоящую лихорадку, мысли его путались.
Он подошел к Козетте. Она спала.
Глава 8
Загадка усложняется
Ребенок уснул, положив голову на камень.
Жан Вальжан сел подле и начал смотреть на девочку. Глядя на нее, он постепенно успокаивался и обретал обычную гибкость мысли.
Он ясно осознавал истину, которая отныне легла в основу его жизни: до тех пор пока Козетта с ним, ничего ему не будет нужно для себя, а только для нее; ничто не вызовет в нем страха за себя, а только за нее. Он даже не ощущал, что продрог, хотя сбросил свой редингот, чтобы прикрыть ее.
Однако среди овладевшего им раздумья его слух поразил какой-то странный шум. Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада и хотя был негромким, но слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.
Звук этот заставил Жана Вальжана обернуться.
Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.
Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками дынных грядок и то наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо это хромает.
Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их выдать, а ночной темноты — потому, что она помогает застичь их врасплох. Только что его пугала пустынность сада, а сейчас — то, что в саду кто-то есть.
От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и полицейские агенты не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и тем выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, ненужной мебели. Козетта не шевельнулась.
Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди дынных гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон, когда он удалялся, то и звон удалялся; когда он делал какое-нибудь резкое движение, его сопровождало тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. По-видимому, бубенчик был привязан к этому человеку; но что же это могло означать? Кем мог быть этот человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?
Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан тронул руки Козетты. Они были как лед.
— О боже! — пробормотал он и тихо позвал ее: — Козетта!
Она не открыла глаз.
Он сильно встряхнул ее.
Она не проснулась.
«Неужели она умерла?» — подумал он и встал, дрожа с головы до ног.
Самые мрачные мысли беспорядочно закружились в его голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.
Козетта, бледная, неподвижная, лежала на земле у его ног.
Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот остановится.
Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Обезумев, выбежал он из сарая.
Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут Козетта должна быть у огня и в постели.
Глава 9
Человек с бубенчиком
Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.
Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.
— Сто франков! — крикнул он, обратившись к нему.
Человек подскочил и уставился на него.
— Вы получите сто франков, только приютите меня на сегодняшнюю ночь!
Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.
— Как! Это вы, дядюшка Мадлен? — воскликнул человек.
Это имя, произнесенное в этот ночной час, в этой незнакомой местности, этим незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.
Он был готов ко всему, но только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромой старик, одетый наподобие крестьянина. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Так как лицо его находилось в тени, то разглядеть его было невозможно.
Между тем старик снял шапку и воскликнул, трепеща от волнения:
— Ах, боже мой! Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом и не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Ведь если не знать, кто вы, то можно испугаться. Без сюртука! Владыка небесный, неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы вошли сюда?
Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим одновременно изумление и детское простодушие.
— Кто вы и что это за дом? — спросил Жан Вальжан.
— Черт возьми! Вот так история! — воскликнул старик. — Да ведь я же тот самый, кого вы сюда определили, а этот дом — тот самый, в который вы меня определили. Как, вы разве не узнаете меня?
— Нет, — ответил Жан Вальжан. — Но вы-то каким образом меня знаете?
— Вы спасли мне жизнь, — ответил человек.
Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.
— Ах, это вы! Теперь я вас узнал.
— Слава богу! Наконец-то! — с упреком проговорил старик.
— А что вы здесь делаете? — спросил Жан Вальжан.
— Как что делаю? Прикрываю дыни, конечно.
И действительно, в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть дынную грядку. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые наблюдал Жан Вальжан, сидя в сарае.
Старик продолжал:
— Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит, ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, — добавил он, глядя на Жана Вальжана с добродушной улыбкой, — право, не мешало бы тоже одеться. Но как же вы здесь очутились?
Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрошеный гость.
— А что это у вас висит за звонок?
— Этот-то? А для того, чтобы от меня убегали, — ответил Фошлеван.
— То есть как это, чтобы от вас убегали?
Старик Фошлеван подмигнул с загадочным видом.
— А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Им сдается, что встретиться со мною опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.
— А что это за дом?
— Вот тебе и на! Вы сами хорошо знаете.
— Нет, не знаю.
— Но ведь это вы определили меня сюда садовником.
— Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.
— Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.
Жан Вальжан начал понемногу вспоминать. Случай, вернее, провидение неожиданно забросило его именно в этот монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.
— Монастырь Малый Пикпюс, — повторил он про себя.
— Ну, а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? — снова спросил Фошлеван. — Пусть вы святой, вы все равно мужчина, а мужчин сюда не пускают.
— Но вы-то живете здесь?
— Только я один и живу.
— И все же мне надобно здесь остаться, — сказал Жан Вальжан.
— О господи! — вскричал Фошлеван.
Жан Вальжан подошел к старику и сказал ему серьезно:
— Дядюшка Фошлеван, я спас вам жизнь.
— Я первый вспомнил об этом, — заметил старик.
— Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что я когда-то сделал для вас.
Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими руками могучие руки Жана Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил:
— О! Это было бы милостью божьей, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!
Радостное изумление словно преобразило старика, его лицо засияло.
— Что я должен сделать? — спросил он.
— Я вам объясню. У вас есть комната?
— Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.
Действительно, домишко этот был настолько хорошо скрыт за развалинами и настолько недоступен для взгляда, что Жан Вальжан даже не заметил его.
— Хорошо, — сказал он. — Теперь исполните мои две просьбы.
— Какие, господин мэр?
— Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.
— Как вам угодно. Я знаю, что вы не можете сделать ничего нечестного и что вы всегда были божьим человеком. А к тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это ваше дело. Я весь ваш.
— Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.
— А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? — пробормотал Фошлеван.
Он больше ничего не сказал и последовал за Жаном Вальжаном, как собака за своим хозяином.
Спустя полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситный хлеб и поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено рукой, старик сказал:
— Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они помнят о вас. Вы — неблагодарный человек!
Глава 10
В которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку
События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.
Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник должен был направиться в Париж. Париж — водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глуби океана. Нет чащи, которая надежней укрыла бы человека, чем толпа. Это известно беглецам всякого вида. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она там и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он действительно оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность в этом деле были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Поэтому господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, теперь перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Там Жавер оказался человеком полезным в самых разнообразных отношениях и, мы должны это отметить, внушающим к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о подобных услугах.
Он уже забыл о Жане Вальжане — ведь гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, — как вдруг, в декабре 1823 года, он заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать обо всех подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание — это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была настолько официальной, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он только ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко». Затем он отбросил газету и больше о нем не думал.
Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в парижскую полицейскую префектуру донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, причем, по слухам, это сопровождалось странными обстоятельствами. Девочка семи или восьми лет, говорилось в донесении, доверенная матерью местному трактирщику, была похищена каким-то незнакомцем; имя девочки Козетта, и она является дочерью девицы Фантины, умершей неизвестно когда и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.
Имя Фантины было ему хорошо знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его, Жавера, расхохотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Он вспомнил также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Некоторые наблюдения, сделанные тогда, наводили даже на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этой деревушки, ибо в самой деревушке его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер понял это. Там жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенок был похищен незнакомцем. Кто мог быть этот незнакомец? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и отправился в Монфермейль. Он надеялся найти там полное разъяснение этого дела, но нашел полную неизвестность.
В первые дни раздраженные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в деревушке шуму. Сейчас же появились всевозможные версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение, полученное парижской префектурой. А между тем, когда первая досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту очень скоро понял, что не всегда полезно беспокоить господина прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет — вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он круто изменил свое поведение, заткнул жене рот и притворялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он ничего не понимает. Ну конечно, в первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал дедушку, и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.
Однако Жавер некоторыми вопросами, словно зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот дедушка и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Это богатый земледелец. А имя его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».
Ламбер — имя добропорядочное и вполне внушающее доверие. Жавер возвратился в Париж. «Этот Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», — сказал он себе.
Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг, в марте 1824 года, до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищий, что подает милостыню». Болтали, будто эта личность — богатый рантье; имени его никто в точности не знал; жил он вдвоем с восьмилетней девочкой, которая только и помнит, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это слово заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а сейчас полицейский шпион под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил и несколько других подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем ужасный старый желтый редингот стоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми билетами». Последнее особенно подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он занял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый шпион, сидя каждый вечер на корточках и гнусавя свои псалмы, следил за прохожими.
«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому таким образом Жаверу и протянула ему подаяние. В эту минуту Жавер поднял голову и вздрогнул, думая, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.
Но он мог ошибиться в темноте; ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера все еще оставались серьезные сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.
Он последовал за стариком до лачуги Горбо, где без особого труда заставил разговориться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала ему о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жильца в надежде услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова, чем расстроил планы сыщика.
На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, которая, услышав звон денег, подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить об этом Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями на бульваре.
Жавер попросил в префектуре дать ему в помощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских записях числился в рубрике самых опасных злодеев, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции, безусловно, не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут его каторжника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он ненавидел заранее возвещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них всю свежесть и новизну. Он предпочитал обрабатывать свои коронные дела в тиши, чтобы затем внезапно объявлять о них.
Жавер следовал за Жаном Вальжаном от дерева к дереву, а далее от угла одной улицы до угла другой, ни на минуту не теряя его из виду. Даже тогда, когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.
Почему же он не арестовал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.
Не следует забывать, что как раз в ту эпоху полиция не чувствовала себя независимой в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Несколько самовольных арестов, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю вину на них; промах вел за собой отставку. Можно вообразить себе, какое впечатление произвела бы в Париже следующая коротенькая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»!
Кроме того, повторяем, Жавер и сам отличался большой щепетильностью; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.
Жан Вальжан шел в темноте, повернувшись к нему спиной.
Печаль, беспокойство, тревога, усталость, это несчастье, это новое вынужденное бегство ночью и поиски в Париже случайного убежища для себя и Козетты, необходимость приноравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция, в лице Жавера, могла ошибиться и ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в дедушку, наконец уверенность в смерти его на каторге — все вместе усиливало нерешительность Жавера.
На мгновение у него возникла мысль потребовать, чтобы старик немедленно предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то это, вероятно, был один из молодцов, глубоко и искусно впутанных в темный заговор парижских преступлений, один из главарей опасной шайки, творящий милостыню, чтобы заслонить этим другие свои таланты, — старый, испытанный прием. Конечно, у него есть сообщники, соучастники преступления, есть запасные квартиры, где он намеревался скрыться. Все петли, которые он делал по улицам, доказывали, что это не простой старик. Задержать его слишком поспешно — значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить с этим? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.
Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кем же могла быть эта загадочная личность?
И лишь на улице Понтуаз, при ярком свете, вырывавшемся из кабачка, он узнал Жана Вальжана; ошибки быть не могло.
В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: это мать, нашедшая своего ребенка, и тигр, схвативший свою добычу. Жавер ощутил такой трепет.
Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он сразу подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников, и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаз. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.
Это промедление и остановка в переулке Ролен для совещания со своими агентами чуть было не заставили Жавера потерять след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие, реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика пошлины: «Видели вы мужчину с маленькой девочкой?» — «Да, я заставил его заплатить два су», — ответил сборщик. Этот ответ осветил положение. Жавер вступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился в улицу Зеленая дорога, Жавер вспомнил о тупике Жанро, служившем там как бы ловушкой, вспомнил и о единственном выходе из улицы Прямой стены на улочку Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя», поспешно, обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты — козыри. Кроме того, есть правило: хочешь загнать кабана — будь опытным псовым охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры и зная, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским агентом слева, а сзади им самим, Жавером, он взял понюшку табаку.
И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку идти впереди себя, зная, что тот уже в его власти, желая, насколько возможно, отдалить момент ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле уже пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе немного полетать, или кота, позволяющего мыши побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в мертвой их хватке. Какое наслаждение — душить!
Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось только сжать кулак.
Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен отчаянием Жан Вальжан, Жаверу, при его свите, даже и самая мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.
Он медленно подвигался вперед, обыскивая и обшаривая по пути все углы и закоулки улицы, словно карманы вора.
Когда же он достиг центра паутины, то мухи уже там не оказалось.
Легко представить его ярость.
Он расспросил своего дозорного, стерегшего улицы Прямой стены и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы там проходил мужчина.
Случается иногда, что олень вот уже взят за рога — и вдруг его как не бывало; иными словами, он уходит, пусть даже вся свора собак повисла у него на боках. Тогда самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьивиль и Депрез и те не знают, что сказать. В минуту подобной неудачи Артонж воскликнул: «Это не олень, а оборотень!»
Жавер охотно повторил бы этот возглас.
Его разочарование в эту минуту больше походило на отчаяние и бешенство.
Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр — в войне с Индией, Цезарь — в африканской войне, Кир — в скифской, так, несомненно, и Жавер допустил ошибки в этом походе против Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника. Ему следовало довериться своему первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно признал его. Он сделал промах, совещаясь на перекрестке Ролен со своими помощниками, стоя в ярком лунном свете. Конечно, обмен мнениями полезен, и не мешает знать и выспросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследующий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, слишком озабоченный тем, чтобы пустить гончих по правильному следу, вспугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной же промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел эту ужасную и ребяческую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Он мнил себя сильнее, чем был на самом деле, и решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время он думал, что недостаточно силен, когда счел необходимым взять себе подкрепление. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного времени. Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, однако же он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших. Он в полном смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?
И на великих стратегов находит затмение.
Подобно тому, как множество свитых вместе бечевок образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой мелких глупостей. Разберите канат, бечеву за бечевой, возьмите в отдельности каждую из мельчайших решающих причин, приведших к большой глупости, и вы без труда справитесь со всеми.
«И только-то!» — скажете вы. Но скрутите, свейте их вместе — и тогда это страшная вещь. Это Аттила, который медлит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе; это Аннибал, который замешкался в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.
Но как бы там ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое, что ему бросилось в глаза, это непорядок уличного фонаря, веревка которого была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить все розыски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным невозделанным участкам земли. По-видимому, Жан Вальжан должен был бежать в этом направлении. Несомненно, если бы он проник поглубже в тупик Жанро, он, вероятно, так и сделал бы, и это было бы его гибелью. Жавер так тщательно обшарил эти сады и участки, словно искал иголку.
На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, пристыженный, словно сыщик, пойманный вором.
Книга VI Малый Пикпюс
Глава 1
Улица Пикпюс, номер 62
Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего особенно печального: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да физиономия слонявшегося по двору привратника. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, то трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, — было мрачное место.
Порог улыбался; дом молился и стенал.
Если вам удавалось пройти мимо привратника — что было отнюдь не просто, а для всех даже почти невозможно, ибо существовало некое «Сезам, отворись!», которое следовало знать, — итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо, в маленькие сени, откуда ведет наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенную светло-желтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за кусок. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна, занимавшего почти всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шороха шагов, ни звука человеческого голоса не слышите. Стены там голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.
Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты, я даже сказал бы, почти петли, примерно дюйма полтора по диагонали. Маленькие зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не удирая от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть и вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами, душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проволочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка.
Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.
— Кто там? — спрашивал голос.
Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.
Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновенье тьма.
Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:
— Войдите направо.
Тогда вы замечали направо от себя, против окна, стеклянную дверь, с застекленной верхней рамой, выкрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скупым светом, льющимся сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной циновкой, — в настоящую ложу с высоким, по грудь, барьером, кончавшимся сверху пластинкой черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, а безобразной решетчатой рамой из железных брусьев, отвратительно перепутанных и прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.
Спустя несколько мгновений, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но не дальше как в шести дюймах за нею пред вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными перекладинами желтовато-коричневого цвета. То были складные ставни, разделенные на длинные тонкие полосы, прикрывавшие всю решетку целиком. Они всегда бывали закрыты.
Через несколько минут за этими ставнями раздавался голос, который окликал вас и говорил:
— Я здесь. Что вам угодно?
Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.
При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух воплощался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее, рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Эта голова говорила с вами, но никогда не смотрела на вас, никогда не улыбалась вам.
Падающий из-за вашей спины свет был рассчитан на то, чтобы вы видели эту фигуру светлой, а она вас темным. Это освещение было символическим.
Тем временем ваш взор жадно силится проникнуть сквозь отверстие, приоткрывшееся в этом месте, недоступном для взгляда. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза ищут в этой мгле, стараясь разглядеть, что окружает это видение. Но вскоре вы обнаруживаете, что разглядеть ничего нельзя. То, что вы видите, — ночь, пустота, тьма, зимний туман, смешанный с могильными испарениями; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего не уловить, даже вздоха, мрак, в котором ничего не различить, даже призрака.
То, что вы видите, — внутренность монастыря.
Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Эта ложа, в которой вы находитесь, — приемная. Голос, первый, который вы здесь услышали, — голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной, возле квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с тысячью отверстий.
Темнота, в которую погружена забранная решеткой ложа, объяснялась тем, что в приемной было окно, выходившее на свет божий, но ни одного окна внутрь монастыря. Взоры мирских людей не смели проникать в это священное место.
Однако по ту сторону этого мрака скрывалось нечто — скрывался свет; в этой смерти таилась жизнь. Хотя монастырь этот был самым замкнутым из всех, мы постараемся проникнуть в него, поможем проникнуть туда читателю и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видал, а потому и не мог рассказать.
Глава 2
Устав Мартина Верга
Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок устава Мартина Верга.
Бернардинки эти, следовательно, принадлежали не к Клерво — как бернардинцы, но к Сито — как бенедиктинцы, иными словами, они были подчинены не святому Бернару, а святому Бенедикту.
Тот, кто когда-либо перелистывал фолианты, знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей — в Алкале.
Эта конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.
Подобное слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для латинской церкви. Только с одним орденом св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации устава Мартина Верга, еще четыре конгрегации: две в Италии — Монте-Кассини и св. Юстины Падуанской; две во Франции — Клюни и Сен-Мор, а также девять других орденов — Валомброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден св. Сильвестра и, наконец, Сито; ибо Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою лишь отпрыск ордена св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Молемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт, еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).
После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок-бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду и апостольник, который, согласно предписанию св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз, — вот их одежда. Все это черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет, помимо того, носят на поясе четки.
Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок-бенедиктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставе было множество различий; различна была и одежда. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы — белые; кроме того, у них на груди висело серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тампль неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно отличными друг от друга. Только в соблюдении одного этого правила и заключалось сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличающимся и порой даже враждующим, орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюлем в Париже, которые тем не менее сходны были в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Святой Девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был всего только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом.
Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.
Бернардинки-бенедиктинки этого устава едят весь год постное, воздерживаются вообще от пищи постом и в многие другие показанные им дни, встают, прерывая свой первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать требник и петь утреню. Весь год спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моют свое тело, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого своего отдыха и в течение шести месяцев — от 14 сентября, дня Воздвиженья, и до Пасхи — носят рубашки из колючей шерстяной материи. Шесть месяцев — это послабление, по уставу их следует носить весь год; но эта шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Потребовалось ограничить пользование ими. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно лихорадит дня три-четыре. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах — вот их обеты, отягченные к тому же уставом.
Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы — девять лет.
Они никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель находится в часовне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь — это епархиальный архиепископ.
Впрочем, есть еще и другой — садовник; но это всегда старик; чтобы он всегда оставался в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.
Монахини подчинены настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всем ее самоотречении. Они покоряются, словно голосу Христа, ut voci Christi, жесту, малейшему знаку, ad nutum, ad primum signum, немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia, словно подпилок в руке рабочего, quasi limam in manibus fabri, не имея права ни читать, ни писать чего бы то ни было без особого разрешения, legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia.
Поочередно каждая из них совершает то, что называется искуплением. Искупление — это молитва за все грехи, за все ошибки, за все провинности, за все насилия, за все несправедливости, за все преступления, совершаемые на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, лицом к земле, крестообразно раскинув руки; вот все, чем может она себя облегчить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом величие, почти божественное.
Так как обряд этот выполняется у столба, на верхушке которого горит свеча, то в монастыре так же часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении.
«Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если позади нее ударит молния.
Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная монахиня. Стояние это длится час. Они сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.
Настоятельницы и матери носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.
Если смотришь на них, то видишь только их рот. У всех у них желтые зубы. Зубная щетка никогда в монастырь не проникала. Чистить зубы — это значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.
Они не говорят моя или мой. У них ничего нет своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют наша, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они сказали бы «наша рубашка». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету, молитвеннику, реликвии, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они тотчас же обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой некая знатная дама в момент своего пострижения сказала: «Позвольте мне, матушка, послать за святой Библией, которой я очень дорожу». — «А! У вас есть что-то, чем вы дорожите? Тогда не идите к нам».
Любой монахине воспрещается затворять свои двери, иметь свой уголок, свою комнату. Их кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, то произносит: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола». А другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; и часто одна отвечает: «Во веки веков» — еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола», что, впрочем, является довольно длинной фразой. У визитандинок входящая произносит: «Ave Maria»[524], а та, к кому входят, отвечает: «Gratiâ plena»[525]. Это их приветствие, которое действительно «исполнено прелести».
Каждый час в монастырской церкви слышатся еще три дополнительных удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе одновременно произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и всякий час» и т. д., смотря по тому, который час отзвонил колокол.
Этот обычай, преследующий цель прервать мысль и неустанно направлять ее к богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь его форма. Так, например, в общине Младенца Иисуса говорят: «В этот час и всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»
Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественным напевом, придерживаясь строгого церковного пения, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Повсюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на таких низких нотах, какие едва доступны женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.
Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.
Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожирар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.
По четвергам эти монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукою церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и Италии. Часы стояния монахинь в часовне бесконечны. Что же касается количества и продолжительности их молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее».
Один раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Каждая монахиня поочередно опускается перед ними на колени на каменный пол и кается вслух в тех провинностях и грехах, которые совершила в продолжение недели. После каждой исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.
Кроме этой исповеди вслух, в которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый повин для малых прегрешений. Повиниться — значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Несут повин по всевозможным пустякам: разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослужению, сфальшивили во время церковного пения и т. д. — этого достаточно, чтобы нести повин. Повин совершается добровольно; повинница (слово это здесь этимологически вполне оправданно) сама обвиняет себя и сама накладывает на себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре матери-певчие поют псалмы перед большим налоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то мать-певчая при пении псалма, начинавшегося со слова Ессе[526], громко взяла вместо Ессе три ноты — ut, si, sol; за свою рассеянность она должна была нести повин в продолжение всей службы. Грех ее во много крат усугубило то, что весь капитул рассмеялся.
Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден только ее рот.
Одна настоятельница имеет право общаться с посторонними. Все прочие могут видеться лишь с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка какой-либо посторонний человек выражает желание повидать монахиню, которую знавал или любил в миру, то приходится вести длительные переговоры. Если разрешения о свидании просит женщина, то его иногда дают; монахиня приходит, и с ней беседуют сквозь ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, что мужчинам в подобной просьбе всегда отказывают.
Таков устав св. Бенедикта, еще более отягченный Мартином Верга.
Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них сошли с ума.
Глава 3
Строгости
В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда даже четыре, пробыть в белицах и четыре года послушницей. Очень редко кто принимает большой постриг ранее двадцати трех — двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.
В своих кельях они разнообразными, неведомыми способами предаются умерщвлению плоти, о чем никогда не должны говорить.
В тот день, когда послушница принимает схиму, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и поют над ней отходную. После этого монахини разделяются на два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликующе: «Жива во Иисусе Христе!»
В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы этого пансиона были в большинстве девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Тальбот. Этим молодым девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светским интересам. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я содрогалась с головы до ног». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение святого духа из золоченого серебра или меди. По большим праздникам, в особенности в день св. Марты, им разрешали в знак высокой милости величайшее счастье — облачаться в монашескую одежду и в продолжение целого дня выстаивать церковные службы и совершать обряды по уставу св. Бенедикта. Вначале монахини ссужали их своими черными рясами. Но это показалось нечестивым и было настоятельницей запрещено. Такое заимствование одеяния разрешали только послушницам. Интересно отметить, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях некое влечение к монашеской жизни, доставляло воспитанницам настоящее удовольствие и душевный отдых. Они просто-напросто забавлялись. Это было ново, это развлекало их. Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед налоем, самозабвенно распевая псалмы, — высочайшее блаженство.
Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Нередко молодые женщины по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем не могли отвыкнуть от того, чтобы не проговорить поспешно «Во веки веков!» всякий раз, когда постучатся к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери. Воспитанница плакала, ей очень хотелось обнять свою сестренку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, и почти с возмущением.
Глава 4
Веселье
И все же эти молодые девушки оставили множество очаровательных воспоминаний о себе в суровой обители.
В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад, выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, — все краски утренней зари расцветали повсюду в этом мраке. После псалмопений, колоколов, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум, более нежный, чем гуденье пчелок, — то шумели маленькие девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекотали прелестные белозубые ротики; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Кругом все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали свои ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над этим трауром. Девочки резвились под оком монахинь: взор праведных не смущает невинных. Благодаря этим детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих ребяческих игр. Нет очаровательнее и величественнее зрелища свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Перро охотно пришли бы похохотать сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок — из эпопеи и побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабусей стародавних сказок.
В этой обители, быть может чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые заставляют нас задумчиво улыбаться. Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетний ребенок воскликнул: «Матушка, одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!» Здесь же произошел следующий памятный разговор:
Мать-изборщица. Что ты плачешь, дитя мое?
Ребенок (шести лет, рыдая). Я сказала Алисе, что знаю урок по истории Франции. А она говорит, что я не знаю, когда я знаю!
Алиса (старшая, девяти лет). Нет, не знает.
Мать-изборщица. Как же так, дитя мое?
Алиса. Она велела мне открыть книгу где попало и задать ей оттуда какой-нибудь вопрос и сказала, что ответит на него.
— Ну и что же?
— И не ответила.
— Постой! А о чем ты ее спросила?
— Я открыла книгу где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который увидела.
— И какой это был вопрос?
— А вот какой: Что же произошло потом?
Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:
«Ну не милашка ли? Она склевывает верх тартинки, словно настоящий человек!»
Это там на одной из монастырских плит найдена была следующая исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей:
«Отец мой, я грешна в скупости.
Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.
Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».
Это там, на дерновой скамейке сада, маленький розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех или пяти:
«Жили-были три петушка, у них была своя страна, где росло много-много цветов. Они сорвали цветики и спрятали их в свой кармашек. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».
А вот и другое произведение:
«Раз как ударят палкой!
Это Полишинель дал по голове кошке.
Ей от этого было совсем не приятно, а только больно.
Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».
Там же бездомная девочка-найденыш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнесла трогательные, раздирающие душу слова. Она слышала, как другие девочки говорили о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:
«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»
В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно куда-то спешила по коридорам со связкой ключей. Звали ее сестра Агата. Старшие — то есть те, которым было больше десяти лет, прозвали ее «Агата-ключ».
Трапезная, большая продолговатая четырехугольная комната, получала свет лишь из крытой, с резными арками, галереи, находившейся на одном уровне с садом. Это была сумрачная комната, сырая и, как говорили дети, полная зверей. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней, и его особо почитали. Там было всего теплее. От трапезной эти прозвища перешли к пансиону, и по ним различали, как некогда в коллеже Мазарини, четыре землячества. Каждая воспитанница принадлежала к одному из этих четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу она сидела за трапезой. Однажды архиепископ во время своего пастырского посещения монастыря заметил входящую в класс хорошенькую румяную девочку с великолепными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:
— Кто эта девочка?
— Это паук, ваше высокопреосвященство.
— Вот оно что! А вон та, другая?
— Сверчок.
— А эта?
— Гусеница.
— Неужели? Ну, а ты?
— А я мокрица, ваше высокопреосвященство.
У каждого такого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия Экуан был одним из тех суровых и почти торжественных мест, где в уединении протекало детство молодых девушек. Для крестного хода в день св. причастия в Экуане их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадильщицы»; первые несли кисти от балдахина, а вторые кадили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торжественного дня нередко можно было слышать в спальной такой вопрос:
— А кто у нас дева?
Госпожа Кампан приводит следующие слова одной «младшей», семилетней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцати лет, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла в хвосте: «Так ты же дева, а я нет».
Глава 5
Развлечения
Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое отченаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай:
«Миленькое беленькое отченаш, господь его сотворил, господь его говорил, господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, преблагую деву Марию посредине. Преблагая дева мне приказывала ложиться, ничего не страшиться. Отец мой — господь, мать — богородица, братья — три апостола, сестрицы — три девы пречистые. Младенца Христа сорочка мое тело прикрывает, святой Маргариты крестик мою грудь осеняет. Уходит госпожа наша матерь божия на поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. «Сударь мой, святой Иоанн, откуда идете?» — «От Ave salus[527] иду». — «А не видали вы милосердного бога, там ли он?» — «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».
В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни сглаживается ее последний след и в памяти молодых девушек тех времен, а ныне уже старух.
Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, каждый с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись параллельными линиями из конца в конец во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была неприхотливая, даже детей кормили скудно. К столу подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба — вот и вся роскошь. Однако и это грубое дежурное блюдо, предназначенное только для пансионерок, составляло исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменяющейся еженедельно монахини, которая время от времени с шумом открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать. Эта тишина была приправлена чтением вслух жития святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе там и сям стояли муравленые миски, в которых воспитанницы сами мыли свои чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».
Ребенок, нарушивший молчание, должен был сделать «крест языком». Где? На полу. Он лизал пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать эти бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.
В монастыре хранилась книга, которую всегда печатали только в одном экземпляре и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. «Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit»[528].
Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они жадно принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их поспешно захлопывать книгу и прерывать чтение. Из этой чрезвычайно рискованной затеи они вынесли весьма умеренное удовольствие. Несколько туманных страниц «о грехах отроков» — вот что показалось им «самым интересным».
Они играли в аллее сада, обрамленной чахлыми фруктовыми деревьями. Невзирая на зоркую бдительность и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер качал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, — письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать свое покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь уже лежа в кровати, а если это не удается, то съедаешь в ретираде». Это было одним из самых жгучих наслаждений воспитанниц.
Однажды — произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом — молодая девушка, мадемуазель Бушар, приходившаяся несколько сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него день отпуска — поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадемуазель Бушар, к неописуемому ужасу своих товарок, выступила из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство, прошу отпустить меня на один день!» Мадемуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Г-н де Келен улыбнулся и ответил: «Как, милое дитя, всего на один день? На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла сделать — ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами, каково было впечатление!
Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы лишь приведем, рассказав его вкратце, одно действительное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.
Итак, приблизительно в это же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением, величая ее «госпожой Альбертиной». О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой какие-то денежные соображения, необходимые для осуществления блестящего брака.
Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взглядом. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она обладала какой-то странной грацией призрака. Где она появлялась, веяло холодом. Как-то, видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой: «Ее считают мертвой». — «А может, она и мертвая», — ответила ей та.
О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно — «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению, она находилась там в одиночестве, так как с этих хор, расположенных в верхней части часовни, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, что монахиням возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ в Безансоне, где он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей совершенно спокойно, храня полную неподвижность. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и среди абсолютной тишины, царившей в часовне, громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Вся община в изумлении взглянула на нее, но г-жа Альбертина впала вновь в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.
Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был в монастыре болтать. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?» Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было очевидно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что и сама занимала в нем высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что была, возможно, в родственных с ним отношениях, и, наверное, достаточно близких, раз ей было известно его «крестное имя».
Две весьма суровые герцогини, г-жа де Шуазель и де Серан, часто посещали общину, куда имели свободный доступ, по всей вероятности, в силу привилегии Magnates mulieres[529], и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старые дамы проходили мимо них, то бедные молодые девушки дрожали и опускали глаза.
Впрочем, герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, в ожидании епископского сана, получил назначение главного викария при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в часовне монастыря Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла его видеть сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и замечательно причесан, что его великолепные каштановые волосы изумительными завитками обрамляют его лоб, что опоясан он дивным широким муаровым поясом и что черная сутана его — самого элегантного покроя в мире. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.
Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее выпал год, когда долетели до монастыря звуки флейты. То было настоящее событие, и тогдашние пансионерки еще до сих пор помнят об этом.
Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже устаревшую: «Моя Зетюльбе, приди царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день. Молодые девушки часами слушали эту арию, матери-изборщицы впали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны улицы Прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули всем, лишь бы хоть на секунду поглядеть на «молодого человека», разглядеть, наглядеться на того, который так восхитительно играл на флейте и, сам того не ведая, играл на струнах их сердец. Нашлись среди них воспитанницы, которые, проскользнув в дверь черного хода, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на улицу Прямой стены, увидеть хоть что-нибудь. Невозможно. Одна дошла даже до того, что, подняв руку над головой и просунув ее сквозь решетку оконца, стала махать белым платком. Двое оказались еще более смелыми. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели наконец «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.
Глава 6
Малый монастырь
В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей всевозможные старые монахини различных орденов, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь всяких инокинь, черных, серых и белых, принадлежавших к самым разным общинам и самого разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь.
Со времени Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было приютиться здесь, под крылышком бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им скромное пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было самое причудливое смешение. Каждая гостья соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в качестве особенного развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили мать св. Василию, мать св. Схоластику и мать св. Якобу.
Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале восемнадцатого века как раз то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Эта старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена — белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который охотно показывала, и, на случай своей смерти, завещала монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне же остался один манекен.
Кроме этих достойных сестер, несколько старых светских женщин, вроде г-жи Альбертины, также получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К числу их принадлежали г-жа де Босфор д’Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обитательница, известная только тем, что она необыкновенно звучно сморкалась. Воспитанницы прозвали ее «мадам Шумихини».
Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения стать постоялицей монастыря. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрашимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что первая ненавидит их, а к тому же она достигла тогда того периода жизни, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хоть она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.
Покидая монастырь, она оставила память о себе в келье, где жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную изнутри маленькую записочку со стихами, написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:
Imparibus meritis pendent tria corpora ramis: Dismas et Gesmas, media est divina potestas; Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas. Nos et res nostras conservet summa potestas. Hos versus dicas, ne tu furto tua perdas[530].Эти вирши на латыни VI века возбуждают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников — Димас и Гестас, как думают обычно, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальерок твердо верит.
Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, словно настоящим крепостным валом, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась даже и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквах, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите далее, что эта зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо — воспитанницы, а в центре — послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Эта темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда со стороны сада. Во время служб, на которых, согласно уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.
Глава 7
Несколько силуэтов среди мрака
В течении шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадемуазель де Блемер, в иночестве — мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора «Жития святых ордена св. Бенедикта». Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, и за это любимая до обожания.
Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Она была образованна, начитанна, учена, книжница, своеобразный знаток истории, нашпигована латынью, напичкана греческим, начинена еврейским — скорее бенедиктинец, чем бенедиктинка.
Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.
Самыми почитаемыми среди матерей-изборщиц были: мать св. Гонория, казначея; мать св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; мать св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; затем мать св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; мать св. Иосифа (девица Коголлудо); мать св. Аделаида (девица д’Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуентес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенца), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец, мать св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и мать св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.
В числе красивейших была также прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру она носила бы имя мадемуазель Роз, а в схиме называлась мать Вознесение.
Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионерок. Она обычно набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.
Среди послушниц больше всего любили сестру св. Эфразию, сестру св. Маргариту, сестру св. Марфу, впавшую в детство, и сестру св. Михаилу — всех смешил ее длинный нос.
Все эти женщины относились кротко к детям. Они были суровы только к самим себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. И сверх всего этого — бесконечные попечения о них. Но если ребенок, проходя мимо монахини, заговаривал с ней, она никогда не отвечала.
Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Очень звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о разных событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обитательницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы — один и один удар; для ее помощницы — один и два. Шесть и пять ударов означали: «время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре были звоном для г-жи де Жанлис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», — говорили пансионерки, не отличавшиеся милосердием. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии: это означало, что распахивалась настежь «монастырская дверь» — ужасная железная доска, вся ощетиненная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.
Кроме него, а также садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионерки видели еще двух мужчин: один из них — священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой — учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасный старый горбун Ансьошка».
Отсюда явствует, что все мужчины были подобраны тщательно.
Такова была эта любопытная обитель.
Глава 8
Post corda lapides[531]
Обрисовав внутренний облик монастыря, не лишне в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.
Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, улицы Прямой стены, улочки Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омарэ. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, представлял собою группу строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка улицы Прямой стены, который находился между улочкой Пикпюс и улицей Полонсо; перекладину же заменял высокий, строгий серый фасад за решеткой, выходящий на улочку Пикпюс; ворота № 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; ворота эти отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служившая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовкой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине — кухни, трапезная, бывшая филиалом монастырской, и церковь. Между воротами под № 62 и углом тупика Омарэ находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. На середине сада возвышался пригорок; на самой верхушке пригорка росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от навершья щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы тогда крест, положенный на колесо. Все аллеи, примыкавшие к крайне неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада, от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу улицы Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу переулка Омарэ, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте ко всему этому двор, разнообразные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо всякого соседства, вместо всякой перспективы — длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону улицы Полонсо, — и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена как раз на том месте, где с четырнадцатого и до шестнадцатого века находилось помещение со знаменитым залом для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».
Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия — Прямая стена и Омарэ — очень давние, а улицы, носящие их, еще старше. Тупик Омарэ назывался тупиком Мальгу; улица Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.
Глава 9
Сто лет под апостольником
Теперь, когда мы ознакомились в подробностях с тем, что собою представлял монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.
В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она даже принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле, хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. Поминая то и дело этих людей, она испытывала удовольствие и чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала всевозможные чудеса: будто оно похоже было на город и будто в монастыре были проложены настоящие улицы.
Она говорила на пикардийском наречии, что очень забавляло воспитанниц. Всякий год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Монсеньор святой Франсуа вручил свой обет монсеньору святому Евсевию, монсеньор святой Евсевий — монсеньору святому Прокопию… и т. д., и т. д., а мой я вручаю вам, пресвятой отец». И воспитанницы смеялись исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, прелестным сдержанным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.
Иногда эта столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырех вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какое-нибудь именитое лицо — маршал Франции, принц, герцог или пэр — проезжало через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил его приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре различных сорта вина. На первом кубке красовалась надпись: «обезьянье вино», на втором — «львиное вино», на третьем — «баранье вино» и на четвертом — «свиное вино». Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая — раздражает; третья — оглупляет; наконец, четвертая — оскотинивает.
Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, что также не было воспрещено уставом, когда желала им тайком полюбоваться. Лишь только раздавался звук чьих-нибудь шагов в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, как она, обычно такая болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее молчание, а самые настойчивые отступали перед ее упорством. Это, разумеется, давало пищу для пересудов всем праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что ж это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, — предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Может быть, какая-нибудь священная книга? Редкостные четки? Чудодейственные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, то бросились к шкафу, быть может поспешнее, чем то дозволяло приличие, и отперли его. Предмет этот нашли завернутым в тройной полотняный покров, как освященный дискос. Это оказалось фаэнцское блюдо, на котором изображены были улетающие амуры, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Эта сцена преследования изобиловала всякими гротескными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет маленькими крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, кстати, чрезвычайно интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.
Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», — говорила она.
Глава 10
Происхождение «неустанного поклонения»
Впрочем, эта почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, — явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, вместо черных ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались различные картины — например, портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже изображение головы турка.
В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, слывший самым красивым и высоким во Франции. В восемнадцатом веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства.
Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена Неустанного поклонения, совершенно отличными от тех, которые были подчинены цистерьянцам. Этот орден Неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних, он насчитывает всего двести лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев — неслыханное и страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре, назначил торжественный крестный ход всего духовенства обители, причем богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин — г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «высокочтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых душ и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна в 1652 году, другая в 1653-м, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахине из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мецом, аббатом Сен-Жерменским, с тем чтобы ни одна из девиц не принималась в него иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал жалованную грамоту, а все вместе — аббатская хартия и королевская грамота — было в 1654 году утверждено счетной палатой и парламентом.
Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения святым дарам». Их первый монастырь был «заново воздвигнут» в улице Кассет на средства г-жи де Бук и г-жи Шатовье.
Этот орден, как мы видим, не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он находился под главенством аббата Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердце Иисусово подчинялись генералу ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердие — генералу ордена лазаристов.
Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что описали. В 1657 году папа Александр VII особой грамотой разрешил бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение, по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Но тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.
Глава 11
Конец Малого Пикпюса
С самого начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который после восемнадцатого века сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, — потребность человечества; но, подобно всему, чего коснулась революция, оно преобразится и из враждебного станет благоприятствующим прогрессу.
Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион исчез также. Уже не было там больше ни дряхлых старух, ни юных девушек. Первые умерли, вторые рассеялись. Volaverunt[532].
Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы идти в сестры-послушницы, но в монахини-клирошанки — ни одной. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад их осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая — признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь возрастает тяжесть искуса, обязанности каждой становятся все более непосильными; недалек уже момент, когда останется не более двенадцати согбенных и измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным вне зависимости от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушало. И монахини стали умирать. В то время, когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: «Hic jaceo. Vixi annos viginti et tres»[533]. По причине этого упадка монастырь и отказался от воспитания девушек.
Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного неизвестного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, быть может, не без пользы для себя, грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне представляются нам столь новыми. Это запертый сад. Hortus conclusus. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, — с тем уважением по крайней мере, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.
Заметим, между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, — что представляет собой распятие? Убиение праведника.
В девятнадцатом веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, — лишь бы, отучившись от одного, научились бы другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, — но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием.
А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того только, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое, это привидение, способно подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо — суеверие и своя маска — лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.
Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, а свобода защищает.
Книга VII В скобках
Глава 1
Монастырь как отвлеченное понятие
Эта книга — драма, в которой главное действующее лицо — бесконечность.
Человек в ней лицо второстепенное.
Посему, встретив на пути своем монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь — достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства — является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.
Здесь отнюдь не место слишком подробно развивать некоторые идеи. Однако же, нисколько не поступаясь нашей сдержанностью, нашими мысленными оговорками и даже нашим негодованием, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы почитаем. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!
Глава 2
Монастырь как исторический факт
С точки зрения истории, разума и истины монашество подлежит осуждению.
Монастыри, в изобилии расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромождающие страну, являются помехами для движения и средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным — это то же, что омела по отношению к дубу или бородавка — к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по которым был благотворным в период его чистоты.
Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные во времена появления современной цивилизации, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, эти монастыри, благотворные в десятом веке, спорные в пятнадцатом, отвратительны в девятнадцатом. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации — Италию и Испанию, олицетворявших одна — светоч, другая — великолепие Европы в течение ряда веков. И если в современную нам эпоху эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.
Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений Средних веков. Подобный монастырь — средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, залит зловещим сиянием смерти.
Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие, как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того — кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия существа, окутанные покрывалами, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. То женщины, которые мнят себя супругами Христовыми; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Живут ли они? Нет. Их нервы превратились в кость; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно какому-то трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, и благословляет их, и держит их в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; дикие места.
Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник — евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. In-pace[534] заменяло собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земные. И там и тут женщины ломали себе руки; на долю одних — волны, на долю других — могила; там утопленницы, здесь — погребенные. Чудовищная параллель!
Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделываются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», — говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», — вторят им простаки. Жан-Жак — фразер; Дидро — фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена, — фразер. Некто — кто именно, не помню — недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон — жертва и что решительно надо пожалеть «этого бедного Олоферна».
А факты между тем нелегко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя — вот подлинное Средневековье, имеющееся под рукой у всех у нас, — в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля — четыре каменные темницы, наполовину под землей, наполовину под водой. Это были in-pace. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и зарешеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней — в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице всегда мокрый. Эта мокрая земля заменяла ложе заключенному в in-pace. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой — подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, — ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. Эти in-pace, эти темницы, эти железные крючья, эти ошейники, это высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, этот каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что здесь мертвецом был живой человек, эта грязь, заменяющая пол, эта дыра отхожего места, эта стена, сквозь которую просачивается вода! Каковы фразеры!
Глава 3
При каких условиях можно уважать прошлое
Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком до сих пор еще существует в Тибете, — род чахотки для цивилизации. Оно совершенно останавливает жизнь. Оно просто-напросто опустошает страну. Монастырское заточение — оскопление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому насилие, так часто применяемое над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опирающийся на монастырь, право первородства, разрешающее старшим отсылать в монастыри младших членов слишком больших семей, те жестокости, о которых мы только что упоминали, in-pace, замкнутые уста, заточенные мысли, такое множество несчастных душ, брошенных в темницу монашеских обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации муки этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед рясой и покрывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством.
Однако, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар девятнадцатого века, и непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими наши волосы, на притязание испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, и на нежность покойника, который бы вернулся на землю, чтобы обнимать живых.
«Неблагодарный! — говорит одежда. — Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» — «Я родилась в морском просторе», — говорит рыба. «Мы были розой», — твердят духи. «Я любил вас», — говорит покойник. «Я просвещал вас», — говорит монастырь.
На это есть один ответ: «То было когда-то».
Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого забальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолотой раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к кропилам и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему — все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, впрочем, люди умные, применяют весьма простой прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией и шествуют, крича: «Вот вам, получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспиции. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая». Bos cretatus[535]. Что касается нас, то мы в иных случаях почитаем прошлое, щадим его всюду, лишь бы оно соглашалось мирно покоиться в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.
Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки — эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хоть и эфемерны; с ними надо вступить врукопашную и воевать с ними, не давая им передышки, ибо одним из роковых предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.
Монастырь во Франции в середине девятнадцатого века — это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, — настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобраться в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.
Будем бороться!
Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины — никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и в нем разобраться. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета! Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.
Итак, живя в девятнадцатом веке, мы вообще относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «монастырь» — говорит: «болото». Их способность к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы без ужаса не можем помыслить о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.
И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам дозволено вглядеться в них пристальней.
Глава 4
Монастырь с точки зрения принципов
Люди собираются и живут сообща. В силу какого права? По праву объединения.
Они запираются у себя. В силу какого права? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь.
Они не покидают своих четырех стен. В силу какого права? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.
Но что делают они там, у себя?
Они говорят шепотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или грубый холст. Никто из них не владеет никакой собственностью. Вступая в подобную общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения, дворянин, вельможа, равен теперь простому крестьянину. Келья одна и та же для всех. Все подвергаются тому же обряду пострижения, носят одинаковые рясы, едят тот же черный хлеб, спят на той же соломе, на одинаковом пепле умирают. То же вретище на спине, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми, все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь — такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Крестное имя равняет всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».
Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!»
Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять его в расчет.
Потому-то в предыдущих главах книги я говорил об одном монастыре с почтением. Если забыть о средних веках, забыть об Азии, отложить до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в монастыре, всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община — там коммуна; где налицо коммуна — там право. Монастырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преображение! Достаточно одной свободы, чтобы монастырь превратить в республику.
Продолжаем.
Эти мужчины или эти женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубые рясы, они все равны, они зовут друг друга братьями, все это так; но ведь они еще что-то делают?
Да.
Что же?
Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.
Что это означает?
Глава 5
Молитва
Они молятся.
Кому?
Богу.
Молиться богу — что это значит?
Существует ли какая-нибудь бесконечность вне нас? Едина ли она, перманентна, имманентна ли? Непременно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы — лишь понятие относительное?
И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас самих? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга? Не лежит ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало, и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Это низшее «я» — душа; это высшее «я» — бог.
Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.
Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; упразднять — дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое — это океан. Что такое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва — могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет это величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.
Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека — по меньшей мере, возле него — стоит право Души.
Сокрушить фанатизм и благоговеть перед бесконечным — таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, коленопреклоненные перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, унизанные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоровлять верования, освобождать религию от суеверий; уничтожать все, что паразитирует во имя бога.
Глава 6
Неоспоримая благодать молитвы
Что же до способа молиться, то хорош всякий, лишь бы молитва была от души. Переверните ваш требник вверх ногами и слейтесь с бесконечностью.
Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.
Возводить недостающее нам чувство в источник истины — на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.
Любопытны те замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей бога. Она напоминает крота, восклицающего: «Как они жалки со своим солнцем!»
Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины самой своей мудростью, они, в глубине души, не слишком уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в бога, то уже само величие их разума подтверждает существование бога.
Мы приветствуем в них философов, неумолимо осуждая их философию.
Продолжаем.
Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделываются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».
Сказать «растение хочет», вместо того чтобы сказать «растение произрастает», было бы действительно очень плодотворно, если бы добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому что вывод был бы такой: растение хочет, значит, у него есть свое «я», вселенная хочет, значит, у нее есть свой бог.
Что же касается нас, то хотя мы, в противоположность этой школе, и ничего не отметаем a priori[536], все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.
Отрицать волю бесконечности, то есть волю бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.
Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится «измышлением разума».
Всякий спор с нигилизмом бесполезен. Ибо нигилист, если он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.
С его точки зрения, допустимо, что он сам для себя — «измышление разума».
Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».
Словом, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая сводит все к односложному «нет».
На «нет» есть лишь один ответ: «да».
Нигилизм заводит в тупик.
Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто — есть что-то.
Человек живет утверждением еще более, чем хлебом.
Видеть и показывать — недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами — должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем Аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться — какая жалкая цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и скот. Мыслить — вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу мышления, дать всем людям в качестве эликсира познание бога, заставить в их душах совесть побрататься со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза — таково назначение реальной философии. Нравственность — это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для ума человеческого. Именно идеал и вправе сказать: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость — это святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке, и, став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.
Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и ради одного только любопытства.
Мы же, откладывая подробное развитие нашей мысли до другого случая, лишь скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил — веры и любви.
Прогресс есть цель, идеал есть образец.
Что такое идеал? Это бог.
Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность — слова тождественные.
Глава 7
Порицать следует с осторожностью
На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые; бороться против Кайафы-первосвященника, против Дракона-судьи, против Тримальхиона-законодателя, против Тиверия-императора, — все это ясно, определенно, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех неудобствах и злоупотреблениях, связанных с этим, требует признания и пощады. Отшельничество — проблема чисто человеческая.
Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.
Монастырь — противоречие. Его цель — спасение; средство — жертва. Монастырь — это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.
Отречься, чтобы властвовать, — вот, по-видимому, девиз монашества.
В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад как залог райского блаженства.
Пострижение в иноки или инокини — самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.
По-нашему, тут насмешки неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.
Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.
Глава 8
Вера, закон
Еще несколько слов.
Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских; но мы всюду чтим того, кто погружен в размышление.
Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.
Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!
Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.
Созерцать — все равно что трудиться; мыслить — все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, — работают, сложенные пальцы — творят. Взгляд, устремленный к небесам, — деяние.
Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.
В наших глазах затворники — не праздные люди, отшельники — не тунеядцы.
Размышлять о Сокровенном — в этом есть величие.
Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник и философ сходятся. Смерть неизбежна. Аббат ордена трапистов перекликается тут с Горацием.
Вкрапливать в свою жизнь мысль о смерти — правило для мудреца и правило для аскета. В этом и мудрец, и аскет согласны друг с другом.
Существует материальное развитие — и его мы хотим. Существует также нравственное величие — и к нему мы стремимся.
Легкомысленные и скорые на заключения люди говорят:
— Какой смысл в этих неподвижных фигурах, обращенных своей мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?
Увы! Перед лицом той тьмы, которая окружает нас и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».
Нужны ведь людям вечные молельщики за тех, кто никогда не молится.
По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.
Молящийся Лейбниц — это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, — это прекрасно. Deo erexit Voltaire[537].
Мы стоим за религию против религий.
Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.
Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на девятнадцатый век, — время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в моральный принцип и поглощены скоропреходящими и отвратительными материальными благами, — всякий удаляющийся от мира заслуживает в наших глазах почета. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все же жертва. Поставить себе долгом суровую ошибку — это не лишено высокого благородства.
Если взять истину и беспристрастно исследовать ее до конца, со всех сторон, то нельзя не признать, что монастырь, сам по себе и как отвлеченное понятие, бесспорно, обладает некоторым величием. И особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном уходе в иночество звучит протест.
Столь суровое и столь безотрадное монастырское существование, отдельные черты которого мы только что обрисовали, — не жизнь, ибо в нем нет свободы, и не могила, ибо в нем нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую — бездна, где будем находиться. Это грань, узкая и туманная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно, — здесь угасающий луч жизни сливается с мглистым лучом смерти; это полумрак гробницы.
Мы же, не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, — мы никогда не могли смотреть без некоторого священного и нежного трепета, без страдания, смешанного с какой-то завистью, на эти самоотверженные существа, трепещущие и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные часы полувознесенные могучим дуновением вечности.
Книга VIII Кладбища берут то, что им дают
Глава 1
Где говорится о способе войти в монастырь
Именно в такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.
Он перелез через садовую ограду, на углу улицы Полонсо. Этот гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, был хор монахинь, певших утреню; эта зала, представшая перед ним во мраке, была часовня; этот призрак, который он увидел простертым на полу, была сестра, «совершающая искупление»; этот бубенчик, звук которого столь поразил его, был бубенчик садовника, привязанный к колену дедушки Фошлевана.
Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, поужинали куском сыра и стаканом вина перед ярко пылающим очагом; затем они быстро улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке занята была Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал: «Я должен остаться здесь навсегда». Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.
Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до самого утра.
Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Но налетевший на него новый шторм забросил их в этот монастырь, и Жан Вальжан теперь помышлял лишь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении этот монастырь был одновременно и самым опасным, и самым безопасным местом, самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, — таким образом, для Жана Вальжана этот монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме; самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, — вот спасение.
Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырские ограды так просто не пролезть. Как же так он оказался здесь да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это был за ребенок? Откуда они оба появились? С той поры как Фошлеван находился в монастыре, он никогда ничего не слыхал о Монрейле-Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что подступиться к нему с вопросами нельзя было; к тому же Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительной особой. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что г-н Мадлен по причине тяжелых времен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это отнюдь не отвратило от него Фошлевана, который, как многие из наших северных крестьян, был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, само собою разумеется, захотел в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимым, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это — каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, касался их, говорил с ними — и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и ничего ясно себе не представлял, кроме того, что г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А совесть его добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.
Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой, стану я его спасать? Конечно».
Однако как помочь ему остаться в монастыре? Какая трудная задача! Перед такой попыткой, почти не осуществимой, Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Дедушка Фошлеван был старик, проживший всю свою жизнь эгоистом, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем уже в жизни не интересующийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, увидев возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью накинулся на это, с какой умирающий, найдя под рукой стакан хорошего вина, никогда им не отведанного, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал вот уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.
Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.
Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где полезно дать некоторую психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев по множеству разнообразных причин крушение в своих делах, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же, вопреки ругани и щелканью кнутом, что составляло его занятие и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, в нем был еще жив письмоводитель. Он обладал природным умом; его речь была правильной; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Он что твой барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «Не то мещанин, не то мужик; в общем, ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел от судьбы и был изрядно ею измучен, все же оставался человеком, повинующимся, и совершенно добровольно, первому побуждению, — драгоценное качество, никогда не допускающее человека творить зло. Его недостатки и его пороки, ибо он таковыми обладал, были поверхностны; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем соприкосновении с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали те неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.
Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на своей охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:
— Теперь, когда вы здесь, как вы думаете поступить, чтобы войти сюда уже по всем правилам?
Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.
Старики принялись совещаться.
— Прежде всего, — сказал Фошлеван, — вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад, мы пропали.
— Это верно.
— Господин Мадлен, вы попали сюда в очень хорошее время, то есть я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных здорово больна. Значит, на нас не будут обращать особенного внимания. Сдается, она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, — святая. Сказать правду, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить отходную, а потом заупокойную. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.
— Однако, — заметил Жан Вальжан, — эта хижина стоит в углублении стены, она скрыта чем-то вроде развалин, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.
— А я прибавлю еще, что монахини никогда к ней и не подходят.
— Так в чем же дело? — воскликнул Жан Вальжан.
Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь можно жить незамеченным». Именно на это Фошлеван и возразил:
— А девочки?
— Какие девочки? — удивился Жан Вальжан.
Только что Фошлеван собрался ответить, как раздался удар колокола.
— Монахиня скончалась, — сказал он. — Слышите похоронный звон?
Он сделал знак Жану Вальжану, чтобы тот прислушался.
Колокол прозвучал вторично.
— Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно целых двадцать четыре часа, до самого выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрещение, все равно прибегут сюда и будут совать свой нос повсюду. Эти херувимчики — настоящие дьяволята!
— Кто? — спросил Жан Вальжан.
— Девочки. Вас мигом обнаружат, не сомневайтесь. А потом станут кричать: «Глядите-ка, мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Никакой перемены у них не будет. Весь день уйдет на молитвы. Вы слышите колокол? Я вам уже говорил — по удару в минуту. Это похоронный звон.
— Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?
А про себя он подумал: «Воспитание Козетты было бы обеспечено».
Фошлеван воскликнул:
— Еще бы! Конечно, тут есть маленькие девочки! Ну и подняли же бы они тут около вас пискотню! И задали же бы стрекача! Здесь мужчина — все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.
Жан Вальжан глубоко задумался.
— Этот монастырь — наше спасение, — шептал он про себя. Затем сказал вслух: — Да, самое трудное — это остаться здесь.
— Нет, — ответил Фошлеван, — выйти отсюда.
Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.
— Выйти?
— Да, господин Мадлен, для того чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.
И, переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:
— Никак нельзя, чтобы вас тут застали. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А что касается монахинь, так им требуется, чтобы вы вошли в ворота.
Вдруг послышался более замысловатый звон другого колокола.
— Ага! — сказал Фошлеван. — Это сбор капитула. Зовут матерей-изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Слушайте, это не потому, что я хочу вас допрашивать, но скажите, как вы сюда вошли?
Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену обратно на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и, когда вы в безопасности, вдруг вы слышите дружеский совет вновь возвратиться туда же. Жан Вальжан представил себе весь квартал, еще кишащий полицией, агентов, ведущих наблюдение, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка — сам Жавер.
— Невозможно! — воскликнул он. — Дедушка Фошлеван, считайте, что я упал сюда с неба.
— Ну, я-то верю этому, охотно верю, вам незачем говорить мне, — отвечал Фошлеван. — Господь бог, наверное, взял вас на руки, чтобы разглядеть поближе, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, да ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел посмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи — это народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда он даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что такое случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?
— Козетта.
— Это ваша девочка? Вернее сказать, вы будете ее дед?
— Да.
— Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной — ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на улице Зеленая дорога, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется уже с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?
Жан Вальжан покачал головой.
— Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в какой-нибудь корзине и под чехлом, как Козетта.
Фошлеван принялся чесать у себя за ухом, что служило признаком серьезного замешательства.
Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.
— Это уходит врач покойников, — сказал Фошлеван. — Он поглядел и сказал: «Она умерла, так и есть». После того как доктор заверил пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если сестра-монахиня, то обряжают сестры. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник, он всегда немножко могильщик. Гроб ставят в нижнюю, выходящую на улицу, церковную залу, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня да факельщиков за мужчин не считают. В этой самой зале я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб — и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят уже с грузом внутри. Вот что такое похороны. «De profundis»[538].
Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана.
Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Добряк садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее:
— Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, что кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку — их отвозят на это кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. Но чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен…
— Погребен, — сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой. Фошлеван подхватил это слово.
— Ну, разумеется, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением!
Звон колокола раздался в четвертый раз. Фошлеван поспешно снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и снова пристегнул его к колену.
— На этот раз звонят мне. Меня требует мать-настоятельница. Так и есть, я укололся шпеньком от пряжки. Господин Мадлен, не трогайтесь с места и ждите меня. Видно, есть какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.
И он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»
Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, оглядывая мимоходом свои дынные грядки.
Не прошло и десяти минут, а дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и нежный голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».
Эта дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. А приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном стоящем в приемной стуле сидела настоятельница и ожидала Фошлевана.
Глава 2
Фошлеван в затруднительном положении
При некоторых критических обстоятельствах людям известного склада характера, а также людям известных профессий свойственно принимать взволнованный и одновременно значительный вид — особенно священнослужителям и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности и лежало на лице настоятельницы — некогда очаровательной и ученой мадемуазель Блемер, а ныне матушки Непорочность, обычно такой веселой.
Садовник боязливо поклонился, остановившись на пороге кельи. Настоятельница, перебиравшая четки, взглянула на него и сказала:
— А, это вы, дедушка Фован?
Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.
Фошлеван снова поклонился.
— Дедушка Фован, я приказала позвать вас.
— Вот я и пришел, честна́я мать.
— Мне нужно поговорить с вами.
— И мне тоже, — сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. — Мне тоже надо кое-что сказать вам, пречестна́я мать.
Настоятельница поглядела на него.
— Вы хотите сообщить мне что-то?
— Нет, попросить.
— Хорошо, говорите.
Добряк Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецой, — сила; его не страшатся, и поэтому на него попадаются. Прожив около двух с лишним лет в монастыре, Фошлеван добился признания в общине. Если не считать его работу по садоводству, ему, в постоянном его одиночестве, больше ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от всех этих скрытых монашескими покрывалами женщин, снующих взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой одно лишь мелькание каких-то теней. Но наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнозоркость, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван обо всем знал и обо всем молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери-изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал порядок и выходил из своей сторожки только тогда, когда того явно требовала необходимость быть либо в огороде, либо в саду. Подобная сдержанность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставил проболтаться двух людей: в монастыре — привратника, и потому знал подробности всего происходившего в приемной; а на кладбище — могильщика, и потому знал все особые обстоятельства похорон. Таким образом, он получал двойного рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие — на их смерть. Но он не злоупотреблял ничем. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего не смыслящий, без сомнения, глуховатый — какое множество достоинств! Заменить его было бы трудно.
С уверенностью человека, знающего себе цену, добряк обратился к почтенной настоятельнице с весьма глубокомысленной и по-деревенски многословной речью. Он пространно говорил о своем возрасте, хворостях, о бремени лет, удвоившемся для него отныне благодаря возрастающей трудности работы, обширности сада и бессонным ночам, — к примеру, нынешней, когда ему из-за того, что светила луна, пришлось накрывать соломенными матами дынные грядки, — и договорился до следующего: у него есть брат (настоятельница сделала движение), — брат отнюдь не молодой (настоятельница опять сделала движение, но уже более спокойное), и если пожелают, то этот брат мог бы поселиться с ним и помогать ему в работе; это превосходный садовник, и для общины он будет очень полезен, полезнее его самого; а если этого брата взять не согласятся, в таком случае он, Фошлеван-старший, чувствуя упадок сил и видя, что ему не справиться с работой, вынужден будет, как это ни обидно, уйти отсюда; наконец, у его брата есть дочка, которую тот привел бы с собой, девочка выросла бы здесь в страхе божьем и, как знать, может статься, в один прекрасный день постриглась бы в монахини.
Когда он умолк, настоятельница бросила перебирать четки и сказала:
— Можете ли вы сегодня же, до наступления вечера, раздобыть крепкий железный брус?
— Для чего?
— Чтобы можно было употребить его вместо рычага.
— Да, честна́я мать, — ответил Фошлеван.
Не сказав больше ни единого слова, настоятельница встала и удалилась в соседние покои, бывшие залом заседаний капитула, где, по всей вероятности, собрались матери-изборщицы. Фошлеван остался один.
Глава 3
Мать Непорочность
Прошло приблизительно четверть часа. Настоятельница вернулась и вновь села на стул.
Оба собеседника казались озабоченными. Записываем со всей тщательностью их диалог.
— Дедушка Фован!
— Да, честна́я мать?
— Знаете вы часовню?
— У меня там есть свое местечко, откуда я слушаю обедню и прочие службы.
— А заходили вы на клирос по служебным надобностям?
— Два или три раза.
— Вот в чем дело. Там надо приподнять камень.
— Тяжелый?
— Каменную плиту возле алтаря.
— Которая закрывает вход в склеп?
— Да.
— Вот случай, когда бы пригодился еще один мужчина.
— Матушка Вознесение вам поможет, она сильна, как мужчина.
— Женщина никогда не заменит мужчину.
— Мы можем дать вам в помощь только женщину. Каждый делает то, что в его силах. Только потому, что отец Мабильон приводит четыреста семнадцать посланий святого Бернара, а Мерлонус Горстиус всего триста шестьдесят семь, я ведь не отношусь презрительно к Мерлонусу Горстиусу.
— И я так не отношусь.
— Заслуга в том, чтобы работать сообразно со своими силами. Монастырь — не дровяной склад.
— А женщина — не мужчина. Вот брат мой, тот силен!
— А кроме того, у вас будет рычаг.
— Только такой ключ и подходит к таким дверям.
— В плите есть кольцо.
— В него я продену рычаг.
— А плита устроена так, что можно ее повернуть.
— Хорошо, честна́я мать. Я отворю склеп.
— А четыре матери-певчие вам помогут.
— И когда склеп будет отворен?..
— Тогда его придется вновь закрыть.
— И это все?
— Нет.
— Приказывайте, пречестна́я мать.
— Фован, мы доверяем вам.
— Я здесь, чтобы исполнять все приказания.
— И соблюдать молчание.
— Да, честна́я мать.
— Когда склеп будет открыт…
— То я его опять закрою.
— Но сначала…
— Что, честна́я мать?
— В него надо будет кое-что опустить.
Наступило молчание. Настоятельница поджала нижнюю губу, точно сомневаясь в чем-то, затем, прервав молчание, заговорила:
— Дедушка Фован!
— Да, честна́я мать?
— Вам известно, что сегодня утром скончалась монахиня?
— Нет.
— Разве вы не слыхали колокольного звона?
— В глубине сада ничего не слышно.
— Правда?
— Я даже с трудом слышу звон, которым вызывают меня.
— Она скончалась на рассвете.
— А кроме того, ветер сегодня дул не в мою сторону.
— Преставилась матушка Распятие. Праведница.
Настоятельница умолкла, пошевелила губами, словно мысленно произнося молитву, и продолжала:
— Три года тому назад госпожа Бетюн, янсенистка, приняла истинную веру только потому, что видела, как молится мать Распятие.
— А, верно! Вот теперь я слышу похоронный звон, честна́я мать.
— Монахини перенесли ее в покойницкую, смежную с церковью.
— Я знаю, где это.
— Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не должен входить в эту комнату. Следите за этим. Каково было бы, если бы в покойницкую проник какой-нибудь мужчина!
— Как бы не так!
— Что?
— Как бы не так!
— Что вы говорите?
— Я говорю, что как бы не так!
— Что как бы не так?
— Честная мать, я не говорю «что как бы не так!», а говорю «как бы не так!».
— Я вас не понимаю. Почему вы говорите «как бы не так»?
— Чтобы подтвердить то, что вы сказали, честна́я мать.
— Но я не говорила «как бы не так!».
— Вы этого не говорили, но я это сказал, чтобы подтвердить то, что вы сказали.
В эту минуту пробило девять часов.
— В девять часов и во всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола, — произнесла настоятельница.
— Аминь, — сказал Фошлеван.
Часы пробили очень кстати. Они пресекли это «как бы не так». Не пробей они, вполне вероятно, что настоятельница и Фошлеван никогда бы не выпутались из этого дела.
Фошлеван отер пот со лба.
Настоятельница опять что-то пробормотала про себя, наверное, из Святого Писания, потом, повысив голос, изрекла:
— При жизни матушка Распятие творила обращения; после смерти она будет творить чудеса.
— Уж она-то будет их творить! — подтвердил Фошлеван, подделываясь к настоятельнице и стараясь больше не сплоховать.
— Дедушка Фован, для общины матушка Распятие была благословением божьим. Конечно, не всякому дана такая кончина, как кардиналу Берюлю, который, служа обедню, со словами «Hanc igitur oblationem»[539] на устах, отдал богу душу. Но, хотя наша усопшая и не была удостоена такого счастья, кончина ее все же достойна зависти. Она до последней минуты была при полном сознании. Она говорила с нами, потом говорила с ангелами. Она сообщила нам свою последнюю волю. Если бы вы были крепче в вере и если бы могли тогда быть у нее в келье, то она одним своим прикосновением исцелила бы вашу ногу. Она улыбалась. Так и чувствовалось, что она воскресает в боге. Блаженная кончина!
Фошлеван решил, что настоятельница заканчивает молитву.
— Аминь, — сказал он.
— Дедушка Фован, волю умерших надо исполнять.
Настоятельница пропустила сквозь пальцы несколько зерен на четках. Фошлеван молчал. Она продолжала:
— По этому вопросу я справлялась у многих духовных лиц, трудившихся во Христе над подвигами монашеской жизни. Плоды их усилий удивительны.
— Честна́я мать, отсюда похоронный звон слышен много лучше, чем из сада.
— Кроме того, она больше, чем просто усопшая, она — святая.
— Как и вы, честна́я мать.
— Она двадцать лет спала в своем гробу, с особого разрешения святого нашего отца папы Пия Седьмого.
— Того самого, который короновал импе… Буонапарта.
Для такого смышленого человека, каким был Фошлеван, подобное воспоминание было неудачным. К счастью, настоятельница, всецело поглощенная своей мыслью, не расслышала его. Она продолжала:
— Дедушка Фован!
— Да, честна́я мать?
— Святой Диодор, архиепископ Каппадокийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано единственное слово: «Acarus», что значит червь земляной; это было исполнено. Не так ли?
— Так, честна́я мать.
— Блаженный Меццокан, аквилийский аббат, пожелал быть преданным земле под виселицей; это было исполнено.
— Верно.
— Святой Теренций, епископ города Порта, расположенного при впадении Тибра в море, пожелал, чтобы на его надгробной плите была вырезана такая же надпись, как у отцеубийц, надеясь, что все прохожие будут плевать на его могилу; это было сделано. Волю усопших следует исполнять.
— Да будет так.
— Тело Бериара Гвидония, родившегося во Франции близ Рош-Абейль, было, как он приказал и вопреки королю Кастилии, перенесено в церковь доминиканцев, в городе Лиможе, хотя Бернар Гвидоний был епископом испанского города Тюи. Можно ли на это что-нибудь возразить?
— Никак нет, честна́я мать.
— Этот случай засвидетельствован Плантавием де ла Фос.
Молча пропустив еще несколько зерен, настоятельница продолжала:
— Дедушка Фован, матушка Распятие будет погребена в том гробу, в котором спала двадцать лет.
— Это правильно.
— Это будет продолжение ее сна.
— Значит, мне придется заколотить ее в этот самый гроб?
— Да.
— А казенный гроб мы так и оставим без дела?
— Именно.
— Я к услугам пречестной общины.
— Четыре матушки-певчие вам помогут.
— Это чтобы заколотить гроб? И без них обойдусь.
— Не заколотить, а спустить.
— Куда?
— В склеп.
— В какой склеп?
— Под алтарем.
Фошлеван так и подскочил на месте.
— В склеп под алтарем!
— Под алтарем.
— Но…
— У вас будет железный брус.
— Да, но…
— Вы приподнимете плиту за кольцо, продев в него этот брус.
— Но…
— Воле усопших надо повиноваться. Быть погребенной в склепе под алтарем часовни, не лежать в неосвященной земле, остаться после смерти там, где молилась при жизни, — это предсмертная воля матери Распятие. Она просила нас об этом, иначе говоря, приказала.
— Но ведь это запрещено.
— Запрещено людьми, повелено богом.
— А если об этом узнают?
— Мы вам доверяем.
— Ну, я-то нем, как камень из вашей ограды.
— Капитул собрался. Матери-изборщицы, с которыми я только что опять советовалась и которые продолжают еще обсуждение, решили, что матушка Распятие, согласно ее желанию, будет похоронена в своем гробу под нашим алтарем. Вы только подумайте, дедушка Фован, сколько здесь будет твориться чудес! Как прославится во имя господа наша обитель! Из могил и исходят чудеса.
— Но, честна́я мать, а если уполномоченный санитарной комиссии…
— Святой Бенедикт Второй расходился по вопросам погребения с Константином Погонатом.
— А полицейский пристав…
— Хонодмер, один из семи королей германских, вторгшихся в Галлию при императоре Констанции, именно за монахами признал право быть погребенными в лоне религии, то есть под алтарем.
— Но инспектор префектуры…
— Все мирское есть прах перед лицом церкви! Мартин, одиннадцатый генерал картезианцев, дал ордену своему такой девиз: «Stat crux dum volvitur orbis»[540].
— Аминь, — сказал Фошлеван, неизменно выходивший подобным образом из затруднительного положения, в какое его всякий раз ставила латынь.
Для того, кто слишком долго молчал, годятся любые слушатели. В тот день, когда ритор Гимнасторас вышел из тюрьмы, с множеством вбитых там в него новых дилемм и силлогизмов, то, остановившись перед первым попавшимся ему по дороге деревом, он обратился к нему с речью и затратил огромные усилия, чтобы его убедить. Настоятельница, обычно соблюдавшая обет строгого молчания, но обуреваемая желанием высказаться, поднялась и разразилась речью с неудержимостью потока, хлынувшего в открытый шлюз.
— По правую руку мою — Бенедикт, по левую — Бернар. Кто такой Бернар? Он первый настоятель Клерво-Фонтен в Бургундии — место благословенное, ибо там он появился на свет. Отца его звали Теселином, а мать Алетой. Свой подвиг он начал в Сито, а закончил в Клерво; в настоятели он был рукоположен епископом Шалона-на-Соне, Гильомом де Шампо. У него было семьсот послушников, он основал сто шестьдесят монастырей; он поверг во прах Абеляра на Санском соборе в тысяча сто сороковом году, а также Пьера де Брюи и его ученика Генриха и других заблудших, которые именовались «апостольскими учениками»; он смутил Арно из Брешии, разгромил монаха Рауля, убийцу евреев; в тысяча сто сорок восьмом году он диктовал свою волю собору в Реймсе, осудил Жильбера де ла Поре, епископа Пуатье, осудил Зона де л’Этуаль, уладил распри между принцами, обратил в истинную веру Людовика Младшего, давал советы папе Евгению Третьему, руководил монастырем Тампль, проповедовал крестовый поход, сотворил двести пятьдесят чудес в течение своей жизни, творя иногда по тридцати девяти чудес в день. Кто такой Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассини; это второй основоположник монастырских уставов, это Василий Великий Запада. Учрежденный им орден дал сорок пап, двести кардиналов, пятьдесят патриархов, тысячу шестьсот архиепископов, четыре тысячи шестьсот епископов, четырех императоров, двенадцать императриц, сорок шесть королей, сорок одну королеву, три тысячи шестьсот канонизированных святых и существует уже тысячу четыреста лет. С одной стороны, святой Бернар; с другой — уполномоченный санитарной комиссии! С одной стороны, святой Бенедикт; с другой — инспектор городских свалок! Государство, инспекция, бюро похоронных процессий, правила, администрация — какое нам до этого дело? Любой встречный был бы возмущен, если бы увидел, как с нами обходятся. Мы не имеем даже права отдавать прах наш Иисусу Христу! Ваша санитарная комиссия — это революционная выдумка. Господь, подчиненный полицейскому приставу, — вот наш век! Молчите, Фован!
Под этим ливнем слов Фошлеван чувствовал себя не в своей тарелке. Настоятельница продолжала:
— В праве монастыря на погребение никто не сомневается. Только фанатики и еретики отрицают его. Мы живем в эпоху страшных заблуждений. То, о чем следует знать, никому не ведомо, а ведомо то, о чем знать не следует. Люди невежественны и нечестивы. В наше время находятся среди них такие, что не делают различия между Бернаром, величайшим из святых, и так называемым Бернаром Бедных католиков, добрым священником, жившим в тринадцатом веке. А иные доходят до такого богохульства, что сравнивают казнь Людовика Шестнадцатого на эшафоте с казнью Иисуса Христа на кресте. Людовик Шестнадцатый был всего только королем. Убоимся же гнева господня! Нет больше ни праведного, ни неправедного. Все знают имя Вольтера, но никто не знает имени Цезаря де Бюса. Между тем Цезарь де Бюс был блаженный, а Вольтер — просто блажной. Последний архиепископ, кардинал Перигор, не знал даже, что Шарль де Гондран был преемником Берюля, а Франсуа Бургуэн — преемником Гондрана, а Жан-Франсуа Сэно — преемником Бургуэна, а отец Сент-Март — преемником Жана-Франсуа Сэно. Все знают имя отца Котона, но не потому, что он был одним из трех основателей Оратории, а потому, что дал предлог для бранной поговорки короля-гугенота Генриха Четвертого. Сердцу мирских людей святой Франсуа Сальский любезен потому, что он плутовал в карточной игре. А после этого нападают на религию. Почему? Потому что были дурные пастыри, потому что епископ Гапский был братом Салона, епископа Амбренского, и потому что оба они были последователями Момоля. Ну и что же? Разве это помешало Мартину Турскому остаться святым и отдать половину своего плаща нищему? Святых преследуют. Закрывают глаза на истину. Привыкли к мраку. А самые свирепые звери — звери слепые. Никто всерьез не думает об аде. О негодный народ! «Именем короля» означает ныне «именем революции»; люди забыли свой долг и в отношении живых, и в отношении мертвых. Умирать, как должно праведнику, воспрещено. Погребение стало делом гражданских властей. Это ужасно. Его святейшество Лев Второй написал по этому поводу два обращения — одно к Пьеру Нотеру, другое к королю вестготов, с целью оспорить и низвергнуть главенство экзарха и верховную власть императора в вопросах, касающихся усопших. Готье, епископ Шалонский, дал по этому же поводу отпор Отону, герцогу Бургундскому. Прежде магистратура держалась того же мнения. В былое время, в капитуле, мы имели право высказываться и по мирским делам. Аббат Сито, генерал ордена, был почетным советником в бургундской судебной палате. Мы поступаем с нашими усопшими так, как считаем нужным. Разве прах святого Бенедикта не покоится во Франции в аббатстве Флери, именуемом Сен-Бенуа-на-Луаре, хотя он скончался в Италии, в Монте-Кассини, в субботу двадцать первого марта пятьсот сорок третьего года? Все это неоспоримо. Я презираю гнусавых псалмопевцев, терпеть не могу приоров, питаю отвращение к еретикам, но еще больше я возненавижу того, кто станет мне противоречить. Довольно перелистать Арну Виона, Габриэля Буселена, Тритема, Мороликуса и Люка д’Ашери, чтобы всякий согласился со мною.
Настоятельница перевела дух и обратилась к Фошлевану:
— Решено, дедушка Фован?
— Решено, честна́я мать.
— Можно на вас рассчитывать?
— Я буду повиноваться.
— Отлично.
— Я всей душой предан монастырю.
— Хорошо. Вы заколотите гроб. Сестры отнесут его в часовню. Там отслужат панихиду. Затем все вернутся в монастырь. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи вы придете с вашим железным брусом. Все будет совершено в величайшей тайне. В часовне будут находиться только четыре матери-певчие, мать Вознесение и вы.
— А сестра, которая стоит у столба?
— Она не обернется.
— Но она услышит.
— Она не будет слушать. Кроме того, что ведомо монастырю, то неизвестно миру.
Вновь наступила пауза. Затем настоятельница продолжала:
— Вы снимете ваш бубенчик. Сестре у столба незачем знать о вашем присутствии.
— Честна́я мать!
— Что, дедушка Фован?
— А врач покойников был здесь?
— Он придет сегодня, в четыре часа. Уже прозвонили, чтобы пришел врач. Но вы ведь не слышите никакого звона?
— Я прислушиваюсь только к своему.
— Это похвально, дедушка Фован.
— Честна́я мать, рычаг должен быть по крайней мере шести футов длины.
— Где же вы найдете такой?
— Там, где есть железные решетки, найдутся и железные брусья. У меня куча всякого железного лома в глубине сада.
— Примерно без четверти двенадцать; не забудьте же.
— Честна́я мать!
— Что?
— Если у вас еще когда-нибудь встретится надобность в такой работе, то вспомните о моем брате. Вот это силач! Настоящий турок!
— Вы сделаете все это как можно быстрее.
— Я-то не очень проворен. Я калека; потому мне бы нужен был помощник. Я хромаю.
— Хромота не недостаток, она может быть даже благодатью. У императора Генриха Второго, который ниспроверг лжепапу Григория и восстановил Бенедикта Восьмого, было два имени: «Святой» и «Хромой».
— Конечно, очень хорошо иметь два имения, — пробормотал Фошлеван, который действительно был туговат на ухо.
— Дедушка Фован, пожалуй, возьмем на все это час времени. Это не так уж много. Будьте у главного алтаря с вашим железным брусом в одиннадцать часов ночи. Заупокойная служба начинается в полночь. Надо, чтобы все было кончено по крайней мере за четверть часа до того.
— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать общине мое усердие. Мое слово крепко. Я заколочу гроб. Ровно в одиннадцать я буду в часовне. Там уже будут матери-певчие. Там будет и мать Вознесение. Двое мужчин со всем этим управились бы лучше. Ну да ладно, как-нибудь! У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, спустим туда гроб и опять закроем склеп. И никаких следов! Начальство об этом и подозревать не будет. Честна́я мать, значит, все в порядке?
— Нет.
— Что же еще?
— А пустой гроб?
Это замечание послужило причиной паузы в диалоге. Фошлеван раздумывал. Раздумывала и настоятельница.
— Дедушка Фован, что же делать с гробом?
— Его понесут на кладбище.
— Пустым?
Снова молчание. Фошлеван сделал жест левой рукой, словно отмахиваясь от назойливой мысли.
— Честна́я мать, но ведь я один заколачиваю гроб в нижней церковной комнате, и туда, кроме меня, никто не может войти, я и накрою гроб покровом.
— Да, но когда носильщики будут поднимать гроб на похоронные дроги, а потом опускать его в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой.
— Ах, дья…! — воскликнул Фошлеван.
Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, и пристально взглянула на садовника. Окончание «вол» застряло у него в глотке.
— Честная мать, я насыплю в гроб земли. Будет казаться, что в нем кто-то лежит.
— Вы правы. Земля — то же, что человек. Значит, вы уладите дело с пустым гробом?
— Я беру это на себя.
Лицо настоятельницы, до сей поры мрачное и встревоженное, прояснилось. И начальническим жестом она отпустила своего подчиненного. Фошлеван направился к двери. Когда он переступал порог, настоятельница тихонько окликнула его:
— Дедушка Фован, я вами довольна; завтра после похорон придите ко мне с вашим братом и скажите ему, чтобы он привел с собой девочку.
Глава 4
В которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остена Кастильхо
Шаг хромого похож на подмигивание кривого: они не скоро достигают цели. Кроме того, Фошлеван был растерян. Он потратил около четверти часа, чтобы достигнуть садовой сторожки. Козетта уже проснулась. Жан Вальжан усадил ее возле огня. В то мгновение, когда Фошлеван входил в сторожку, Жан Вальжан, указывая ей на висевшую на стене корзинку садовника, говорил:
— Слушай меня хорошенько, маленькая моя Козетта. Мы должны уйти из этого дома, но мы опять вернемся сюда, и нам здесь будет очень хорошо. Старичок, который тут живет, вынесет тебя отсюда в этой корзине на своей спине. Ты будешь поджидать меня у одной женщины. Я приду за тобой. Главное, если не хочешь, чтобы Тенардье опять тебя забрала, будь послушна и ничего не говори!
Козетта серьезно кивнула головой.
На скрип отворяемой Фошлеваном двери Жан Вальжан обернулся.
— Ну как?
— Все устроено, а толку мало, — ответил Фошлеван. — Мне разрешили привести вас; но прежде чем привести, надо вас отсюда вывести. Вот в чем загвоздка! С малюткой это просто.
— Вы унесете ее?
— А она будет молчать?
— Ручаюсь.
— Ну, а как же вы, дядюшка Мадлен?
После некоторого молчания, в котором чувствовалось беспокойство, Фошлеван воскликнул:
— Да выйдите отсюда той же дорогой, какой вошли!
Как и в первый раз, Жан Вальжан коротко ответил:
— Невозможно.
Фошлеван, обращаясь больше к самому себе, чем к Жану Вальжану, пробурчал:
— Еще и другая вещь беспокоит меня. Я ей сказал, что наложу туда земли. Но мне кажется, что земля в гробу вместо тела… — нет, тут не обманешь, ничего не выйдет, она будет передвигаться, пересыпаться. Носильщики это почувствуют. Понимаете, дядюшка Мадлен, начальство непременно догадается.
Жан Вальжан пристально поглядел на него и подумал, что он бредит.
Фошлеван продолжал:
— Но как же вам, дья… шут его возьми, выйти отсюда? Главное, все это надо уладить до завтрашнего дня! Как раз завтра мне велено привести вас. Настоятельница будет ждать.
И он объяснил Жану Вальжану, что это было вознаграждением за услугу, которую он, Фошлеван, оказывал общине: что в круг его обязанностей входит участие в похоронах, что он заколачивает гробы и помогает могильщику на кладбище; что умершая сегодня утром монахиня завещала положить ее в гроб, который при жизни служил ей ложем, и похоронить в склепе под алтарем часовни; что это воспрещено полицейскими правилами, но усопшая принадлежала к того рода праведницам, предсмертной просьбе которых перечить нельзя; что поэтому мать-настоятельница и прочие монахини намеревались исполнить волю усопшей; что тем хуже для правительства; что он, Фошлеван, заколотит гроб в келье, поднимет в часовне плиту и опустит усопшую в склеп; что в благодарность настоятельница согласна принять в монастырь его брата садовником, а племянницу воспитанницей; что его брат — это он, г-н Мадлен, а племянница — Козетта; что настоятельница приказала привести к ней брата на следующий день вечером, после мнимых похорон на кладбище; что он не может привести в монастырь г-на Мадлена, если тот уже находится внутри монастыря; что в этом заключается первое затруднение; что, наконец, есть и другое затруднение — пустой гроб.
— Какой такой пустой гроб? — спросил Жан Вальжан.
— Казенный гроб.
— Почему гроб? И почему казенный?
— Умирает монахиня. Приходит врач из мэрии, потом он говорит: «Умерла монахиня». Городское начальство присылает гроб. Назавтра оно присылает катафалк и факельщиков, чтобы взять гроб и отвезти его на кладбище. Факельщики придут, поднимут гроб, а внутри — ничего.
— Так положите в него что-нибудь.
— Покойника? Его у меня нет.
— Нет, не покойника.
— А кого?
— Живого.
— Какого живого?
— Меня, — сказал Жан Вальжан. Фошлеван вскочил с места так стремительно, словно под его стулом взорвалась петарда.
— Вас?
— А почему бы нет?
И Жан Вальжан улыбнулся одной из своих редких улыбок, походившей на солнечный луч на зимнем небе.
— Помните, Фошлеван, вы сказали: «Матушка Распятие скончалась», и я добавил: «А дядюшка Мадлен погребен». Так оно и будет.
— Ну, ну, вы шутите, вы это не всерьез говорите!
— Очень даже всерьез. Выйти отсюда надо?
— Ну конечно.
— Говорил я вам, чтобы вы нашли корзину с чехлом и для меня?
— Ну, говорили.
— Корзина будет сосновая, а чехол из черного сукна.
— Во-первых, белого сукна. Монахинь хоронят в белом.
— Пусть будет белое.
— Вы не похожи на других людей, дядюшка Мадлен.
Увидеть, как подобная игра воображения, являющаяся лишь примером дикарской и смелой изобретательности каторги, возникает среди окружающей его мирной обстановки и посягает на то, что он именовал «житьем-бытьем монастырским», было для Фошлевана так же необычайно, как для прохожего увидеть морскую чайку, вылавливающую рыбу из канавы на улице Сен-Дени.
Жан Вальжан продолжал:
— Все дело в том, чтобы выйти отсюда незамеченным. А это и есть такой способ. Но раньше расскажите мне подробности. Как это происходит? Где гроб?
— Пустой гроб?
— Да.
— Внизу, в комнате, которую называют покойницкой. Он стоит на двух подставках и накрыт погребальным покровом.
— Какова длина гроба?
— Шесть футов.
— А какая она, эта покойницкая?
— Это комната в нижнем этаже; в ней есть окно с решеткой, которое выходит в сад и закрывается снаружи ставнями, да двое дверей — одна в монастырь, другая — в церковь.
— В какую церковь?
— В церковь, что на этой улице, в общую церковь.
— У вас есть ключи от этих двух дверей?
— Нет. У меня ключ от двери, ведущей в монастырь; а ключ от двери в церковь у привратника.
— А когда привратник отворяет эту дверь?
— Когда приходят факельщики за гробом. Как вынесут гроб, так сейчас дверь и запирается.
— А кто заколачивает гроб?
— Я.
— Кто накладывает погребальный покров?
— Я.
— Вы бываете один в это время?
— Никто, кроме врача, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано.
— Могли бы вы сегодня ночью, когда все в обители уснут, спрятать меня в этой комнате?
— Нет. Но я могу вас спрятать в темной маленькой каморке рядом с покойницкой, я там держу мои инструменты для погребения, я за ней присматриваю, и у меня есть ключ от нее.
— В котором часу приедет завтра катафалк за гробом?
— В три часа пополудни. Хоронят на кладбище Вожирар, когда свечереет. Кладбище довольно далеко отсюда.
— Я спрячусь в вашей каморке с инструментами на всю ночь и на все утро. Но как быть с едой? Ведь я проголодаюсь.
— Я принесу вам что-нибудь.
— Вы могли бы прийти заколотить меня в гроб часа в два ночи.
Фошлеван отшатнулся и хрустнул пальцами.
— Это невозможно!
— Ба! Трудно ли взять молоток и вбить несколько гвоздей в доски!
То, что Фошлевану казалось неслыханным, для Жана Вальжана было, повторяем, делом простым. Ему приходилось проскальзывать в любые щели. Кто бывал в тюрьме, познал искусство уменьшаться в соответствии с выходом, ведущим на волю. Заключенный так же неизбежно приходит к попытке бегства, как больной к кризису, который исцеляет его или губит. Исчезновение — это выздоровление. А на что только не решаются, лишь бы выздороветь! Дать себя заколотить в ящик и унести, как тюк с товаром, лежать в такой коробке долгое время, находить воздух там, где его нет, часами сберегать дыхание, уметь задыхаться, не умирая, — вот один из мрачных талантов Жана Вальжана.
Впрочем, эта уловка каторжника — гроб, в который ложится живое существо, — была также и уловкой короля. Если верить монаху Остену Кастильхо, то к такому способу, желая в последний раз повидать г-жу Пломб, прибегнул после своего отречения Карл Пятый, чтобы ввести ее в монастырь святого Юста и затем вывести оттуда.
Придя немного в себя, Фошлеван воскликнул:
— Но как же вы будете дышать там?
— Уж как-нибудь буду.
— В этом ящике! Только подумаю об этом, и я уже задыхаюсь.
— У вас, конечно, найдется буравчик, вы просверлите около моего рта несколько дырочек, а верхнюю доску приколотите не слишком плотно.
— Ладно. Ну, а если вам случится кашлянуть или чихнуть?
— Тот, кто спасается бегством, не кашляет и не чихает.
И Жан Вальжан добавил:
— Дедушка Фошлеван, необходимо решиться: дать себя захватить здесь, или выехать отсюда на погребальных дрогах.
Всем известна повадка кошек останавливаться у приотворенной двери и прохаживаться меж ее двух створок. Кто из нас не говорил кошке: «Ну, входи же!» Есть люди, которые, попав в неопределенное положение, так же склонны колебаться между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, внезапно закрывающей для них всякий выход. Слишком осторожные, при всех их кошачьих свойствах и именно благодаря им, иногда подвергаются большей опасности, чем смельчаки. Фошлеван и был человеком такого нерешительного склада. Однако, вопреки его воле, хладнокровие Жана Вальжана покоряло его. Он пробормотал:
— И вправду, другого тут средства не найдешь.
Жан Вальжан продолжал:
— Одно только меня беспокоит, как все это пройдет на кладбище.
— А вот это меня как раз и не тревожит! — воскликнул Фошлеван. — Если вы уверены в том, что выберетесь живым из гроба, то я уверен, что вытащу вас из ямы. Могильщик тамошний — пьяница. Это мой приятель, дядюшка Метьен. Старый пропойца. Мертвец у могильщика в яме, а сам могильщик у меня в кармане. Я вам объясню, как оно все будет. На кладбище мы приедем незадолго до сумерек, за три четверти часа до закрытия кладбищенских ворот. Похоронные дроги доедут до могилы. Я пойду следом; это моя обязанность. У меня с собой будут молоток, долото, клещи. Дроги останавливаются, факельщики обвязывают ваш гроб веревкой и спускают в могилу. Священник читает молитву, крестится, брызгает святой водой — и поминай как звали. Мы остаемся вдвоем с дядюшкой Метьеном. Повторяю, он мой приятель. Одно из двух: или он уже будет пьян, или он еще не будет пьян. Если он не пьян, то я говорю ему: «Идем выпьем по стаканчику, пока не заперли «Спелую айву». Я его увожу, угощаю, — а дядюшку Метьена напоить недолго, он и так-то всегда под мухой, — потом укладываю его под стол, забираю его пропуск на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы уже имеете дело только со мной. Ну, а если он будет уже пьян, то я скажу ему: «Ступай себе, я сам все за тебя сделаю». Он уходит, а я вытаскиваю вас из ямы.
Жан Вальжан протянул ему руку, Фошлеван схватил ее с трогательной сердечностью крестьянина.
— Договорились, дедушка Фошлеван. Все будет хорошо!
«Только бы прошло гладко, — подумал Фошлеван. — А вдруг какая беда стрясется!»
Глава 5
Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным
Назавтра сильно поредевшие к вечеру прохожие обнажали головы, встретив на Менском бульваре старинные похоронные дроги, украшенные изображениями черепов, берцовых костей и стеклянными слезками. На дрогах стоял гроб под белым покровом, на котором виднелся большой черный крест, напоминавший огромную покойницу со свисающими по обе стороны руками. Сзади следовала парадная траурная карета, в которой можно было разглядеть священника в стихаре и маленького певчего в красной скуфейке. Два факельщика в серой одежде с черными галунами шли по левую и по правую сторону похоронных дрог. Сзади плелся хромой старик в одежде рабочего. Шествие направлялось к кладбищу Вожирар.
Из кармана рабочего высовывались ручка молотка, лезвие простого долота и концы клещей.
Кладбище Вожирар представляло исключение среди парижских кладбищ. У него были свои особые порядки, были свои ворота и своя калитка, которые у старожилов квартала, придерживающихся старинных наименований, назывались воротами для всадников и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером и в отдельном углу кладбища, так как этот участок земли некогда принадлежал их общине. Для могильщиков, которые по этой причине работали там летом по вечерам, а зимой по ночам, были установлены особые правила. В те времена ворота парижских кладбищ запирались при закате солнца, а так как приказ этот исходил от городского управления, он распространялся и на кладбище Вожирар. Ворота для всадников и ворота для пешеходов решетками своими соприкасались с двух сторон с павильоном работы архитектора Перроне, в котором жил кладбищенский привратник. Эти решетки неумолимо повертывались на своих петлях в ту самую минуту, когда солнце опускалось за купол Инвалидов. Если к этому времени какой-нибудь могильщик задерживался на кладбище, то у него оставалась только одна возможность выйти оттуда: предъявить свой пропуск, выданный ему бюро похоронных процессий. В ставню окна привратницкой вделано было нечто вроде почтового ящика. Могильщик бросал туда свой пропуск, привратник слышал звук падения, дергал за шнур, и ворота для пешеходов отворялись. Если у могильщика пропуска не было, то он называл свое имя, и тогда привратник, иногда уже спавший, вставал с постели, опознавал могильщика и отпирал ключом ворота; могильщик выходил, уплачивая, однако, пятнадцать франков штрафа.
Это кладбище, со всеми его особенностями, выходящими за рамки общих правил, нарушало административное единообразие. Вскоре после 1830 года кладбище Вожирар закрыли. На его месте возникло кладбище Мон-Парнас, унаследовавшее заодно и граничивший с кладбищем Вожирар знаменитый кабачок, увенчанный нарисованной на доске айвой. Он стоял под углом к столикам посетителей одной своей стороной, а к могилам — другой. На вывеске его значилось: «Под спелой айвой».
Кладбище Вожирар, что называется, отмирало. Им переставали пользоваться. Его завоевывала плесень, цветы покидали его. Буржуа не стремились быть похороненными на кладбище Вожирар; это говорило бы о бедности. Кладбище Пер-Лашез — дело другое! Покоиться на кладбище Пер-Лашез — все равно что иметь обстановку красного дерева. В этом сказывался изящный вкус. Кладбище Вожирар, разбитое по образцу старинных французских садов и обнесенное оградой, было уголком, который внушал чувство почтения. Прямые аллеи, буксы, туи, остролистники, старые могилы, осененные старыми тисами, высокая трава. Вечером от него веяло чем-то трагическим. В его очертаниях чувствовалась мрачная печаль.
Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, появился на аллее, ведущей к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромой старик был не кто иной, как Фошлеван.
Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую — все прошло благополучно, без малейшей заминки.
Заметим мимоходом, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые походят на выполнение долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения их совести. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, — вмешательство, всегда требующее отпора.
Превыше всего монастырский устав; что же касается закона — там видно будет. Люди, сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю — всегда лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти — ничто.
Фошлеван, очень довольный, ковылял вслед за колесницей. Его два тесно связанных друг с другом заговора — один с монахинями, другой с г-м Мадленом, один — в интересах монастыря, другой — в ущерб этим интересам, — удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана была сродни тому нерушимому спокойствию, которое сообщается и другим. Фошлеван больше не сомневался в успехе. То, что теперь оставалось сделать, было пустяком. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьена. Он обводил его вокруг пальца, этого дядюшку Метьена. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал всякому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.
В ту минуту, когда похоронная процессия достигла аллеи, ведущей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал:
— Вот так комедия!
Внезапно катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры с кладбищенским привратником. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.
Фошлеван взглянул на незнакомца.
— Вы кто будете? — спросил он.
Человек ответил:
— Могильщик.
Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как у Фошлевана в эту минуту.
— Могильщик?
— Да.
— Вы?
— Я.
— Могильщиком работает здесь дядюшка Метьен.
— Работал.
— Как это работал?
— Он умер.
Фошлеван приготовился к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем это так; могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою собственную.
Фошлеван остолбенел. Он насилу пролепетал, заикаясь:
— Не может этого быть!
— Это так.
— Но, — слабо возразил Фошлеван, — могильщик — это же дядюшка Метьен.
— После Наполеона — Людовик Восемнадцатый. После Метьена — Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина.
Весь побледнев, Фошлеван всматривался в этого Грибье.
То был высокий, тощий, землисто-бледный, весьма мрачный человек. Он походил на неудачливого врача, который взялся за работу могильщика.
Фошлеван расхохотался.
— Ну что за потешные вещи случаются на свете! Дядя Метьен умер. Умер добрый дядюшка Метьен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. А! Он умер, старина Метьен! Да, жаль; он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Не правда ли, приятель? Мы сейчас отправимся вместе пропустить стаканчик.
Человек ответил:
— Я получил образование. Я окончил четыре класса. Я никогда не пью.
Погребальные дроги снова тронулись в путь и покатили по главной аллее кладбища.
Фошлеван замедлил шаги. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.
Могильщик шел впереди.
Фошлеван принялся снова оглядывать этого свалившегося с неба Грибье.
Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны.
— Приятель! — окликнул его Фошлеван.
Человек обернулся.
— Я могильщик из монастыря.
— Мой коллега, — ответил человек.
Фошлеван, хотя и малограмотный, но очень проницательный малый, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.
Он проворчал:
— Значит, дядюшка Метьен умер.
Человек ответил:
— Окончательно. Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метьену. И дядюшка Метьен умер.
Фошлеван повторил машинально:
— Господь бог…
— Да, господь бог, — внушительно заявил человек. — Для философов он — отец предвечный; для якобинцев — верховное существо.
— Разве мы не познакомимся с вами поближе? — пролепетал Фошлеван.
— Мы уже это сделали. Вы деревенщина, я парижанин.
— Пока не выпьешь вместе — по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку, раскупоришь и душу. Идем выпьем. От этого не отказываются.
— Нет, дело прежде всего.
«Я пропал», — подумал Фошлеван.
До маленькой аллейки, ведущей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось всего лишь несколько шагов.
Могильщик заговорил снова:
— Деревенщина, у меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.
И с удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:
— Их голод — враг моей жажды.
Похоронные дроги обогнули купу кипарисов, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав прямо по траве, они углубились в чащу деревьев. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свои шаги, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая и размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла их ход.
Он приблизился к могильщику.
— Там есть такое отличное аржантейльское вино, — прошептал он.
— Поселянин, — снова заговорил человек, — мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Пританэ. Он предназначал меня к литературной карьере. Но на него свалились всякие несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Однако я и сейчас работаю общественным писцом.
— Значит, вы не могильщик? — воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту, столь хрупкую, веточку.
— Одно не мешает другому. Я совмещаю.
Фошлеван не понял последнего слова.
— Идем выпьем, — сказал он.
Тут необходимо сделать замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, насчет одного пункта умалчивал, а именно: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник преднамеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Что касается его самого, Фошлевана, то, несмотря на все свое волнение, он и не думал раскошеливаться.
Могильщик продолжал, высокомерно улыбаясь:
— Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. Когда получаешь почти законченное образование, становишься философом. К работе пером я добавил работу заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы его знаете? На Зонтичном рынке. Все кухарки из госпиталей Красного Креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатикам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам — копаю могилы. Такова-то жизнь, селянин!
Похоронные дроги подвигались вперед. Фошлеван, тревога которого дошла до последнего предела, озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.
— А между тем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.
Дроги остановились.
Из траурной кареты вышел маленький певчий, за ним священник.
Одно из передних колес катафалка слегка задело кучку земли, по другую сторону которой виднелась отверстая могила.
— Вот так комедия! — растерянно повторил Фошлеван.
Глава 6
Меж четырех досок
Кто лежал в гробу? Мы знаем. Жан Вальжан.
Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было пусть с трудом, но дышать.
Удивительно, до какой степени от спокойствия совести зависит спокойствие человека вообще. Вся затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя вообразить положение более критическое; нельзя вообразить спокойствие более безмятежное.
От четырех гробовых досок веяло каким-то умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.
Из глубины этого гроба он мог следить, и следил, за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.
Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. По более редким толчкам он почувствовал, что с мостовой съехали на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжает Аустерлицкий мост. При первой остановке он понял, что подъехали к кладбищу; при второй он сказал себе: «Вот могила».
Внезапно он почувствовал, что гроб приподнят руками, потом послышалось какое-то резкое трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.
Затем у него как будто закружилась голова.
По всей вероятности, факельщик и могильщик покачнули гроб и опустили его вниз изголовьем. Жан Вальжан пришел окончательно в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.
Он ощутил какой-то особенный холод.
Леденящий торжественный голос раздался над ним. Он услыхал, как медленно — так медленно, что он мог уловить каждое из них, — над ним произносились латинские слова, которых он не понимал:
«Qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper»[541].
И детский голос ответил:
«De profundis»[542].
Суровый голос продолжал:
«Requiem aeternam dona ei, Domine»[543].
Детский голос ответил:
«Et lux perpetua luceat ei»[544].
Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.
Он подумал: «Это должно скоро кончиться! Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».
Суровый голос возгласил вновь:
«Requiescat in pace»[545].
И детский голос ответил:
«Amen»[546].
Жан Вальжан, напрягши слух, уловил нечто вроде звука удаляющихся шагов.
«Вот они и уходят, — подумал он, — я один».
Вдруг он услыхал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.
То был ком земли, упавшей на гроб.
Упал второй ком.
Одно из отверстий, через которые он дышал, забилось землей.
Упал третий ком.
Затем четвертый.
Есть вещи, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.
Глава 7
Из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.
Когда похоронные дроги удалились, когда священник и маленький певчий уселись в траурную карету и отъехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.
Тогда Фошлеван принял отчаянное решение.
Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:
— Я плачу́!
Могильщик удивленно взглянул на него.
— Что такое, деревенщина?
Фошлеван повторил:
— Я плачу́!
— За что?
— За вино.
— Какое вино?
— Аржантейльское.
— Где оно, твое аржантейльское?
— В «Спелой айве».
— Пошел к черту! — выругался могильщик.
И сбросил в могилу лопату земли.
Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:
— Приятель, поторопимся же, пока «Спелая айва» еще не закрыта!
Могильщик снова набрал на лопату земли. Фошлеван продолжал:
— Я плачу́!
И он схватил могильщика за локоть.
— Послушайте-ка, приятель. Я монастырский могильщик, я пришел подсобить вам. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем глотнем стаканчик.
И, продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал над следующим: «А вдруг он и выпьет, да не охмелеет?»
— Провинциал, если вам так этого хочется, я согласен, — сказал могильщик. — Выпьем. Но после работы, никак не раньше.
И он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.
— Это аржантейльское вино, по шесть су которое!
— Ах, вы, звонарь! — сказал могильщик. — Динь-дон, динь-дон, только одно и знаете. Пойдите прогуляйтесь.
И он сбросил вторую лопату земли.
Фошлеван дошел до такого состояния, что сам уже не понимал, что говорит:
— Да идемте же выпьем, — крикнул он, — ведь платить-то буду я!
— После того как уложим ребенка спать, — ответил могильщик.
И он сбросил третью лопату земли.
Затем, воткнув ее в землю, он добавил:
— Видите ли, сегодня ночью будет холодно, и покойница начнет звать нас, если мы бросим ее здесь без одеяла.
В это мгновение, набирая лопатой землю, могильщик нагнулся, и карман его блузы раскрылся.
Блуждающий взгляд Фошлевана случайно упал на этот карман и задержался на нем.
Солнце еще не скрылось за горизонтом; было достаточно светло, чтобы можно было разглядеть в глубине этого кармана что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули так ярко, насколько это мыслимо для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенила одна мысль.
Осторожно, чтобы могильщик, занятый лопатой, ничего не заметил, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил из этого кармана лежавший в нем белый предмет.
Могильщик сбросил в могилу четвертую лопату земли.
Когда он обернулся, чтобы набрать пятую, Фошлеван, взглянув на него с самым невозмутимым видом, сказал:
— Кстати, новичок, а пропуск у вас при себе?
Могильщик остановился.
— Какой пропуск?
— Но ведь солнце-то заходит.
— Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.
— Сейчас запрут кладбищенскую решетку.
— И что же дальше?
— А пропуск у вас при себе?
— Ах, пропуск! — понял могильщик.
И стал шарить в кармане.
Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.
— Нет, — сказал он, — у меня нет пропуска… Должно быть, забыл его дома.
— Пятнадцать франков штрафу, — заметил Фошлеван.
Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.
— О-Иисусе-Христе-сверни-шею-луне! — воскликнул он. — Пятнадцать франков штрафу!
— Три монеты по сто су, — уточнил Фошлеван.
Могильщик выронил лопату.
Теперь настал черед Фошлевана.
— Ну, ну, юнец, — сказал Фоншлеван, — не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков — это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не уплачивать. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно: солнце заходит, оно достигло уже купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.
— Это верно, — ответил могильщик.
— За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут решетку.
— Правильно.
— В таком случае, с вас пятнадцать франков штрафу.
— Пятнадцать франков!
— Но время не потеряно… Где вы живете?
— В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.
— Время не потеряно, если вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.
— Это точно.
— Как только вы окажетесь за воротами, вы мчитесь домой, хватаете ваш пропуск, бежите обратно, привратник впускает вас. А раз у вас будет пропуск, ничего платить не придется. И тогда уже вы зароете вашего покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.
— Я обязан вам жизнью, провинциал.
— Убирайтесь-ка поскорей, — сказал Фошлеван.
Вне себя от радости, могильщик потряс ему руку и пустился бежать.
Когда он скрылся в чаще деревьев и последний звук его шагов замер, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:
— Дядюшка Мадлен.
Никакого ответа.
Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а прямо скатился в могилу, припал к изголовью гроба и закричал:
— Вы здесь?
В гробу царила тишина.
Фошлеван, еле переводя дух, так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал верхнюю доску у крышки гроба. В сумеречном свете перед ним появилось лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.
У Фошлевана волосы на голове встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.
Жан Вальжан лежал недвижимо, мертвенно-бледный.
Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:
— Он умер!
И, снова выпрямившись, он так яростно скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.
— Так вот как я спас его! — вскричал он.
Бедняга принялся всхлипывать и разговаривать с самим собой. Ошибочно думать, что монолог не свойственен человеческой природе. Сильное волнение нередко говорит о себе во всеуслышание.
— В этом виноват дядюшка Метьен, — причитал он. — С какой стати он умер, этот дуралей? Ну зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ждал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен! Вот он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка, что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, возможно ли это? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я ведь говорил. Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка для-ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я остаюсь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было двум старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться двумя старыми дураками. Как же он все-таки попал в монастырь? С этого и началось. Не следует проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Он не слышит. Ну попробуйте-ка теперь из этого выкрутиться!
И он стал рвать на себе волосы.
Издали из-за деревьев послышался пронзительный скрип. Запирали кладбищенскую решетку.
Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном и вдруг подскочил и отшатнулся назад, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты, и они смотрели на него.
Видеть смерть жутко, видеть воскресение — почти так же жутко. Фошлеван точно окаменел: бледный, растерянный, потрясенный всеми этими чрезмерными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.
— Я уснул, — сказал Жан Вальжан.
И он привстал на своем ложе.
Фошлеван упал на колени.
— Пресвятая дева! Ну и напугали вы меня!
Затем он поднялся и крикнул:
— Спасибо, дядюшка Мадлен!
Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в сознание.
Радость — это отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.
— Так вы не умерли! Ну, до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, то я сказал себе: «Так, ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Ну что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы, вот счастье-то!
— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.
Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти двое людей, даже придя в себя, продолжали, сами того не понимая, испытывать душевное смятение, в них говорило какое-то необычайное чувство, порожденное мрачной затерянностью этого места.
— Уйдем скорее отсюда! — воскликнул Фошлеван.
Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.
— Но сначала хлебните водочки, — сказал он.
Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и вполне овладел собой.
Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.
Через три минуты они выбрались из могилы.
Впрочем, Фошлеван был спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал свой пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.
Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.
Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:
— Идем. Я беру лопату, а вы несите заступ.
Дело шло к ночи.
Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В этом гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.
— Вы окоченели? — спросил Фошлеван. — Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.
— Пустяки! — ответил Жан Вальжан. — Два-три шага, и я снова научусь ходить.
Они направились теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертой решетки и павильона привратника, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, привратник дернул за шнур, дверь открылась, и они вышли.
— Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! — сказал Фошлеван.
Они спокойно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.
Улица Вожирар была пустынна.
— Дядюшка Мадлен, — сказал Фошлеван, подвигаясь вперед и всматриваясь в дома, — вы видите лучше моего. Покажите-ка мне, где номер восемьдесят седьмой?
— Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан.
— На улице никого нет, — продолжал Фошлеван. — Дайте мне заступ и подождите здесь минутку.
Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верхний этаж, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и постучался в темноте в дверь мансарды. Чей-то голос ответил:
— Войдите.
То был голос Грибье.
Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все эти убогие жилища, представляла собою лишенную мебели тесную каморку. Какой-то ящик для упаковки товара — может быть, и гроб — служил комодом, горшок из-под масла — посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и несколько детей. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло какое-то «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты с места, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было очевидно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая свой пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, — от кружки до своей жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.
Но Фошлеван слишком торопился к развязке приключения, чтобы обращать внимание на печальную сторону своего успеха.
Войдя, он заявил:
— Я принес вам ваши заступ и лопату.
Грибье изумленно взглянул на него.
— Это вы, поселянин?
— А завтра утром у кладбищенского привратника вы получите ваш пропуск.
И он положил на пол лопату и заступ.
— Что это значит? — спросил Грибье.
— Это значит, что вы выронили из кармана ваш пропуск, что, когда вы ушли, я его нашел на земле, что я похоронил покойницу, что я засыпал могилу, что я выполнил вашу работу, что привратник вернет вам ваш пропуск и что вы не будете платить пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!
— Благодарю, провинциал! — вскричал восхищенный Грибье. — В следующий раз за выпивку плачу я!
Глава 8
Удачный допрос
Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал.
Это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта.
Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на улицу Зеленая дорога, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктовщица задавала ей тысячу вопросов, получая в ответ лишь все тот же угрюмый взгляд. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение этих двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Впрочем, лучше всех хранят тайну дети.
Но когда после этих мрачных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что, услышь его человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье спасения из бездны.
Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним открылись.
Так была разрешена двойная и страшная задача: выйти и войти.
Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер маленькую служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз против входных ворот. Привратник впустил всех троих через эту калитку, и они дошли до той внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.
Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек единственной свечи освещал, вернее, силился осветить приемную.
Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Всего зорче — взгляд из-под опущенных век.
Затем она стала его расспрашивать:
— Вы его брат?
— Да, честная мать, — ответил Фошлеван.
— Ваше имя?
Фошлеван ответил:
— Ультим Фошлеван.
У него действительно был когда-то брат Ультим, давно умерший.
— Откуда вы родом?
Фошлеван ответил:
— Из Пикиньи, близ Амьена.
— Сколько вам лет?
Фошлеван ответил:
— Пятьдесят.
— Какова ваша профессия?
Фошлеван ответил:
— Садовник.
— Добрый ли вы христианин?
Фошлеван ответил:
— В нашей семье все добрые христиане.
— Это ваша малютка?
Фошлеван ответил:
— Да, честная мать.
— Вы ее отец?
Фошлеван ответил:
— Я ее дедушка.
Мать-изборщица заметила настоятельнице вполголоса:
— Он отвечает разумно.
Жан Вальжан не произнес ни слова.
Настоятельница внимательно оглядела Козетту и тихонько сказала матери-изборщице:
— Она будет дурнушкой.
Обе монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:
— Дедушка Фован, вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.
И правда, на следующий день в саду уже раздавался звон двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушения приподнять кончик своего покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю — Фован и кто-то другой. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено до такой степени, что монахини даже стали сообщать друг другу: «Это помощник садовника».
А матери-изборщицы присовокупляли: «Это брат дедушки Фована».
Действительно, Жан Вальжан вступил в должность, согласно всем правилам; у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Его звали Ультим Фошлеван.
Решающей причиной согласия принять его на службу явилось соображение настоятельницы относительно Козетты: «Она будет дурнушкой».
Предсказав это, настоятельница тотчас же почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.
Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность; поэтому девушки, сознающие свою красоту, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда и вытекает живой интерес к дурнушкам.
Все это происшествие возвеличило добряка Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах монастырской обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матушки Распятие под своим алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб — на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был серьезно подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была очень велика. Фошлеван стал считаться лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. При ближайшем же посещении монастыря архиепископом настоятельница рассказала обо всем его преосвященству, как будто бы и каясь слегка, но вместе с тем и похваляясь. Архиепископ, покинув монастырь, с одобрением шепнул об этом г-ну де Латилю, духовнику его высочества, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. На этом слава Фошлевана не остановилась, она дошла и до самого Рима. Мы собственными глазами видели записку папы Льва XII, адресованную к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию делла Женга; в ней можно прочесть следующие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода дынные грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в «Illustrated London News»[547], со следующей подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».
Глава 9
Жизнь в заточении
Козетта и в монастыре продолжала молчать.
Козетта, что было вполне естественно, считала себя дочерью Жана Вальжана. Но ничего не зная, она ничего и не могла рассказать, а если б и знала, все равно никому не сказала бы. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, — мы недавно упомянули об этом. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. Довольно быстро освоилась она с монастырем. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».
Сделавшись воспитанницей монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионерок. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали сброшенную ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он переодел ее, когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платьице вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в маленький чемодан, который умудрился себе раздобыть, пересыпав все камфорой и благовонными веществами, столь распространенными в монастырях. Этот чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него всегда носил при себе. «Отец, — однажды спросила его Козетта, — что это за ящик, который так хорошо пахнет?»
Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая сильное пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.
Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».
Если бы эти святые души обладали хотя бы долей проницательности Жавера, то заметили бы в конце концов, что всякий раз, когда приходилось отправляться за пределы монастыря по каким-нибудь надобностям, касающимся садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромой Фошлеван-старший, а другой — никогда. Но потому ли, что взор, всегда устремленный к богу, не умеет шпионить, потому ли, что монахини предпочтительно были заняты тем, что следили друг за другом, они на это не обращали внимания.
Впрочем, счастье Жана Вальжана, что он оставался в тени, нигде не показываясь. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.
Этот монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Отныне эти четыре стены представляли для него вселенную. Там он мог видеть небо — этого было достаточно для душевного спокойствия, и Козетту — этого было достаточно для счастья.
Для него вновь началась жизнь, полная отрады.
Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. Этот домишко, построенный из всяких строительных отходов и еще существовавший в 1845 году, состоял, как известно, из трех совершенно пустых, с голыми стенами, комнат. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, кроме двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим.
КАТОЛИЧЕСКАЯ
Именем короля
Равноценно десяти ливрам.
За предметы, поставляемые
армии.
Подлежит оплате по установлении мира.
серия 3
№ 10390
Стоффле
И КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ
Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого и заместил Фошлеван.
Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он воспользовался ими. Почти все деревья в саду одичали; он привил их, и они вновь стали приносить превосходные плоды.
Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Так как сестры были всегда мрачны, а он приветлив, то ребенок, сравнивая его с ними, обожал его. В определенный час девочка прибегала в сторожку. С ее приходом там воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье возрастает от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.
Ибо Козетта теперь смеялась.
Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное свое выражение. Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица.
Когда по окончании рекреации Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.
Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с прочими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.
На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.
Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в те времена, которые можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, — отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их между собою.
Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бескрайней винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.
Он вспоминал былых своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до глубокой ночи; им едва оставалось время для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; одеты они были в красные, ужасные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особо тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили, не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклейменные позором.
Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.
И эти существа также были острижены, жили также не поднимая глаз, не повышая голоса, и если не позор был их уделом, то людские насмешки, если спина их не была изранена палкой, то плечи истерзаны бичеванием. Их имена были также утрачены для мира; существовали они лишь под суровым условным прозвищем. Никогда не вкушали они мяса, никогда не пили вина; часто до самого вечера ничего не ели; одеты они были не в красные куртки, а в шерстяной черный саван, слишком тяжелый для лета, слишком легкий для зимы, и не имели права ничего от своей одежды убавить и ничего к ней добавить; не имели даже, в зависимости от времени года, ни холщового одеяния, ни шерстяной верхней одежды в запасе; и шесть месяцев в году они носили грубую шерстяную сорочку, от которой их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец им даже не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, изнеможенные, они, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной часовни.
Бывали дни, когда каждое из этих созданий обязано было, поочередно, двенадцать часов подряд стоять коленопреклоненным на каменных плитах пола или лежать, распростершись ниц на земле, крестом раскинув руки.
Те существа были мужчины; эти — были женщины.
Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были бандиты, фальшивомонетчики, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.
Там — разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, человекоубийство, все виды кощунства, все разнообразие преступлений; здесь же — только невинность.
Невинность чистейшая, почти вознесенная в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая к небу своею святостью.
Там — признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь — исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!
Там — миазмы, здесь — благоухание. Там — нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных; здесь — чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там — мрак, здесь — тень; но тень, полная озарений, и озарения, полные лучезарного света.
Одно и другое — места рабства; но в первом — возможность освобождения, предел, всегда предопределенный законом, наконец, побег. Во втором — рабство пожизненное; единственная надежда — и лишь в самом отдаленном будущем — тот брезжущий луч свободы, который люди называют смертью.
К первому прикованы лишь цепями; ко второму прикованы своей верой.
Что исходит из первого? Неслыханные проклятия, скрежет зубовный, ненависть, отчаявшаяся злоба, яростный вопль против человеческого общества, хула на небеса.
Что исходит из второго? Благословение и любовь.
И вот в этих столь схожих и столь различных местах два вида существ, столь разных, совершали одно и то же дело — искупление.
Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, — искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупления чужих грехов, взятого на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего? Какое искупление?»
И голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия — искупление чужих грехов».
Собственное наше мнение по этому поводу мы оставляем про себя, ибо являемся здесь лишь рассказчиком; мы просто становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.
Перед ним была высшая ступень самоотверженности, высочайшая вершина возможной добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, приятие мученичества, страдание, о котором взывают души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.
И тогда Жан Вальжан думал о том, что он осмеливался еще роптать!
Нередко он вставал среди ночи, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод пробегал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто был наказан справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства и что он, несчастный, тоже восставал когда-то против бога.
Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоленные ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение — все усилия, совершенные им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это судьбы его? Он глубоко размышлял над этим, словно внимая тихому, предупреждающему голосу самого провидения.
Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, однако никогда он не мог себе представить ничего подобного.
Он увидел вновь решетки, замки, железные засовы; кого же должны были они стеречь? Ангелов.
Он видел некогда, как эти высокие стены окружали тигров; теперь он видит их опять, но вокруг овечек.
Это было место искупления, а не наказания; между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то, другое. Эти девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, — ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранный решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?
Когда он думал над этим, то все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого.
При подобных размышлениях гордость исчезает. Он со всех сторон разбирал себя и, осознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение этих шести месяцев, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта — путем любви, монастырь — путем смирения.
Порой, по вечерам, в сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, что возле часовни, стоящим на коленях под тем окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, и повернувшимся в ту сторону, где, как он знал, лежала распростертой в искупительной молитве сестра-монахиня. И он молился, коленопреклоненный перед нею.
Казалось, перед богом он не осмеливается преклонить колена.
Все, что окружало его, — этот мирный сад, эти благоухающие цветы, эти дети, эти радостные возгласы, эти серьезные и простые женщины, этот тихий монастырь, — медленно овладевало им, и постепенно в душу его проникли тишина этого монастыря, благоухание этих цветов, мир этого сада, простота этих женщин, радость этих детей. И он думал, что то были два божьих дома, один вслед за другим приютивших его в роковые минуты его жизни: первый — когда все двери были закрыты для него и человеческое общество оттолкнуло его; второй — когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь открывалась перед ним каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.
Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.
Так протекло много лет; Козетта подрастала.
Часть III МАРИУС
Книга I Париж, изучаемый по атому
Глава 1
Parvulus[548]
У Парижа есть ребенок, а у леса — птица; птица зовется воробьем, ребенок — гаменом.
Сочетайте оба эти понятия — пещь огненную и утреннюю зарю, дайте обеим этим искрам — Парижу и детству — столкнуться, — возникнет маленькое существо. Homuncio[549], сказал бы Плавт.
Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не всякий день случается поесть, но в театр, если вздумается, этот человечек ходит всякий вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой; он вечно рыщет, что-то ищет, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чем свет стоит, шляется по кабачкам, знается с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина — невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек еще ребенок, богу угодно, чтобы он оставался невинным.
Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» — он ответил бы: «Мое дитя».
Глава 2
Некоторые отличительные его признаки
Парижский гамен — это карлик при великане.
Не будем преувеличивать: у нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная; у него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок; у него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа; свои метафоры: умереть на его языке называется «сыграть в ящик»; свои ремесла: приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожный сбор за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями; у него свои деньги: подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти курьезные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу.
Есть у него также и своя фауна, за ней он прилежно наблюдает по закоулкам: божья коровка, тля «мертвая голова», паук «коси-сено», «черт» — черное насекомое, которое угрожающе крутит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище; брюхо чудовища покрыто чешуей — но это не ящерица, на спине бородавки — но это не жаба; живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах; оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел; он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями — удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие — быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится интересными находками, на какие там можно набрести. На дровяных складах монастыря урсулинок водятся уховертки, близ Пантеона — тысяченожки, во рвах Марсова поля — головастики.
Что касается «словечек», то у этого ребенка их не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но порядочней его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника сумасшедшим хохотом. Гамма его настроений легко переходит от высокой комедии к фарсу.
Проходит похоронная процессия. Среди провожающих покойника — доктор. «Гляди-ка, — кричит гамен, — с каких это пор доктора сами доставляют свою работу?»
Другой затесался в толпу. Солидный мужчина в очках, при брелоках, возмущенно оборачивается: «Негодяй, как ты смеешь «хватать талию» моей жены?» — «Что вы, сударь! Можете обыскать меня».
Глава 3
Он не лишен привлекательности
По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, homuncio отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преображается. Он был гаменом, он становится «тюти»[550]. Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тюти. Между тюти и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой; то же существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз.
Одарите живое существо всем бесполезным и отнимите у него все необходимое — и вы получите гамена.
Гамен не лишен литературного чутья. Однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей гамен мало академичен. Так, например, м-ль Марс пользовалась у этих юных и буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее «мадемуазель Шептунья».
Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется; оно обмотано в тряпки, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвыш что-то удит в сточных водах, за чем-то охотится по клоакам; в самых нечистотах находит предмет веселья; вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках; издевается, свистит, язвит и напевает; равно готов и обласкать, и оскорбить; способен умерить торжественность «Аллилуйи» какой-нибудь залихватской «Матантюрлюретой»; петь на один лад все существующие мелодии, от «упокой господи» до озорных куплетов включительно. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает, обнаруживает спартанскую непреклонность даже в плутнях, легкомыслие — даже в благоразумии, лиризм — даже в сквернословии. С него сталось бы присесть под кустик и на Олимпе; он мог бы вываляться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен — это Рабле в миниатюре.
Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов.
Он редко бывает удивлен, еще реже — испуган. Высмеивает в песенках суеверия, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью. Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки; нисколько! Он просто склонен рассматривать торжественные видения как шуточные фантасмагории. Предстань пред ним Адамастор, гамен, наверное, сказал бы: «Вот так чучело!»
Глава 4
Он может быть полезным
Париж начинается зевакой и кончается гаменом — двумя существами, каких неспособен породить никакой иной город; пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевака — воплощение монархического начала. Гамен — анархического.
Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, «зацветает» и «расцветает» в страданиях, в гуще социальной действительности и людских дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь Предрассудком, Злоупотреблением, Подлостью, Угнетением, Насилием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, берегитесь гамена, хотя он и глазеет, разинув рот.
Этот малыш вырастет.
Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут — и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Дайте срок, currit rota[551], и дух Парижа, этот демон, равно создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору.
Глава 5
Границы его владений
Гамен любит город, но, поскольку в гамене живет мудрец, он любит также и уединение. Urbis amator[552], как Фуск; ruris amator[553], как Гораций[554].
Бродить, предаваясь раздумью, то есть прогуливаться прогулки ради, — самое подходящее времяпрепровождение для философа. В особенности же бродить по этому подобию деревни, по этой ублюдочной, достаточно безобразной, но своеобычной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и в частности Париж. Наблюдать окраины — все равно что наблюдать амфибию. Конец деревьям — начало крышам, конец траве — начало мостовой, конец полям — начало лавкам, конец мирному житью — начало страстям, конец божественному шепоту — начало людскому говору, — вот что придает окраинам особый интерес.
Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности, раз и навсегда заклейменные прохожими эпитетом «печальные».
Пишущий настоящие строки и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами, что служит ныне для него источником неизгладимых воспоминаний. Этот подстриженный газон, эти каменистые тропинки, эта меловая, мергелевая или гипсовая почва, эта суровая монотонность лежащих под паром или невозделанных полей, эти огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, эта смесь дикости с домовитостью, эти обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, эти пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, — все это привлекало его.
Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная, испещренная пулями стена Гренель, Мон-Парнас, Фос-о-Лу, Обье на крутом берегу Марны, Мон-Сури, Томб-Исуар, Пьер-Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь лишь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская Кампанья есть некое обобщенное понятие; парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взорам картинах — значит скользить по поверхности. Все зримые предметы суть мысли божьей. Местность, где равнина сливается с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышатся одновременно и голос природы, и голос человека. Здесь все полно своеобразия.
Тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по примыкающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа, наверное, не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором, или в углу у какой-нибудь мрачной стены, шумные ватаги дурно пахнущей, грязной, запыленной, оборванной, нечесаной, но в венках из васильков, детворы, играющей в денежки. Все это — дети бедняков, покинувшие свой дом. За чертой города им легче дышится. Предместье — их стихия. Они вечно пропадают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно распевают они весь свой репертуар непристойных песен. Это завсегдатаи предместья; вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, катают каменные шарики, загоняя их ударом большого пальца в ямку, и препираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать свой хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Эти необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям.
Иногда в толпе мальчиков попадаются и девочки — их сестры, быть может? — почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатыми лицами, веселые, пугливые, босоногие, с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам.
Париж — центр, его предместья — окружность; вот, в представлении детей, и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им так же не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. За два лье от заставы для них уже пустота; Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази-ле-Руа, Билянкур, Медон, Исси, Ванвр, Севр, Пюто, Нельи, Женевилье, Коломб, Роменвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгьен, Нуази-ле-Сэк, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес — этим кончается вселенная.
Глава 6
Немножко истории
В эпоху, когда происходят описываемые в настоящей книге события, — кстати сказать, почти нам современную, — на углу каждой улицы (благодеяние, о котором здесь не время распространяться) не стоял, как ныне, постовой, и Париж кишел тогда маленькими бродягами. Из статистических данных видно, что полицейскими облавами на неотгороженных пустырях, в строящихся зданиях и под сводами мостов ежегодно задерживалось в среднем до двухсот шестидесяти бесприютных детей. В одном из таких стяжавших себе известность гнезд вывелись «ласточки Аркольского моста». Вообще же говоря, это самый грозный из симптомов всех общественных болезней. Все преступления взрослых людей берут свое начало в бродяжничестве детей.
Однако для Парижа надо сделать исключение. Несмотря на вышеприведенную справку, Париж до известной степени имеет на это право. Тогда как во всяком другом большом городе маленького бродягу можно уже заранее считать человеком погибшим, тогда как почти везде ребенок, предоставленный самому себе, как бы уже самой судьбой обречен погрязнуть в пороках нашего общества, отнимающих у него честь и совесть, парижский гамен, такой искушенный и испорченный с виду, остается — мы настаиваем на этом — внутренне почти нетронутым. Это замечательное явление особенно ярко выражено в изумительной честности наших народных революций, и как в водах океана — соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи. Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу.
Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встречаешь этих детей, за которыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связывавших их с семьей. При нынешнем столь еще несовершенном состоянии цивилизации существование таких распадающихся семей, которые стараются потихоньку освободиться от лишних ртов, равнодушны к участи собственных детей и выбрасывают свое потомство на улицу, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Отсюда происхождение безродных людей. Это печальное явление стало настолько обыденным, что сложилось даже особое выражение «быть выкинутым на парижскую мостовую».
Укажем попутно, что старую монархию отнюдь не беспокоило подобное небрежение к детям. Существование некоторого количества праздношатающихся и бродяг в низших слоях общества устраивало высшие сферы и было на руку власть имущим. «Вред» распространения образования среди детей простого народа был возведен в догму. «Нам не нужны недоучки» — стало требованием дня. А детская невежественность логически вытекает из детской бесприютности.
Впрочем, по временам монархия испытывала нужду в детях и в таких случаях производила очистку улиц.
При Людовике XIV, чтоб не заходить слишком далеко, — по желанию короля, и желанию весьма разумному, — было решено создать флот. Идея сама по себе хорошая, но посмотрим, какими средствами она осуществлялась. Флот немыслим, если наряду с парусными судами, являющимися игрушкой ветра, нет в помощь им также судов, свободно передвигающихся в любом направлении с помощью весел или пара. Место нынешних пароходов в те времена занимали во флоте галеры. Следовательно, нужно было обзавестись галерами. Но галеры не могут плавать без гребцов. Следовательно, нужно было обзавестись гребцами. Кольбер, при посредстве провинциальных интендантов и парламентов, увеличивал, сколько мог, число каторжников. Судейские весьма услужливо шли ему в этом навстречу. Человек не снял шляпы перед проходившей мимо церковной процессией — гугенотская повадка — его отправляли на галеры. Попадался мальчишка на улице, и если только оказывалось, что он уже достиг пятнадцатилетнего возраста и у него нет приюта, — его отправляли на галеры. Великое царствование, великий век!
При Людовике XV в Париже наблюдались случаи исчезновения детей. Полиция похищала их в каких-то неведомых, таинственных целях. Люди с ужасом перешептывались и строили чудовищные предположения относительно ярко-алого цвета королевских ванн. Барбье простодушно повествует об этом. Случалось, что полицейские из-за нехватки детей забирали и таких, у которых были родители. Отцы в отчаянии набрасывались на полицейских. Тогда вмешивался в дело парламент и приговаривал к повешенью. Кого? Полицейских? Нет, отцов!
Глава 7
Гамены могли бы образовать индийскую касту
Парижские гамены — это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ.
Слово «гамен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа, озаглавленного «Клод Ге». Разыгрался шумный скандал. Но слово привилось.
Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, весьма разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что он видел, как человек упал с колокольни собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола Дома инвалидов, и «стибрить» там малую толику свинца. Третий — потому, что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один — потому, что «знавал» солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа.
Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена — глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные: «Господи, боже мой! Какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа!» (Причем мне произносилось, как мине, а этаж, как етаж.)
Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин: «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни; почему ты не позвал доктора?» — «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать самосильно». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное отражение в нижеследующем: преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. «Он разговаривает с попом! — негодующе восклицает дитя Парижа. — Экий трус!»
Некоторая смелость в вопросах религии придает гамену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим.
Присутствовать при казнях — его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шутливые прозвища: «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая (небесная) мамаша», «Последний глоточек» и т. д. и т. д. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен — прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтес — поистине самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканьем. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы: «Я ему завидовал». Никто среди гаменов не слыхал о Вольтере, но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между «политиками» и убийцами. Предание о том, кто какой вид имел в свой последний час, одинаково сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль — в меховой фуражке, Лувель — в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Хватит вам делить вашу корзину!» — крикнул им какой-то гамен. Другой, желая посмотреть, как повезут Дебакера, но из-за малого своего роста ничего не видя в толпе, облюбовывает себе фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм, — просит гамен. И, чтобы задобрить служителя власти, добавляет: — Я не свалюсь». — «А мне-то что, свалишься ты или нет», — ответствует жандарм.
Большое значение придается среди гаменов несчастным случаям. Высший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, «до самой кости», порезаться.
Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак. Излюбленная фраза гамена: «Я здорово сильный. Во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза — весьма ценным качеством.
Глава 8
В которой прочтут об одной милой шутке последнего короля
С наступлением лета гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с какой-нибудь угольной баржи или плота, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил он бросается вниз головой в Сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но, поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от гамена к гамену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопеи элевзинских празднеств, и в нем слышится античное «Эвоэ!». Вот этот клич: «Гей, тютий, ге-эй, не заразись! Фараоны близко, шевелись, собирай свои пожитки, живо, сточной трубы держись!»
Иногда эта мошкара, как они сами себя называют, умеет читать, иногда писать, но рисовать, с грехом пополам, умеет всегда. Какими-то таинственными путями взаимного обучения гамен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848-й — малевал на всех стенах груши. Раз летним вечером Луи-Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гамен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может «попов». Как-то на Университетской улице одного из таких шельмецов застали рисующим нос на воротах дома № 69. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его прохожий. «Здесь живет поп», — ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в гамене силен вольтерьянский дух, он не прочь при случае вступить в церковный хор, и тогда он добросовестно выполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, — это низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны.
Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам. Изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге, читает он в душе полицейских и живо, без запинки, отрапортует вам: «Вот этот — ябеда; этот — злюка; этот — задавака; этот — сущая умора (все эти слова: ябеда, злюка, задавака, умора — имеют в его устах особый смысл); а вот тот вообразил себя хозяином Нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил; а вот у этого прескверная привычка драть людей за уши» и т. д., и т. д.
Глава 9
Древний дух Галлии
Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена — сына рынка; было оно и у Бомарше. Гаменство — разновидность галльского характера. Примешанное к здравому смыслу, оно придает ему порой крепость, как алкоголь вину, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гаменствует. Камилл Демулен был жителем предместий. Шампионе, весьма невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на парижской мостовой. Еще мальчишкой он «орошал» паперти церквей Сен-Жан-де-Бове и Сент-Этьен-дю-Мон. А взяв себе привычку бесцеремонно «тыкать» раке святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого Януария.
Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но прекрасные глаза — потому что он умен. В присутствии самого Иеговы он не постеснялся бы вприпрыжку, на одной ножке, взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости: миг — и сорвиголова становится героем. Подобно маленькому фиванцу, потрясает он львиной шкурой. Барабанщик Бара́ был парижским гаменом. Как конь Священного Писания подает голос: «Гу-гу!», так он кричит: «Вперед!», и мгновенно мальчонка вырастает в великана.
Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бара.
Итак, резюмируем: гамен — существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.
Глава 10
Ессе Paris, ecce homo[555]
А теперь резюмируем еще раз: парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский graeculus[556]. Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе.
Гамен — краса нации и одновременно — ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением.
Учение оздоровляет.
Учение просвещает.
Единственным источником всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей. Дайте им свет знаний, чтобы они могли согревать вас. Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоюет признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется под давлением французской прогрессивной мысли решать, на ком остановить свой выбор: на истинном ли сыне Франции, или на гамене Парижа; на ярком ли пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества.
Гамен — олицетворение Парижа, а Париж — олицетворение мира.
Ибо Париж всеобъемлющ. Париж — мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории, человечества, а в разрывах — небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий — городская ратуша, свой Парфенон — Собор Парижской богоматери, свой Авентинский холм — Сент-Антуанское предместье, свой Азинарий — Сорбонна, свой Пантеон — тоже Пантеон, своя Священная дорога — бульвар Итальянцев, своя Башня ветров — общественное мнение; и он не сбрасывает с Гемоний — он отдает на посмешище. Его majo[557] зовется хлыщом, транстеверинец — жителем предместья, hammal[558] — крючником, ладзарони — мазуриком, кокней — фатом. Все, что существует где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику Еврипидовой зеленщице; дискобол Веян оживает в канатном плясуне Фориозо; воин Ферапонтигон мог бы пройтись под ручку с гренадером Вадебонкером, антикварий Дамасип, наверно, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом; Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажен Агорой в тюрьму; и если Куртилусу принадлежит такое изобретение, как жареный еж, то Гримо де ла Реньеру — такое, как ростбиф в сале; в шарообразном куполе арки Звезды мы видим возрожденной трапецию Плавта; повстречавшийся Апулею пожиратель мечей с афинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на Новом мосту; племянник Рамо и прихлебатель Куркульон составили бы превосходную парочку; д’Эгрфейль не преминул бы познакомить Эргасила с Камбасересом; четырех римских щеголей — Алкесимарха, Федрома, Диабола и Аргириппа — в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатю; Авл Гелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем; правда, Мартон нельзя назвать неумолимой, но и Пардалиска не была недоступной; весельчак Пантолаб и сейчас потешается в английском кафе над гулякой Номентаном; Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись Бобешем, расхаживает возле него и собирает пожертвования; назойливый субъект, который останавливает вас в Тюильри, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Фесприона: «Quis properantem me prehendit pallio?»[559]; сюренское вино — подделка албанского, а налитый до краев бокал Дезожье ничем не уступает полной чаше Балатрона; в дождливые ночи от Пер-Лашез исходит такое же свечение, как от Эсквилина, и купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого напрокат гроба рабов.
Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера; Эргафил воскресает в Калиостро; брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен; чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске.
У Парижа есть свой Эзоп — Майе, своя Канидия — девица Ленорман. Как некогда Дельфы, и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона — верчением треножников. Пусть Рим возводил на трон куртизанок — он возводит на него гризеток; в конце концов, если Людовик XV и хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и гасконским краснобайством, Париж создает небывалый тип человека, который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав месиво из Диогена, Иова и Паяца, нарядив призрак в старые номера «Конституционалиста», он производит на свет божий Шодрюка Дюкло.
Хотя Плутарх и говорит, что «тирана ничто не смягчит», при Сулле и Домициане Рим был смирен и безропотно разбавлял свое вино водой. Тибр, если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты: «Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem oblivisci»[560], говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу.
А при всем том Париж — добрый малый. Он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах; его Венера — из готтентоток; он готов все простить, только бы посмеяться; физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает; ежели ты затейник — будь хоть мошенник; его не возмущает даже лицемерие — эта последняя степень цинизма; он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении дона Базилио, а молитва Тартюфа шокирует его не больше, чем Горация «икота» Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика. Разумеется, бал в саду Мабиль — не полимнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантереей вразнос выслеживает там лоретку, точь-в-точь как сводня Стафила — девственницу Планесию. Разумеется, застава Боев не Колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саге; однако если Вергилий был завсегдатаем римских трактиров, то Давид Д’Анже, Бальзак и Шарле сиживали за столиками парижских кабачков. Париж царит. Там блещут гении и процветают шуты. Там на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай; и сюда же въезжает на своей ослице Силен. Силен — читай Рампоно.
Париж — синоним космоса. Париж — это Афины, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Здесь вкратце представлены все виды культур и все виды варварства. Отнять у Парижа гильотину — значило бы сильно его раздосадовать.
Гревская площадь в небольшой дозе не вредна. Мог ли такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капля по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.
Глава 11
Глумясь, властвовать
Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъяремными, осмеивая их. «Понравиться вам, о афиняне!» — воскликнул Александр. Париж не только создает законы, он создает нечто большее — моду; и еще нечто большее, чем мода, — он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым, он разрешает себе иногда такую роскошь; и тогда весь мир глупеет вместе с ним; а потом Париж просыпается, протирает глаза и со словами: «Ну не дурак ли я!» — разражается оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо-город! Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается с шутовским, пародия с подлинным величием, одни и те же уста могут нынче трубить в трубу Страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственный веселый характер. В его забавах — молнии, его проказы державны. Здесь гримасе случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь, как из жерла вулкана, лавой заливает землю. Его буффонады сыплются искрами. Он равно навязывает народам и свои нелепости, и свои идеалы; высочайшие памятники человеческой культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен; у него есть беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру; он зовет все народы произнести клятву в Зале для игры в мяч; его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Природное здравомыслие он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного; отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшко, Боливаре, Боццарисе, Риего, Беме, Манине, Лопеце, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда человечества: в 1779 году — он в Бостоне, в 1820-м — на острове Леоне, в 1848-м — в Пеште, в 1860-м — в Палермо. Он повелительно шепчет на ухо пароль: Свобода и американским аболиционистам, толпящимся на пароме в Харперс-Ферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в Арчи на берегу моря, перед таверной Гоцци. Он родит Канариса, Квирогу, Пизакане; от него берет начало все великое на земле; им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне; под ногами Мирабо — он трибуна, под ногами Робеспьера — кратер вулкана; его книги; его театр, искусство, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество; у него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан-Жак, Вольтер для каждой минуты, а для веков — Мольер; он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом; он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколения; с 1789 года дух его мыслителей и поэтов почиет на всех героях всех народов. Все это нисколько не мешает ему повесничать, и исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах: «Кредевиль — вор».
Париж всегда скалит зубы: он либо рычит, либо смеется.
Таков Париж. Дымки над его крышами — идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего — существо, богатое духом. Он не только велик, он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому, что смеет дерзать.
Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс.
Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить, Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, — надо было, чтобы Дантон дерзнул.
Смелее! Этот призыв — тот же Fiat lux[561]. Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Подвиги храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это одни из ярчайших светочей людей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться — вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камброна змеится все та же грозная молния.
Глава 12
Будущее, таящееся в народе
Что касается простого парижского люда, то и в зрелом возрасте он остается гаменом. Дать изображение ребенка — значит дать изображение города; вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробышком.
Наилучшие представления о парижском племени — мы настаиваем на этом — можно получить в предместьях; тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо; тут весь этот люд трудится и страдает, а в страданиях и в труде и выявляются два истинных лика человека. Тут, в несметной толпе никому не ведомых людей, кишмя кишат самые необычайные типы, начиная от грузчика с Винной пристани и кончая живодером с монфоконской свалки. Fex urbis[562], — восклицает Цицерон; mob[563], — добавляет негодующий Берк; сброд, масса, чернь — эти слова произносятся с легким сердцем. Но пусть так! Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны, тем хуже. Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Их несчастья вы превратите в проклятие? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу? Так повторим же наш призыв к просвещению. Так не устанем же твердить: «Просвещения! Просвещения!» Как знать, быть может, тьма эта и рассеется. Разве революции не несут преображения? Слушайте же меня вы, философы: обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание, радостные духом, действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро оделяйте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь. Толпу можно возвысить. Сумеем же использовать ту неукротимую бурю, какою в иные минуты разражается, бушует и шумит мысль и моральное чувство людей. Эти босые ноги, эти голые руки, эти лохмотья, это невежество, эта униженность и темнота — все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.
Глава 13
Маленький Гаврош
Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампль и близ Шато-д’О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати-двенадцати, который вполне подошел бы под нарисованный нами выше портрет гамена, не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как всякий в его возрасте, он не прочь был и посмеяться. Ребенок этот был наряжен в мужские брюки, но не отцовские, и в женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были и отец, и мать. Но отец не желал его знать, а мать его не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами.
Лучше всего ребенок этот чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жесткой, чем сердце матери.
Родители пинком ноги выбросили его в жизнь. Он, не прекословя, покорился.
Это был шумливый, бойкий, смышленый, задорный мальчик, с живым, но болезненным выражением бледного лица. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавках, поворовывал, но делал это весело, как кошки и воробьи, смеялся, когда его называли постреленком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был радостен, потому что был свободен.
Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего социального порядка и размалываются им. Но пока они дети и малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.
Однако, как ни заброшен был этот ребенок, изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаюсь с мамой!» И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен-Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил — куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50–52, к лачуге Горбо.
В ту пору лачуга № 50–52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась — редкий случай — заселенной несколькими личностями, впрочем, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношении. Все они принадлежали к тому неимущему классу, что начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку все ниже, до самого дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарем, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.
«Главная жилица» времен Жана Вальжана уже умерла, и ее сменила совершенно такая же. Кто-то из философов, не припомню кто, сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».
Эта новая старуха звалась тетушкой Бюргон, и в жизни ее не было ничего примечательного, если не считать династии трех попугаев, последовательно царивших в ее сердце.
Из всех живущих в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырех лиц: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трех чердаков, которые были уже нами описаны.
На первый взгляд семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Немного времени спустя после своего водворения, весьма напоминавшего, по столь памятному выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, одновременно исполняла обязанности привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте — это я».
Это и была семья веселого оборвыша. Он приходил сюда, но видел здесь лишь нищету и уныние и — что еще печальнее — не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?» Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, спрашивали: «Ты куда?» Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его: «Зачем ты сюда ходишь?»
Этот ребенок, лишенный ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребе. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.
Впрочем, мать любила его сестер.
Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему звался он Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему отец его звался Жондретом.
Инстинктивное стремление разорвать родственные узы свойственно, по-видимому, некоторым бедствующим.
Комната в лачуге Горбо, в которой жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.
Расскажем теперь, кто такой этот г-н Мариус.
Книга II Важный буржуа
Глава 1
Девяносто лет и тридцать два зуба
Среди давних обитателей улиц Бушера, Нормандской и Сентонж еще и теперь найдутся люди, помнящие и поминающие добрым словом старичка по имени г-н Жильнорман. Старичок этот был стар уже и тогда, когда сами они были молоды. Для всех, кто предается меланхолическому созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, соседних с Тамплем, которым при Людовике XIV присваивали названия французских провинций совершенно так же, как в наши дни улицам нового квартала Тиволи присваивают названия всех европейских столиц. Явление, кстати сказать, прогрессивное, свидетельствующее о движении вперед.
Господин Жильнорман, в 1831 году еще совсем бодрый, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство единственно по причине своего долголетия, и если в свое время они ничем не выделялись из общей массы, то теперь казались незаурядными, так как ни на кого не походили. Это был очень своеобразный старик — в полном смысле слова человек иного века, с головы до ног настоящий, чуть-чуть надменный буржуа XVIII столетия, носивший свое старинное и почтенное звание буржуа с таким видом, с каким маркизы носят свой титул. Ему уже перевалило за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, хорошо видел, любил выпить, сытно поесть, во сне богатырски храпел. Он сохранил все свои тридцать два зуба. Надевал очки, только когда читал. Был влюбчив, но утверждал, что уже свыше десяти лет решительно и бесповоротно отказался от женщин. По его словам, он больше не мог уже нравиться. Однако он никогда не прибавлял к этому: «Потому что слишком стар», но всегда: «Потому что слишком беден». «Не разорись я… ого-го!» — говорил он. Он и на самом деле располагал не более чем пятнадцатью тысячами ливров годового дохода. Его мечтой было получить наследство, иметь сто тысяч франков ренты и завести любовниц. Как видим, его отнюдь нельзя было причислить к тем немощным восьмидесятилетним старцам, которые, подобно господину Вольтеру, умирают всю жизнь. И долговечность его не была долговечностью битой посуды. Этот бодрый старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человеком неглубоким, порывистым и очень вспыльчивым. Из-за любого пустяка он мог разбушеваться, и по большей части — будучи совершенно неправым. Если же ему перечили, он замахивался тростью и давал людям таску не хуже, чем в «великий век». У него была незамужняя дочь в возрасте пятидесяти с лишком лет, которую он в сердцах пребольно колотил и рад был бы высечь. Она все еще казалась ему восьмилетней девочкой. Он отпускал увесистые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ну и стервецы!» Одним из излюбленнейших его ругательств было: «Эх вы, пентюхи, перепентюхи!» Вместе с тем ему была присуща редкая невозмутимость; он каждодневно брился у полупомешанного цирюльника, который ненавидел его, ревнуя к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Г-н Жильнорман очень высоко ставил свое уменье судить обо всем на свете и хвастался своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Ну, я ли не догадлив? Стоит блохе меня укусить, и я тотчас знаю, с какой женщины она на меня перескочила». Его речь постоянно пересыпалась словами: «чувствительный человек» и «природа». Он не вкладывал, впрочем, в это последнее такого широкого смысла, какое ему стали придавать в наше время, однако любил как-то по-своему ввернуть его в свои шуточки у камелька. «Природа, — говаривал он, — желая наделить цивилизованные страны всем понемножку, ничего для них не жалеет, вплоть до забавных образцов варварства. В Европе существует, но в малом формате, все, что встречается в Азии и в Африке. Кошка — это домашний тигр, ящерица — карманный крокодил. Танцовщицы из Оперы — те же людоедки, только розовенькие. Они съедают человека не сразу, они гложут его понемножку. А то — о волшебницы! — вдруг возьмут и превратят его в устрицу и проглотят. Караибы оставляют одни кости, они — одни черепки. Таковы уж наши нравы. Мы не пожираем пищу мигом, а смакуем. Мы не приканчиваем добычу одним ударом, а медленно рвем на части».
Глава 2
По хозяину и дом
Он жил в квартале Марэ на улице Сестер страстей господних, в доме № 6. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Г-н Жильнорман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями Гобеленовой и Бовеской мануфактур, изображавшими пастушеские сцены; сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные и пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат г-на Жильнормана, попадали через угловую застекленную дверь, по лестнице в двенадцать-пятнадцать ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, у него был еще будуар — предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепными соломенными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах, по распоряжению г-на де Вивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались г-ну Жильнорману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны — сумасбродной старухи, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не был, а отчасти судейского, кем мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности он принадлежал к мужчинам, которых постоянно обманывают жены и никогда — любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем премилыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного, кисти Иорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанный до мельчайших деталей. Костюм Жильнормана не был ни костюмом эпохи Людовика XV, ни даже Людовика XVI; он одевался как щеголь Директории, — до той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого сукна, с широкими отворотами, с длиннейшими заостренными фалдами и огромными стальными пуговицами. К этому — короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и авторитетно утверждал, что «французская революция дело рук отъявленных шалопаев».
Глава 3
Лука-Разумник
В шестнадцать лет он удостоился чести быть однажды вечером лорнированным в Опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезревшими красавицами — Камарго и Сале. Попав, таким образом, между двух огней, он храбро ретировался, направив свои шаги к маленькой, никому не ведомой танцовщице по имени Наанри, которой, как и ему, было шестнадцать лет и в которую он был влюблен. Он сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гимар-Гимардини-Гимардинетта, — восклицал он, — когда я ее видел в последний раз в Лоншане, в локонах «неувядаемые чувства», в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца и с муфточкой «волнение»!» Охотно и с большим увлечением описывал он свой ненлондреновый камзол, который носил юношей. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», — говорил он. В двадцатилетнем возрасте он случайно попался на глаза г-же де Буфле, и она дала ему прозвище «очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, «ведомости, журналы», как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди, — говорил он, — Корбьер, Гюман, Казимир Перье! И это, изволите ли видеть, министры! Воображаю, как бы выглядело в газете: «Господин Жильнорман, министр»! Вот была бы потеха. Впрочем, у таких олухов и это сошло бы!» Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, гривуазности и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха парафраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой неприкрытых откровенностей в прозе. Крестный отец Жильнормана, предсказывая, что из него выйдет человек не бесталанный, дал ему двойное многозначительное имя: Лука-Разумник.
Глава 4
Претендент на столетний возраст
В детстве он не раз удостаивался награды в коллеже своего родного города Мулена и однажды получил ее даже из рук самого герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни возвращение Бурбонов — ничто не могло изгладить из его памяти воспоминание об этом событии. В его представлении «герцог Неверский» являлся самой крупной фигурой века. «Что это был за очаровательный вельможа! — рассказывал он. — И как к нему шла голубая орденская лента!» В глазах г-на Жильнормана Екатерина II искупила вину раздела Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся. «Золотой эликсир, — восклицал он, — флакон в пол-унции желтой бестужевской тинктуры и капель-генерала Ламота стоил в XVIII веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой! Людовик XV послал двести флаконов этого эликсира папе». Старик был бы страшно разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой эликсир не что иное, как хлористое железо. Г-н Жильнорман боготворил Бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году; без конца готов он был повествовать о том, как ему удалось спастись при терроре и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него, чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что едва не терял сознания. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Я льщу себя надеждой, что мне не придется дважды пережить девяносто третий год». А иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.
Глава 5
Баск и Николетта
У него были собственные теории. Вот одно из его рассуждений: «Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, к которой равнодушен, безобразную, угрюмую, преисполненную сознания своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще ревнивую, у него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой: это отдать жене на растерзание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус ворочать деньгами, марать пальцы о медяки, школить арендаторов, муштровать фермеров, теребить поверенных, верховодить нотариусами, отчитывать письмоводителей, водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить дела, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться, уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни; она совершает — что составляет особое и главное ее счастье — глупость за глупостью и так развлекается. Меж тем как супруг пренебрегает ею, она находит себе утешение, разоряя этого супруга». Г-н Жильнорман испробовал эту теорию на собственной практике, и с ним произошло все как по писаному. Жена, а именно вторая из них, столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось на жизнь около пятнадцати тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежащую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом случаются всяческие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом; он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. «Все это — одна лавочка», — говорил он. Как мы уже указывали, дом на улице Сестер страстей господних, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг: «человека» и «девушку». Когда к г-ну Жильнорману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдавший одышкой толстяк лет пятидесяти пяти, с больными ногами, не мог пробежать и двадцати шагов, но, поскольку он был уроженцем Байоны, г-н Жильнорман именовал его Баском. Что касается служанок, то они все именовались у него Николеттами (даже сама Маньон, о которой речь будет впереди). Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стряпуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно получать в месяц?» — спросил ее г-н Жильнорман. «Тридцать франков». — «А как вас зовут?» — «Олимпия». — «Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться Николеттой».
Глава 6
В которой промелькнет Маньон с двумя своими малютками
У г-на Жильнормана горе выражалось гневом; огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, а в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом и глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает еще оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он называл это своей «высочайшей славой». Но эта «высочайшая слава» преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему принесли в продолговатой корзине, напоминающей корзину для устриц, запеленутого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном. Г-ну Жильнорману было в ту пору ни много ни мало восемьдесят четыре года. Это вызвало взрыв возмущения окружающих: «Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто может ей поверить? Какая наглость! Какая гнусная клевета!» Но сам г-н Жильнорман нисколько не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал как бы в сторону: «Ну что? Что тут такого? Что тут такого особенного? Вы совсем рехнулись, мелете вздор, как сущие невежды! Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней пустельге; г-ну Виржиналю, маркизу д’Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордоского, было восемьдесят три года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен — истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века — аббат Табаро — сын восьмидесятисемилетнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, Библию! А засим заявляю, что сударик сей не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет». Этому поступку нельзя отказать в сердечности. Через год та же особа, звали ее Маньон, прислала ему второй подарок. Опять мальчика. На этот раз г-н Жильнорман сдался. Он возвратил матери обоих малышей, обязуясь давать на их содержание по восемьдесят франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь, — добавил он, — что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат священник, занимавший в течение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти семи лет от роду. «Я потерял его, когда он был еще молодым», — говорил г-н Жильнорман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был безобидным, но скупым человеком; как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню встречным нищим, но подавал только изъятые из употребления монероны да стертые су и, таким образом, умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается г-на Жильнормана-старшего, то он не старался выгадать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все, имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фи, какая грязная работа! — высокомерно воскликнул он. — Мне просто стыдно за такое жалкое жульничество. Все измельчало нынче, даже плуты. Черт побери, можно ли подобным образом обманывать людей такого сорта, как я! Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда не годным способом. Sylvae sint consule dignae!»[564]
Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах, от второго — тоже дочь, умершая примерно в тридцатилетнем возрасте и в свое время, по любви ли, случайно, или по какой-либо иной причине, вышедшая замуж за офицера из рядовых, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это — позор моей семьи», — говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особым изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В бога он почти совсем не верил.
Глава 7
Правило: принимай у себя только по вечерам
Вот каков был г-н Лука-Разумник Жильнорман. Он сохранил еще свои волосы, скорей с проседью, нежели седые, и всегда носил одну и ту же прическу «собачьи уши». В общем, даже при всех своих слабостях, это была личность весьма почтенная.
Все в нем носило печать XVIII века, фривольного и величавого.
В первые годы Реставрации г-н Жильнорман, тогда еще молодой — в 1814 году ему исполнилось только семьдесят четыре года, — жил в Сен-Жерменском предместье, на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Марэ уже много времени спустя, после того как ему стукнуло восемьдесят лет.
Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и лишь засим двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он отнюдь не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен, — говаривал он, — и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе со звездами в небесах». И он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века.
Глава 8
Две, но не пара
Мы уже упоминали о двух дочерях г-на Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и ни характером, ни лицом нисколько не напоминали сестер. Младшую — чудесной души создание — влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку; уносясь мыслями в лучезарные края, восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал пред нею. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, подряжавший провиант для армии, муж восхитительно глупый, человек-миллион или хотя бы префект; приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она — «супруга г-на префекта» — все это вихрем носилось в ее воображении. Итак, каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной — ангела, а у другой — гусыни.
Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Рай невозможен нынче на земле. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая вовсе не вышла замуж.
К моменту появления последней в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, на редкость остроносой и тупоголовой. Характерная подробность: вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее «мадемуазель Жильнорман-старшая».
По части чопорности мадемуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку.
С годами эта неукротимая стыдливость еще усилилась. М-ль Жильнорман все казалось, что шемизетка ее недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею. Она усеивала бесконечным количеством застежек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы всегда недотроги: чем меньше их твердыне угрожает опасность, тем большую они проявляют бдительность.
Однако да объяснит, кто может, сии тайны престарелой невинности: она охотно позволяла целовать себя своему внучатому племяннику, поручику уланского полка Теодюлю.
И все же, несмотря на особую благосклонность к улану, этикетка «недотроги», которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. М-ль Жильнорман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой — полудобродетель, полупорок.
Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством — сочетание весьма подходящее. Она состояла членом Общества пресвятой девы, надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь», поклонялась «святому сердцу Иисусову», проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо, в молельне, закрытой для простых верующих, предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь к мраморным облачкам, плывущим меж длинных деревянных лучей, покрытых позолотой.
У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как и она сама, — м-ль Вобуа, круглая дура, рядом с которой м-ль Жильнорман имела удовольствие казаться себе ума палатой. Кроме всяких «agnus dei» и «ave Maria»[565] да различных способов варки варенья, м-ль Вобуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горностай — белизной, только без единого пятнышка.
Надо сказать, что, состарившись, м-ль Жильнорман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротой, а годы сглаживают углы, и вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то неясная печаль, причины которой она сама не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже кончившейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась.
Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле г-на Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьенвеню, как мы видели, его сестра. Подобные семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге.
Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безмолвный в присутствии г-на Жильнормана. Г-н Жильнорман говорил с ним не иначе как строгим голосом, а иногда и замахнувшись тростью: «Пожалуйте-ка сюда, сударь! Подойди поближе, бездельник, сорванец! Ну, отвечай же, негодный! Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» и т. д. и т. д. Он обожал его.
Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.
Книга III Дед и внук
Глава 1
Старинный салон
Когда г-н Жильнорман жил на улице Сервандони, он был частым гостем нескольких самых избранных и аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, г-на Жильнормана принимали повсюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, действительным умом, а во-вторых — умом, который ему приписывали, общества его даже искали, а самого его окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбудить к себе интерес; если им не удается играть роли оракулов, они переходят на роли забавников. Г-н Жильнорман не принадлежал к их числу. Он умел пользоваться весом в роялистских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с г-ном Бональдом, но и самим г-ном Бенжи-Пюи-Валле.
Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю у жившей по соседству, на улице Феру, баронессы де Т., особы достойной и уважаемой, муж которой занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине. Барон де Т., страстно увлекавшийся при жизни животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновиденьем, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный сафьян золотообрезную десятитомную рукопись очень любопытных воспоминаний о Месмере и его чане. Г-жа де Т. из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Г-жа де Т. держалась вдали от двора, представлявшего собою, по ее словам, слишком «сборное общество», и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Несколько друзей собирались два раза в неделю у ее вдовьего камелька, что и составляло роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай и, в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на дифирамбы, то сокрушенно вздыхали, то разражались криками возмущения по поводу современных порядков, хартии, бонапартистов, осквернения голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и «якобинства» Людовика XVIII. Здесь вполголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X.
Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался Простофилей. Герцогини, самые изящные и очаровательные светские женщины, восхищались такими куплетами по адресу «федератов»:
Эй ты, засунь в штаны рубаху! Ведь скажут про тебя, дурак, Что санкюлоты все со страху Уж поднимают белый флаг!Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем им необыкновенно меткой и язвительной. Сочиняли четверостишия или даже двустишия. Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Деказ и Десер, были сочинены следующие строки:
Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон, Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.Или же переделывали списки членов палаты пэров, этой «мерзостной якобинской палаты», комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалась, например, подобного рода фраза: «Дама́, Сабран, Гувион, Сен-Сир»[566]; в общем, выходило смешно.
В этом мирке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали, с позволения сказать, собственную «Çа ira»:
Ах, дело пойдет на лад, на лад! Буонапартистов на фонарь!Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант.
Во время происходившего как раз в ту пору, в 1816 году, процесса Фюальдеса здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону, потому что Фюальдес был «буонапартистом». Либералов именовали здесь «братьями и друзьями» — это рассматривалось как нечто крайне оскорбительное.
Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы де Т. было два флюгера. Одним из них являлся г-н Жильнорман, другим — граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко: «Вы знаете? Это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье». Политические партии идут на подобного рода странные амнистии.
Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряет в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств; и совершенно так же, как от соседства с зябнущими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрения, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом, как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур, был вхож к принцу де Субизу. Несмотря на… Нет, именно потому. Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет — тот же Олимп. Меркурий и принц де Геменэ чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом.
Старый граф де Ламот, которому в 1815 году исполнилось уже семьдесят пять лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить нравоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо, до самого шейного платка, застегнутого сюртука и длинных, всегда скрещенных ног в обвислых панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо.
С г-ном де Ламотом «считались» в салоне по причине его «известности» и — как ни странно, но это факт — потому, что он носил имя Валуа.
Что касается г-на Жильнормана, то он пользовался действительно самым неподдельным уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости, какой-то особой манерой держать себя: внушительной, благородной, добропорядочной и не лишенной некоторой примеси буржуазной спеси. К этому надо добавить его преклонный возраст. Иметь за плечами целый век чего-нибудь да стоит. Годы образуют в конце концов вокруг головы ореол.
К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блестки старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь маркграфу Бранденбургскому, и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежительность. Жильнорману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского, — сказал он, — захолустные короли». Однажды кто-то спросил при нем: «К чему приговорили редактора газеты «Французский курьер?» — «К пресеченью», — последовал ответ. «Пре в данном случае излишне», — заметил г-н Жильнорман. Подобного рода речами создается репутация.
В другой раз, во время Те deum[567] в день годовщины реставрации Бурбонов, увидев проходившего мимо Талейрана, он обронил: «А вот и его превосходительство Зло».
Господин Жильнорман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового, свежего, с веселым, доверчивым взором. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя ропот: «Какой хорошенький! Какая жалость! Бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли «бедным» потому, что отцом его был «луарский разбойник».
А луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем г-на Жильнормана, которого последний именовал «позором своей семьи».
Глава 2
Один из кровавых призраков того времени
Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, должен был заметить человека лет пятидесяти, в кожаной фуражке, в брюках и куртке из грубого серого сукна, с каким-то пришитым к ней желтым лоскутком, бывшим ранее красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, почти совсем седого, с обветренным и почти черным от загара лицом, с широким шрамом, пересекающим лоб и спускающимся на щеку, согнувшегося, сгорбленного, до срока состарившегося; целый день человек этот расхаживал с заступом и садовым ножом по одному из находившихся близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены, — по одному из тех очаровательных, заросших цветами уголков, которые, будь они несколько побольше, могли бы сойти за сад, а несколько поменьше — за букет. Все эти участки одним концом упираются в реку, а другим в дома. Самый маленький из этих уголков и самый убогий из этих домиков занимал около 1817 года вышеупомянутый человек в куртке и деревянных башмаках. Он жил тут одиноко и уединенно, тихо и бедно, в обществе служанки, о которой трудно было сказать — молода ли она, или стара, хороша или дурна собой, крестьянка это или мещанка. Он называл свой квадратик земли садом, и сад этот славился в городе чудесными цветами, которые он там выращивал. Цветы составляли единственное его занятие.
Трудом, упорством, тщательным уходом и обильной поливкой ему удалось вслед за творцом и самому сотворить несколько сортов тюльпанов и георгин, о чем, по-видимому, позабыла природа. Он был изобретателен и опередил Суланжа Бодена, употребив небольшие ранее поросшие вереском земельные площадки под редкие и ценные культуры американского и китайского кустарника. В летнюю пору, с рассветом, он появлялся на дорожках сада и принимался за подрезку, подчистку, прополку, поливку, расхаживая среди своих цветов с добрым, печальным и кротким видом. Иногда, задумавшись, он часами неподвижно простаивал, то слушая пение птиц на дереве или доносившийся из ближнего дома лепет младенца, то разглядывая росинку на кончике какой-нибудь травки, где она играла, как драгоценный камень в лучах солнца. Он довольствовался самой скромной пищей и молоко предпочитал вину. Любой ребенок мог бы командовать им; служанка разрешала себе бранить его. Он был застенчив до дикости, редко выходил из дому и ни с кем, кроме нищих, стучавшихся к нему, да своего духовника, добрейшего старого аббата Мабефа, не виделся. Впрочем, если кто-либо из местных жителей или приезжих, человек совершенно ему неизвестный, любопытствуя поглядеть на тюльпаны и розы, дергал за его звонок, он приветливо открывал двери своего домика. Это и был луарский разбойник.
И вместе с тем каждому, кто вздумал бы почитать воспоминания о военных походах, биографии военных деятелей, «Монитор» и бюллетени великой армии, должно было броситься в глаза довольно часто встречающееся там имя Жоржа Понмерси. Юношей этот Жорж Понмерси служил рядовым в Сентонжском полку. Наступила революция. Сентонжский полк вошел в состав Рейнской армии, ибо старые, существовавшие при монархии полки сохраняли присвоенные им названия провинций даже после падения монархии и были слиты в бригады лишь в 1794 году. Понмерси сражался под Шпейером, Вормсом, Нейштадтом, Тюркгеймом, Альцеем и под Майнцем, — в отряде из двухсот человек, составлявшем арьергард Гушара. Он был в числе двенадцати храбрецов, которые стойко держались за старым Андернахским крепостным валом против корпуса принца Гессенского и отступили, присоединившись к основным силам, лишь после того, как неприятельские пушки разворотили бруствер от гребня до основания. В войсках Клебера он сражался при Маршьенне и у Мон-Палиселя, где был ранен в руку картечью. Затем он отправляется на итальянскую границу; здесь мы находим его среди тридцати гренадеров, защищавших под командой Жубера Тендское ущелье. Жубер был произведен за это дело в генерал-адъютанты, а Понмерси — в подпоручики. Осыпаемый картечью в битве при Лоди, стоял он подле Бертье, который заслужил слова Бонапарта: «Наш пострел везде поспел: он и в артиллерии, он и в кавалерии, он и в инфантерии». Понмерси видел, как с поднятой саблей и с криком: «Вперед!» — пал в сражении при Нови его бывший командир генерал Жубер. Выполняя какое-то боевое поручение, он со своей ротой отплыл на легком паруснике, шедшем из Генуи, в один из маленьких портов побережья, куда именно, уже не припомню, и попал в пренеприятное положение, очутившись между семью или восемью английскими кораблями. Капитан, родом генуэзец, хотел сбросить пушки в море, спрятать солдат в межпалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом торгового судна. Но Понмерси велел поднять на флагштоке национальный флаг и смело прошел под пушками английских фрегатов. Отвага его после этого так возросла, что в двадцати милях оттуда он на своем паруснике решился напасть на большой английский транспорт с войсками и захватил его. Транспорт шел в Сицилию и был до такой степени перегружен людьми и лошадьми, что сидел в воде по самые палубные крепления. В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гюнцбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене под градом пуль он вынес на руках смертельно раненного в сражении полковника Мопети, командира 9-го драгунского полка. Он отличился при Аустерлице во время прославленного перехода колонн под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил батальон 4-го пехотного полка, Понмерси был в числе добившихся реванша. Император пожаловал его крестом. Понмерси был последовательно свидетелем пленения Вурмсера в Мантуе, Меласа в Александрии, Макка под Ульмом. Его часть принадлежала к 8-му корпусу доблестной армии Мортье, взявшей Гамбург. Затем он перешел в 55-й пехотный полк, преобразованный из прежнего Фландрского полка. При Эйлау он находился на том самом кладбище, где бесстрашный капитан Луи Гюго, дядя автора настоящей книги, со своей ротой из восьмидесяти трех человек в течение двух часов сдерживал натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из трех ушедших живыми с этого кладбища. Он принимал участие в сражении при Фридланде. Видел затем Москву, Березину, Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и Гельнгаузенское ущелье; затем Монмирайль, Шато-Тьери, Краон, берега Марны, берега Эны и страшные лаонские позиции. При Арне-ле-Дюке, будучи в чине капитана, он зарубил десять казаков и спас, впрочем, не своего генерала, а своего капрала. Он вышел из этого дела совершенно израненным, и у него извлекли из одной только левой руки двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он поменялся местом с товарищем и перешел в кавалерию. Он был человеком, как говорили при старом режиме, двойной сноровки, то есть умел в качестве солдата одинаково хорошо управляться как с саблей, так и с ружьем, а в качестве офицера — как с эскадроном, так и с батальоном. Благодаря этому качеству, усовершенствованному военной выучкой, и возникли такие особые виды войск, как, например, драгуны, являющиеся одновременно и кавалеристами, и пехотинцами. Он последовал за Наполеоном на остров Эльбу. При Ватерлоо он командовал эскадроном кирасир, входившим в бригаду Дюбуа. Это он отнял знамя у Люненбургского батальона. Он бросил знамя к ногам императора. Он был весь залит кровью. Вырывая знамя, он получил сабельный удар, рассекший ему лицо. Император, довольный, крикнул ему: «Поздравляю тебя полковником, бароном и кавалером ордена Почетного легиона!» — «Благодарю, ваше величество, за мою вдову», — ответил Понмерси. Час спустя он упал в овраг на оэнскую дорогу. А теперь скажите — кто же такой этот Жорж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник.
Читатель уже кое-что о нем знает. После Ватерлоо, как вы помните, Понмерси вытащили из оврага на оэнской дороге, и ему удалось присоединиться к армии, а затем в лазаретных фургонах он добрался до луарского лагеря.
В годы Реставрации он был переведен на половинный оклад, а затем отправлен на жительство — другими словами, под надзор — в Вернон. Людовик XVIII, рассматривая все, имевшее место в течение Ста дней, как недействительное, не признал ни его звания кавалера ордена Почетного легиона, ни его чина полковника, ни его баронского титула. А Понмерси, со своей стороны, никогда не упускал случая подписаться: «полковник барон Понмерси». Выходя из дома, он всегда прикреплял к своему старому синему, и к тому же единственному сюртуку ленточку ордена Почетного легиона. Королевский прокурор велел предупредить его, что возбудит против него судебное преследование за «незаконное ношение этого знака отличия». Выслушав предупреждение, переданное ему через чиновника, Понмерси ответил с горькой усмешкой: «Не знаю, я ли перестал понимать по-французски, вы ли разучились говорить на французском языке, но я решительно ничего не понял». После этого целую неделю он изо дня в день появлялся в городе с орденской ленточкой. Его не посмели больше тревожить. Два-три раза военному министру и начальнику военного округа случилось направлять ему письма с надписью: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. Подобным же образом поступал в это самое время на острове Св. Елены и Наполеон с посланиями сэра Гудсона Лоу, адресованными: «Генералу Бонапарту». Понмерси отвечал — да простят нам это выражение — плевком, как и его император.
Вот так же в Риме среди пленных карфагенских солдат попадались воины, в которых жила частичка души Ганнибала, и они отказывались приветствовать Фламиния.
В одно прекрасное утро, встретив на улице Вернона королевского прокурора, Понмерси подошел к нему и задал ему вопрос: «Скажите, господин королевский прокурор, разрешается ли мне носить шрам на лице?»
Никаких средств, кроме своего жалкого половинного оклада эскадронного командира, он не имел. Он нанимал в Верноне самый маленький домишко, который только можно было сыскать. Он жил в нем один, и мы уже познакомились с образом его жизни. При Империи он успел как-то между двумя войнами жениться на девице Жильнорман. Старый буржуа, в глубине души крайне недовольный, дал скрепя сердце согласие на брак, заявив, что и «самые знаменитые семьи бывают подчас вынуждены идти на этакое». В 1815 году г-жа Понмерси, женщина, кстати сказать, во всех отношениях превосходная, редкостных душевных качеств и вполне достойная своего мужа, умерла, оставив ребенка. Этот ребенок мог бы скрасить одинокую жизнь полковника. Но дед настоятельно потребовал внука к себе, заявив, что лишит мальчика наследства, если ему не отдадут его. Отец уступил, блюдя интересы сына, и, потеряв возможность удержать подле себя свое дитя, пристрастился к цветам.
Отказался он также от всякой политики, не бунтовал и не принимал участия в заговорах. Его мысли были сосредоточены либо на невинных делах, которым он отдавался сегодня, либо на великих делах, которые совершал ранее. Его время делилось между ожиданием цветения какой-нибудь гвоздики и воспоминаниями об Аустерлице.
Господин Жильнорман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был «бандитом», а сам он в глазах полковника «бестолочью». Г-н Жильнорман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его «баронство». Они раз навсегда договорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видеться или говорить с сыном, под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жильнорманам каким-то зачумленным. Они желали воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только одним собой.
Наследство Жильнормана-отца сулило немного, зато наследство м-ль Жильнорман-старшей было весьма значительным. Эта тетушка, оставшаяся в девицах, владела крупными богатствами, полученными с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником.
Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец, и только. Никто никогда и словом не обмолвился ему о нем. Однако шушуканье, намеки, перемигивания, какими встречали его в обществе, куда водил его дед, в конце концов дошли до сознания мальчика: он начал кое-что понимать. А поскольку ему приходилось подвергаться длительному воздействию окружающей среды, он, так сказать, впитывая ее в себя, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которою он дышал, и постепенно привык думать об отце лишь со стыдом и сердечной болью.
И вот, пока он так рос, полковник раз в два-три месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен-Сюльпис к тому часу, когда тетка Жильнорман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка не обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевельнуться и вздохнуть, смотрел на своего сына. Наш покрытый шрамами воин боялся старой девы.
Отсюда возникла и дружба его с вернонским кюре аббатом Мабефом.
Достопочтенный кюре приходился братом церковному старосте церкви Сен-Сюльпис, а последний неоднократно обращал внимание на мужчину, погруженного в созерцание ребенка; староста заметил и шрам на его щеке и крупные слезы на его глазах. Столь мужественный на вид человек, плачущий, как женщина, произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Вернон повидаться с братом, он встретил на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльписе. Староста рассказал о нем кюре, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом последовали и другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом кюре и старосте удалось узнать всю историю его жизни и то, как он пожертвовал личным счастьем ради будущности своего ребенка. Это внушило кюре чувство уважения и нежности к полковнику, а тот тоже полюбил кюре. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. По сути эти люди ничем не отличаются друг от друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой — небесной. Вот и вся разница.
Два раза в год, к 1 января и ко дню св. Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал г-н Жильнорман. А отец отвечал очень нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал себе в карман.
Глава 3
Requiescant[568]
Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси познание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Оно было тусклым, и сквозь эту отдушину проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот особый мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и — что еще менее соответствовало его возрасту — серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными фигурами, он глядел вокруг с глубоким изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных и очень почтенных дам, носящих фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся как Леви, Камби, произносившуюся как Камбиз. Эти старые лица и эти библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из Ветхого Завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя одновременно торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки.
К этим призракам присоединялось еще изрядное число духовных лиц — завсегдатаев старинного салона и несколько дворян: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри; виконт де Валори, печатавший под псевдонимом Шарля-Антуана моноритмические оды; князь де Бофремон, еще достаточно молодой, но уже седеющий, обладатель хорошенькой и остроумной жены, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте несколько разгоняли окружающий мрак; маркиз Кариолис д’Эспинуз, лучший во Франции знаток «меры учтивости»; граф д’Амандр, холостяк с добродушным подбородком; и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Г-н де Пор де Ги, лысый и не столько старый, сколько преждевременно состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он — непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных за день. Взвалив на спину, уносили они обезглавленные, кровоточащие туловища, отчего сзади на вороте их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, а по вечерам снова влажная. В салоне г-жи де Т. можно было услышать множество подобного рода трагических рассказов. И в своих проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы «бесподобных», г-н Тибор дю Шалар, г-н Лемаршан де Гомикур и знаменитый шутник правой г-н Корне-Депкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д’Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив, таким образом, векам образец бальи, отомстившего за философа.
Что касается духовных лиц, то здесь бывали: аббат Гальма, тот самый, которому г-н Лароз, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Ба, да кому же теперь меньше пятидесяти? Разве только какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору не бывший еще ни графом, ни епископом, ни министром, ни пэром и носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда же приходили: аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре; тогдашний папский нунций, преосвященный Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, отличавшийся длинным меланхолическим носом, и другой преосвященный аббат Пальмиэри, носивший звания: духовника папы, одного из семи действительных протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики, ходатая по делам святых — postulatore di santi, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два кардинала: г-н де ла Люзерн и г-н де Клермон-Тонер. Кардинал де ла Люзерн был писателем, и несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в «Консерваторе» рядом со статьями Шатобриана. Г-н де Клермон-Тонер, тулузский архиепископ, в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж, к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон-Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к «Энциклопедии» и страстно увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу in partibus[569] Каристскому: «Примечай, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к г-же де Т. его ближайший друг г-н де Роклор, бывший епископ Сенлисский и один из сорока Бессмертных. В г-не Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение Академии. Через стеклянную дверь зала, смежного с библиотекой, где происходили тогда заседания Французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Сенлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, — вероятно, для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя все эти духовные отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз д’Эрбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа еще сильнее подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое представление о Франции и ее институте пэрства, что все сводил к последнему. Это ему принадлежали слова: «Римские кардиналы — те же пэры Франции; английские лорды — те же пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала повсюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем царил г-н Жильнорман.
Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшеном». Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.
Современные «благородные» салоны совсем не походят на описываемый нами. Нынешнее Сен-Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, — демагоги.
В салоне г-жи де Т., где собиралось наиболее избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал самый утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызывали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди, в сих предметах не искушенные, легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже такое, как «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон, вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки также выражала желание, чтобы ее называли «госпожой полковницей».
Именно этому маленькому аристократическому кружку и принадлежала затейливая выдумка в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице: «король», избегая титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».
Здесь судили обо всем — о делах и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не существовавшим время начиная от Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны.
Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во всем; слова доносились едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они глядели какими-то полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все производило впечатление чего-то вконец отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель — вот примерно и весь их лексикон. «Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», — к этому, в сущности, сводилось все. Взглядам почтенных сих группировок было действительно присуще свое особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.
Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».
Чем же занимались в салоне г-жи де Т.? Там состояли в «ультра».
Быть ультра! Возможно, что явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его.
Быть «ультра» — это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр и во имя алтаря — на митру; это значит опрокидывать собственный свой воз, брыкаться в собственной упряжке; это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского; это значит подвергать надругательству от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке папизма, короля — в недостатке роялизма, а ночь — в избытке света; это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны; это значит быть таким горячим защитником, что становишься врагом; так упорно стоять «за», что это превращается в «против».
Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом первую фазу Реставрации.
В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820-го — со вступлением в министерство г-на де Вилеля, исполнителя воли правой. Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время — и веселое, и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый маленький мирок, новый и старый, комический и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто не напоминает так пробуждение ото сна, как возвращение с чужбины. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полным-полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с изумлением взиравшими на все окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось, и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого, что снова видит свою родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать Империи, то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории; потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго вселял отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. И чувство великого, и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скапеном. Этого мира больше уже нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаясь воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и на самом деле был поглощен потопом. Он исчез в двух революциях. О, сколь могуч поток освободительных идей! Сколь стремительно заливает он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!
Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда г-н Мартенвиль считался мудрее Вольтера.
У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал г-н Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений г-на Кольне, публициста и букиниста с набережной Малакэ. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск.
Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», в них вызывало смущение. Они отличались умом; они умели молчать; они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой; успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли — впрочем, не без пользы для себя — белизной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Ибо он оказал не одну услугу. Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Пусть сам того не желая, но он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед ним? От революции, наследниками которой мы являемся, требуется понимание всего происходящего. Нападать на роялизм — значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, собственной своей матери, и иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы — к лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щиток с герба Генриха IV? Мы смеемся над г-ном Вобланом, стиравшим букву Н с Иенского моста. А что, собственно, такое он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буквы Н, — наши. Это наше родовое наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»
Вот так-то доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой — их ярость.
Выступлениями «ультра» ознаменован первый период Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.
В ходе повествования автор настоящей книги натолкнулся попутно на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому не ведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что маленький этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это — Франция минувших дней.
Как и все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника, чистейшей классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа прямо из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце он мрачно молчал.
В общем же это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.
Глава 4
Смерть разбойника
Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда г-н Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном г-жи де Т., переселился в собственный дом на улице Сестер страстей господних, в квартале Марэ. Он держал там в качестве прислуги, не считая привратника, ту самую горничную Николетту, что сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором уже говорилось выше.
В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках какое-то письмо.
— Мариус, — сказал г-н Жильнорман, — тебе надо завтра ехать в Вернон.
— Зачем? — спросил Мариус.
— Повидать отца.
Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда придется встретиться с отцом. Вряд ли нашлось бы для него что-либо более неожиданное, более изумительное и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжелой повинностью.
Помимо мотивов политического характера, неприязнь Мариуса к отцу основывалась и на другом. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его г-н Жильнорман, его не любит. В этом не приходилось сомневаться, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя себя нелюбимым, Мариус и сам отказывался любить. Так и следует, уверял он себя.
Он был настолько ошеломлен, что не задал г-ну Жильнорману ни единого вопроса. А дед продолжал:
— Он, кажется, болен. Требует тебя. — И, помолчав, добавил: — Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоялого двора Фонтен карета в Вернон отходит в шесть часов и приходит туда вечером. Отправляйся с ней. Он пишет, что нужно торопиться.
Затем старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца на следующее утро. В то время с улицы Булуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни г-н Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом.
На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встретившегося прохожего, где живет «господин Понмерси». Ибо в душе он разделял точку зрения Реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником.
Ему указали дом. Он позвонил. Женщина, с маленькой лампочкой в руке, отворила ему.
— Дома ли господин Понмерси? — спросил Мариус.
Женщина не отвечала.
— Здесь живет господин Понмерси? — повторил Мариус свой вопрос.
Женщина утвердительно кивнула.
— Нельзя ли мне поговорить с ним?
Женщина отрицательно покачала головой.
— Но я его сын! — настаивал Мариус. — Он ждет меня.
— Он больше уже не ждет вас, — сказала женщина.
Тут только Мариус заметил, что она плачет.
Она указала ему пальцем на дверь, ведущую в низкую залу. Он вошел.
В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял выпрямившись во весь рост, другой — на коленях, третий, в одной рубашке, лежал распростертый на полу. Лежавший на полу и был полковник.
Двое других были доктор и священник, читавший молитву.
Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал г-ну Жильнорману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, уже в самый день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком: «Мой сын все не едет. Пойду его встречать!» — вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался.
Послали за доктором и кюре. Доктор пришел слишком поздно. Кюре пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно.
При тусклом огоньке свечи на бледной щеке недвижимо лежавшего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Эта слеза означала, что сын опоздал.
Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на это благородное мужественное лицо, на эти открытые, но ничего не видящие глаза, на эти седые волосы, на это сильное тело, на котором то тут, то там выступали темные полосы — следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна — следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот его отец, что человек этот умер, но остался холоден.
Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника.
А между тем горе, щемящее душу горе царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка; кюре молился, прерывая молитвы рыданиями; доктор утирал глаза; даже труп, и тот плакал.
Несмотря на всю свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка время от времени посматривали на Мариуса, не произнося ни слова, — он был здесь чужим. Мариус, так мало тронутый смертью отца, испытывал некоторый стыд и не знал, как должен себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать ее.
И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрение к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца!
Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника, и на нем стояло:
«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».
На обороте полковник приписал:
«В этом же сражении при Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он содержал маленький деревенский трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардье, пусть он сделает для него все, что может».
Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку.
Из имущества полковника ничего не сохранилось. Г-н Жильнорман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли.
Мариус был в Верноне только двое суток. После похорон он вернулся в Париж, засел за свои учебники, совершенно не вспоминая об отце, словно отец никогда и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три забыли.
Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.
Глава 5
Чтобы стать революционером, подчас полезно ходить к обедне
Мариус сохранил религиозные привычки своего детства. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен-Сюльпис, он прошел в тот самый придел пресвятой девы, куда ребенком обычно водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем всегда; остановившись за колонной, он машинально стал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке: «Господин Мабеф, церковный староста». Служба едва началась, как незнакомый старик, со словами: «Это мое место, сударь», подошел к Мариусу.
Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку.
По окончании обедни, задумавшись, Мариус продолжал стоять в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему.
— Прошу извинения, сударь, я уже побеспокоил вас и вот беспокою опять, — сказал он. — Но вы, по всей вероятности, сочли меня недобрым, мне нужно объясниться с вами.
— Это совершенно излишне, сударь, — ответил Мариус.
— Нет, нет, — возразил старик, — я не хочу, чтобы вы дурно обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение десяти лет я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он появлялся к тому часу, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь рядом его отец. Возможно, он, глупенький, и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга! Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку приходить сюда слушать обедню. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, занимать которые мог бы по праву как церковный староста. Я даже знавал немножко этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетушка — словом, хорошенько уже не припомню, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видеться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Ведь нельзя же, помилуй бог, считать человека чудовищем только потому, что он дрался при Ватерлоо! За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника. А теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, где у меня брат кюре, и звали его не то Понмари… не то Монперси… и у него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара саблей.
— Понмерси? — произнес Мариус, бледнея.
— Именно так. Понмерси. А разве вы его знали?
— Сударь, — ответил Мариус, — это мой отец.
Престарелый церковный староста всплеснул руками.
— Так вы тот мальчик! — воскликнул он. — Да, конечно, ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец!
Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал г-ну Жильнорману:
— Мы с друзьями затеяли поездку на охоту. Можно мне отлучиться на три дня?
— Хоть на четыре! — ответил дед. — Поезжай, развлекись.
И, подмигнув, шепнул дочери:
— Какая-нибудь интрижка!
Глава 6
К чему может привести встреча с церковным старостой
Куда ездил Мариус, станет ясно несколько дальше.
Мариус отсутствовал три дня; по возвращении в Париж он тотчас отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект «Монитора».
Он прочитал от корки до корки весь «Монитор», все существующие исторические сочинения о Республике и Империи, «Мемориал Святой Елены», воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания, — он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Понмерси, в том числе и у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он вторично посетил, описал ему образ жизни полковника, существование на пенсион, рассказал о его цветах и уединении в Верноне. Мариусу удалось таким образом до конца узнать этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец.
Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие целиком его время и мысли, он почти перестал видеться с Жильнорманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жильнорман посмеивался: «Ба, ба! Пришла пора девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть».
Это и на самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца.
Одновременно во взглядах его также совершался огромный переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы.
Прошлое, в которое он заглянул, ошеломило его.
Он был прежде всего ослеплен им.
До тех пор Республика, Империя были для него лишь отвратительными словами. Республика — гильотиной, встающей из полутьмы, Империя — саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с каким-то беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды — Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящее солнце — Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пятился назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания; Революция, Империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий, вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения: Республика — к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу; Империя — к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за Революцией великий образ народа, а за Империей — великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно.
Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом и чрезмерно обобщенном суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжаем наш рассказ.
Мариус убедился тогда, что до сих пор так же мало понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза какую-то темную завесу. Теперь он прозрел и, с одной стороны, испытывал чувство восхищения, с другой — обожание.
Его мучили сожаления и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы господь в своем милосердии и своей благости не дозволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как крикнул бы: «Отец, я здесь! Это я! У нас с тобой в груди бьется одно сердце! Я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины! Как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одеждам, лобызал бы его стопы! Ах, почему отец скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына! Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило: «Увы!» А наряду с этим он становился все более — и теперь уже по-настоящему — серьезным и строгим, все более твердым в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. Какой-то процесс внутреннего роста происходил в Мариусе. Он чувствовал себя возмужавшим благодаря двум сделанным открытиям: он нашел отца и родину.
Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснения тому, что ранее ненавидел; постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение — божественное и человеческое — великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался.
От оправдания отца он, что было естественно, перешел к оправданию Наполеона.
Надо, однако, сказать, что последнее далось ему нелегко.
С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты Реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превращает в какое-то почти сказочное чудовище. И чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, много ребяческого, партия 1814 года показывает Бонапарта поочередно под всевозможными страшными масками, от Тиберия — до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все-таки величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу «этого человека», как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец.
Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все более прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый какими-то неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма.
Как-то раз ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простирающаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. Как дивно твое зрелище, ночь! Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки, раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар; лазурь небес черна, звезды сверкают, необъятным кажется мир.
Он читал бюллетени великой армии — эти героические строфы, написанные на полях битв; он встречал там время от времени имя отца и постоянно — имя императора; вся великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив; минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние: ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой и отдаленный кавалерийский галоп. Временами он подымал глаза к небу и глядел на сияющие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении, весь дрожал, задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки из окна и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!»
С этой минуты со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр, Буонапарте — все это исчезло, уступив в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недосягаемой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром; мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Он имел, разумеется, свои недостатки, совершал ошибки и даже преступления, иными словами — был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации; больше того — олицетворением самой Франции, и, побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но столько же и диктатора; деспота, выдвинутого Республикой и явившегося завершением Революции. И подобно тому как Иисус был богочеловеком, Наполеон стал для него народочеловеком.
Как всякий неофит, опьяненный новой верой, Мариус страстно стремился приобщиться к ней — и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило только ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой, — иными словами, создает двойной культ: с одной стороны, божественного, с другой — звериного начала. Он допускал и много других ошибок. Он принимал все безоговорочно. Так, в поисках истины, можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный какого-то безграничного доверия, он целиком соглашался со всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок.
Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону.
Родные Мариуса и не подозревали о совершавшемся в нем духовном перевороте.
Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и по-настоящему превратиться в революционера, истого демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло: «Барон Мариус Понмерси».
Все это явилось лишь вполне логическим следствием произошедшей в нем перемены, всецело определявшейся его тяготением к отцу. Но поскольку у Мариуса не было знакомых и он не мог оставлять свои карточки у портье, он положил их в карман.
Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее: чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все то, за что в течение двадцати пяти лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав г-на Жильнормана, как указывалось выше, уже давно был не по душе Мариусу. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических мнений и взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к г-ну Жильнорману. Стоило этому мосту рухнуть, как между ними сразу образовалась пропасть. Но помимо этого, Мариуса приводила в неописуемое негодование мысль, что именно он, г-н Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив, таким образом, отца сына, а сына — отца.
В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.
Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось вовне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылался на свою занятость, на лекции, экзамены, семинары и т. п. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен! В таких делах меня не проведешь».
Время от времени Мариус отлучался из города.
— Да куда же он ездит? — недоумевала тетка.
В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним сталось. Занятый этими розысками, Мариус четыре дня не был дома.
— Ну, разумеется, куролесит, — заявил дед.
Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.
Глава 7
Какая-нибудь юбка
Мы уже упоминали о некоем улане. Это был внучатный племянник г-на Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь где-то в гарнизоне, вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого душки-военного. Талия у него была как «у барышни», саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, а усы лихо закручивал кверху. В Париж он приезжал очень редко — так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства.
Однажды утром м-ль Жильнорман-старшая вернулась к себе крайне возбужденная при всей невозмутимости своего характера. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться вечером того же дня. «Поезжай!» — ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул: «Повадился таскаться по ночам». М-ль Жильнорман поднялась в свою комнату крайне заинтригованная, бросив на лестнице в знак негодования: «Это уж чересчур!» и в знак удивления: «Но куда же в самом деле он ездит?» Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, свидания, тайны, и была не прочь сунуть сюда свой очкастый нос. Любовный секрет — не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души отнюдь не прочь его отведать. В глубоких тайниках ханжества всегда найдется некоторый запас любопытства к амурным делам.
Итак, она томилась смутным вожделением узнать романтическое происшествие.
Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи Империи и Реставрации, с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была уныла, работница — угрюма. Она провела так в своем кресле уже несколько часов, как вдруг дверь отворилась. М-ль Жильнорман подняла нос; перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от счастья. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана.
— Ты здесь, Теодюль! — воскликнула она.
— Проездом, тетенька.
— Поцелуй же меня.
— Рад стараться! — ответствовал Теодюль.
И он расцеловал ее. Тетушка Жильнорман подошла к своему секретеру и открыла его.
— Ну, уж недельку-то ты у нас погостишь?
— Уезжаю нынче же вечером, тетенька.
— Не может быть!
— Совершенно точно.
— Теодюль, дружок, прошу тебя, останься.
— Сердце говорит «да», а устав — «нет». Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: «Дай-ка повидаюсь с тетенькой».
— Вот тебе за труды.
Она вложила ему в руку десять луидоров.
— За удовольствие, хотите вы сказать, дорогая тетенька.
Теодюль вторично поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира слегка царапнули ей шею.
— Ты едешь с полком, на коне? — спросила она.
— Нет, тетенька. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил особое разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду дилижансом. Да, кстати, в связи с этим у меня к вам вопрос.
— Что такое?
— Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?
— Откуда ты это знаешь? — воскликнула задетая за живое тетушка, загоревшись любопытством.
— По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собою место в карете.
— И что же?
— Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира.
— Кто же это?
— Мариус Понмерси.
— Дрянной мальчишка! — возмутилась тетка. — Нет, твоему кузену далеко до тебя, он совсем не паинька. Не угодно ли, что затеял — ночевать в дилижансе.
— Как и я.
— Но ты это делаешь по обязанности, а он из распутства.
— Бездельник! — бросил Теодюль.
Тут с м-ль Жильнорман-старшей случилось нечто необычайное: у нее возникла мысль. Будь она мужчиной, она, наверно, хлопнула бы себя по лбу.
— Известно ли тебе, — озадачила она вопросом Теодюля, — что твой кузен тебя не знает?
— Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием.
— Значит, вы поедете вместе?
— Он на империале, я — внутри кареты.
— Куда идет дилижанс?
— В Андели.
— Значит, туда и едет Мариус?
— Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса я не имею ни малейшего представления.
— Мариус! Что за противное имя. И вздумалось же назвать его Мариусом. Вот у тебя, я понимаю, имя — Теодюль!
— Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом, — заметил офицер.
— Слушай, Теодюль!
— Слушаю, тетенька.
— Но слушай внимательно.
— С превеликим вниманием.
— Итак, ты слушаешь?
— Да.
— Так вот, Мариус у нас то и дело в отлучке.
— Ай-я-яй!
— Он куда-то ездит.
— О-го-го!
— Не ночует дома.
— Э-ге-ге!
— Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется.
— Какая-нибудь юбка, — проговорил со спокойствием многоискушенного человека Теодюль. И с затаенной усмешкой, не оставляющей места никаким сомнениям, добавил: — Девчонка.
— Так оно и есть! — воскликнула тетка, которой показалось, что она слышит самого г-на Жильнормана, которой слово «девчонка», произнесенное внучатым племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, зазвучало с особой убедительностью.
— Сделай нам одолжение, последи немножко за Мариусом, — продолжала она. — Он тебя не знает, для тебя это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся ее увидать. Ты нам про все напишешь. Это позабавит дедушку.
Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами: «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «Вот я и попал в дуэньи».
Мадемуазель Жильнорман расцеловала его.
— Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинуешься дисциплине, ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга, ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.
Улан скорчил довольную гримасу, словно Картуш, которого похвалили за честность.
Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, нисколько не подозревая, что имеет соглядатая. Что до самого соглядатая, до нашего Аргуса, то он первым делом заснул самым честным, непробудным сном и всю ночь напролет прохрапел.
«Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона?» — крикнул кондуктор дилижанса на рассвете. И поручик Теодюль проснулся.
— Превосходно, — еще полусонный, пробормотал он, — мне здесь выходить.
А когда он окончательно стряхнул с себя сон и память его начала понемногу проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.
«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, — подумал он, застегивая куртку своего будничного мундира. — Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Паси, мог свернуть налево в Эвре или направо — в Ларош-Гийон. Попробуй-ка, тетенька, угоняйся за ним! Но что же, черт побери, напишу я милейшей старушке?»
В эту минуту в окне кареты показались спускающиеся с империала черные панталоны.
«Уж не Мариус ли это?» — промелькнуло в голове поручика.
Это был действительно Мариус.
У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы.
— Купите цветов вашим дамам! — кричала она.
Мариус подошел и выбрал самые лучшие цветы из ее корзинки.
«Ну, дело принимает любопытный оборот, — подумал Теодюль, выскакивая из кареты. — Но кому, пропади он пропадом, собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет заслуживает писаной красавицы. Я должен на нее поглядеть».
И подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он, теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя личное свое любопытство, стал следить за Мариусом.
Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.
«Здорово же он влюблен!» — решил Теодюль.
Мариус направился к церкви.
«Великолепно, — рассуждал сам с собой Теодюль. — Церковь! Очень хорошо. Свидания, чуточку подправленные обедней, — чего лучше! Перемигиваться за спиной у боженьки премилое дело».
Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов апсиды.
«Так, свидание происходит не внутри, а снаружи, — подумал Теодюль. — Ну-ну, поглядим на девчонку».
И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус.
Дойдя до угла, он замер от удивления.
На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он оборвал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя: ПОЛКОВНИК БАРОН ПОНМЕРСИ. Слышались рыдания Мариуса.
Девчонка оказалась могилой.
Глава 8
Нашла коса на камень
Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал и всякий раз, когда, по выражению г-на Жильнормана, «таскался по ночам».
Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись бок о бок с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных похождений Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятного стечения обстоятельств, не получила почти тотчас же известного отклика в Париже.
Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться.
Господин Жильнорман, подобно всем здоровым старикам просыпавшийся спозаранку, услыхал, как он приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а среди поцелуев заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был.
Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться наверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было.
Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка.
— Тем лучше, — сказал Жильнорман.
И через минуту он проследовал в гостиную, где уже восседала м-ль Жильнорман-старшая, вышивая свои экипажные колеса.
Он вошел ликуя.
Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашейную ленточку Мариуса, г-н Жильнорман воскликнул:
— Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни! Мы у самых истоков романа. У меня портрет!
Действительно, на ленточке висел маленький футляр из черной шагреневой кожи, напоминавший медальон.
Старик взял футляр и несколько времени, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него, бедняги, перед носом, но не для него предназначенный.
— Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ну что за болваны! Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает! Нынче у молодежи прескверный вкус!
— Давайте взглянем, отец, — сказала старая дева. Футлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.
— От той же к тому же, — с громким хохотом сказал г-н Жильнорман. — Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка!
— Ну прочтемте же ее! — сказала тетка.
И она надела очки. Затем она развернула бумажку и прочла следующее:
«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своею кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».
Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Г-н Жильнорман чуть слышно, как бы про себя, прошептал:
— Это почерк рубаки.
Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр.
В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. М-ль Жильнорман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. М-ль Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: Барон Мариус Понмерси.
Старик позвонил. Вошла Николетта. Г-н Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал:
— Унесите этот хлам.
Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик, и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила:
— Очень мило!
Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, завидев его и тотчас впадая в свой насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто уничижающее, закричал:
— Так, так, так! Оказывается, ты теперь барон. Ну, поздравляю тебя. А что это, собственно, значит?
— Это значит, — слегка покраснев, ответил Мариус, — что я сын своего отца.
Господин Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:
— Твой отец — это я.
— Мой отец, — продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, — был человек скромный, но героически храбрый, доблестно служивший Республике и Франции, показавший себя великим в величайших исторических делах, когда-либо совершенных людьми, проживший четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, грязи и под дождем, — человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, заброшенным и виновным единственно в том, что чрезмерно любил двух неблагодарных — родину и меня!
Это было уж чересчур, дольше г-н Жильнорман не мог стерпеть. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного — пунцовым, из пунцового — багровым.
— Мариус! Мерзкий мальчишка! — воскликнул он. — Я не знаю, каков был твой отец! И знать не хочу! Я о нем ничего не знаю и самого его не знаю! Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи! Голодранцы, убийцы, каторжники, воры! Все, говорю тебе! Все без исключения! Все! Запомни это, Мариус! А ты, видишь ли, такой же барон, как моя туфля! Робеспьеру служили одни грабители! Бу-о-на-парту — одни разбойники! Одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять! И это законному своему королю! Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан при Ватерлоо! Вот это я знаю. А ежели почтенный ваш родитель, сие мне неведомо, попал в их число, — слуга покорный, — очень жаль, тем хуже!
Теперь наступила очередь Мариуса играть роль угля, а г-на Жильнормана — мехов. Мариус весь дрожал; он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают вон его облатки, или факир, на глазах которого прохожий плюет на его идола. Допустимо ли, чтобы подобного рода вещи безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии подвергали отца надругательству, топтали ногами. Но кем это делалось? Дедом. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но равным образом нельзя оставить неотомщенным отца. С одной стороны — священная могила, с другой — седины. Несколько мгновений под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом:
— Долой Бурбонов! И этого жирного борова Людовика Восемнадцатого!
Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично.
Старик из багрового сразу стал белее собственных волос. Он повернулся к стоящему на камине бюсту герцога Беррийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем, медленно и молча, дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, из конца в конец, через весь зал, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещавшему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась оробевшей старой овцой, и сказал, улыбаясь, почти спокойно:
— Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей.
И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, ужасный, с набухшими на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул:
— Вон!
Мариус покинул дом деда.
На другой день г-н Жильнорман сказал дочери:
— Потрудитесь посылать каждые полгода по шестьдесят пистолей этому кровопийце и при мне никогда о нем не упоминайте.
Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы».
Мариус же удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминания обстоятельство еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются разными мелочами. И хотя по существу вины от этого нисколько не прибавляется, обида возрастает. Торопясь, по приказанию деда, отнести «хлам» Мариуса в его комнату, Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице, ведущей в мансарду, медальон из черной шагреневой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что «господин Жильнорман» — с этого дня он иначе не называл его — бросил в огонь «завещание отца». Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником, и, по сути дела, ничто не было потеряно. Но самая бумага, почерк являлись для него священной реликвией, все это составляло частицу его души. Что сделали с ними?
Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и сам не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал.
Что станется с Мариусом?
Книга IV Друзья азбуки
Глава 1
Кружок, чуть было не ставший историческим
В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия, однако, уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов. Молодежь, да простят нам это выражение, начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя самих, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы — демократами.
Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов; отливам свойственно все смешивать; отсюда и самые неожиданные сочетания идей; одновременно преклонялись перед Наполеоном и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтерианский роялизм нашел себе не менее странную пару в бонапартистском либерализме.
Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там страстно увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления; абсолютное, уже в силу своей непреложности, влечет умы к лазурным высям и заставляет их витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь.
Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу «существующему порядку», подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившей подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот.
В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий тагендбунд или итальянский союз карбонариев; но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, а в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество «Друзей азбуки».
Что представляли собой эти Друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности же оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться.
Члены общества объявили себя Друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа[570]. Его хотели поднять. Каламбур, отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике: например Castratus ad castra[571], благодаря которому Нарсес стал командующим армией; например Barbari et Barberim[572]; например Fueros у Fuegos[573]; например Ти es Petrus et super hanc petram[574] и т. д. и т. п.
Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собою тайное общество в зачаточном состоянии; мы сказали бы даже — котерию, будь в возможностях котерии выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах: близ Рынка, в кабачке под названием «Коринф», о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе под названием «Мюзен», ныне снесенном. До первого сборного пункта было недалеко рабочим, до второго — студентам.
Тайные собрания Друзей азбуки происходили в заднем помещении кафе «Мюзен».
В этом зале, достаточно отдаленном от самого кафе, с которым его соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Гре. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шепотом о неких иных делах. К стене — обстоятельство достаточное, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, — была прибита старая карта республиканской Франции.
Большинство Друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей. Они до некоторой степени принадлежат истории: Анжольрас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль или л’Эгль, Жоли, Грантэр.
Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане.
Это был замечательный кружок. Он исчез в невидимых безднах, уже оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй, не будет лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия.
Анжольрас, которого мы назвали первым, а почему именно его, станет ясно впоследствии, был единственным сыном богатых родителей.
Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивого взгляда можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал в самых малых деталях все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, но по натуре он был первосвященник и воин. Священнодействуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала — если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице — то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигши зрелости мужчины, он все еще глядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид — семнадцать. Строгий в поведении, он, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна только страсть — справедливость и одна только мысль — ниспровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте — Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пения птиц. Обнаженная грудь Эваднеи взволновала бы его не более, чем Аристогитона. Для него, как и для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал очи перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затее завести с ним интрижку неминуемо грозил провал. Если какая-нибудь гризетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Бове, приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развевающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы испробовать над Анжольрасом чары своей красы, изумленный и грозный взгляд его мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным Керубино Бомарше.
Рядом с Анжольрасом, воплощавшим логику революции, находился Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжольраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна, — говорил он, — но не менее нужна и цивилизация»; и вокруг крутой горы ему раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера всегда отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжольрасе. Анжольрас желал осуществить с ее помощью божественное право, а Комбефер — естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй — сторонником Кондорсе. Комбефер больше Анжольраса жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой — мудрого. Анжольрас был мужественнее, Комбефер — человечнее. Homo et Vir[575], в этом, в сущности, и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжольраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверно, охотно называл бы человека Hombre, вслед за испанцами. Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явления поляризации света, восхищался сообщением Жоффруа Сент-Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одна — лицо, другая — мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, занимался сопоставлением Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты «Монитера» и размышлял. Он утверждал, что будущность — в руках школьного учителя, и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи.
Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши коллежи в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к «несбыточным мечтаниям». Он верил в любую фантазию: и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его отнюдь не пугали никакие крепости, повсюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей. Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим — пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер не был способен к борьбе. Нет, он всегда был готов грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы и так, постепенно, сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дождаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой: он чувствовал в нем гниение и смерть. По сути дела он предпочитал пену бурлящей воды миазмам неподвижного болота, поток — клоаке, Ниагарский водопад — Монфоконскому озеру. Словом, он равно не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем как его мятежные духом и рыцарски влюбленные в абсолютное друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. «Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла», — неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обагряя их в крови, то красота прогресса — в сохранении безукоризненной чистоты: и Вашингтон, олицетворяющий последний, и Дантон, воплощающий первую, разнятся между собой, как ангелы с крылами лебедя и с крылами орла.
Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению Средних веков, он переименовал себя из Жана в Жеана. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал свои досуги возне с цветочными горшочками, игре на флейте, сочинению стихов; он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково верил и в светлое будущее, и в бога и осуждал революцию только за одну павшую по вине ее царственную голову — за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос, с неожиданными переходами в резкий. Он был начитан до учености и мог почти сойти за ориенталиста, но превыше всего был добр, а потому — что вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, — в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский языки, но пользовался ими лишь затем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Расина, а Агриппу д’Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками, и облака занимали его, пожалуй, не менее дел житейских. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой — к богу, и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами: заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производство, распределение — вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник; а по вечерам следил громады ночных светил. Как и Анжольрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил опустив голову и потупя взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр.
Фейи был рабочим-веерщиком и круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в день, он имел одну заветную мечту — освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота — стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сам сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не оставалось ни одного человека, не имеющего отчизны. С глубокой проницательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно затем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке этих юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и некстати, говорил о них с настойчивостью, продиктованной сознанием права на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы — Россией, Венеции — Австрией — все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Но особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование — лучший вид красноречия; именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, так изменнически лишенному независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и образцом всех ужасных разгромов, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, потерявших вследствие этого, так сказать, свое право на существование. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши — теорема, а все современные политические злодеяния — ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать ne varietur[576] раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением прежде, чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815-м — делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава равно не может оставаться татарской, как и Венеция — немецкой. Бороться с этим напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия — Италией. Протест права против актов насилия никогда не смолкает. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды таких крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спороть метку, как с носового платка.
У Курфейрака был отец, которого все звали г-н де Курфейрак. К числу многих превратных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи Реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит и вера в частичку «де». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен «Минервы» так высоко расценивала это ничтожное «де», что почитала за долг отказываться от него. Г-н де Шовелен стал именоваться г-ном Шовеленом, г-н де Комартен — г-ном Комартеном, г-н де Констан де Ребек — Бенжаменом Констаном, а г-н де Лафайет — г-ном Лафайетом. Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком.
На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись в отношении всего остального ссылкой: Курфейрак — см. Толомьес.
Курфейрак и на самом деле был весь полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка, и очаровательное наше создание превращается в конечном счете: двуногое — в буржуа, а четвероногое — в кота.
Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, и его передают из рук в руки, quasi cursores[577], почти совсем не измененным. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817 году. Только Курфейрак был честным малым. Несмотря на все кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.
Если Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, приветливым характером.
Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.
Баорель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Большой руки буян, иными словами — страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому, в свою очередь, предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить низвержением правительства, любопытствуя, что же получится. Он одиннадцатый год числился студентом, но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом — ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот — до пальто в ту пору еще не додумались — и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Ну и красавец-старик!», а о декане факультета г-не Дельвенкуре: «Ну и монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, а профессора, которых слушал, — сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну.
Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому и умные».
Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать — одним парижанам. А в сущности, Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казалось на вид.
Он служил связью между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более четкую форму.
В нашем конклаве молодежи имелся один лысый сочлен.
Маркиз д’Аваре, возведенный Людовиком XVIII в герцоги за то, что он подсадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» — спросил король. «О месте смотрителя почтовой конторы, ваше величество». — «Как вас зовут?» — «Л’Эгль».
Король нахмурился, но, взглянув на стоящую на прошении подпись, увидел, что фамилия писалась не Л’Эгль, а Легль[578]. Такое отнюдь не бонапартистское правописание приятно тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество, — продолжал проситель, — мой предок был псарь, по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно — Легль, а искаженно — л’Эгль». Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он дал все же просителю почтовую контору в Мо.
Лысый член кружка был сыном этого л’Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо). Товарищи звали его для краткости Боссюэ.
Боссюэ был веселым, но несчастливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел уже облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом, и землю, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и эту землю, и этот дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен, и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял — все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружком. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валятся черепицы». Спокойно, как должное, ибо неудачи являлись для него делом привычным, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилось веселье. Ему случалось частенько терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»
Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, ежели приходила охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги».
Боссюэ не торопился овладеть адвокатской профессией. Он проходил юридические науки на манер Баореля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не бывало и вовсе никакого. Он жил то у одного, то у другого из приятелей. Чаще же всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюэ.
Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. В результате занятий медициной он не столько сделался врачом, сколько сам превратился в больного. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а ногами на север, чтобы, под влиянием магнитных сил Земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, и в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жолллли». «Смотри, не улети на своих четырех «л», — шутил Жан Прувер[579].
Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проницательного ума.
Всех этих молодых людей, столь меж собою не схожих, объединяла общая вера в Прогресс, и в конечном счете они заслуживали полного уважения.
Все они были родными сынами Французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося: «Восемьдесят девятый год». Их отцы по плоти могли в прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; им, молодежи, не было ровно никакого дела до всей неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга.
Организовав братство посвященных, они начали втайне подготовлять осуществление своих идеалов.
Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был и один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантэром, и он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву Р[580]. Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» — наилучшим бильярдом, а «Эрмитаж» на бульваре Мен — прекрасными оладьями и преприятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое винцо. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, а ко всему прочему — не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию: «Грантэр, — заявила она, — есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантэра. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!» — и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.
Такие слова, как: права народа, права человека, общественный договор, Французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс — представлялись Грантэру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете относился он иронически. Любимый афоризм его гласил: «В жизни достоверно только одно — стакан, наполненный вином». Он глумился над всякой самоотверженностью, кто бы ни являл пример ее: брат или отец, Робеспьер ли младший, или Луазероль. «Да ведь они на своей смерти немало выиграли!» — восклицал он. Распятие на его языке называлось «виселицей, которой здорово повезло». Бабник, игрок, гуляка, то и дело пьяный, он вечно напевал себе под нос: «Люблю красоток я да доброе вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям.
Впрочем, и у этого скептика имелся предмет фанатического увлечения. Им не являлась ни идея, ни догма, ни наука, ни искусство, им являлся человек, а именно — Анжольрас. Грантэр восхищался им, любил его и благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул сей во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех. Чем же покорил его Анжольрас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик — кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантэру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в Анжольрасе парит вера. Анжольрас был ему необходим. Он не отдавал себе в том ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжольраса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности и изломанности он цеплялся за Анжольраса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантэр искал опоры в стойкости Анжольраса. Рядом с ним и он становился некоторым образом личностью. Нужно сказать также, что сам он представлял собою сочетание двух, казалось бы, несовместимых элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Факт глубоко противоречивый, ибо привязанность — та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, оборотной стороной другого. К ним принадлежат Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь; их имена — только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди; у них нет собственной жизни, она — только изнанка чужой судьбы. Грантэр был одним из таких людей. Он представлял собою оборотную сторону Анжольраса.
Можно, пожалуй, сказать, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны, и вы можете на выбор сказать: О и П или Орест и Пилад.
Грантэр, подлинный сателлит Анжольраса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, там только чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. И не было для него радости большей, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. Самого же его терпели за покладистый нрав.
Верующий и трезвенник, Анжольрас презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантэр оставался на положении непризнанного Пилада. Вечно терпя от суровости Анжольраса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к нему, говоря про Анжольраса: «Что за кремень человек!»
Глава 2
Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо
Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень и, как увидят ниже, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе «Мюзен», томно прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз — груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять прислонившись к чему-нибудь — это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели отнюдь этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее.
Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, — обратить на него внимание. Легль из Мо, рассеянно поглядывая по сторонам, несмотря на полудремотное свое состояние, вдруг заметил тащившуюся по площади двуколку, еле-еле и как бы нерешительно продвигавшуюся вперед. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Там, рядом с извозчиком, сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришита карточка, и на ней бросалось в глаза написанное жирными черными буквами имя: Мариус Понмерси.
Это имя заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и заорал, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке:
— Господин Мариус Понмерси!
Двуколка остановилась на оклик.
Молодой человек, по-видимому также пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза.
— Что? — произнес он.
— Не вы ли будете господин Мариус Понмерси?
— Да, это я.
— Я вас разыскиваю, — сказал Легль из Мо.
— Как так? — удивился Мариус; ибо это был и на самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. — Я вас не знаю.
— И я вас не знаю, — отвечал Легль.
Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. В эту минуту ему было совсем не до шуток. Он насупил брови. Но Легль из Мо невозмутимо продолжал:
— Вас не было позавчера на лекциях.
— Возможно.
— Не возможно, а совершенно точно.
— Вы студент? — спросил Мариус.
— Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Ежели вы на троекратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков.
Мариус стал слушать внимательнее. А Легль рассказывал дальше:
— Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы П. Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя: «Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, нынче чинить расправу». Вдруг он вызывает: «Мариус Понмерси». Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус Понмерси!» — и уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: «Эх, славного малого хотят тут вычеркнуть. Постойте! Кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель гризеток, волокита, быть может, в сей самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть Блондо!» В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от вымарок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» «Здесь!» — ответил я. Вот потому-то вас и не вычеркнули.
— Позвольте, сударь… — начал было Мариус.
— А вычеркнули меня, — закончил Легль из Мо.
— Я вас не понимаю, — сказал Мариус.
— А дело очень простое, — принялся объяснять Легль. — Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор же уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, — он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, — перескакивает на букву Л. Л — это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя Легль.
— Л’Эгль. Какое прекрасное имя! — прервал его Мариус.
— Ну так вот. Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает: «Легль!» — «Здесь!» — отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит улыбаясь: «Ежели вы Понмерси, стало быть, не Легль». Фраза, как будто и не совсем учтивая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул.
— Я глубоко огорчен, сударь! — воскликнул Мариус.
— Прежде всего, — прервал его Легль, — я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю: «Erudimini qui judicatis terram»[581]. Здесь покоится Блондо, Блондо Носатый, Блондо Nasica, вол дисциплины — bos disciplinae, цепной пес списков, гений перекличек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь бог вычеркнул его из числа живых, как он меня — из числа студентов.
— Я крайне опечален… — начал было снова Мариус.
— Да послужит вам это уроком, молодой человек, — сказал Легль из Мо. — Впредь будьте аккуратнее.
— Примите самые искренние мои сожаления.
— Впредь ведите себя так, чтобы ближних ваших не вычеркивали из списков.
— Я просто в отчаянии…
Легль расхохотался.
— А я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Это исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет мне ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то добился я исключения. И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему имею в мыслях торжественно нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?
— В этом кабриолете, — ответил Мариус.
— Значит, вы богаты, — не моргнув глазом, подхватил Легль. — Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере девять тысяч франков в год.
В этот момент из кафе вышел Курфейрак.
Мариус печально улыбнулся:
— Я нахожусь на этой квартире два часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история — мне некуда деваться.
— Поедемте ко мне, сударь, — сказал Курфейрак.
— Первенство, собственно говоря, принадлежит мне, — заметил Легль, — но беда в том, что у меня у самого нет дома.
— Замолчи, Боссюэ, — оборвал его Курфейрак.
— Боссюэ? — с недоумением повторил Мариус. — А я полагал, что фамилия ваша Легль.
— Из Мо, — ответил Легль, — иносказательно же Боссюэ.
Курфейрак сел в кабриолет.
— Гостиница Порт-Сен-Жак, — приказал он извозчику.
И в тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак, бок о бок с Курфейраком.
Глава 3
Мариус все больше изумляется
Не прошло и нескольких дней, как Мариус уже подружился с Курфейраком. Юность — пора стремительных сближений и быстрого рубцевания ран. В обществе Курфейрака Мариусу легко дышалось — ощущение, ранее ему не знакомое. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все сразу узнается по лицу. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимного понимания им достаточно взглянуть друг на друга.
Тем не менее однажды утром Курфейрак вдруг неожиданно спросил Мариуса:
— Кстати, скажите, есть ли у вас какие-либо политические убеждения?
— Ну разумеется, — ответил Мариус, несколько даже обиженный вопросом.
— Кто же вы?
— Демократ-бонапартист.
— Окраска в достаточной мере серая, — заметил Курфейрак.
На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию» — и провел Мариуса в комнату Друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом.
Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остромыслия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе.
Мариусу, который вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре склонному к монологам и разговорам с самим собою, было как-то не по себе среди обступившей его толпы молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия одновременно и привлекала, и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неугомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. И в эти минуты его душевного смятения они порой так разбегались, что он лишь с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии, знакомился с самыми необычайными взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли просто все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое миросозерцание; полный тревоги, не смея и самому себе в том признаться, начал он подозревать теперь, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием каких-то равномерно повторяющихся толчков умственный горизонт его был приведен в колебание. Это было состояние странной внутренней ломки. Оно почти причиняло ему страдание.
Для этих молодых людей, казалось, не существовало «ничего святого». По любому поводу Мариус мог услышать самые поразительные речи, смущавшие его робкий еще ум.
Вот на глаза попалась театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого классического, репертуара. «Долой трагедию, любезную сердцу буржуа!» — кричит Баорель, и Мариус уже слышит, как возражает ему Комбефер:
— Ты заблуждаешься, Баорель. Буржуазия любит трагедию, и пускай себе любит, оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет свое право на существование. И я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы, и среди ее творений есть готовые пародии: клюв — не клюв, крылья — не крылья, плавники — не плавники, лапы — не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех, — вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов?
В другой раз, проходя случайно вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан-Жака Руссо, Мариус стал свидетелем следующей беседы.
— Обратите внимание, — сказал Курфейрак, беря его под руку, — мы находимся на Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан-Жака Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка: Жан-Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет божий детей, а Жан-Жак — подкидышей.
Но тут Курфейрака резко оборвал Анжольрас:
— Не оскверняйте памяти Жан-Жака! Я преклоняюсь пред этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял в сыновья себе народ.
Никто из наших молодых людей не употреблял слова «император». Один только Жан Прувер иногда еще говорил «Наполеон», все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал даже Буонапарте.
Все это вызывало в Мариусе смутное чувство изумления. То было: initium sapientiae[582].
Глава 4
Заднее помещение кафе «Мюзен»
Один разговор между нашими молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус и в который изредка вставлял слово, произвел на него поистине потрясающее впечатление.
Дело происходило в заднем помещении кафе «Мюзен». В тот вечер почти все Друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел кенкет. Говорили о том о сем шумно, но без особого увлечения. За исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах.
Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме Луизон, судомойки, время от времени проходившей здесь, направляясь из комнаты, где мылась посуда, в «лабораторию» кабачка.
Грантэр, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих.
— Жажда томит меня, о смертные, — орал он, — мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок и будто одна из них — я. Мне хочется выпить. Мне хочется забыться. Жизнь — кто ее только выдумал! — прегнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить — непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь — только сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье — старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета сует, говорит Екклесиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Нуль, не желая ходить нагишом, рядится в суету. О суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа — это негр в своих побрякушках; с изнанки глупа — это философ в своем рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, и даже настоящая честь и слава — подделка под золото. Человеческое тщеславие — игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня, Карл Второй возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в компании консула Incitatus[583] и баронета Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами! Что же касается внутренних качеств человека, то и они немного стоят. Достаточно послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей лилия говорить, не поздоровилось бы от нее голубке! Ханжа, которая судит о святоше, ядовитее ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю.
Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил, но проводил его с пользой: картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать — все один черт! Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком: бережливый — родня скупому, щедрый — брат моту, храбрый — друг бахвала, от смиренных речей всегда отдает лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут, он совершил убийство! Вот это и называется добродетелью! Добродетелью — пускай, но и столько же безумством. У великих сих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгилионом, резцу которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронгилиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Брут был влюблен в одну, Нерон — в другую. История — лишь нудная жвачка. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва при Маренго — точная копия битвы при Пидне; Толбиак Хлодвига и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить — вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать! Но с вас достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество! Увы, куда ни глянь, повсюду тщета и низость. Все подчиняется успеху, даже грамматика. «Si volet usus»[584], говорит Гораций. Вот за что и презираю я род человеческий. А теперь не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народам? С кого же начать нам, разрешите спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона — здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи — и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто «на запах его урины слетаются пчелы». В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький и тщедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием «подножку». Вот в основном и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции? За что, не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг-Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков, Альбион! Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу! Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джону Булю желание похвалить брата Джонатана? Никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии time is money[585], и что останется от Англии? Отнимите у Америки cotton is king[586], и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии — желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, и в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм.
Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один задушенный Павел, другой — затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев — все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, и война цивилизованная, применяет полностью все виды разбоя, начиная от нападения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев-команчей. Ах, бросьте, скажете вы, Европа все-таки лучше Азии! Я не отрицаю, что Азия смехотворна. Однако я не вижу особых оснований вам, о народы Запада, потешаться над далай-ламой, — вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ — и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина! Нет, дудки, господа человеки! В Брюсселе больше всего потребляют пива, в Стокгольме — водки, в Мадриде — шоколада, в Амстердаме — можжевеловки, в Лондоне — вина, в Константинополе — кофе, в Париже — абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех их перещеголял. В Париже и тряпичник живет как сибарит; Диогену, наверное, доставило бы не меньшее удовольствие быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее: кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них «Кастрюля» и «Скотобойня». Итак, о трактиры и кабаки, закусочные и питейные, ресторации и харчевни, распивочные и кофейни, караван-сараи халифов и погребки тряпичников! Сим свидетельствую, что я чревоугодник и столуюсь у Ришара по сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них нагую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон? Давай поздороваемся.
Так разглагольствовал мертвецки пьяный Грантэр в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев и проходившую мимо судомойку.
Боссюэ протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантэр еще пуще разошелся.
— Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократа, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и угомониться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен, человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным господь бог опростоволосился. Толпа — богатейший выбор всяческих уродств. Кого ни возьми — одна дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с «бесчестна». Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а в придачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его господа бога к черту!
— Да замолчи же, наконец, «эр» прописное! — прервал его Боссюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили:
«…А что до меня, то, будучи еще малоискушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать нижеследующее, а именно: что, согласно нормандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день со всех, без всяких изъятий, землевладельцев взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных купчих и…»
— «Эхо, жалобных нимф голоса», — затянул Грантэр.
По соседству с Грантэром за столиком царила почти гробовая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось вполголоса, и две склоненные в трудах головы касались друг друга.
— Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно будет придумать и сюжет.
— Это верно. Диктуй. Я записываю.
— Господин Доримон.
— Рантье?
— Разумеется.
— Его дочь Целестина…
— …тина. Дальше?
— Полковник Сенваль.
— Сенваль слишком избито. Лучше Вальсен.
Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, также воспользовавшись шумом, вполголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный годами тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело.
— Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику слукавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски, а наносит их математически точно, будь он неладен! И вдобавок еще левша.
В противоположном от Грантэра углу Жоли и Баорель играли в домино и рассуждали о любви.
— Ты настоящий счастливчик, — говорил Жоли. — Твоя возлюбленная только и знает, что смеется.
— И напрасно, — отвечал Баорель, — это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния; а если она печальна, как-то становится совестно.
— Неблагодарный! Так приятно, когда женщина смеется! И никогда-то вы не ссоритесь!
— Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заключая священный наш союз, мы определили друг другу границы, которые никогда не преступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, — к Жексу. Отсюда и нерушимый мир.
— Мир — это спокойно перевариваемое счастье.
— А что слышно у тебя, Жол-л-л-ли? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду?
— Да она все дуется на меня, жестоко и упорно.
— Казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был ее разжалобить.
— Увы!
— На твоем месте я бы с ней распрощался.
— Это легко сказать.
— Не труднее, чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта?
— Да. Ах, дружище Баорель, что это за прелестная девушка, и какая начитанная! Ножка маленькая, ручка маленькая. Всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки, ну просто колдовские. Я от нее без ума!
— В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. Купил бы ты себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует.
— А надолго ли? — крикнул Грантэр.
В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, естественно, выступал Жан Прувер. Последний бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся какой-то задор, и он становился насмешлив и одновременно лиричен.
— Не будем оскорблять богов, — взывал он. — Быть может, боги еще живы. Мне лично Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги — это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и встарь, — головной убор Кибелы; вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, поочередно перебирая пальцами дырочки; и я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио.
Наконец, в последнем углу говорили о политике. Бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее, а Курфейрак яростно нападал на нее. На столе лежал злополучный экземпляр хартии знаменитого издания Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги.
— Во-первых, я вообще против всяких королей, — заверял он. — Уже из одних соображений экономического порядка я считаю их излишними: король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Послушайте только, во что обходятся короли. После смерти Франциска Первого государственный долг Франции достигал тридцати тысяч ливров ренты; после смерти Людовика Четырнадцатого он возрос до двух миллиардов шестисот миллионов, считая стоимость марки в двадцать восемь ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в тысяча семьсот шестидесятом году четырем миллиардам пятистам миллионам, а в наши дни составляло бы двенадцать миллиардов. Во-вторых, не в обиду будь сказано Комбеферу, королевские хартии плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся! Нет, нет и нет! Никогда не следует показывать народу факты в ложном свете. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов. Никаких всемилостивейших, дарованных народу вольностей. Во всех таких вольностях всегда наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия — маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Нет! Никаких хартий!
Дело происходило зимой; два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился одной только фразой:
— Метаморфоза совершилась — хартия превращена в пламя.
А над всем этим здесь царило то, что у французов именуется оживлением, а у англичан — юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь сразу со всех концов комнаты, создавали впечатление какой-то веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.
Глава 5
Расширение кругозора
В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра, или засверкает молния. Что возникнет через минуту? Никто не знает. Трогательное может встретить взрыв смеха, а смешное — заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий всю перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель — случайность.
Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь гущу беспорядочных речей спорящих между собою Грантэра, Баореля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака.
Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода, останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что это никому не известно. Посреди шума и гама Боссюэ вдруг неожиданно заключил какое-то возражение Комбеферу упоминанием даты:
— Восемнадцатого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, Ватерлоо.
Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол; при слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими.
— Меня всегда поражало, бог ее знает (выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления), что это за странная цифра восемнадцать! — воскликнул Курфейрак. — Восемнадцать — роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой восемнадцать Людовик, а после нее — Брюмер, и вот вам вся судьба великого человека с одной лишь существенной разницей, что в данном случае конец опережает начало.
Тут Анжольрас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил:
— Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?
«Преступление!» — это слово переполнило чашу терпения Мариуса, уже и без того крайне взволнованного внезапным упоминанием о Ватерлоо.
Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке, был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал:
— Это Корсика. Маленький островок, сделавший Францию такой великой.
Сразу словно пахнуло ледяным дыханием. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется.
Баорель собирался в эту минуту пустить в ход один из излюбленных своих ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюэ. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать.
Анжольрас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса:
— Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика потому, что она — Франция. Quia nominor leo[587].
Однако Мариус не имел ни малейшего намерения отступать. Он обернулся к Анжольрасу и заговорил громким, дрожащим от внутреннего волнения голосом:
— Боже меня упаси умалять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умалять ее. Послушайте, поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся же, приведем в ясность, с кем мы и кто мы. Кто вы, кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Буонапарт с ударением на у, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел: он произносит — Буонапарте. Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собою совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, составлял он своды законов; подобно Цезарю, предписывал их; в речах его, как у Паскаля, сверкали молнии и, как у Тацита, слышались громы; он равно и творил, и писал историю, его бюллетени — те же песни «Илиады»; он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета; на Востоке он оставлял на своем пути слова, великие, как пирамиды; в Тильзите учил императоров царственности; в Академии наук с успехом возражал Лапласу; в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом; он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других; с юристами он превращался в законника и в астронома — со звездочетами; подобно Кромвелю, который из двух горящих свечей всегда задувал одну, он, чтобы подешевле купить какие-нибудь кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль; он все замечал, все знал, что, однако, нисколько не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа уже слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, пловучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два крыла своих: великую армию и старую гвардию, — воистину архангел войны!
Все молчали, а Анжольрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени сочтено знаком согласия или свидетельством того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением:
— Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщает собственный гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднять династии, штыками перекраивать Европу, — пусть чувствуют, что, когда он угрожает, рука его на эфесе божьего меча! Какая блестящая судьба следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть народом того, кто что ни день дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки Дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова: Маренго, Арколь, Аустерлиц, Йена, Ваграм! Кто поминутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет Французскую империю Римской! Какая блестящая судьба быть великой нацией и создать великую армию и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то исключительный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды: силой оружия и ослепительным светом! Это ли не прекрасно! И есть ли что-либо прекраснее этого?
— Быть свободным, — промолвил Комбефер.
Теперь Мариус в свою очередь потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжольраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжольрас остался теперь наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись немного с мыслями, Мариус не признал себя побежденным; все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжольраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер, а пел он следующее:
Когда бы Цезарь дал мне славу, И трон, и скипетр, и державу, И мне велел за то предать Мою возлюбленную мать, Я Цезарю сказал бы прямо: «Мне твоего не надо хлама, Я мать свою люблю, слепец! Я мать свою люблю!»Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый и высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил:
Я мать свою люблю…В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжольраса.
— Гражданин, — сказал, обращаясь к нему Анжольрас, — мать — это Республика.
Глава 6
Res angusta[588]
Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь железом, чтобы бросить семя; она чувствует в этот момент только боль от раны; трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода приходят позднее.
Мрачное настроение овладело Мариусом. Он так недавно обрел веру; неужели необходимо уже отрекаться от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжко; лишь человеку-нетопырю милы такие потемки. Мариус же принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места его неудержимо тянуло и влекло вперед, толкало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» — задавал он себе вопрос. Проделав такой длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы теперь снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия: для одного он был слишком вольнодумным, для других — слишком отсталым; он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью, и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен».
Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал даже о некоторых насущных сторонах существования. Но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком.
Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил:
— Господин Курфейрак поручился за вас.
— Да.
— Но я хотел бы получить деньги.
— Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо переговорить с ним, — ответил Мариус.
Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок на свете и что родных у него больше нет.
— Как же вы будете жить? — спросил Курфейрак.
— Не знаю, — ответил Мариус.
— Что вы намерены делать?
— Не знаю.
— Есть ли у вас деньги?
— Пятнадцать франков.
— Не хотите ли занять у меня?
— Ни в коем случае.
— Есть ли у вас какое-нибудь носильное платье?
— Да вот же оно.
— А какие-нибудь ценные вещи?
— Часы.
— Серебряные?
— Нет, золотые. Вот они.
— У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас редингот и панталоны.
— Превосходно.
— Значит, у вас останется тогда только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук.
— И сапоги.
— В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь!
— Больше мне и не требуется.
— У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.
— Очень хорошо.
— Совсем не хорошо. А что вы будете делать потом?
— Я согласен на любой труд, был бы только честный.
— Знаете ли вы английский язык?
— Нет.
— А немецкий?
— Тоже нет.
— Жаль.
— Почему?
— Да потому, что один мой приятель-книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все же можно.
— Я выучусь и английскому, и немецкому языку.
— А до тех пор?
— До тех пор буду проедать свое платье и часы.
Позвали торговца платьем. Он купил добро Мариуса за двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков.
— Ну что же, это неплохо, — сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу, — с моими пятнадцатью получится восемьдесят франков.
— А счет за гостиницу? — напомнил Курфейрак.
— Верно. Я и позабыл, — сказал Мариус.
Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал семидесяти франков.
— У меня остается десять франков, — заметил Мариус.
— Черт возьми, — воскликнул Курфейрак, — вам придется, таким образом, питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык, и еще на пять, пока будете изучать немецкий! Для этого нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно монеты в сто су.
Между тем тетушка Жильнорман, женщина, в сущности, добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел у себя письмо от нее и запечатанную шкатулку с «шестьюдесятью пистолями», то есть шестьюстами франками золотом.
Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором заявлял, что имеет средства к существованию и может впредь сам себя содержать. К тому времени у него оставалось всего три франка.
Тетушка не сообщила деду об отказе Мариуса, боясь вконец рассердить старика. Тем более что он и сам приказал при нем «никогда не упоминать об этом кровопийце!».
Мариус, не желая входить в долги, покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.
Книга V Преимущество несчастья
Глава 1
Мариус в нищете
Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платье — это еще полбеды. Но он отведал и такого, чего не передать, — как говорится, хлебнул горя. Страшная вещь — нужда; она означает дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня; она означает, что неделями нечего заработать и от будущего нечего ждать; она означает сюртук, протертый на локтях, и старую шляпу, возбуждающую у молодых девушек смех; дверь, которую, возвращаясь вечером к себе, находишь на замке, потому что не заплатил за квартиру; наглость портье и кухмистера, усмешечки соседей; унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что другого зачастую и глотать нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание собственного достоинства, потому что необходима любовь, он видел себя посмешищем, потому что был плохо одет, и презираемым всеми, потому что был беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на дырявые свои сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные — обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог.
Ибо в мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глас не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность — вот поле битвы, выдвигающее собственных героев, безвестных, но иной раз превосходящих доблестью самых прославленных.
Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета, являющаяся почти всегда мачехой, иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ родит духовную и умственную мощь; тяжкие испытания вскармливают гордость; несчастья служат здоровой пищей для благородного характера.
В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на своей лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить маленький хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Зачастую можно было наблюдать молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в расположенную на углу мясную лавку, неловко пробирался сквозь толпу отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота; он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув под мышку между двух книг, уходил. То был Мариус. Этой котлеткой, которую он сам жарил, он питался три дня.
В первый день он съедал мясо, на другой — жир, а на третий обгладывал косточку.
Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему упомянутые шестьдесят пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается.
Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от своего черного платья. Зато платье само отказалось ему служить. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус со своей стороны оказал некоторые дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за тридцать су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький. Но он был зеленого цвета. Тогда Мариус стал выходить из дома только с наступлением сумерек. Благодаря этому сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облекался в темноту ночи.
Несмотря на все описанные трудности, ему удалось все же получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака.
Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Г-н Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. Два-три дня спустя м-ль Жильнорман услыхала, как отец, находясь один в комнате, громко разговаривал сам с собой. Это случалось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь сильно взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, — говорил старик, — ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».
Глава 2
Мариус в бедности
Все на свете образуется, нищета тоже. Мало-помалу она становится не такой уже невыносимой. Она приобретает в конце концов какой-то устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает — иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем.
Самое худшее для него уже миновало. Теснина впереди несколько расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около семисот франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль полезности. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и т. п., что давало ему худо-бедно чистых семьсот франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Это мы сейчас расскажем.
За тридцать франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, важно именовавшуюся кабинетом; в ней по части обстановки имелось только самое необходимое. Обстановка эта являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилице, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам немного горячей воды, свежее яйцо и хлебец ценою в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он спускался под горку на улицу Сен-Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами Басэ, на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал обычно порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеб стоил три су и давался вволю. А вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести г-жа Руссо, он давал су гарсону и получал в награду улыбку г-жи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су.
Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира уже нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли «водяным Руссо».
Итак, при завтраке в четыре су и обеде в шестнадцать Мариус тратил на еду двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавьте сюда указанные тридцать франков за квартиру и тридцать шесть франков старухе, кое-какие мелкие расходы — и получится, что за четыреста пятьдесят франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему сто франков, белье — пятьдесят, стирка — пятьдесят, а все в совокупности не превышало шестисот пятидесяти франков. У него оставалось еще пятьдесят франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы; однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус «упразднил».
У Мариуса всегда имелось два костюма: старый, «для каждого дня», и новый — для торжественных случаев. И тот и другой черного цвета. Сорочек у него было не больше трех: одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Он пополнял их по мере того, как они снашивались. Но они были почти всегда изорваны, что вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка.
Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы; их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. И если говорить о лишениях, то чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного — брать в долг. Он мог смело сказать, что никогда не был должен никому ни единого су. Для него всякий долг означал уже начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина, ибо господская власть распространяется только на ваше физическое я, а кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унизить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и не один день случалось ему сидеть голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок материальной обеспеченности, если не принять мер предосторожности, может привести к моральному упадку, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось позднее бить отбой. Строгость лежала на его лице словно румянец, а в своей застенчивости он доходил до резкости.
Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку.
Рядом с именем отца в сердце Мариуса крепко запечатлелось и другое имя — имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил каким-то ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, — этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней: большой алтарь был воздвигнут для отца, малый — для Тенардье. И Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье, когда узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. С тех пор он прилагал неслыханные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты, где тот исчез. Мариус изъездил все окрестности, побывал в Шеле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он непрерывно отдавался этим поискам, тратя на них все скудные свои сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в неудаче, постигшей его розыски, и даже негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, — думал он, — ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот лежал умирающим на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах, а он ничем не был обязан отцу. Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и в свою очередь вернуть к жизни? Нет, я найду его!» И действительно, чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье, оказать Тенардье какую-нибудь услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю! Вот я! Располагайте мною!» — было самой сладостной, самой высокой мечтой Мариуса.
Глава 3
Мариус вырос
В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними — ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки? Ежели Мариус был тверд, как бронза, то г-н Жильнорман был крепок, как железо.
Нужно сказать, что Мариус ошибся в сердце деда. Он вообразил, что г-н Жильнорман никогда его не любил и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жеронтов. Мариус заблуждался. Встречаются отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души г-н Жильнорман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая свое обожание тумаками и даже затрещинами; но когда мальчика не стало, он почувствовал в сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его так строго исполняется. В первое время он надеялся, что этот буонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему горю г-на Жильнормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», — убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: «А случись это сейчас, поступил бы я так же?» Его гордость, не задумываясь, отвечала: «Да», а старая голова молчаливым покачиванием печально отвечала: «Нет». Временами он совсем падал духом: ему недоставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце; это тоже источник тепла. Несмотря на стойкий его характер, с уходом Мариуса в нем что-то переменилось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению «с этим дрянным мальчишкой», но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Марэ, становился все более и более замкнутым. Он оставался еще веселым и вспыльчивым, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались каким-то тихим и сумрачным унынием. «Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, пусть только бы он вернулся!» — иногда говорил он себе.
Что же касается тетки, то она неспособна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить; Мариус превратился для нее в некую тусклую, неясную тень, и в конце концов она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, каковые, разумеется, у нее имелись.
Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и тем, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печи новейшего изобретения, поглощающие собственный дым. Случалось, что иной неудачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал: «Как поживает и что поделывает ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Барон Понмерси изволит сутяжничать в какой-нибудь дыре».
Но между тем как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило его забыть горечь обиды. Он всегда вспоминал теперь о г-не Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, «дурно относившегося» к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его былое возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать и что страдания его не прекращались. Ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то радостью он твердил себе, что «все это еще слишком хорошо»; что это искупление; что, не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу! Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значат его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него — это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и хотел сказать полковник словами: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил — правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце.
Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком, теперь он стал взрослым мужчиной. Он и сам сознавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что всецело направляет нашу волю к действию, а душу — к высоким стремлениям. Бедность сразу обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение; следствием же этого является неотвратимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши имеются сотни столь же блестящих, сколь и грубых, развлечений: скачки, охота, собаки, табак, карты, вкусные яства и еще многое другое; все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, в ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный же юноша трудом добывает свой хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его, ему нечем заняться, кроме мечтаний. Ему доступны лишь бесплатные зрелища, даруемые богом: он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого томится в страданиях, мир творений, среди которого является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений — бога. Отдавшись мечтам, он чувствует себя великим, но мечты уносят его дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам, для нее закрытым, — он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается в сердце. Да и бывает ли он на самом деле несчастен? Нет. Молодого человека нищета никогда не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, алостью губ, белизною зубов, чистотою дыхания — всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание; и пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается идеями. А закончив дневной свой урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным своим восторгам и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами его камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен; и он благословляет бога за то, что тот даровал ему два сокровища, не доступные многим богачам: труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство.
Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, находя, что не так уж плохо быть бедным, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, таким образом, что он проводил целые дни в раздумии, словно зачарованный, весь погрузившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше — ради духовной пользы. Иначе говоря — жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Думая, что он ни в чем не нуждается, Мариус не замечал, что понятая подобным образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени; что он успокоился, удовлетворив лишь примитивные материальные потребности, и слишком рано вздумал отдыхать.
Совершенно очевидно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.
А тем временем, несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не «сутяжничал», но и вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой — какая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в упомянутой выше скромной книготорговле стала давать ему в конце концов без большой затраты труда надежный заработок, и его, как было уже нами сказано, вполне хватало Мариусу.
Один из книготорговцев, на которых он работал, — если не ошибаюсь, это был г-н Мажимель, — предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованьем в полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира! Полторы тысячи франков! Это, конечно, недурно. Но лишиться свободы! Превратиться в наемника! В своего рода литературного приказчика! По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение: выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять неприкрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Все равно как если бы из слепого превратиться в кривого. Он отказался.
Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его слишком отпугнули, он так и не вошел по-настоящему в кружок, возглавляемый Анжольрасом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать любую взаимную услугу, но и только. У Мариуса было два друга: Курфейрак и г-н Мабеф, один был молод, другой — стар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан своим внутренним переворотом, во-вторых — благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с глаз моих катаракту», — говорил Мариус.
И несомненно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль.
Правда, г-н Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь внесенная в нее. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит.
Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то г-н Мабеф был совершенно не способен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею.
Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с г-ном Мабефом, нелишним будет сказать о нем несколько слов.
Глава 4
Г-н Мабеф
В тот день, когда г-н Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него одинаково безразличны, и он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя, — он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим Фурий «прекрасными, благими, прелестными», Эвменидами. Самому г-ну Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще большая — к книгам. Как и у всех его современников, у него имелся ярлычок, оканчивавшийся на ист, без которого тогда никто не обходился. Однако г-н Мабеф не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом, — он был букинистом.
Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой «чепухи», как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и т. п., когда на свете существует такое множество всякого рода мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, не только in folio, но и в одну тридцать вторую долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятия ботаникой — заниматься садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, г-н Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сен-жерменские, и, по-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также и потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел людей собравшихся, но безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, а мужчину — сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты?» — «Не припоминаю», — ответил он. Если ему случалось — а с кем это не случается? — вздыхать иногда: «Ах, будь я богат!» — то он говорил это отнюдь не как старик Жильнорман, заглядываясь на какую-нибудь красотку, а любуясь старинной книгой. Он жил один со старухой экономкой. У него была легкая подагра, и, когда он спал, его старые, скрюченные ревматизмом пальцы торчали бугорком под складками простыни. Он написал и издал книгу о «Флоре окрестностей Котерэ». Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише от которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью, и он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателей. Он выручал таким путем около двух тысяч франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию всевозможных редких изданий. Он выходил из дому не иначе как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в нижнем этаже, которые вместе с примыкавшим к ним садиком составляли его жилище, являлись оправленные в рамки гербарии да гравюры старых мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него в жилах. Ни разу в жизни он и близко не подошел к пушке, даже к той, что у Дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого барана. Надо добавить к этому, что у него был брат священник и что, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот Сен-Жак, он ни к кому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго.
Образец святой простоты являла собой и его служанка. Добрая старушка так и осталась в девицах. Кот Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с самим «Мизерере» Аллегри в исполнении Сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. О мужчинах она ни разу в жизни и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту и была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чепцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платья, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Г-н Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх».
Мариус заслужил благосклонность г-на Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость и умел щадить его робкий характер. Молодость в соединении с мягкостью оказывает на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой, пороховой гарью, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать г-на Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам.
Около 1830 года умер его брат священник, и почти тотчас же весь горизонт для г-на Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние, как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие «Флоры». На «Флору окрестностей Котерэ» сразу же прекратился спрос. Недели за неделями проходили без единого покупателя. Если случалось вдруг зазвонить звонку, г-н Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», — печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день г-н Мабеф покинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с Сен-Сюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только один триместр по следующим двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; во-вторых, он оказался тут по соседству с тиром «Фату», откуда непрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил.
Забрав свою «Флору», свои клише, гербарии, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер, в деревне Аустерлиц, где за пятьдесят экю в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты, с садом, обнесенным забором, и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для своих гравюр и гербариев, а покончив с этим занятием, все остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то призадумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго!»
Лишь двум посетителям — хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу — разрешалось навещать г-на Мабефа в его аустерлицкой хижине, откровенно говоря, достаточно ему неприятной своим громким наименованием.
Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью или, что нередко бывает, обеими одновременно, лишь очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к собственной судьбе. Сосредоточенность на одном предмете родит пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, даже разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем. Он — ставка в ней, а следит за партией с полным безразличием.
Вот каким образом, несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, г-ну Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокую душевную ясность. В его умственных навыках была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ.
У г-на Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер; самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них такой при этом, словно они желают клятвенно убедить себя в истинности читаемого.
С такой именно выразительностью читала и тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Г-н Мабеф слушал не вслушиваясь.
Тетушка Плутарх дошла до фразы, в которой говорилось о красавице и драгунском офицере:
«…Красавица рассердилась и сказала: «Буду». И драгуна…»
Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки.
— Будду и Дракона, — повторил вполголоса г-н Мабеф. — Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Уже не одна звезда сгорела от козней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Тогда Будда вошел в пещеру его, и ему удалось укротить дракона. Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд.
И г-н Мабеф погрузился в сладостную задумчивость.
Глава 5
Бедность и нищета — добрые соседи
Мариусу нравился этот простодушный старик, медленно засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай, общества же г-на Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него не часто, не более одного-двух раз в месяц.
Любимое удовольствие Мариуса составляли длинные одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил у усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. Иным его одежда внушала подозрение, а вид казался зловещим. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам.
В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь. Все знали его тут только под именем г-на Мариуса.
Кое-кто из старых генералов и старых товарищей отца, познакомившись с Мариусом, пригласил его бывать у них. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они предоставляли ему возможность поговорить об отце. Итак, время от времени он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в Доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал свой новый костюм. Но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходить в сапогах, которые не блестели бы как зеркало, не хотел.
«Уж так созданы люди», — не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты — чего думали бы вы? Совести? Нет, сапог!
В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса также нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принесшая ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив, помимо гнева, все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, а сохранились одни симпатии. Сторонником какой же партии был он? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам; из всей нации — народу, а из всего народа — женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставя поэта выше героя, а книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя вечером бульварами домой, сквозь ветви деревьев вглядывался в беспредельные небесные пространства, в мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, — все человеческое казалось ему таким ничтожным.
Он думал — и, быть может, справедливо, — что открыл настоящий смысл и настоящую философию человеческой жизни, и в конце концов сосредоточился только на созерцании неба, которое одно доступно взору истины из глубины ее колодца.
Это не мешало ему строить всевозможные планы, проекты и расчеты на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладай наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие непроизвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно, более искренно идущего из сокровенных глубин нашей души, чем безотчетные и безудержные стремления наши к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связных, продуманных, согласованных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре.
Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, чуть ли не по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи.
— А за что же гонят их? — спросил он.
— За то, что не платят и просрочили уже двойной срок.
— Сколько это составляет?
— Двадцать франков, — ответила старуха.
У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков.
— Вот вам двадцать пять франков, — сказал он старухе. — Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня.
Глава 6
Заместитель
Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жильнорман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Мариусом; теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем.
На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо — лучи Авроры иногда бывают сладостны руинам, — она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой, — рассуждала она, — это все равно как ссылка на опечатку в книге: «Мариус — читай Теодюль».
Внучатый племянник — почти что внук; за отсутствием адвоката можно обойтись уланом.
Однажды утром, когда г-н Жильнорман был занят чтением «Ежедневника» или иной газеты того же сорта, вошла дочь и сладчайшим голосом, ибо речь шла об ее любимчике, сказала:
— Папенька, нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение.
— Это кто такой — Теодюль?
— Ваш внучатый племянник.
— А-а! — протянул дед.
Затем он снова принялся читать, совершенно выкинув из головы внучатого племянника — какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В «листке», который он держал в руках, само собою разумеется роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно, что: «Завтра, в полдень, на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов». Дело шло об одном из злободневных тогда вопросов: об артиллерии национальной гвардии и конфликте между военным министром и «гражданской милицией» из-за установленных во дворе Лувра пушек. Вот что и должно было служить предметом «обсуждений» студенческого совещания. Этого было вполне достаточно, чтобы г-н Жильнорман вскипел.
Он вспомнил о Мариусе, который также был студентом и который, наверно, вместе с другими отправится в полдень «совещаться» на площадь Пантеона.
За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихохонько введенный в комнату м-ль Жильнорман. Улан рассудил, что «старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком».
— Теодюль, ваш внучатый племянник, — громким голосом произнесла м-ль Жильнорман, обращаясь к отцу.
И тут же шепнула поручику:
— Смотри, ни в чем ему не перечь.
Затем она удалилась.
Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то смешанный поклон, машинально, по привычке, начав его по-военному и закончив по-штатски.
— А, это вы! Прекрасно, садитесь, — проговорил дед. И тотчас же позабыл об улане.
Теодюль сел, а г-н Жильнорман встал.
Засунув руки в жилетные карманы и сжимая своими старыми, дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух:
— Сопливая команда! А туда же — собираться! И слыханное ли дело, не где-нибудь, а на площади Пантеона! Несчастные сосунки, вчера только от кормилиц, молоко на губах не обсохло, а туда же — совещаться завтра в полдень! К чему, к чему это приведет? Совершенно очевидно, только к гибели. Вот куда завели нас эти голоштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланить — полагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет! А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства! Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что, кроме беглых да помилованных каторжников, там никого не сыщешь. Республиканец и острожник — два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне идти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак!» Вот они и все здесь, ваши республиканцы.
— Совершенно верно, — подтвердил Теодюль.
Господин Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал:
— И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием! Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем! Вот выдумал! Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не надобна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут; он прекрасно знает, что в конце концов народ — это только народ; его, понимаешь ли, смех берет на твою республику, глупая твоя голова! Что может быть омерзительнее этакой придури? Втюриться в «Отца Дюшена», строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом девяносто третьего года! Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа! И все попадаются на эту удочку. Ни один не уходит. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы, и разума как не бывало! Девятнадцатый век — это яд. Глядишь, какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорей от стариков-родителей наутек. Это по-республикански, по-романтичному. А что это за штука такая — романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на «Эрнани». Скажите на милость, «Эрнани»! Разные там антитезы, ужасы. И написано-то даже не по-французски! А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до какого докатились разбоя!
— Вы совершенно правы, дядюшка, — сказал Теодюль.
— Пушки во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? — не унимался г-н Жильнорман. — Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Ну что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь! И сам их Бенжамен Констан тоже не велика фигура! А ежели и попадется среди них не подлец — значит, болван! Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят; девчонки, глядя на них, прыскают со смеху. Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. А при всей неказистости еще и глупы: им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Сюртуки сидят на них мешком, в их жилетах щеголять только конюхам, сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи; а каково оперенье — таково и пенье. Их словечки разве только на их собственные подметки годятся. И у всех этих безмозглых младенцев имеются, изволите ли видеть, политические воззрения. Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном, моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады-радешеньки, ежели доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезающих на свои тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры! Боже милосердный, это называется у них мерами! Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видывал хаос, а теперь вижу одну кутерьму. Школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии! Да эдакое не видано и у каких-нибудь краснокожих оджибвеев и кадодахов! Дикари, что ходят нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно волан, и с дубиной в лапах, — и те меньшие скоты, чем эти бакалавры! Молокососы! Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают! Нет, это конец света. Совершенно очевидно — конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты под арки Одеона. Стоит это всего лишь одно су да здравый смысл, разум, сердце, душа и ум в придачу. Побывают там — и вон из семьи. Все газеты — чума, даже «Белое знамя»! Ведь Мортенвиль был, в сущности, якобинцем. О боже милосердный! Теперь он может хвалиться, он довел-таки своего деда до отчаянья!
— Не подлежит никакому сомнению, — согласился Теодюль.
И, воспользовавшись тем, что г-н Жильнорман на минуту замолк, чтобы перевести дух, улан нравоучительно добавил:
— Из газет следовало бы сохранить только «Монитер», а из книг — только «Военный ежегодник».
— Все они подобны Сьейесу! — снова начал г-н Жильнорман. — Из цареубийц — в сенаторы! Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, чтобы потом их величали сиятельными графами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы! Сьейес — философ! К чести своей, должен сказать, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малакэ процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах, как у Генриха Четвертого. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Заверяю вас, граждане, что ваш прогресс — безумие, ваше человечество — мечта, ваша революция — преступление, ваша республика — уродина, ваша молодая, девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были — журналисты, экономисты, юристы, и пусть даже бо́льшие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины! Вот что я заявляю вам, друзья любезные!
— Черт побери, — воскликнул поручик, — до чего изумительно верно!
Господин Жильнорман не закончил начатого было жеста, обернулся, посмотрел в упор на улана Теодюля и отрезал:
— Дурак.
Книга VI Встреча двух звезд
Глава 1
Прозвище как способ образования фамилии
В ту пору Мариус был красивым юношей, среднего роста, с густой черной шапкой волос, высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного, и по всему его лицу было разлито какое-то горделивое, задумчивое и невинное выражение. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере и глубок, и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа — и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала некоторую суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с целомудренным его лбом. Глаза у него были небольшие, а взгляд открытый.
В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки оглядывались на него, когда он проходил, и, затая в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что он одет в обноски, и смеются над ним. В действительности же они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем.
Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной из них по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил сам по себе — «по-дурацки», как говорил Курфейрак.
— Не лезь в святоши (они были на «ты», ибо в юности друзья легко переходят на «ты»), — говорил также Курфейрак. — Мой тебе совет, дружище: поменьше читай книжки и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутовки не так уж плохи, поверь мне, о Мариус! А будешь бегать от них да краснеть — только отупеешь.
Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат».
После подобных речей Курфейрака Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал всех женщин, молодых и старых без исключения, а вдобавок и самого Курфейрака.
Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это — женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила себе его служанка». Другая — была какая-то девочка, которую он очень часто видел, но не обращал на нее внимания.
Уж более года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших бок о бок почти всегда на одной и той же скамье, в самом уединенном конце аллеи, выходившем на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею — а это бывало почти ежедневно, — он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, всегда новенькие на вид, словно с иголочки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Что за чистюля-вдовец!» — воскликнула однажды, проходя мимо, какая-то гризетка. Голова у него была совсем седая.
В первый раз, когда девочка, сопровождавшая старика, уселась подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она казалась тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное плохого покроя платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.
Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он совсем перестал думать о них. А те со своей стороны, видимо, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали между собой. Девочка без умолку весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.
Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.
Вот как это происходило.
Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к своему исходному пункту и начинал путь сызнова. Пять-шесть раз в течение своей прогулки мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка эта повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову обменяться поклоном. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, их заметили пять-шесть студентов, изредка приходивших погулять в аллею Питомника: прилежные — после занятий, а иные — после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал, как парфянин, метнув в них прозвище. Запомнив единственно цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца — «господином Белым». А поскольку никто не знал, как их зовут, то, за отсутствием подлинного имени, вошло в силу прозвище. «Ага! Господин Белый уж тут как тут!» — говорили студенты. За ними и Мариус стал называть неизвестного г-ном Белым.
Мы последуем их примеру и для удобства будем также именовать его в нашем рассказе г-ном Белым.
В первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку же он находил малоприятной.
Глава 2
Lux facta est[589]
На второй год, как раз к тому времени, до которого доведено наше повествование, случилось так, что Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил привычные прогулки в Люксембургский сад и почти полгода ни разу не показывался в своей аллее. Но вот одним ясным летним утром он снова отправился туда. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет раздававшийся вокруг птичий хор и в его сердце голубеет вся лазурь небес, глядевшая сквозь листву дерев.
Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца ее, увидел все на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ними, он заметил, что старик нисколько не изменился, но девушка показалась ему совсем иной. Он видел теперь перед собою высокое красивое создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, — пору мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб словно изваянный из мрамора, щеки словно лепестки розы, бледный румянец, заалевшаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова — как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И наконец, чтобы довершить обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа — хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий нос, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям — предмет отчаяния художников и восторга поэтов.
Проходя мимо нее, Мариус не мог разглядеть ее глаз, все время остававшихся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость.
Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего, и трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.
В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он внимательно вгляделся в девушку, то убедился, что это была все та же. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, и в мгновение ока бутон распускается в розу. Вчера девушка еще была ребенком — дня не прошло, и все чарует в ней.
Но наша девочка не только выросла, она приобрела и одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточным полгода, чтобы облечься красотой. Пришел ее апрель.
Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно стряхнув с себя сон, сразу из нищенства бросаются в роскошество, сорят деньгами, неожиданно становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги, — вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.
Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериносовое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая особа. На ней было платье из черного дама́, пелеринка из того же шелка и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, а шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности.
Что касается старика, то он совсем не изменился.
Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже размышляя о другом.
Он еще четыре-пять раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.
В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставал там «отца и дочь», однако не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем тогда, когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.
Глава 3
Действие весны
Был теплый день; Люксембургский сад стоял залитый солнцем и тенью, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе, он ни о чем не думал, а только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взоры встретились.
Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего — и было все. Словно неожиданно сверкнула молния.
Девушка опустила глаза, а Мариус пошел дальше.
То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка, то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся.
У каждой девушки бывает день, когда она так глядит. Горе тому, кто тут случится!
Этот первый взгляд еще не осознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые втайне от самой себя расставляет невинность и в которые, сама того не желая и того не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.
Редко случается, чтобы подобный взгляд не породил глубокой мечтательности в том, на кого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном и роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, той магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, называемый любовью.
Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной неряшливостью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «для каждого дня», иными словами — в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, потертом на локтях.
Глава 4
Начало серьезной болезни
На другой день Мариус достал из шкафа свой новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул — небывалая роскошь — перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.
По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, заявил товарищам: «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Он, наверно, шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».
Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал ребенка: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма, и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то одновременно и толкало его туда, и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.
Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке», г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».
Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни привычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какой глупейшей книгой является «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял пронзительный звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя весь конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.
Но, по мере того как он приближался к скамье, шаги его все замедлялись. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что остались позади, вздумалось взглянуть на него.
Он достиг противоположного конца аллеи, затем снова вернулся и на этот раз обнаружил больше отваги. Ему удалось даже приблизиться к скамье настолько, что до нее осталось миновать всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что почему-то не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно какой-нибудь государственный муж. В ту минуту, когда он проходил под огнем противника, сердце его страшно заколотилось. На ней было то же платье из дама́ и та же креповая шляпка, что накануне. До него донесся чей-то дивный голос — наверное, «ее голос». Она что-то неторопливо рассказывала. Она была прехорошенькой. Он чувствовал это, хотя не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, — думал он, — если бы узнала, что не кто иной, как я, — подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое господин Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию «Жиль Блаза»!»
Миновав скамью, он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. Но этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал одни только неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему очутиться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.
Не пытаясь больше подойти к скамейке, он остановился посредине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, уселся и принялся посматривать все в ту же сторону, в глубине души думая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку.
Через четверть часа он поднялся, как будто намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь.
Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца прозвищем г-н Белый.
Несколько минут стоял он так, опустив голову и рисуя на песке тростью, которую держал в руке.
Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.
В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже слишком поздно, он сказал себе: «Не беда!» — и съел кусок хлеба.
Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.
Глава 5
Громы небесные разражаются над головой мамаши Бурчуньи
На другой день мамаша Бурчунья — так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоуправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но этот сорвиголова Курфейрак никого не желал признавать, — итак, мамаша Бурчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.
Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Усевшись здесь, как и накануне, он стал издали глядеть на белую шляпку, черное платье и голубое сияние, которое особенно хорошо различал. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и заключил отсюда, что они прошли через калитку, выходившую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер.
На другой день, это был уже третий по счету, мамашу Бурчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.
— Три дня подряд! — воскликнула она.
Она попробовала было пойти за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей вот так бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля ума?» — ворчала она.
А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.
Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.
Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал свой новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.
Девушка была и в самом деле изумительно хороша. И если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве только в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.
Глава 6
Взят в плен
Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, — думал он, — мне никак не успеть принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится уже целую вечность, то мнилось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? — задавал он себе вопрос. — Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось в эту минуту быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближался негромкий, размеренный шум их шагов. Ему вообразилось, будто г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» — думал он. Он опустил голову; а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус весь затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался подойти к ней, и говорит: «Вот я и пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым и бездонным взором.
Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной — той совершенной красотой, одновременно женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте — преклонить колени. Мариус чувствовал себя на вершине блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги.
Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.
Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный, принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.
Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь встретить девушку где-нибудь на улице.
Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком. «Пойдем со мной обедать», — предложил он. Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону. «А ты читал сегодня газету? — спросил он за десертом Курфейрака. — Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!»
Он был безумно влюблен.
После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр. «Плачу я», — заявил он. Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в «Адретской гостинице». Мариус забавлялся от всей души.
А вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака: «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» — просто привело его в ужас.
На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похохотать. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишера́. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения, воскликнув: «А все-таки очень приятно иметь орден!»
— Это уж совсем смешно! — шепнул Курфейрак Жану Пруверу.
— Нет! — возразил Жан Прувер. — Тут не до смеха.
И действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало большой страсти.
И все это сделал один только взгляд.
Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, — ничего нет проще. Взгляд — это искра.
Свершилось. Мариус полюбил. Неведомы стали пути его судьбы.
Женский взгляд напоминает некие машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд вас схватил. Схватил ли он вас за кончик нечаянно обнаруженной мысли, попались ли вы по рассеянности, — как и почему это случилось — неважно. Но вы погибли. Вас втянет туда всего целиком. Вас сковывают таинственные силы. Сопротивление напрасно. Никакая человеческая помощь здесь невозможна. От колеса к колесу потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой, через все муки, через все пытки, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины лишь обезображенный стыдом или преображенный любовью.
Глава 7
Приключение с буквой «У» и догадки относительно этой буквы
Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений — все подготовило Мариуса к состоянию той одержимости, что именуется страстью. Обожание отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.
Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», — говорил Курфейрак. А Мариус упивался блаженством. Сомнения не было — девушка смотрела на него!
Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». С глубоким макиавеллизмом рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал в тени какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал ими лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, также поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве с первого дня творения и каждой женщине — с первого дня рождения! Губы ее отвечали одному, а глаза — другому.
Надо все же думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо часто при появлении Мариуса он поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда он приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду — вторая ошибка.
Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил — процесс естественный и неизбежный — в фазу ослепления. Любовь его все возрастала. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье, которое, подлив масла в огонь, еще больше затуманило ему глаза. Однажды вечером, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без всякой вышивки, но очень белый и тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ровно ничего не знал о милой девочке — ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Эти две буквы были первое, что ему удалось узнать о ней; и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква У, — думал он, — должна обозначать имя. Наверное, Урсула! Какое восхитительное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.
— Я чувствую в нем всю ее душу! — восклицал он.
А платок принадлежал старику, который просто-напросто выронил его из кармана.
В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.
— О стыдливость! — говорил себе Мариус.
Глава 8
Даже инвалиды могут быть счастливы
Если мы уже произнесли слова «стыдливость» и если не желаем здесь ничего таить, то нужно сказать, что, несмотря на все это упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на свою «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный февральский ветер, колебавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас же поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок.
Вдруг порыв ветра, более резвый, чем остальные, и которому, по всей вероятности, было поручено творить дела весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Теокрита, приподнял ее платье — это не менее священное, чем покрывало Изиды, платье — почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость.
Божественным движением, полным испуга, девушка тотчас оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там, — думал он, — мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Только вообразить себе нечто подобное! То, что она натворила, — просто ужасно!» Увы, бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был только ветер; но Мариус, в котором смутно зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так именно пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, даже без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.
Когда «его Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла в сопровождении г-на Белого мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый и свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»
Это была их «первая ссора».
Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался на аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами — солдатский орден Людовика Святого, сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что же такое произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» — повторял он себе. Ему хотелось уничтожить инвалида.
Но время притупляет остроту всяких чувств. Гнев Мариуса на «Урсулу», при всей своей справедливости и законности, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня.
Однако, несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.
Глава 9
Затмение
Мы видели, как Мариус открыл — или же вообразил, что открыл, — будто «ее» зовут Урсулой.
Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем и мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.
Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку: он решил проводить «Урсулу».
Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.
С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дома.
Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае, знал если не фамилию, то ее имя — прелестное, самое подобающее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.
Однажды вечером, проводив их до дома и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:
— Скажите, это вернулся жилец второго этажа?
— Нет, — ответил привратник, — это жилец третьего.
Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса.
— Его квартира выходит на улицу?
— Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, — объяснил привратник.
— А кто он такой, этот господин? — продолжал Мариус.
— Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.
— А как его фамилия? — задал новый вопрос Мариус.
Привратник поднял голову.
— Уж не сыщик ли вы будете, сударь? — спросил он.
Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.
«Превосходно, — думал он. — Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».
На другой день г-н Белый и его дочь лишь ненадолго появились в Люксембургском саду. Они ушли оттуда еще засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально взглянул на Мариуса.
На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.
С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас. На следующий день в Люксембургском саду — никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, а любовь — влюбленного.
Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.
Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило, — подумал он, — лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.
На следующий день — ибо теперь он жил только ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него, так сказать, больше уже не существовал, — на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду; но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен во мрак. Мариус постучался и вошел в ворота.
— Дома ли господин, проживающий в третьем этаже? — спросил он привратника.
— Он съехал, — ответил тот.
Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:
— Когда?
— Вчера.
— А где он теперь живет?
— Не знаю.
— Разве он не оставил своего нового адреса?
— Нет.
И, задрав нос, привратник узнал Мариуса.
— Ах, это вы! — сказал он. — Стало быть, вы и впрямь шпион?
Книга VII Петушиный час
Глава 1
Рудники и рудокопы
Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего, или нижнего, трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек, иногда это во благо, иногда — во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке «Энциклопедия» представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.
Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой.
Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватает за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, — этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суета. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких копях? Будущее.
Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится гибельным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.
Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры — быть может, еще не родившихся людей. Тени прошлого — это призраки; тени будущего — это личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философа.
Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии — какие небывалые образы!
Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах.
Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками — что отнюдь неверно, — однако, без сомнения, труд их весьма различен, и мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было это различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно — бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они пренебрегают собой, отстраняют себя, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, и эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь же перед тем, кто отмечен этим знаком — звездным взглядом.
Взгляд, полный мрака, — другой знак.
С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.
Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.
Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы назвали нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. Inferi[590].
Дальше уже начинается бездна.
Глава 2
Самое дно
Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.
Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такое слово, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери — и обе им мачехи — невежество и нищета. У них есть поводырь — их потребности; а взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, — но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, потрясающий вывод, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой — вот отправная точка; стать Князем тьмы — вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры.
Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника, с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя: Прогресс.
Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.
Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.
Это подземелье залегает глубже других и враждебно всем другим. Здесь господствует одна беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф — эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат — аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.
Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.
У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами — и путем улучшения существующей действительности, и путем размышления над идеалом — стремятся философия и прогресс. Разрушьте нору Невежества, и вы уничтожите крота — Преступление.
Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это Мрак.
Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех — по крайней мере здесь, на земле — одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же бренная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человека и становится там Злом.
Глава 3
Бабет, Шивоглот, Звенигрош и Монпарнас
С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.
Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание — как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу, Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду — и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, — вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая втуне. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.
Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглоту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен-Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб — один франк пятьдесят сантимов; два зуба — два франка; три зуба — два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что сталось с его женой и детьми, он и понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовой платок. Редкое исключение в темном мире, его окружающем, — Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в своем фургоне, ему попалась заметка в «Вестнике», что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! — воскликнул он. — Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!»
Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Его собственное выражение.
Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался туда перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак», — говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабет говаривал: «Звенигрош — это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя — Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос — он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо — его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.
Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на всякое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на эту душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А первое требование щегольства — праздность; но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести уже было несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице, — таков был этот модник подземного мира.
Глава 4
Состав шайки
Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, древа, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за целую толпу.
Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютящийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.
Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четырем негодяям план, а постановку они уже брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий драмы. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело являлось достаточно выгодным. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих трущобах.
Они собирались обычно с наступлением ночи — час их пробуждения — на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить.
«Петушиный час» — под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все более и более забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал следующий ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».
Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно близкое представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час — эти имена сохранились в специальных списках:
Крючок, он же Весенний, он же Гнус.
Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним).
Башка, шоссейный рабочий, он уже встречался в нашем рассказе.
Вдова.
Финистер.
Гомер Оно, негр.
Дай-срок.
Депеша.
Фаунтлероп, он же Цветочница.
Бахвал, отбывший срок каторжник.
Шлагбаум, он же господин Дюпон.
Южный вал.
Дроздище.
Карманьольщик.
Процентщик, он же Бизарро.
Кружевник.
Вверх-тормашки.
Пол-лиарда, он же Два миллиарда.
И т. д., и т. д.
Мы опускаем их, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.
Эти существа, неохотно показывающиеся в своем настоящем виде, были не из тех, кого встречаешь на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.
Что сталось с этими людьми? Они существуют и посейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них. Ambubaiarum collegia, pharmacopolae, mendici, mimae»[591]. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они непрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.
Пусть особи истребляются — род остается.
Им неизменно присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, они блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.
Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, но ожившим туманом, принявшим человеческие формы; можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, неотделимы от нее, не имеют иной души, чем душа тьмы, и что лишь на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни они оторвались от мрака.
Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье.
Книга VIII Коварный бедняк
Глава 1
Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке
Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше ни разу не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной только мыслью — как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, что строил планы за планами, не юная голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний: он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло.
Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»
Он осыпал себя сотнями упреков. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил нелепо. Это моя вина…» и т. д. Курфейрак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который — что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера — кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Давай-ка сходим в Шомьер».
Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантэру повести себя на бал в Со, надеясь — придет же такая фантазия! — что может встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел там той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» — бурчал себе под нос Грантэр. Мариус оставил друзей на балу и один пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.
Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался, охваченный горем, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.
В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это означало? Каков смысл этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать, не напал ли он наконец на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно — человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, — говорил он себе, — это простое сходство».
Глава 2
Находка
Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания.
Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж.
Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на следующее двустишие, ставшее прямо классическим:
Пусть светит солнце, пусть сияет, — Медведь в берлогу уползает.А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо — увы, таково несовершенство самой идеальной любви! — пришлось опять начать обедать.
Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Бурчунья в эту минуту мела пол, произнося одновременно нижеследующий знаменательный монолог:
— Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь прямо задаром!
Мариус медленно поднимался вверх по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понурив голову.
Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях — одну высокую и худую, другую поменьше, которые, тяжело дыша, пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге: девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, не заметив, задели. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала:
— Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.
— Я их заметила, — сказала другая. — И как припущу! Как припущу!
Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.
Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса, где их фигуры, мелькнув белым пятном, через мгновение исчезли.
Мариус на минуту остановился.
Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног маленький пакет сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги.
«Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», — подумал Мариус.
Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.
По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.
«Бедные матери! — подумал он. — Есть нечто еще более печальное, нежели видеть смерть своих детей: это видеть их на дурном пути».
Потом эти тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья, на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.
— Как мрачна стала моя жизнь, — говорил он себе. — Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы.
Глава 3
Четырехликий
Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем позабыл о нем. Он решил, что его следует вскрыть, — возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и, уж во всяком случае, найдутся необходимые указания для возвращения этого свертка лицу, его потерявшему.
Мариус развернул конверт.
Он не был запечатан и содержал четыре письма, которые также не были запечатаны.
На письмах были проставлены адреса.
От всех четырех разило запахом скверного табака.
Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме №…»
Мариус подумал, что в письме могут встретиться нужные ему сведения, а поскольку оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его. Оно содержало следующее:
«Милостивая государыня, маркиза!
Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайни тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь нещасной нации. Наша просьба не останется щетной и наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.
Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть,
Милостивая государыня,
Дон Альварес, испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающейся на родину, но не имеющей средств продолжать путь».Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, надеясь найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло: «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом № 9».
Вот что прочел Мариус в этом письме:
«Милостивая государыня, графиня!
К Вам обращается нещасная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужастной нищите.
Уповая на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением
тетушка Бализар».Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно являлось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:
«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.
Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ощасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия — Овернь в эпоху Империи. Слог прост, локаничен и, мне думается, не лишен некоторых достоинств. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитаится в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.
Главной моей задачей является угадить все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадить моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняит положение при каждом дуновении ветра.
Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствии зависти и себелюбия привилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.
Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушаит мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедствинное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихатварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихатварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.
Мое нижайшее почтение господину и госпоже Пабуржо.
Жанфло, литиратор.Р. S. Хотя бы 40 су.
Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить…»
Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адрес его гласил: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Оно содержало следующие немногие строки:
«Благодетель!
Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедствинного положения, а я представлю Вам свои документы.
При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истиному философу ведомы сильные душевные движения.
Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облигчить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращатся за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.
В ожидании Вашего посещения или вспомощиствования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,
муж доподлинно великадушный, нижайшим и покорнейшим слугой
П. Фабанту, драматический актер».Прочитав эти четыре письма, Мариус ничуть не меньше прежнего оставался в неведении.
Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.
Далее, все письма исходили как будто от четырех различных лиц — дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.
Какое же иное заключение напрашивалось отсюда, как не то, что все они исходят от одного лица?
В довершение — и это делало догадку еще более вероятной — все четыре были написаны на одинаковой грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел одинаковый табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки, и литератор Жанфло грешил ими ничуть не менее испанского капитана.
Трудиться над разгадкой этой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было бы принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.
Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, встреченным Мариусом на бульваре. Скорее всего, это были просто какие-то ненужные бумаги.
Мариус вложил их обратно в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.
Около семи часов утра, не успел он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.
Он не имел никакого ценного имущества и лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, запирался на ключ. Больше того, даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут», — говорила мамаша Бурчунья. «А что у меня красть?» — отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамаши Бурчуньи, у него все же украли пару старых сапог.
В дверь снова постучали и опять так же тихо, как в первый раз.
— Войдите, — сказал Мариус.
Дверь отворилась.
— Что вам угодно, мамаша Бурчунья? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.
— Извините, сударь, — ответил чей-то незнакомый голос, но не голос мамаши Бурчуньи.
Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.
Мариус быстро обернулся и увидел девушку.
Глава 4
Роза в нищете
В полуотворенной двери стояла еще совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в одной рубашке и юбке прямо на голом теле, озябшем и дрожащем от холода, с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, резко выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, ключицы землистого цвета, красные руки, приоткрытый рот с бескровными губами, в котором уже не хватало зубов, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пятидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает вам ужас, то вызывает слезы.
Мариус встал и, как остолбенелый, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.
Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродливой. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькой. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.
Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.
— Что вам угодно, сударыня? — спросил он девушку.
— У меня письмо для вас, господин Мариус, — ответила она тем же голосом пьяного каторжника.
Она назвала Мариуса по имени; у него не оставалось, таким образом, сомнения, что именно он и был ей нужен. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?
Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно и с какой-то развязностью, от которой сжималось сердце, принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги с худыми коленями. Ее всю трясло от стужи.
В руке она и на самом деле держала письмо, которое протянула Мариусу.
Открывая письмо, Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:
«Молодой человек, любезный мой сосед! Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себя надеждой, что ваше великадушное сердце разжалобится вследствии этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щидрот своих.
Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.
Жондрет.
Р. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».
Письмо это сыграло в отношении загадочного случая, занимавшего Мариуса со вчерашнего вечера, роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.
Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.
Здесь имелось пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей — и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту — у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только сам Жондрет действительно назывался Жондретом.
Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как было сказано выше, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих весьма жалких соседей. Его мысли были далеко, а где наши мысли — там и глаза. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета — а это, несомненно, были они, — он не узнал их, и вошедшая девушка лишь с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше.
Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в профессионала-попрошайку и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма различным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ — ни девочек, ни девушек, ни женщин, — двух порожденных нищетой уродов, порочных и невинных одновременно.
То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру, и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса.
Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть ли не до пояса. Она передвигала стулья, беспорядочно переставляла на комоде туалетные принадлежности, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам.
— Смотри-ка, да тут зеркало! — вдруг воскликнула она.
И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за всей этой наглостью ощущалась какая-то натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд.
Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвящаяся и порхающая по комнате девушка, которая своими движениями приводила на память птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей.
Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей.
Она подошла к столу.
— Ах, книги! — сказала она.
В тусклых глазах ее блеснул огонек.
— Я тоже умею читать, — добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, — стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.
Она торопливо схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:
— «…Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный посреди равнины Ватерлоо…»
Она остановилась.
— А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо — там дрались с англичанами.
Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:
— И писать я тоже умею!
Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:
— Хотите взглянуть? Я напишу что-нибудь.
И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».
— Ошибок нет, — бросив перо, заявила она. — Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы…
Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь:
— Э-эх!
И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:
Голодно, папаша, В доме хлеба нету. Холодно, мамаша, Мы совсем раздеты. Дрожи, Нанетта, Рыдай, Жанетта!Едва закончив куплет, она снова заговорила:
— Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.
Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:
— А знаете, господин Мариус, вы настоящий красавчик!
И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться.
Она подошла и положила ему руку на плечо.
— Вы не обращаете на меня никакого внимания, — продолжала она, — а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к какому-то старику по имени Мабеф, что живет там. А растрепанные волосы вам очень идут.
Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но ничего, кроме шепота, у нее не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш.
Мариус тихонько отодвинулся.
— У меня тут пакет, — сказал он обычным своим холодным тоном. — Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его.
И он протянул ей конверт, заключавший четыре письма.
Она захлопала в ладоши и воскликнула:
— И где мы только его не искали!
Затем быстро схватила пакет и развернула его, приговаривая:
— Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, уже ничего не нашли. И так как мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совершенно без надобности, мы сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А почему вы догадались, что они принадлежат мне? Впрочем, понятно — по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой темени! Я спросила сестру: «Это кто — мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».
Тем временем она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».
— Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне. Очень кстати. Пойду снесу, может быть, он даст нам на завтрак.
И, снова засмеявшись, пояснила:
— Знаете, что будет означать, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед — и все в один присест! Так-то! Черт побери! А ежели вам этого мало, так и подыхайте, собаки!
Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.
Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.
А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса:
— Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, бывало, прижмемся друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни собора Богоматери, и мерещится, будто белые стены — это река, и говоришь себе: «Гляди-ка, там вода!» Звезды, как плошки на иллюминации, — кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь — слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то еще невесть что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, и бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь.
И она окинула его блуждающим взглядом.
Хорошенько обыскав свои карманы, Мариус наскреб в конце концов пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне, во всяком случае, хватит, — подумал он, — а завтра будет видно». И оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.
Она схватила монету.
— Здорово! Вот нам и засветило солнышко! — воскликнула она.
И словно это солнышко обладало свойством растоплять снежные лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:
— Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малёк! Просто втюриться. Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, — жареного, пареного! Ешь, пей сколько влезет!
Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:
— До свидания, сударь. Все равно. Пойду к своему старикашке.
Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся там в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:
— Какая вкусная! Какая жесткая! Прямо все зубы сломаешь!
Потом ушла.
Глава 5
Потайное оконце, указанное провидением
В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знавал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И на самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел, — надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, — надо видеть в нищете ребенка.
Дойдя до последней крайности, мужчина, уже не разбираясь, хватается за самые крайние средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него нет более ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри — светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых — женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор.
Тогда возможны любые ужасы. Только хрупкие преграды отделяют отчаяние от порока или преступления.
Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость — эта эпидерма души, — все безжалостно попирается здесь в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом сумрачном смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине, теснятся они в какой-нибудь конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.
Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.
Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.
Мариус готов был винить себя за то, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв, — каждый на его месте повиновался бы такому порыву; но от него, Мариуса, требовалось большее. Как! Только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В речах их звучал стон, но до него это даже не доходило. Его мысли были поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недосягаемой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья в народе, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он до некоторой степени являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Ибо будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, — разумеется, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых и даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впав в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом — роковым словом «отверженные». Кого же винить в этом? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?
Читая себе эту мораль — ибо, как всякому подлинно честному человеку, ему случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал, — Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им этих несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Мало было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше не заметить этого. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса; все грубое ее устройство было на виду. Не давая себе в том отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку; мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь эту дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», — подумал Мариус.
Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.
Глава 6
Хищник в своем логове
В городах, как в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно — иначе говоря, безобразно; а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво — иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.
Именно вертеп и увидел Мариус.
Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно: смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, несколько битых склянок, две неописуемо грязные постели по углам — вот и вся мебель; четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца — вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены — все в струпьях и рубцах, как физиономия, обезображенная какой-нибудь ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись намазанные углем непристойные рисунки.
В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, тут же не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по обмазанному глиной ветхому перекрытию чердака, почерневшему под ногами. На этой неровной, густо покрытой въевшейся в нее пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье; впрочем, в комнате был камин, поэтому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все, что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головни.
Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что был он огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и какие-нибудь человекообразные чудовища.
Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.
В углу, недалеко от отверстия, через которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а внизу гравюры крупными буквами стояло: СОН. Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях, и женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка; в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон; опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную такой надписью:
Моренго Аустерлис Йена Баграм ЭлоуПод гравюрой на полу была прислонена к стене какая-то широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с какой-нибудь мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся опять повесить.
За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид — отъявленный негодяй.
Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, усиливали свое уродство, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника крючкотвору — нечто страшное.
У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и голые руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.
Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.
Он что-то писал — вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.
На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, крупно напечатанное прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕДЮМИНИЛЯ. 1814 г.».
Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетали его слова:
— Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, незадачливых — чего с ними церемониться! — закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз в землю провалишься.
Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:
— Так бы и перегрыз всем горло!
У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой по виду могло быть и сорок и сто лет.
Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала свои толстые лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями.
Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, — вероятно, продолжение романа.
На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно-бледную долговязую девочку, которая сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала.
Это, несомненно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.
На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре:
«А я как припущу! Как припущу!»
Она принадлежала к той хилой породе, что долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. И именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать — двадцатилетними. Сегодня — девушка, завтра — женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.
Сейчас это создание казалось еще ребенком.
В комнате ничто не говорило о труде: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся какой-то подозрительный железный лом. Здесь царила та угрюмая лень, что является спутницей отчаяния и предвестницей смерти.
Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь.
Чердак, подвал, подземелье, где у самого подножия социальной пирамиды копошатся бедняки, — это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, нагромождает самую беспросветную нужду у этих врат своих.
Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера.
Старик проворчал, не переставая писать:
— Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!
Сей вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.
— Успокойся, дружок, — промолвила она. — Не огорчайся, душенька. Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.
В бедности, точно в холод, люди жмутся друг к другу, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что женщина эта когда-то любила мужа со всею заложенной в ней способностью любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как часто случается, пережили чувство. Уста говорили: «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.
Старик снова принялся писать.
Глава 7
Стратегия и тактика
С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, когда внимание его привлек какой-то шум; это удержало его на месте.
Дверь чердака внезапно распахнулась.
На пороге появилась старшая дочь.
Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел; она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе большее сострадание, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе и радостно крикнула:
— Идет!
Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.
— Кто идет? — спросил отец.
— Тот господин.
— Филантроп?
— Да.
— Из церкви Сен-Жак?
— Да.
— Тот самый старик?
— Да.
— И он придет?
— Сейчас. Следом за мной.
— Ты уверена?
— Уверена.
— На самом деле придет?
— Едет в наемной карете.
— В карете! Да это настоящий Ротшильд!
Отец встал.
— Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?
— Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина, — ответствовала дочка. — Слушай, вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» — «Я провожу вас, сударь», — говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна сделать кое-какие покупки, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я ему даю адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба окончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно, не забыла сказать, что наша дверь последняя в конце коридора, справа.
— Откуда же ты взяла, что он приедет?
— Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.
— А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?
— Да ведь я же заметила номер!
— Ну-ка, скажи какой?
— Четыреста сорок.
— Так. Ты, девка, не дура.
Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила:
— Может быть, и не дура, да только не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны, — во-первых, в них простудиться можно, а потом и грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу — чав, чав, чав! Буду уж лучше ходить босиком.
— Верно, — ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочки, — но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господу богу вход босиком воспрещен, — добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: — Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?
— За мной по пятам едет, — сказала она.
Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.
— Слышишь, жена? — крикнул он. — Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.
Мать, опешив, не двигалась с места.
Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни.
Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:
— Тащи-ка солому из стула!
Дочь не поняла.
Тогда, схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.
— На дворе холодно? — спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.
— Очень холодно. Снег валит.
Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал громовым голосом:
— Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!
Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати.
— Выбивай стекло, — повторил он.
Она застыла в изумлении.
— Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! — снова крикнул отец.
Девочка с какой-то пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло с шумом разлетелось на мелкие осколки.
— Хорошо, — сказал отец.
Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.
Ни дать ни взять, полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.
Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:
— Что это ты задумал, голубчик?
— Ложись в постель! — последовал ответ.
Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно свалилась на кровать. В это время в углу послышался плач.
— Что там еще? — закричал отец.
Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.
Тут наступил черед матери. Она вскочила с криком:
— Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.
— Тем лучше, это было мною предусмотрено, — сказал муж.
— Как? Тем лучше? — завопила женщина.
— Молчать! Я отменяю свободу слова, — объявил отец.
Затем, оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки.
Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.
— Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.
Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы вползал туман и расстилался повсюду; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно затягивают комнату белесой ватой. Через разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце сретенья, и в самом деле наступил.
Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал:
— Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.
Глава 8
Луч света в притоне
Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:
— Пощупай, как я озябла!
— Подумаешь, я озяб еще больше, — ответил отец.
Мать запальчиво крикнула:
— Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!
— Заткнись! — сказал муж.
Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.
На минуту наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая продолжала всхлипывать; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, приговаривала тихонько:
— Ну, перестань, мое сокровище, прошу тебя, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца.
— Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! — крикнул отец.
Затем обратился к старшей:
— Вот дьявольщина, его все нет! А вдруг он и вовсе не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.
— И дочурку поранил! — прошептала мать.
— Известно ли вам, — продолжал отец, — что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованьем, восторгом и наслажденьем я передушил бы всех богачей! Всех этих богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унизить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су, — одежда! Одарить хлебом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но их-то никогда и не увидишь! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и встряхнуть хорошенько! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, вот в чем барыш! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может быть, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина…
Тут в дверь легонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:
— Входите, сударь! Окажите честь войти, мой глубокочтимый благодетель, а также и ваша прелестная барышня.
На пороге появился мужчина зрелых лет и юная девушка.
Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.
То была Она.
Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл коротенького слова «Она».
Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вот — появилось вновь.
Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!
Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после стольких поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.
Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожок.
Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый.
Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.
Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.
Глава 9
Жондрет чуть не плачет
В конуре было так темно, что всякий входивший с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались поэтому как-то нерешительно, еле различая смутные очертания окружавших их фигур, а обитатели чердака, привыкшие к этому сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их совершенно ясно.
Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:
— Сударь, здесь в свертке вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.
— Посланец божий, благодетель наш! — воскликнул Жондрет, кланяясь до земли.
Затем, пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:
— Ну? А что я говорил? Обноски! А денежки где? Все эти господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?
— Фабанту, — отвечала дочь.
— Драматический актер, великолепно.
Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:
— Вижу, что вы в плачевном положении, господин…
— Фабанту, — быстро подхватил Жондрет.
— Господин Фабанту, да, так… Вспомнил.
— Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.
Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа».
— Я ученик Тальма́, сударь! — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра, и самоуничижение нищего с проезжей дороги. — Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой, нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных моих деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую-то погоду! Супруга в постели! Больна!
— Бедняжка! — сказал г-н Белый.
— И дочурка поранилась! — добавил Жондрет.
Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.
— Плачь! Реви! — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.
Девочка громко заплакала.
Прелестная девушка, которую Мариус в душе звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:
— Бедная детка!
— Взгляните, любезная барышня, — продолжал Жондрет, — у нее вся кисть в крови! Несчастный случай — попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять всю руку!
— Неужели? — встревоженно спросил старик.
Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать еще сильнее.
— Увы, это так, благодетель! — ответил папаша.
Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Не переставая говорить, он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Вдруг, воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и торопливо шепнул:
— Вглядись-ка в него получше!
Затем, обернувшись к г-ну Белому, он снова принялся за свои плаксивые жалобы:
— Подумайте, сударь, вся моя одежда — это женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые-то холода. Мне не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадемуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я разделял с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь, я готов пасть на колени перед монетой в десять су!
Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно лицезреет вас… Ибо я воспитываю своих дочек в благочестии, сударь. Я не желал, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Вздумайте только свихнуться! Со мной шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите-ка их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом, и вот мамзель «Ничья» превращается в мадам «Всех-и-вся». Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.
Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.
Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол.
Жондрет буркнул на ухо старшей дочери: «Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!» В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.
— Господин Фабанту, — сказал он, — при мне только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны платить сегодня вечером?..
В глазах Жондрета промелькнуло какое-то странное выражение. Он поспешно ответил:
— Да, мой глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина.
— Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.
— Благодетель! — восторженно завопил Жондрет.
И добавил чуть слышно:
— Всмотрись в него хорошенько, жена!
Господин Белый взял снова под руку прелестную девушку и направился к двери.
— До вечера, друзья мои, — сказал он.
— В шесть часов? — переспросил Жондрет.
— Ровно в шесть.
Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.
— Сударь, вы забыли ваш редингот, — сказала она.
Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.
Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:
— Я не забыл, а нарочно оставил его.
— О мой покровитель, — сказал Жондрет, — мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слез! Дозвольте, я провожу вас до фиакра.
— Если вы хотите выйти, то наденьте этот сюртук, — вместо ответа заметил г-н Белый. — На дворе очень холодно.
Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро натянул коричневый редингот.
И они вышли втроем: Жондрет впереди, а за ним посетители.
Глава 10
Такса наемного кабриолета: два франка в час
Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в молодую девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила на порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.
Пока молодая девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с раненой девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он не был в этом вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалостными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, чтобы в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он мог найти это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.
Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как он чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но тут его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, — Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит здесь его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать… Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.
В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж.
Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он вновь увидел экипаж, который быстро ехал вниз по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Невозможно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут — чудесная неслыханная случайность — Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать следом за фиакром. Это был верный, действительный и безопасный выход.
Мариус знаком остановил экипаж и крикнул:
— Почасно!
Мариус был без галстука, в старом будничном сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.
Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.
— Что такое? — спросил Мариус.
— Плата вперед, — сказал кучер.
Мариус вспомнил, что при нем было всего шестнадцать су.
— Сколько? — спросил он.
— Сорок су.
— Уплачу по приезде.
Кучер вместо ответа засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.
Мариус растерянно смотрел вслед удаляющемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру жалкой дочери Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он снова связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою лачугу в полном отчаянии.
Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.
В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, а следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.
Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падающего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.
Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что этот «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, был похож на одного человека, по кличке Крючок, он же Весенний, он же Гнус, на которого как-то указал ему Курфейрак и который слыл в квартале весьма опасным ночным гулякой. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. А в описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Память о нем сохранилась и посейчас среди бандитов и грабителей. В конце последнего царствования он создал целую школу. И вечерами, в сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы Форс. В этой же тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было даже прочесть над плитой, закрывающей отверстие сточной трубы, его имя Крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще ни в чем серьезном себя не проявил.
Глава 11
Нищета предлагает услуги горю
Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, когда заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку — ведь именно к ней и перешли его пять франков, но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители, очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».
Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.
Однако она не закрылась вплотную; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.
— Что такое? Кто там? — спросил он.
И увидел дочь Жондрета.
— Это вы? — почти грубо продолжал Мариус. — Опять вы? Что вам от меня нужно?
Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре, и Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.
— Да отвечайте же! — воскликнул Мариус. — Что вам нужно от меня?
Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, смутно засветился какой-то огонек, и сказала:
— Господин Мариус, у вас такой печальный вид. Что с вами?
— Со мной?
— Да, с вами.
— Ничего.
— Что-то есть все же!
— Нет.
— А я говорю — есть.
— Оставьте меня в покое!
Мариус снова толкнул дверь, а она продолжала придерживать ее.
— Слушайте, вы это зря, — сказала она. — Вы небогаты, а какой были добрый сегодня утром. Ну станьте опять таким. Вы мне дали на пропитанье, скажите же, что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но как-никак я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу. Понадобится отнести кому письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, — посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной.
В уме Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!
Он приблизился к дочери Жондрета.
— Послушай… — сказал он.
Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули.
— Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.
— Хорошо, — продолжал он, — ведь это ты привела сюда старика с дочкой…
— Да.
— Ты знаешь их адрес?
— Нет.
— Узнай мне его.
Взгляд девушки, ставший из угрюмого радостным, теперь из радостного стал мрачным.
— Только это вам и надо? — спросила она.
— Да.
— Вы с ними знакомы?
— Нет.
— Иначе говоря, — живо перебила его девушка, — вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.
В этой замене слов «с ними» словами «с нею» чувствовалось что-то многозначительное и горькое.
— Ну, как? Сумеешь? — спросил Мариус.
— Я добуду вам адрес красивой барышни.
И тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал:
— В конце концов, неважно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.
Она пристально взглянула на него.
— Что вы мне за это дадите?
— Все, что пожелаешь.
— Все, что пожелаю?
— Да.
— Вы получите адрес.
Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.
Мариус остался один.
Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот неуловимых мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от жалкой девушки, луч надежды, блеснувший в беспредельном отчаянии, — вот что смутно проносилось в его мозгу.
Вдруг его задумчивость была грубо прервана.
Громкий и резкий голос Жондрета произнес следующие крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:
— Говорю тебе, что уверен в этом. Я узнал его.
О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, вдруг так неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели наконец узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!
Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у своего потайного окошечка в переборке.
И снова увидел внутренность логова Жондрета.
Глава 12
На что была истрачена пятифранковая монета г-на Белого
С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что его жена и дочки успели уже вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.
Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, и старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.
Наконец жена, видимо глубоко изумленная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:
— Неужели правда? Ты уверен?
— Уверен, конечно! Прошло восемь лет. И все же я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу же узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?
— Нет.
— Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, — некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются, ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись у меня!
Он остановился и крикнул дочерям:
— Эй, вы, убирайтесь-ка отсюда! — И добавил, обращаясь к жене: — Чудно даже, что тебе не бросилось в глаза.
Дочери покорно встали.
— С больной рукой, — пробормотала мать.
— Воздух ей на пользу, — отрезал Жондрет. — Убирайтесь.
Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.
В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и каким-то многозначительным тоном сказал:
— Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобитесь.
Это заставило Мариуса удвоить внимание.
Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.
Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:
— Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица…
— Ну, что такое? — подхватила жена. — Что девица?
У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.
Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и закончил громко:
— Она и есть!
— Эта вот? — спросила жена.
— Эта вот! — подтвердил муж.
Трудно передать то выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «эта вот». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось здесь в какой-то зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.
— Быть не может! — закричала она. — И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки — словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Прямо дама! Да нет же, ты ошибся! И, во-первых, та была уродина, а эта — недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!
— А я говорю тебе — она. Сама увидишь.
При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла свою широкую кирпично-красную физиономию и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. То была свинья с глазами тигрицы.
— Вот как! — прошипела она. — Значит, эта расфуфыренная барышня, которая жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы!
Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.
После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.
— А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?
— Ну что? — спросила она.
— Да то, что я теперь богач, — ответил он отрывисто и тихо.
Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?»
Жондрет продолжал:
— Проклятие! Давненько я состою в прихожанах прихода Коль-есть-жратва-подыхай-с-холоду, коль-есть-дрова-подыхай-с-голоду! Довольно хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, отец предвечный! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед, — мой, вот что! Пока я не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!
Он прошелся по своей конуре и прибавил:
— Не хуже иных прочих.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила жена.
Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:
— Что я хочу сказать? Слушай!
— Тес… — заворчала тетка Жондрет, — потише! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.
— Вот еще! Кому это слушать? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он разберет, эта дурья башка? А потом, говорю тебе, он ушел.
Тем не менее Жондрет как-то инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов.
Вот что услышал Мариус:
— Понимаешь, он попался, богатей! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, этакий мерзавец! Чего только я ему не наплел! Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед не возвращается раньше одиннадцати. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он расквитается с нами.
— А вдруг не расквитается? — спросила жена.
Жондрет сделал угрожающий жест.
— Тогда мы расквитаемся с ним.
И он засмеялся.
Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробегала по телу.
Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.
— Ну, я ухожу, — сказал он. — Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.
И, засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:
— А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня, ни за что бы не вернулся! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка!
И снова засмеялся.
Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.
— Что за собачья погода! — сказал он.
Потом, запахнув редингот, он добавил:
— Эта шкура немного широковата. Но ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит!
И, нахлобучив фуражку, он вышел.
Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.
— Совсем забыл, — сказал он. — Приготовь жаровню с угольями.
И кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».
— Жаровню с углем? — переспросила жена.
— Да.
— Сколько мер угля купить?
— Две с верхом.
— Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.
— К черту обед!
— Почему?
— Не вздумай растранжирить всю монету, все сто су.
— Почему?
— Потому что мне тоже нужно кое-что купить.
— Что же?
— Да так, кое-что.
— Сколько тебе на это потребуется?
— Где тут у нас ближняя скобяная лавка?
— На улице Муфтар.
— Ах да, на углу; знаю, где.
— Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на твои покупки?
— Пятьдесят су, а может, и все три франка.
— Не очень-то жирно остается на обед.
— Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.
— Как знаешь, мое сокровище.
При этих словах жены Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, как шум его шагов, поспешно удалявшихся по коридору, мало-помалу затих внизу лестницы.
На Сен-Медарской колокольне в этот миг пробило час.
Глава 13
Solus cum solo, in loco remoto, non cogitabuntur orare pater noster[592]
Несмотря на то что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность предаваться негодованию; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; перед его глазами было гнездо чудовищ.
«Надо уничтожить этих негодяев», — подумал он.
Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто еще более сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если только не считать того, что Жондрету они были, оказывается, известны. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он явственно уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка — какая-то непонятная, но ужасная ловушка; что над обоими нависла огромная опасность: над девушкой — возможно, а над стариком — несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.
Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.
Он осторожно спустился с комода, постаравшись сделать это без всякого шума.
Полный страха перед тем, что подготовлялось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал какую-то радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.
Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать г-на Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хотел спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.
Оставалось лишь одно.
Он надел свой сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.
Вдобавок и тетка Жондрет продолжала громыхать железом, копаясь в куче хлама.
Выбравшись из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.
Дойдя до середины ее, он поравнялся с отгораживавшей пустырь низенькой стеной, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг, совсем рядом, он услышал голоса. Он оглянулся, улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.
Ему пришло в голову заглянуть за ограду.
И действительно, сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.
Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, а другой — лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, а непокрытую голову его собеседника запушил снег.
Наклонившись над стеной, Мариус мог услышать их беседу.
Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача:
— Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.
— Так ли? — сказал бородач, а лохматый возразил:
— Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, — ну по десять, никак не больше!
Бородач в греческом колпаке отвечал несколько нерешительно, стуча зубами от холода:
— Уж это-то наверное. Тут никак не отвертишься.
— А я тебе говорю, что промашки не будет, — возразил лохматый. — Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.
Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гетэ.
Мариус пошел дальше.
Ему казалось, что непонятная речь обоих субъектов, столь подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо в снегу, возможно, имела некоторое отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое дело.
Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.
Ему сказали, что на улице Понтуаз, в доме № 14.
Мариус пошел туда.
Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.
Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром г-на Белого и, таким образом, ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, г-н Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.
Глава 14
В которой полицейский дает адвокату два карманных пистолета
Подойдя к дому № 14, что на улице Понтуаз, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.
— Господин полицейский пристав сейчас в отсутствии, — сказал один из писарей, — но его заменяет надзиратель. Может быть, поговорите с ним? У вас спешное дело?
— Да, — ответил Мариус.
Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.
С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.
— Что вам угодно? — обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».
— Не вы ли будете господин полицейский пристав?
— Его нет. Я его заменяю.
— Я по весьма секретному делу.
— Ну, так говорите.
— И весьма срочному.
— Ну, так говорите скорее.
Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх, и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что некоего человека, которого он, Мариус, знал лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности «хозяева застав», и в их числе некий Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, поскольку даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме № 50/52.
Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:
— Комната, что в конце коридора?
— Совершенно верно, — подтвердил Мариус и добавил: — Разве вы знаете этот дом?
Полицейский надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:
— По-видимому, так.
Он продолжал цедить сквозь зубы, не столько обращаясь к Мариусу, сколько к собственному галстуку:
— Тут без Петушиного часа не обошлось.
Его слова поразили Мариуса.
— Петушиный час, — повторил он. — В самом деле, я слышал эти слова.
И он рассказал полицейскому надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, в снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.
Надзиратель пробурчал:
— Лохматый — должно быть, Брюжон, а бородатый — Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.
Он снова опустил глаза и предался размышлениям.
— Ну, а насчет папаши Бесфамильного, — присовокупил он, — тоже догадываюсь. Так и есть, я подпалил свой каррик. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят — пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо.
Он взглянул на Мариуса:
— Вы видели только бородача и лохмача?
— И Крючка.
— А этакого молоденького франтика?
— Нет.
— А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?
— Нет.
— А этакого пройдоху, с виду старого паяца?
— Нет.
— Ну, а четвертый — тот вообще невидимка, даже для своих же помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.
— Действительно, не заметил. А что это вообще за люди? — спросил Мариус.
— Впрочем, это совсем не их час… — сказал вместо ответа надзиратель.
Он снова помолчал, потом проговорил:
— Пятьдесят — пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются только тем, что отменят водевиль. Это народ очень скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать.
Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:
— Вы боитесь?
— Кого?
— Этих людей.
— Не больше, чем вас, — сумрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик еще ни разу не назвал его сударем.
Полицейский надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какою-то нравоучительной торжественностью:
— Вы говорите, как человек смелый и как человек честный. Мужество не страшится зрелища преступления, а честность не страшится властей.
— Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? — прервал его Мариус.
Полицейский надзиратель ограничился таким ответом:
— У всех жильцов дома пятьдесят — пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?
— Да, — сказал Мариус.
— Он при вас?
— Да.
— Дайте его мне, — сказал инспектор.
Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:
— Послушайтесь меня, приходите с охраной.
Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, рывком погрузив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолетика, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:
— Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда сочтете, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок — безразлично куда. Но главное — не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы — адвокат, вы понимаете, как это важно.
Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.
— Очень топорщится, сразу заметно. Уж лучше суньте их в жилетные карманы, — сказал надзиратель.
Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.
— А теперь, — продолжал надзиратель, — нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?
— К шести, — ответил Мариус.
— Время у меня есть, — сказал надзиратель, — а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.
— Будьте покойны, — ответил Мариус.
И когда Мариус взялся за дверную ручку, собираясь выйти, надзиратель крикнул:
— Кстати, если я вам понадоблюсь раньше, приходите или пришлите сюда. Спросите полицейского надзирателя Жавера.
Глава 15
Жондрет делает закупки
Немного погодя, часов около трех, Курфейрак случайно проходил по улице Муфтар вместе с Боссюэ. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.
— Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, — начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса, который поднимался вверх по улице, к заставе, и имел какой-то совершенно необычный вид.
— Смотри-ка! Мариус! — воскликнул Боссюэ.
— Вижу, — сказал Курфейрак. — Только не стоит с ним заговаривать.
— Почему?
— Он занят.
— Чем?
— Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?
— Какое же?
— Да такое, будто он кого-то выслеживает.
— Верно, — согласился Боссюэ.
— А какие глаза сделал, взгляни только! — заметил Курфейрак.
— Какого же черта он выслеживает?
— Какой-нибудь помпончик-бутончик-чепчик-с-цветочком! Он влюблен.
— Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика, ни чепчика с цветочком, — заметил Боссюэ. — Словом, ни одной девицы.
Курфейрак посмотрел и воскликнул:
— Он выслеживает мужчину!
В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; и хотя они видели только его спину, сбоку можно было различить его седоватую бороду.
На нем был новый, но непомерно большой для его роста редингот и ужаснейшие рваные брюки, побуревшие от грязи.
Боссюэ расхохотался.
— Это еще что за тип, а?
— Поэт, — заявил Курфейрак, — безусловно, поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют и в штанах торговцев кроличьими шкурками, и в рединготах пэров Франции.
— Давай посмотрим, куда направится Мариус и куда этот человек, — предложил Боссюэ. — Выследим их, идет?
— О Боссюэ! — воскликнул Курфейрак. — Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!
Они повернули обратно.
И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.
Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.
Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, как он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он выходит из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое он тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и быстро достиг Малой Банкирской улицы. День склонялся к вечеру, снег, на минуту было прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, поравнявшись с той низкой стеной, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.
Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, а потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.
Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время шло к ночи; по вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запирать входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал свой ключ полицейскому надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться.
Наступил вечер, почти совсем стемнело: и на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка — то была луна.
Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.
Мариус быстрым шагом направился к дому № 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась еще открытой. Он поднялся на цыпочках по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки, все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, смутно освещенные угасающим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть, не желая, чтобы его увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.
Глава 16
В которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году
Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, — так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны, приближалось злодейство, с другой — надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день — лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.
Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, смешиваясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату какой-то сумеречной мглой.
В лачуге Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.
Было очевидно, что этот луч — не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха — там царила леденящая глухая тишина, и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.
Мариус тихонько снял ботинки и задвинул их под кровать.
Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула в петлях дверь, и Мариус услышал шум грузных шагов, поспешно протопавших по лестнице и пробежавших по коридору; со стуком приподнялась дверная щеколда: то вернулся Жондрет.
Сразу же раздалось несколько голосов. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.
— Вот и я, — сказал Жондрет.
— Добрый вечер, папочка! — завизжали дочки.
— Ну как? — спросила жена.
— Помаленьку, — отвечал Жондрет, — но я прозяб, как пес, ноги окоченели. Ага, ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.
— Я готова, могу идти.
— Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Все сделаешь, как надо?
— Будь спокоен.
— Дело в том… — сказал Жондрет. И не закончил фразу.
Мариус услышал, как он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности купленное им долото.
— Кстати, вы уже поели? — спросил Жондрет.
— Да, — ответила жена. — У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла — спасибо, огонь еще был.
— Отлично, — сказал Жондрет. — Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше!
Потом добавил, понизив голос:
— Мышеловка открыта. Коты начеку.
И еще тише:
— Сунь-ка это в огонь.
Мариус услышал, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом, а Жондрет продолжал:
— Дверные петли смазала, чтобы не скрипели?
— Да, — ответила жена.
— Который теперь час?
— Скоро шесть. Недавно пробило полшестого на Сен-Медаре.
— Черт возьми! — произнес Жондрет. — Девчонкам пора идти караулить. Эй, вы, идите-ка сюда, слушайте.
Они зашушукались.
Потом снова послышался громкий голос Жондрета:
— Бюргонша ушла?
— Да, — ответила жена.
— Ты уверена, что у соседа никого нет?
— Он с утра не возвращался, и ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.
— Ты в этом уверена?
— Уверена.
— Все равно, — сказал Жондрет, — невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.
Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать.
Едва успел он там свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях показался свет.
— Па-ап, его нет! — раздалось в коридоре.
Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.
— Ты входила в комнату? — спросил отец.
— Нет, — ответила дочь, — но раз ключ в дверях, значит, он ушел.
— А все-таки войди, — крикнул отец.
Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.
Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неописуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг каких-то передвигаемых железных предметов.
Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:
Семь или восемь дней пылал огонь сердечный, И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас! Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной! Но счастье лишь блеснет и покидает нас.Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.
Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:
— Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!
Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.
— Ну что же ты? — закричал отец. — Куда запропастилась?
— Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью, — отвечала она, взбивая волосы. — Никого.
— Дуреха! — заревел отец. — Сейчас же сюда! Нечего время терять.
— Иду! Иду! Им вечно некогда! — сказала она и стала напевать:
Вы бросили меня, ушли дорогой славы, Но сердцем горестным везде я там, где вы…Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.
А через минуту Мариус услышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:
— Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой — угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас с собой.
Старшая проворчала:
— Попробуй, покарауль босиком на снегу!
— Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! — сказал отец.
Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.
В доме остались только Мариус и чета Жондретов да, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустующей каморки.
Глава 17
На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса
Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение, со всем проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке.
Он заглянул внутрь.
Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище, и Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, — той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно положенных здесь неспроста: одна была похожа на связку веревок, другая на кучу железного лома. Человека, не посвященного в то, что здесь замышлялось, эта картина заставила бы колебаться между самыми зловещими и самыми безобидными предположениями. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.
От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.
Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.
Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылающее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем даже тогда, когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.
Ветер, врываясь через разбитое окно, в свою очередь, рассеивал чад и помогал, таким образом, скрывать присутствие жаровни.
Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о лачуге Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.
Вся толща стен и множество необитаемых помещений отделяло эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.
Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом.
Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, весьма напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки — те самые, которыми утром побрезговала ее собственная дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!»
Что касается самого Жондрета, то на нем был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный г-ном Белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта.
Вдруг Жондрет повысил голос:
— Кстати! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь там за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подымется, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.
— А деньги где? — спросила жена.
Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.
— Это еще откуда? — воскликнула она.
Жондрет степенно ответил:
— Тот лобанчик, что дал утром сосед. — Потом прибавил: — Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.
— Зачем?
— Чтобы было на чем сидеть.
У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:
— Ну ладно! Пойду приволоку их от соседа.
Она быстро отворила дверь и вышла в коридор. Мариусу не хватило даже времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.
— Возьми свечу! — крикнул Жондрет вдогонку.
— Не надо, — сказала она, — только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.
Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, словно пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.
Тетка Жондрет вошла в комнату.
Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.
Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.
Она вернулась в свою конуру.
— Вот тебе стулья.
— А вот и фонарь, — сказал муж. — Спускайся, живо.
Она поспешно вышла, и Жондрет остался один.
Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял было за бесформенную кучу хлама, оказалось прекрасно слаженной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.
Ни этой лестницы, ни этих похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета, очевидно, он принес их днем, во время отсутствия Мариуса.
«Это кузнечные инструменты», — подумал Мариус.
Если бы Мариус немного лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за кузнечную снасть особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты — два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».
Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, и комната освещалась только свечой; от малейшего черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в каком-то жутком и зловещем покое. В воздухе нависло ожидание чего-то страшного.
Жондрет дал своей трубке погаснуть — верный признак озабоченности — и снова уселся к столу. При пламени свечи отчетливо выступили острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и резко взмахивал правой рукой, как бы возражая на какие-то последние доводы мрачного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он быстро выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож, спрятанный там, и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.
Мариус в свою очередь нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок. Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск. Жондрет вздрогнул и привстал со стула.
— Кто там? — крикнул он.
Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушивался с минуту, затем проговорил смеясь:
— Ну и болван же я! Это трещит перегородка.
Мариус зажал пистолет в руке.
Глава 18
Два стула Мариуса ставятся один против другого
Внезапно стекла задребезжали от унылого отдаленного звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.
Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда отзвонил шестой, он снял пальцами нагар со свечи.
Затем он принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» — пробормотал он, возвращаясь на свое место.
Не успел он сесть, как дверь отворилась.
Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабясь отвратительной льстивой гримасой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.
— Милости просим, сударь, — сказала она.
— Милости просим, благодетель вы наш, — подхватил Жондрет, поспешно вскакивая.
Появился г-н Белый.
Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение.
Он положил на стол четыре золотых.
— Господин Фабанту, — проговорил он, — вот вам на квартиру и на самые неотложные расходы. А дальше будет видно.
— Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! — вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал: — Отошли фиакр.
Покуда ее муж расточал поклоны и пододвигал стул г-ну Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись через минуту, она шепнула ему на ухо:
— Готово!
Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал ни как подкатил, ни как отъехал фиакр.
Тем временем г-н Белый уселся.
Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.
Теперь, чтобы лучше представить себе то, что сейчас последует, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белеющие в лунном свете, словно огромные саваны; там и сям огоньки уличных фонарей, бросающие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; лачугу Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой лачуге, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе — двух людей, сидящих за одним столом: г-на Белого, сохраняющего невозмутимый вид, и ухмыляющегося страшного Жондрета, в углу — старую волчицу Жондрет, а за перегородкой — невидимого Мариуса, не упускающего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.
Впрочем, Мариус не испытывал ни малейшего страха; им владело одно лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным», — думал он.
Он знал, что полиция где-то близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника.
Помимо всего, он надеялся, что трагическое столкновение г-на Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.
Глава 19
Остерегайтесь темных углов
Не успел г-н Белый сесть, как тотчас же, окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, спросил:
— Как себя чувствует бедное раненое дитя?
— Плохо, — отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой, — очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.
— А госпоже Фабанту как будто лучше? — продолжал г-н Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя перед дверью, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.
— Она смертельно больна, — заявил Жондрет. — Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это просто не женщина, а бык.
Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:
— Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!
— Жондрет? — удивился г-н Белый. — Я полагал, что вас зовут Фабанту?
— Фабанту, а по сцене — Жондрет, — живо нашелся муж. — Псевдоним артиста.
И, взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил г-н Белый, затем снова затянул слащавым, воркующим голосом:
— Мы с моей бедной женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь. Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров — честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как, ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы иметь на кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! Увы, у нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!
Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой бессвязностью, что нисколько не отвечало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты какого-то мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа дверных петель. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная и вся зияющая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками и с лицом, вымазанным сажей. Скрестив руки, он молча уселся на ближайшей кровати, позади тетки Жондрет, и таким образом его почти не было видно.
Повинуясь какой-то внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, г-н Белый невольно посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.
— Ага, понимаю, — с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы, — вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!
— Что это за человек? — спросил г-н Белый.
— Это?.. — протянул Жондрет. — Это так, сосед. Не обращайте внимания.
Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо расположено несколько химических заводов. У многих фабричных рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность г-на Белого говорила о полном доверии, и в нем не чувствовалось и тени страха.
— Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?
— Я говорил вам, мой дорогой покровитель, — подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в г-на Белого неподвижный и нежный взгляд, слегка напоминающий взгляд удава, — я говорил, что у меня продается картина.
Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, позади тетки Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.
Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, г-н Белый все же заметил и его.
— Не беспокойтесь, — продолжал Жондрет, — это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина… Вот, сударь, извольте поглядеть.
Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу уже упомянутая нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это действительно казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только грубую мазню и нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было размалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.
— Что это такое? — спросил г-н Белый.
Жондрет воскликнул с восторгом:
— Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.
Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать какое-то беспокойство, но г-н Белый, рассматривая картину, снова перевел взгляд в глубину комнаты. Там уже оказались четыре человека — трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо — с голыми руками, неподвижные, с лицами, вымазанными черным. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик, и его седые волосы над черным лицом производили страшное впечатление. Остальные двое казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все они были разуты — кто в носках, кто босиком.
Жондрет заметил, что г-н Белый не спускает глаз с этих людей.
— Это друзья. Живут по соседству, — сказал он. — Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята — трубочисты. Не стоит ими заниматься, благодетель, вы лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам недорого уступлю. Во сколько вы ее оцените?
— Но ведь это вывеска с какого-нибудь кабачка, ей цена не больше трех франков, — проговорил г-н Белый, пристально глядя в глаза Жондрета с настороженным видом.
Жондрет ответил вкрадчиво:
— При вас ли ваш бумажник? С меня довольно будет тысячи экю.
Господин Белый встал во весь рост, прислонился к стене и быстро окинул взглядом комнату. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа, между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно забубнил таким плаксивым голосом и глядел таким блуждающим взглядом, что г-н Белый мог подумать, будто нищета, которую он видел перед собой, и впрямь помутила рассудок этого человека.
— Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, — продолжал ныть Жондрет, — я совсем пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только, ведь я мечтал обучить дочек художественному картонажу, оклеиванью коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще — для дерева, пожиже — для бумаги или для материи; нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток — заколачивать скрепки, еще кисти и еще всякая чертовщина; почем я знаю, что еще? И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть над ними четырнадцать часов. И каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей. Проклятая работа, говорят вам! И за все — четыре су в день! Ну, разве на это проживешь?
Причитая так, Жондрет не глядел на г-на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза г-на Белого были устремлены на Жондрета, а глаза Жондрета — на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Г-н Белый, казалось, спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»
Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу г-ну Белому и крикнул громовым голосом:
— Все это вздор, не в том дело! Узнаете вы меня?
Глава 20
Западня
Дверь логова Жондрета внезапно распахнулась, и в ней показались трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную дубину, окованную железом; другой, рослый детина, нес за топорище, обухом вниз, топор, какой употребляют для убоя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.
Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с дубиной тотчас завязался торопливый диалог.
— Все готово? — спросил Жондрет.
— Все, — отвечал тот.
— А где Монпарнас?
— Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.
— С которой?
— Со старшей.
— Фиакр стоит внизу?
— Стоит.
— А повозка запряжена?
— Да.
— А пару заложили хорошую?
— Отличную.
— Они дожидаются, где я велел?
— Да.
— Ну хорошо, — сказал Жондрет.
Господин Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривал все вокруг себя, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь по очереди в каждого из окружавших его людей. Однако ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя позади стола, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся лишь добродушным стариком, вдруг превратился в настоящего богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.
Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом подобной опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины никогда не остается нам совсем чужим. Мариус испытывал гордость за незнакомца.
Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «Это трубочисты», вытащили из кучи железного лома: один — громадные ножницы для резки металла, другой — тяжелый лом, третий — молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.
Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.
Жондрет, закончив беседу с человеком, вооруженным дубиной, снова обратился к г-ну Белому и повторил прежний вопрос, сопровождая его своим коротким, негромким и в то же время зловещим смешком.
— Итак, вы меня не узнаете?
— Нет, — ответил г-н Белый, глядя ему прямо в глаза.
Тогда Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу г-на Белого, который при этом даже не пошевельнулся, свои угловатые свирепые челюсти и, застыв в этой позе дикого зверя, приготовившегося укусить, крикнул:
— Я не Фабанту, не Жондрет, я — Тенардье! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардье! Теперь узнаете меня?
Легкая краска залила лицо г-на Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил, нисколько не повышая голоса и без малейшей в нем дрожи:
— Не более, чем прежде.
Мариус не расслышал этого ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен и поражен. Он весь задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардье», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, готовая уже было дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардье!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выронили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим г-на Белого, но глубоко потряс Мариуса. Имя Тенардье, по-видимому, совсем незнакомое г-ну Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно означало для него. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного поручения, гласившего: «Один человек, по имени Тенардье, спас мне жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»
Имя это, как, вероятно, помнит читатель, являлось одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардье, тот самый монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление — какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из глубины могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью — как бы заплатить отцовский долг; и вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве при Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любуется, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, — казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой — так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью к столь презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел, можно сказать, полный переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу всех этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились тут перед ним. Если он выстрелит, то спасет г-на Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, г-н Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, и ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли самым властным воспоминаниям, самым глубоким обязательствам перед самим собой, самому священному долгу, самым святым письменам? Изменить ли заветам отца, или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что, с одной стороны, он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, с другой — голос полковника, препоручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.
Между тем Тенардье — впредь мы уже не будем называть его иначе — в каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию.
Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.
Затем с угрожающим видом он повернулся к г-ну Белому и зарычал:
— Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!
И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:
— Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий мильонщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой ребенка Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас был желтый редингот? Скажете — нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только послушай, жена! Видно, такая уж у него придурь — таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Тоже благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля случайно, господин мильонщик? Вы раздаете, стало быть, все запасы товара из своей лавки беднякам, святоша?! Шут вы гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда проходит даром забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким своим платьем и нищим видом, с каким только гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вы увидите, что, разорив людей, от них не отделаться рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!
Он на минуту остановился, казалось, что-то бормоча про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг исчезающее в какой-нибудь расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:
— Да при этом еще корчить праведника!
И снова обратился к г-ну Белому:
— Когда-то вы надо мной насмеялись, провались вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, что жила у меня, а она была, наверно, из богатого семейства. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого этого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну, да не об этом речь. Признайтесь, я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка! В лесу при вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, на него глядя! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадемуазель Марс, — подумайте только, с самой мадемуазель Шептуньей! — будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я про себя думал: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»
Тенардье умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого и подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило, — счастье, с каким карлик попирал бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать.
Господин Белый не прерывал Тенардье. Когда же тот замолчал, он проговорил:
— Я не понимаю, что вы хотите сказать. Вы заблуждаетесь. Я человек очень бедный и какой уж там миллионер. Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого.
— Ага! — захрипел Тенардье. — Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?
— Прошу извинения, сударь, — ответил г-н Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычно и внушительно, — я вижу, что вы бандит.
Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы; чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардье соскочила с постели, а сам он с такой силой схватил стул, словно намеревался изломать его в щепки. «Эй ты, не суйся!» — крикнул он жене и, повернувшись к г-ну Белому, разразился следующей тирадой:
— Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас именуете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, — значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! Зато у всех вас ноги в тепле, на вас сапожки от Сакосского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, кушаете трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком, обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат — сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». И вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Так знайте же, господин мильонщик, я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы — еще неизвестно, кто вы такой!
Тут Тенардье подошел к людям, стоящим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:
— Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним какой-нибудь сапожник!
Затем, адресуясь к г-ну Белому, с еще большим бешенством продолжал:
— И запомните также, господин филантроп, что я не какая-нибудь подозрительная личность, не какой-нибудь безродный человек. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался при Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то, сам уж не помню какого, графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него чертовски ослабел, и я ее не расслышал. Я разобрал только мерси. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить сей воинский подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысяча чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте кончать. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите, погублю, провались я на этом месте!
Мариус уже несколько справился со своим волнением и слышал слова Тенардье. Последние основания для сомнений исчезли. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услыхав упрек в неблагодарности, брошенный по адресу отца, ведь он едва не оправдал этот упрек, и столь роковым образом. Это повергло его в еще большую тревогу. Впрочем, во всех речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, в этих вспышках распоясавшейся подлой натуры, в этой смеси бахвальства и унижения, гордости и низости, злобы и тупости, в этом хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в этой наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в этой бесстыдной наготе уродливой души, в этом взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, — во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.
Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардье предлагал г-ну Белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, нарисованной, — единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.
Поскольку Тенардье не загораживал больше Мариусу поле зрения, последний мог теперь рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Группа должна была представлять Тенардье и Понмерси, спасителя-сержанта и спасаемого полковника. Мариус смотрел, будто опьяненный; эта картина словно оживляла перед ним отца; он видел уже не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на этом мрачном холсте, пугал его, и ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.
Между тем Тенардье, отдышавшись и уставив на г-на Белого свои налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:
— Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощеньем?
Господин Белый молчал. Среди наступившей тишины кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора следующую полную зловещего смысла остроту:
— Кому наколоть дров? Я готов!
То была шутка человека с топором.
И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалась огромная, обросшая щетиной, осклабленная физиономия землистого цвета.
То была физиономия человека с топором.
— Ты зачем скинул маску? — в бешенстве заорал на него Тенардье.
— Чтобы посмеяться, — ответил человек.
Уже несколько минут, как г-н Белый внимательно следил за каждым движением Тенардье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, с полной уверенностью, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к г-ну Белому.
Господин Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком — стол, и, прежде чем Тенардье успел повернуться, он с изумительным проворством, одним прыжком, очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, когда шесть крепких ручищ схватили его и сильным рывком втащили назад в логово. Это сделали три ринувшихся на него «трубочиста». Тетка Тенардье тут же вцепилась ему в волосы.
На шум из коридора сбежались остальные бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним.
Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой г-на Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу.
Этого Мариус уже не мог выдержать: «Прости меня, отец!» — мысленно прошептал он и пальцем нащупал курок пистолета. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье:
— Не троньте его!
Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардье скорее успокаивающим, нежели раздражающим образом. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой перед поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.
— Не троньте его! — повторил он. И, сам того не подозревая, сразу же добился успеха, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, который, при изменившейся обстановке, решил, что можно еще повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать ли погибнуть отцу Урсулы, или погубить человека, спасшего полковника.
Между тем завязалась исполинская борьба. Ударом кулака в грудь г-н Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели, словно под жерновами; но четверо остальных схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули его к повергнутым на землю «трубочистам». И теперь, одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, г-н Белый исчез под этой омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой догов и ищеек.
Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье так и не выпустила из своих рук его волос.
— Тебе нечего в это путаться, — прикрикнул на нее Тенардье. — Еще шаль порвешь.
Она повиновалась с рычаньем, как волчица волку.
— Обыскать его, ребята, — приказал Тенардье.
Господин Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось.
Тенардье положил платок к себе в карман.
— Неужели нет бумажника? — спросил он.
— Ни бумажника, ни часов, — ответил кто-то из «трубочистов».
— Неважно, — пробормотал голосом чревовещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. — Что и говорить, неподатливый старик!
Тенардье подошел к дверям, взял в углу связку веревок и бросил бандитам.
— Привяжите его в ногах кровати, — приказал он. И, заметив неподвижно лежащего посреди комнаты старика, сбитого ударом г-на Белого, спросил: — Что, Башка помер?
— Нет, пьян, — ответил Гнус.
— Оттащите его в угол, — распорядился Тенардье.
Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.
— Зачем ты привел столько народу, Бабет? — тихо спросил Тенардье у человека с дубиной. — Этого не требовалось.
— Не отвяжешься от них, — ответил человек с дубиной. — Все захотели участвовать. Времена плохие. Дела не делаются.
Кровать, на которую был брошен г-н Белый, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Г-н Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его на землю и крепко привязали к спинке той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.
Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив г-на Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнавал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической и подозрительной метаморфозой, испытывая то чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам.
— Сударь, — начал было Тенардье.
Но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускавшим г-на Белого, знак удалиться.
— Отойдите немножко. Дайте мне переговорить с господином, — сказал он.
Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:
— Сударь, зря вы это вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги себе сломать. А теперь, если не возражаете, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним своим наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.
Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время г-н Белый едва произнес несколько слов, не возвышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил самое глубокое и самое странное молчание. Тенардье продолжал:
— Да разве бы я нашел это неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадаешь в общество людей, не совсем внушающих доверие. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы не более как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещеньице. Впрочем, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое именно я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный, кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и юстицией. Значит, вам, как я уже давно заподозрил, некоторым образом важно кое-что скрывать. Нам, со своей стороны, тоже это важно — стало быть, можно договориться.
Произнося эти слова, Тенардье не сводил глаз с г-на Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в самую глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна; в этом негодяе, за минуту до того бывшем всего только разбойником, чувствовался человек, который «готовился в священники».
Надо сказать, что молчание пленника — эта необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, это упорство, с каким он подавлял в себе первое, естественное желание позвать на помощь, все эти обстоятельства, теперь, когда Мариус это заметил, были ему крайне неприятны и вызывали у него мучительное чувство недоумения.
Вполне обоснованные замечания Тенардье еще больше сгустили таинственный мрак, окутывавший суровую и странную фигуру, получившую от Курфейрака прозвище г-на Белого. Впрочем, как бы то ни было, но и связанный веревками, окруженный палачами, находясь, так сказать, наполовину в могиле и с каждым мгновением все глубже туда опускаясь, испытуемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардье, человек этот оставался невозмутимым; и Мариус не мог не восхищаться в эту минуту его лицом, хранившим выражение гордой печали.
Несомненно, это была душа, недоступная страху, не ведающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в самом безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.
Тенардье непринужденно поднялся со своего места, подошел к камину и отодвинул ширмы, прислонив их к стоявшей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.
Затем Тенардье снова подсел к г-ну Белому.
— Итак, последуем дальше, — сказал он. — Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я слишком погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы мильонщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые слишком злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте, я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков.
Господин Белый не проронил ни слова. Тенардье продолжал:
— Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестен размер вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы сами человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил, только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков — вот моя цена. Это сущие пустяки. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас и пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков». О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого и не требуется. Я прошу вас только об одном, не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.
Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, нарочито подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:
— Предупреждаю, никаких отговорок насчет неграмотности я слушать не буду.
Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.
Тенардье придвинул стол вплотную к г-ну Белому, вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.
Лист он положил перед г-ном Белым.
— Пишите, — сказал он.
Тут, наконец, заговорил и пленник:
— Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.
— Совершенно верно, вы правы. Извините! — ответил Тенардье.
И, обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал:
— Развяжите господину правую руку.
Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и подал ему.
— Советую хорошенько запомнить, сударь, — сказал он, — что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила уже не вырвет вас отсюда и что мы будем поистине огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.
— Что же я должен писать? — спросил пленник.
— Я продиктую.
Господин Белый взял перо.
Тенардье стал диктовать:
— «Дочь моя…»
Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье.
— Напишите: «Дорогая моя дочь», — продолжал Тенардье.
Г-н Белый повиновался.
— «…приезжай немедленно…»
Он приостановился:
— Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?
— Кому? — спросил г-н Белый.
— Ну девчонке, Жаворонку, черт побери!
— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — ответил г-н Белый без малейших признаков волнения.
— Пишите, пишите, — оборвал его Тенардье и снова принялся диктовать: — «Приезжай немедленно. Ты мне крайне нужна. Особе, которая передаст тебе настоящую записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».
Господин Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился:
— Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.
Господин Белый зачеркнул эти три слова.
— А теперь, — продолжал Тенардье, — подпишитесь. Как вас зовут?
Пленник положил перо и спросил:
— Кому предназначается это письмо?
— Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Вам уже это сказано.
Тенардье явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил: «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя означало бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.
— Подпишитесь. Как вас зовут? — повторил он.
— Урбен Фабр, — сказал пленник.
Тенардье кошачьим движением быстро запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у г-на Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.
— У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».
Пленник поставил подпись.
— Одной рукой письма не сложить, — сказал Тенардье. — Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадемуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, где-то близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.
Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал:
«Мадемуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д’Анфер, № 17».
Тенардье с какой-то лихорадочной поспешностью схватил письмо.
— Жена! — позвал он.
Она подбежала.
— Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Сейчас же поезжай и живо назад.
И, обращаясь к человеку с топором, распорядился:
— А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Хорошо помнишь, где поставил повозку?
— Помню, — ответил тот.
И, поставив свой топор в угол, он последовал за теткой Тенардье.
Не успели они выйти, как Тенардье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:
— Главное, не потеряй письма! Не забудь, что везешь двести тысяч франков.
— Не беспокойся. Оно у меня за пазухой, — отвечал сиплый голос супруги.
Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута; оно становилось все тише и вскоре совсем заглохло.
— Отлично, — пробормотал Тенардье. — Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.
Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы своих грязных сапог.
— Ноги у меня совсем окоченели, — сказал он.
Теперь, кроме Тенардье и пленника, в трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с какой-то неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут до того логово Тенардье.
Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.
Слышалось только мирное посапывание спящего в углу пьяного старика.
Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардье называл также «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил совершенно просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Наряду с этим нашли свое объяснение буквы У и Ф: они означали «Урбен Фабр», и Урсула уже перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял там, почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в такой непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять какое-либо решение.
«Во всяком случае, — думал он, — если Жаворонок — это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардье должна привезти ее сюда. А тогда решено: если понадобится, я не пощажу ни жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь».
Так прошло около получаса. Тенардье, казалось, был поглощен какими-то угрюмыми размышлениями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий заглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.
— Господин Фабр, — вдруг обратился к пленнику Тенардье. — Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.
Эта краткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.
— Потерпите немного, — продолжал Тенардье. — Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок — на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.
Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал:
— Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.
Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардье снова заговорил:
— Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.
Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: «Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка».
Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.
Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.
Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.
Связанный пленник пошевельнулся.
— А вот и хозяйка, — сказал Тенардье. Не успел он договорить, как в комнату действительно ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:
— Фальшивый адрес!
Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор.
— Фальшивый адрес? — повторил за ней Тенардье.
— Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать, никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает! — продолжала она.
Затем остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:
— Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты, видишь ли, слишком добр! На твоем месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться — живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись это мне, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать — никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!
Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, — та, имени которой он теперь не сумел бы уже назвать, — была спасена.
Между тем как жена продолжала исступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.
Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:
— Фальшивый адрес! На что же ты, собственно говоря, надеялся?
— Выиграть время! — крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник оставался привязанным к постели только за одну ногу.
Прежде чем кто-либо из всех семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился; Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.
Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в лачуге Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, — одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, какое метафоры воровского арго в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке — Вийоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью какого-нибудь ножичка или старого токарного долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезы, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета по желанию завинчивается и развинчивается; это — коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на этого бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним только су. Ничуть не бывало, он обладает свободой. Такую-то монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при последующих полицейских обысках в логове Тенардье. Равным образом была обнаружена и маленькая стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки, которыми был привязан. Этим объясняются и легкий шум и едва уловимые движения, замеченные Мариусом.
Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.
Между тем бандиты вскоре опомнились от первого испуга.
— Не беспокойся, — обращаясь к Тенардье, сказал Гнус, — одна нога у него еще привязана, и ему не уйти. Могу поручиться. Эту лапу я сам ему затянул.
Но тут возвысил голос пленник:
— Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать то, чего я не хочу говорить и чего не хочу писать, то…
Он засучил рукав на левой руке и прибавил:
— Вот, глядите!
С этими словами он вытянул правую руку и приложил прямо к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.
Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице изумительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.
У сильных, благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.
— Несчастные, — сказал он, — я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь.
И резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, оставшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.
— Делайте со мной, что угодно, — продолжал пленник. Теперь он был безоружен.
— Держите его! — крикнул Тенардье.
Двое из бандитов схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении размозжить ему череп ключом.
В ту же минуту внизу за перегородкой и в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса, обменявшиеся следующими фразами:
— Остается только одно.
— Укокошить?
— Вот именно.
Это совещались супруги Тенардье.
Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож.
Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла эта борьба голосов, причиняя ему смертельные муки. До сих пор он лелеял надежду, что найдет средство примирить оба своих долга, но никакой возможности для этого не возникало. Между тем опасность все приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардье, с ножом в руках, над чем-то раздумывал, стоя в нескольких шагах от пленника.
Мариус растерянно водил вокруг глазами — к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.
Вдруг он вздрогнул.
Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую не дольше чем нынешним утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардье:
Легавые пришли.
Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардье.
И как раз вовремя. Тенардье, поборов последние свои страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.
— Что-то упало! — закричала тетка Тенардье.
— Что такое? — спросил Тенардье.
Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она подала его мужу.
— Откуда он сюда попал? — удивился Тенардье.
— А откуда же, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, — объяснила жена.
— Я видел, как он влетел, — заявил Гнус.
Тенардье поспешно развернул листок и поднес его к свече.
— Почерк Эпонины. Проклятие!
Он сделал знак жене и, когда та поспешно подошла, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом добавил:
— Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!
— Не свернув ему шею? — спросила тетка Тенардье.
— Теперь некогда этим заниматься.
— А как будем уходить? — задал вопрос Гнус.
— Через окно, — ответил Тенардье. — Раз Понина бросила камень в окно — значит, дом с этой стороны не оцеплен.
Человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было как бы сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.
Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.
Лишь только лестница была прилажена, Тенардье крикнул:
— Хозяйка, идем! — И бросился к окошку.
Но едва он занес ногу, как Гнус грубо схватил его за шиворот.
— Нет, шалишь, старый плут! После нас!
— После нас! — зарычали бандиты.
— Бросьте ребячиться, — принялся увещевать их Тенардье, — мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.
— Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать, — предложил один из бандитов.
— Да что вы, рехнулись? Спятили? — завопил Тенардье. — Видали таких олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку?..
— Не пригодится ли вам моя шляпа? — крикнул с порога чей-то голос.
Все обернулись. Это был Жавер.
Держа в руке свою шляпу, он, улыбаясь, протягивал ее бандитам.
Глава 21
Надо было бы всегда начинать с ареста пострадавших
Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на улице Застава Гобеленов, против лачуги Горбо, по другую сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» одну только Азельму. Что касается Эпонины, то ее на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из своей засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение; он узнал кой-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.
Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.
Жавер пришел в самый нужный момент.
Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с дубиной, остальные — кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардье — сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.
Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.
— Стоп, ни с места! — крикнул он. — Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.
Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардье, шепнув ему на ухо:
— Это — Жавер. В этого человека я стрелять не посмею. А ты?
— Плевать я на него хотел, — ответил Тенардье.
— Тогда стреляй.
Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера.
Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардье, пристально взглянул на него и произнес только:
— Не стреляй. Все равно даст осечку.
Тенардье спустил курок. Пистолет дал осечку.
— Я ведь тебе говорил, — заметил Жавер.
Гнус бросил к ногам Жавера свою дубину.
— Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.
— А вы? — обратился Жавер к остальным бандитам.
— Мы тоже, — последовал ответ.
— Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил, надо по-хорошему, — спокойно добавил Жавер.
— Я попрошу только об одном, — снова заговорил Гнус, — пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.
— Согласен, — ответил Жавер.
Тут он обернулся и крикнул в дверь:
— Пора, входите!
Группа постовых, с саблями наголо, и полицейских, вооруженных кастетами и короткими дубинками, ввалилась в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардье, освещенном лишь одной свечой, стало совсем темно.
— Всем наручники! — распорядился Жавер.
— А ну-ка, подойдите! — раздался вдруг чей-то, не мужской, но отнюдь и не женский голос.
Это рычала тетка Тенардье, загородившаяся в углу у окна.
Полицейские и постовые отступили.
Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.
— Берегитесь! — крикнула она.
Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела.
Тетка Тенардье взглянула на бандитов, давших себя связать, и гортанным, хриплым голосом пробормотала:
— У-у, трусы!
Жавер улыбнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардье.
— Не подходи, убирайся! Не то расшибу! — завопила она.
— Экий гренадер! — сказал Жавер. — Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины.
И он продолжал идти вперед.
Растрепанная, страшная тетка Тенардье расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер наклонился. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое помещение, и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.
В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардье. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая — на голову супруга.
— Наручники! — крикнул он.
Полицейские всей гурьбой вбежали назад в комнату, и через секунду приказание Жавера было выполнено.
Это сломило тетку Тенардье. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:
— Дочки, мои дочки!
— Они за решеткой, — заявил Жавер.
Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.
— Уже успели управиться, Жондрет? — пробормотал он спросонья.
— Да, — ответил Жавер.
Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения: трое сохраняли свою черную размалевку, трое других — маски.
— Масок не снимать, — распорядился Жавер.
Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:
— Здоро́во, Гнус. Здоро́во, Башка. Здорово, Два Миллиарда!
Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:
— Здоро́во, Живоглот.
Человека с дубиной:
— Здоро́во, Бабет.
А чревовещателя:
— Здравия желаю, Звенигрош.
Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опустив голову.
— Отвяжите господина, и никому не уходить! — приказал он.
Потом, важно усевшись за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, он вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.
Написав первые строчки, всегда состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.
— Подведите господина, который был связан этими господами.
Полицейские огляделись вокруг.
— В чем дело, где же он? — спросил Жавер.
Но пленник бандитов — г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка — исчез.
Дверь охранялась, а про окно забыли. Едва почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.
Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.
Веревочная лестница еще покачивалась.
— Экая чертовщина! — процедил сквозь зубы Жавер. — Видно, этот был почище всех.
Глава 22
Малыш, плакавший во второй части нашей книги
На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик поднимался вверх по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел, распевая во все горло.
На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил, крикнув:
— Вот тебе раз, а я-то думал, тут большущая-пребольшущая собака!
Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно близко можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬШУЩАЯ собака!
Взбешенная старуха выпрямилась.
— У, висельник! — заворчала она. — Мне бы прежнюю мою силу, такого бы тебе пинка дала!
Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.
— Куси, куси! — поддразнил он. — Ну если так, то я, пожалуй, и не ошибся.
Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, и виднелась одна только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:
— Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.
И пошел дальше, снова принявшись распевать:
Король наш Стуконог, Взяв порох, дробь и пули, Пошел стрелять сорок.Пропев эти три стиха, он замолк. В эту минуту он подошел к дому № 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары обличали не столько его детские ноги, сколько обутые на них мужские сапоги.
Между тем следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, подоспела та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.
— Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! — орала она.
Удары не прекращались.
— Да разве нынешние постройки на этакое рассчитаны? — надрывалась старуха.
И вдруг неожиданно замолкла. Она узнала гамена.
— Да ведь это же наш дьяволенок!
— Ага! Да ведь это же наша бабка! — сказал мальчик. — Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.
Старуха скорчила сложную гримасу, великолепно сымпровизированную злобой, применившей для этой цели уродство и дряхлость, но, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты.
— Никого нет, бесстыжая твоя рожа, — ответила она.
— Вот тебе раз! — воскликнул мальчик. — А где же отец?
— В тюрьме Форс.
— Смотри-ка! А мать?
— В Сен-Лазаре.
— Так, так! А сестры?
— В Мадлонет.
Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:
— Э-эх!
Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге у дверей, услыхала, как он запел своим чистым, юным голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожащие на зимнем ветру:
Король наш Стуконог, Взяв порох, дробь и пули, Пошел стрелять сорок, Взобравшись на ходули. Кто проходил внизу, Платил ему два су.Часть IV ИДИЛЛИЯ УЛИЦЫ ПЛЮМЕ И ЭПОПЕЯ УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ
Книга I Несколько страниц истории
Глава 1
Хорошо скроено
Два года, 1831-й и 1832-й, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет — как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то возникают, то исчезают ежеминутно под грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.
Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.
Попытаемся это сделать.
Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного — мира; у всех одно притязание — умалиться. Это означает — жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди — нет, покорно благодарим, довольно их видели, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, а Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй — с Робеспьером, третий — с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.
Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются — чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и в свою очередь стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять свое место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты — это квартирмейстеры и фурьеры, только подготовляющие квартиры для принципов.
И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.
Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов — то же, что покой для людей.
Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи.
Эти гарантии — требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же их дает сила обстоятельств. Истина глубокая и полезная, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что даже не пришло в голову Бурбонам в 1814-м.
Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, что политические права, пожалованные Людовиком XVIII, — всего только ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому неудовольствию, которое причинял Бурбонам этот дар, они должны были чувствовать, что он исходит не от них.
Они были угрюмы в девятнадцатом веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «надулись» — воспользуемся этим ходовым выражением, то есть народным и верным. Народ это видел.
Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась таким же способом. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали прочь Наполеона.
Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись повсюду, но только не под троном.
Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать, — они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII — в день битвы при Маренго? Никогда, от первых дней истории, государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще эти притязания бренного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.
Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.
Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар. Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации верховное главенство, у гражданина — свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, и у гражданина то, что делало его гражданином.
В этом сущность тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.
Реставрация пала.
Она пала по справедливости. Тем не менее, признаем это, она не была до конца враждебной всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.
При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, и величие — с миром, чего не было при Империя. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле Х слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, столь старые для мыслителя, столь новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения.
Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон с чинной важностью, но без всякой внушительности; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл Х по пути в Шербург распорядился сделать из круглого стола четырехугольный и, казалось, был более обеспокоен угрозой этикету, чем крушением монархии. Такая мелкость его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько силы, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов — в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла Х из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома лишь с грустью и осторожностью. Не один и не несколько людей, а Франция, вся Франция, победоносная и опьяненная своей победой, казалось, вспомнила и осуществила перед всем миром эти замечательные слова Гильома дю Вэра, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особливо скорбящих».
Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.
Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Самые напуганные, самые недовольные, самые раздраженные приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие кого-то, действующего в области более высокой, чем это дано человеку.
Июльская революция — торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.
Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.
Право — это все то, что истинно и справедливо.
Неотъемлемая черта права — пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, даже как будто самый неизбежный, даже наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало права или вовсе никакого, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже, чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли — это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего шестнадцатого столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи девятнадцатого века.
Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права — вот работа мудрых.
Глава 2
Дурно сшито
Но одно дело — работа людей мудрых и другое дело — работа людей ловких.
Революция 1830 года быстро закончилась.
Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.
Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти выражением арго. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» — все равно что сказать «человек заурядный».
Точно так же сказать: «государственный муж» — иногда значит то же, что сказать «изменник».
Итак, если поверить ловким, то революции, подобные Июльской, — не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, раз право утверждено, следует укрепить государство. Раз свобода обеспечена, следует подумать о власти.
Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть — пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, откуда она?
Ловкие как будто не слышат заглушенных возражений и продолжают свое дело.
По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции, — если этот народ составляет часть монархической Европы, — это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса и заслоняет госпиталь.
Однако не всегда легко добыть себе династию.
В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом — Итурбиде.
Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.
Если стать на точку зрения «государственных мужей» со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может — и это даже полезно — быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом или прославился, брался ли за ее топор или действовал шпагой.
Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной — не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа.
Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека — Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя — династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.
Королевские дома похожи на те фиговые деревья в Индии, каждая ветка которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что склонится к народу. Такова теория ловких.
Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.
1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.
1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.
Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия.
Почему?
Потому что буржуазия — это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.
То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.
Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа — это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло — это вовсе не каста.
Но, желая усесться слишком рано, можно остановить самое движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.
Допущенная ошибка не может служить причиной образования класса. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.
В конце концов, — следует быть справедливым даже к эгоизму, — состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытье, доступное сну; это был привал.
Привал — слово, имеющее двойной, особенный и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.
Привал — это восстановление сил, это покой настороженный и бодрствующий: это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.
Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.
То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.
Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие — привал. Человек, который мог бы называться Однако-Ибо. Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.
Этот человек оказался тут же, под рукой. Имя его было Луи-Филипп Орлеанский.
Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.
Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».
Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я возражаю!» Затем — грозное знамение! — оно вновь скрылось в тени.
Глава 3
Луи-Филипп
У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, такой захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революцией никогда не бывает отречением.
Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции, даже и они заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.
Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.
Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец — порицания, он обладал всеми добродетелями частного лица и некоторыми — общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах, знал цену минуты и не всегда — цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь; был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, — хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще более редко, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению — скряга, но неуличенный; в сущности, это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но мало чувствующий литературу; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывающий только сегодняшний день, не способный ни к злопамятству, ни к благодарности, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и хитро умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на те тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой и Европу Францией; бесспорно, любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету и авторитет достоинству — склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречащий самому себе и берущий свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет Марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами личной неустрашимости; генерал — при Вальми, солдат — при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он неизменно улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда — свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен способностью к наблюдению, но не прозорливостью; мало интересовался ду́хами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; он всегда черпал из запаса этой памяти — единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ — одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; он слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации какой-то дух формализма и крючкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой он обладал чувством полезного.
Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему недоставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом — то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года; Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и Венгрию, однако писал: polonois и произносил: hongrais[593]. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.
Он редко посещал обедню, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь форейтору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без своего ланцета, как Генрих III — без своего кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем — первым королем, пролившим кровь в целях излечения.
Что касается жалоб истории на Луи-Филиппа, то здесь нужно кое-что отбросить; одни обвинения падают на монархию, другие — на царствование Луи-Филиппа, третьи — на короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремястами тысяч привилегированных — за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир и, как Индия англичанами, — скорее способами варваров, чем носителей цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадеру, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард — за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная, — за это отвечает король.
Как видите, сделав вычет, можно уменьшить вину короля.
Его важнейшая ошибка такова: он был скромен во имя Франции.
Где корни этой ошибки?
Скажем об этом.
В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя робость, невыносимая для народа, у которого в его гражданских традициях имело место 14 июля, а в традициях военных — Аустерлиц.
Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила имя своего рода среди художников так же, как Шарль Орлеанский — среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д’Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Это молодые люди, каких не встретишь, и принцы, каких не бывает».
Вот, без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе.
Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать теми внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, — такова причина удачи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не бывало столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, и воплощение свершилось. Луи-Филипп — это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и это великое предназначение к престолу — изгнание. Он был осужден, беден и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы пропитаться. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев; Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93-м году, он, тогда еще г-н де Шартр, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения; слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого яростного уничтожения идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы — как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый — Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед необъятным правосудием народа, почти столь же безличным, как правосудие бога.
След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком этих великих годин, минута за минутой. Однажды перед свидетелем, которому невозможно не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».
Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он и знал, какое разрушительное действие оказывает свет на привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.
Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.
Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий и прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; и во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.
Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, — что делал он? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что давать отпор Европе — дело важное, но еще важнее вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять эти несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак — Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узкокорыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». Другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.
А для нас, знающих, что в истории доброта — редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик.
Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; и вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».
Глава 4
Трещины под основанием
К тому времени, когда драма, о которой мы повествуем в этой книге, должна проникнуть в толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, нам не следовало допускать недомолвок и необходимо было дать объяснение личности короля.
Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, никакого личного почина не проявил. Он родился принцем и считал себя королем по избранию. Он не сам дал себе эти полномочия, не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение отвечало его праву, а согласие принять — его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы утверждаем это по чистой совести, Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительное, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, не приходится порицать борющихся: одна из двух сторон явно находится в заблуждении; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах — одной ногой опираясь на республику, другою — на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренно; слепой — не преступник, как вандеец — не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения лишь роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не ответственны.
Закончим наше изложение.
Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться.
Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, столь недавно созданную и столь непрочную.
Сопротивление появилось на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне.
С каждым месяцем враждебность росла и из тайной стала явной.
Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована различно.
Бог открывает людям свою волю в событиях — это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы — переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, глубокие расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана — на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения — фракция; и каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина — лишь ее достояние.
Нередко и сама власть является фракцией.
Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, — это старые партии.
По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение. Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным завершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и, даже обагренная кровью, она выживает. Революция не случайность, а необходимость. Революция — это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.
Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения — отличные метательные снаряды. Они умело поражали эту революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, — за недостатком логики; они нападали на эту революцию в ее королевском обличье. Они ей кричали: «Революция, а зачем же у тебя король?» Старые партии — это слепцы, которые целят метко.
Республиканцы, в свою очередь, кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.
Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками, и с вечным правом.
Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир — значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир — разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повода. Подгоняемая во Франции прогрессом, она, в свою очередь, подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.
А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда — все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.
Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению отвечало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.
Мыслители размышляли, в то время как почва, — то есть народ, — изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в каком-то глухом эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые в одиночестве, другие объединившись в тесные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали свои ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.
Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.
Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.
Человеческое благополучие — вот что хотели они добыть из недр общества.
Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли, почти до высоты религии. В цивилизации, такой, какою она создается, — отчасти богом и, гораздо больше, людьми, — интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, согласно закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.
Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием — социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы забил из нее живой родник человеческого счастья.
Их труды охватывали все, начиная от смертной казни и кончая вопросом о войне. К правам человека, провозглашенным Французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.
Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не обсуждаем здесь исчерпывающим образом, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.
Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.
Первая проблема: создать материальные богатства.
Вторая проблема: распределить их.
Первая проблема включает вопрос о труде.
Вторая — вопрос о плате за труд.
В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.
Во второй — о распределении жизненных благ.
Следствием правильного применения производительных сил является общественная мощь.
Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.
Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства — справедливость.
Из соединения этих двух начал — общественной мощи вовне и личного благоденствия внутри — следует социальное процветание.
Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.
Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага — одним, все лишения — другим, то есть народу, причем привилегии, исключения, монополии, власть феодалов являются порождением самой формы труда. Положение ложное и опасное, ибо общественное могущество зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства — на страданиях отдельной личности. Это — дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.
Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильность решениях. Уничтожить богатство — не значит его распределить.
Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них лишь одно.
Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или, как Англия, — материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет падать и погибать всякому себялюбию, всему тому, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.
Само собой разумеется, что словами: Венеция, Англия мы называем здесь не народ, а определенный общественный строй — олигархии, стоящие над нациями, а не сами нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ — бессмертна. Отметив это, мы продолжаем.
Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно с работой, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая дело рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать всем материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.
Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах.
Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!
Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного человека необходимость считаться с философами, смутно намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное смутной покорностью высшему, неоспоримому праву, собственная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу — все это поглощало Луи-Филиппа почти болезненно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.
Он чувствовал, что почва под ним в состоянии какого-то страшного распада, однако это не было полным разрушением, так как Франция оставалась Францией более, чем когда-либо.
Темные сгрудившиеся тучи покрывали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями — тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было поспешно придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание, столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В этой тревоге, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому не ведомый дотоле, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась сумеречная тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты были облака.
Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном облике явил себя 1832 год. Народная нищета, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж — Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных — Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, подстерегающие Францию раздраженные взгляды всей Европы, Англия — эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что колеблется, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства — одна в городе мысли, другая в городе труда: в Париже война гражданская, в Лионе — война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера — все это прибавляло к смутному гулу идей смутную сумятицу событий.
Глава 5
Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые
К концу апреля все осложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали небольшие отдельные бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, — признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.
Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.
Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными — как ни покажется странным применение двух этих эпитетов к кабачкам.
Правительство попросту и откровенно было там взято под сомнение. Открыто обсуждалось: драться или сохранять спокойствие. Кое-где в задних помещениях кабачков с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: Ты дал согласие! Ты в этом поклялся! Иногда поднимались на второй этаж в запертую комнату, и там происходили сцены, почти напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.
В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени.
Там слышались такие слова: Мне неизвестны имена вождей. Что до нас, то мы узнаем о назначенном дне только за два часа. Один рабочий сказал: Нас триста человек, дадим каждый по десять су — вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули. Другой сказал: Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не минет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно схватиться вплотную. Третий заявил: Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появлялись люди, «хорошо одетые, по виду буржуа», «производили замешательство» и, держась «распорядителями», пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: Заговор созрел. Дело готово. «Об этом твердили все, кто был там», — как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке какой-то рабочий закричал: У нас нет оружия! Один из его приятелей ответил: Оно есть у солдат! — пародируя, сам того не зная, обращение Бонапарта к Итальянской армии. «Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, — прибавляет один из рапортов, — то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать, сказав то, что ими было сказано.
Нередко такие собрания принимали вполне регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходил всякий, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены страстным энтузиазмом, другие — потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.
Стали известны и другие красноречивые факты.
Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: Должок мой, дядюшка, уплатит революция.
У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.
Рабочие сходились на улице Котт, у одного фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там имелся набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей. Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.
Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: Уже давно вовсю выделывают патроны. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: Борто, виноторговец.
Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей водочными настойками, какой-то бородач с итальянским акцентом, взобравшись на тумбу, громко читал необычное рукописное послание, казалось, исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались кучками слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были собраны и записаны: «…Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «…Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «…Выбор возможен лишь один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. Ибо в нашу эпоху больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует». «…В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.
Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно по причине этой дерзости. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Св. Маргариты, вскричал: «Я бабувист!» Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.
Между прочим этот прохожий говорил:
— Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы — мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!
— Молчать, гражданин шпик! — крикнул ему рабочий.
Этот окрик положил конец его речи.
Бывали и таинственные случаи.
Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», который его спросил: «Куда идешь, гражданин?» — «Сударь, — ответил рабочий, — я не имею чести вас знать». — «Зато я тебя хорошо знаю, — сказал тот и прибавил: — Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобою следят». Потом, пожав рабочему руку, он ушел, сказав: «Мы скоро увидимся».
Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.
— Постарайся-ка получить поскорей, — говорил ткач краснодеревцу.
— Почему?
— Да придется пострелять малость.
Двое оборванных прохожих обменялись следующими примечательными словами, явно отдававшими жакерией:
— Кто нами правит?
— Господин Филипп.
— Нет, буржуазия.
Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Участники жакерии — это бедняки.
В другой раз слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».
Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву круглой площади возле Тронной заставы, только и удалось расслышать, что: «Сделают все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».
Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.
«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эсташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее эти вожаки всегда были в тени, и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательную сдержанность следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.
— Кто ваш руководитель? — спросили его.
— Я этого не знал, да и не разузнавал, кто он.
Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.
Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строящегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было еще разобрать следующие строки:
«…Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ…»
И в приписке:
«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».
Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного подальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа.
Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв — это были квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики, а буквы ю ог а1 фе означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся весьма примечательными указаниями: «К — Банерель. 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц — Бубьер. 1 пистолет, 40 патронов; Д — Роле. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р — Тейсье. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; Террор. 8 ружей. Храбрец» и т. д.
Наконец тот же плотник нашел все внутри этой же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво был начертан следующий загадочный список.
Единство. Бланшар. Арбр-Сэк, 6.
Барра. Суаз. Счетная палата.
Костюшко. Обри-Мясник?
Ж. Ж. Р.
Кай Гракх.
Право осмотра. Дюфон. Фур.
Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.
Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 86 патр.
Марсельеза.
Главенст. народа. Мишель. Кенкампуа. Сабля.
Гош.
Марсо. Платон. Арбр-Сэк.
Варшава. Тилли, продавец газеты «Попюлер».
Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, распознал ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат лишь истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло позже той даты, когда эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.
Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться реальные дела. На улице Попенкур при обыске у старьевщика в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, одинаково сложенных пополам, а потом вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:
Селитра — 12 унций.
Сера — 2 унции.
Уголь — 2 с половиной унции.
Вода — 2 унции.
Протокол обыска гласил, что ящик сильно отдавал запахом пороха.
Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных Лотьер, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку, полную патронов.
Один рабочий, выпивая со своим приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот, притронувшись к нему, обнаружил у него под курткой пистолет.
На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными следами расплавленного свинца внутри.
Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоящим возле постели, в руке он держал патроны, изготовлением которых был занят.
Во время обеденного отдыха рабочих заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под своей блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох несколько отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.
Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.
Как-то раз правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».
Все это брожение происходило в открытую и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все особенности этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» — тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»
Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»
Другой лавочник говорил: «Дело начнется скоро, я это знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел семь франков.
Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не был исключением. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и тайного одновременно, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: Плювиоз, год 40-й республиканской эры, — общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям следующие многозначительные названия:
Пики.
Набат.
Сигнальная пушка.
Фригийский колпак.
21 января.
Нищие.
Бродяги.
Робеспьер.
Нивелир.
Настанет день.
Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Галльский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы: Свобода печати, Свобода личности, Народное образование, Борьба с косвенными налогами. Затем общество Рабочих — поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью — сержант, двадцатью — младший лейтенант, четырьмя десятками — лейтенант; в ней никогда не знали друг друга больше чем пять человек. Эта выдумка, где осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоящий во главе центральный комитет имел две руки — общество Действия и Армию Бастилии. Легитимистский союз Рыцарей верности сеял смуту среди этих республиканских объединений. Он был разоблачен и изгнан.
Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были свои общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.
В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, и учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же самые молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько обстоятельства допускали, были открытыми, и об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? — На улице Мира. — У кого? — На улице. — Какие секции были там? — Одна. — Какая именно? — Секция Манюэль. — Кто был ее руководителем? — Я. — Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять это опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? — Из Центрального комитета».
Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.
Таково было положение дел.
И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.
Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард скрывалась потрясающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редчайшего ума. А именно нищета и ум являются особенно грозным сочетанием крайностей.
У предместья Сент-Антуан были еще и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда — одновременно и причина, и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, как только на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.
Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, отмечены исторической известностью. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвеличивавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из глубин ее священные дуновения, — на те таверны, где столы были почти подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет сивиллиным вином.
Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: Ingens[594].
В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.
Дикарей. Объяснимся по поводу этого выражения. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками, неистово бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, общественной заботы для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.
Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Они требовали света, сами скрытые под маской тьмы.
Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы признаем это, но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они кротко высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Что до нас, то если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами цивилизации и цивилизованными варварами, — мы выбрали бы первых.
Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропинкой.
Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика бога.
Глава 6
Анжольрас и его помощники
Незадолго до этого времени Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.
Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен». Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:
— Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем же примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это дело на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, и сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взглянуть на политехников. Сегодня среда — у них день отдыха. Фейи, вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все здорово кипит. Баорель посетит Эстрападу. Прувер, масоны охладевают; ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Сам я займусь Кугурдой.
— Вот и все в порядке, — сказал Курфейрак.
— Нет.
— Что же еще?
— Очень важное дело.
— Какое? — спросил Курфейрак.
— Менская застава, — ответил Анжольрас.
Он немного помедлил, как бы раздумывая, потом снова заговорил:
— У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Совершенно необходимо поговорить с ними немного, но крепко. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на этого беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.
— А я? — сказал Грантэр. — Я-то ведь здесь.
— Ты?
— Я.
— Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!
— Почему же нет?
— Да разве ты на что-нибудь годишься?
— Но я, некоторым образом, стремлюсь к этому.
— Ты ни во что не веришь.
— Я верю в тебя.
— Грантэр, хочешь оказать мне услугу?
— Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.
— Хорошо, в таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай свой абсент.
— Анжольрас, ты неблагодарен.
— И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты способен на это?
— Я способен спуститься по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать Старым Тюильри, проскочить бульвар, наконец, следуя по Менскому шоссе, перейти через заставу и попасть прямо к Ришфе. Я способен на это. И мои сапоги тоже способны.
— Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?
— Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».
— Что же ты им скажешь?
— Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.
— Ты?!
— Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен «Общественный договор», я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.
— Будь посерьезнее, — сказал Анжольрас.
— Уж куда серьезнее! — ответил Грантэр.
Анжольрас подумал немного и вскинул голову, словно человек, который принял решение.
— Грантэр, — сказал он значительно, — я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.
Грантэр жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.
— Красный, — сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.
Потом энергично похлопал ладонью по двум пунцовым отворотам жилета у себя на груди.
Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:
— Не беспокойся.
Затем решительно нахлобучил шляпу и отбыл.
Четверть часа спустя задняя комната кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись каждый по своему делу. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.
Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, столь многочисленных по эту сторону Сены.
Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал про себя положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развертываются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Здесь причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась в этот самый миг длинная пороховая дорожка — его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское и проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи — этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, — все вместе производило своего рода электрическое потрескивание, повсюду и одновременно сопровождающееся искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантэре. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по пути, — сказал он про себя. — Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим-ка, что делает Грантэр и чего он успел добиться».
На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он вошел, отпустив дверь, с размаху хлопнувшую его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.
Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантэр, споривший со своим противником.
Грантэр сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору, и вот что услышал Анжольрас:
— Два раза шесть.
— Четверка.
— Свинья! У меня таких нет.
— Ты пропал. Двойка.
— Шесть.
— Три.
— Очко!
— Мне ходить.
— Четыре очка.
— Неважно.
— Тебе ходить.
— Я здорово промазал.
— Ты пошел правильно.
— Пятнадцать.
— И еще семь.
— Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!
— Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.
— Та же двойка.
— Очко!
— Очко? Так вот тебе пятерка.
— У меня нет.
— Но ведь ты ее как будто выставил?
— Да.
— Пустышка.
— Ну и везет тебе! Да… Тебе повезло! (Длительное раздумье.) Два.
— Очко!
— Ни пятерки, ни очка. Не очень-то приятная штука для тебя.
— Домино!
— Черт тебя побери!
Книга II Эпонина
Глава 1
Жаворонково поле
Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, на след которой он навел Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус в свою очередь ускользнул из дома. Было только девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим» он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно находило себе прибежище восстание. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».
На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в лачугу Горбо, заплатил за квартиру и все, что причиталось тетушке Бурчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Бурчунью, ответившую ему: «Съехал!»
Тетушка Бурчунья была убеждена, что Мариус в какой-то мере был сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы подумал! — восклицала она, болтая с соседними привратницами. — Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девушка!»
У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое — испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличье, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе — его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.
Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.
Прошел месяц, затем другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.
Мариус, у которого денег больше не было, брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» — раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» — вопрошал себя Тенардье.
Однако Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, — неведомые ему существа, составлявшие единственный смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: Урсулой она не звалась. А «Жаворонок» — только прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый были одним и тем же лицом. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был ли он или не был отцом молодой девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования молодой девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно то пламя, которое сжигает нас, вместе с тем и несколько просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Никогда он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не испробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь изложена в нескольких словах: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.
В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыханье. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил свою работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.
Некоторая мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем мягкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет там и здесь пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но слишком большая мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, так или иначе, это одно и то же. Заблуждение!
Мышление — работа ума, мечтательность — его сладострастие. Заменить мысль мечтой — значит принять яд за пищу.
Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. В таких случаях выходят из дому только для того, чтобы мечтать. Ленивые попытки жить! Пучина и бурная, и стоячая! Но по мере того как работа уменьшалась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабоволен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость гибельна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и неработающий — погиб. Средства иссякают, потребности возрастают.
Это роковой склон, на который ступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям — самоубийству или преступлению.
Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.
Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.
Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, которую он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте — то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он смутно чувствовал, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»
Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом он прибавлял: «И мои думы, быть может, также находят ее».
Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он сам покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».
Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он потерял способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более, чем когда бы то ни было, отличался проницательностью и прямотой. Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он судил обо всем правильно, но с какой-то нескрываемой подавленностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недосягаемой высоте.
При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало, и в каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, не видел ничего истинного и ничего не знает.
Душа любящая и страдающая — возвышенна.
Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу лишь казалось, что мрачное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край этого бесконечного откоса.
— Как? — повторял он. — И я ее перед этим не увижу!
Если подняться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и идти некоторое время вдоль прежнего внутреннего бульвара, с левой его стороны, то добираешься до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя немного до речки Гобеленов, встречаешь нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров является единственным местом, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.
Все там исполнено прелести, источник которой неведом; зеленый лужок, пересеченный протянутыми веревками, где сушится на ветру разное тряпье, старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами, полуразрушенные изгороди, вода, поблескивающая между тополями, женщины, смех, голоса; на горизонте — Пантеон, дерево, что возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине — строгие четырехугольные башни собора Богоматери.
Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще, чем раз за четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.
Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость — прохожий. Мариус, глубоко пораженный почти диким очарованием местности, спросил его: «Как называется это место?»
Прохожий ответил: «Жаворонково поле».
И прибавил: «Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври».
Но после слова «Жаворонково» Мариус больше ничего не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение, для этого довольно какого-либо слова. Мысль сразу сосредоточивается вокруг одного образа и не способна более ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» — было название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах, — сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном этим таинственным беседам с самим собой, — так это ее поле. Здесь я узнаю, где она живет». Это было бессмысленно, но непреодолимо. И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.
Глава 2
Зародыши преступления в тюремном гнездилище
Успех Жавера в лачуге Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.
Прежде всего, — и это являлось главной заботой Жавера, — ему не удалось сделать пленника бандитов собственным пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая столь драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.
Кроме того, ускользнул от Жавера и Монпарнас. Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, караулившую под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. Что до Эпонины, то Жавер снова «сцапал» ее. Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.
Наконец, во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось, агенты и сержанты «ничего здесь не понимали», он словно превратился в пар, он выскользнул из ручных кандалов, он просочился сквозь щели кареты — а щели в ней были — и убежал; прибыв к тюрьме, только и могли сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не связан ли был этот человек с двойной загадкой — беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как проступка, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на преступление, а задними на власть? Жавер никак не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о такой сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться очень хорошим агентом. Иметь столь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, выгодно для бандитов и удобно для полиции. Подобные мошенники о двух личинах существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был этим скорее раздражен, чем удивлен.
Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное струсившего», то Жавер, забывший его имя, не придавал ему большого значения. Кроме того, он — адвокат, значит, всегда разыщется. Но был ли он только адвокатом?
Следствие началось.
Судебный следователь нашел полезным одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.
Имя Брюжона — одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именовала Сен-Бернарским двором, а воры — Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и подымающаяся в уровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых заржавленных железных ворот, ведущих в прежнюю часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, и под ним надпись:
БРЮЖОН, 1811
Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года.
Последний, которого мы видели лишь мельком в засаде Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.
Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление — отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.
Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. То он целыми часами простаивал на дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, как идиот, созерцая гнусный прейскурант этой тюремной лавчонки, начинавшийся: «чеснок — 62 сантима» и кончавшийся: «сигара — 5 сантимов», то весь трясся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.
Вдруг во второй половине февраля 1832 года узнали, что Брюжон, этот рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, — непомерная сумма, обратившая внимание начальника тюремной стражи.
Разузнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон — десять су, другое в Валь-де-Грас — пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу — двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А вблизи Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бизарро, Бахвала — каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение относительно какого-то злодейского умысла. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона предупреждены.
Приблизительно через неделю после того, как приняли эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, — таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается по жетону, — через глазок в дверях спальни увидел Брюжона, который, сидя на своей койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.
Достоверно только, что на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлемань в Львиный ров был переброшен «почтальон».
Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.
На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.
«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержавшую всего две строки:
«Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».
Это и писал Брюжон ночью.
Несмотря на надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.
Как раз в это самое время, ввиду недостатка улик против дочерей Тенардье при расследовании его дела, Эпонина и Азельма были освобождены.
Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей осветить дельце.
Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, который Маньон передала любовнице Бабета в Сальпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: нечего делать.
Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке дозорных тюрьмы Форс — один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» — спросил Брюжон. «Сухарь», — ответил Бабет.
Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.
Однако это привело к некоторым последствиям, правда, совершенно чуждым планам Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.
Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.
Глава 3
Видение дедушки Мабефа
Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить дедушку Мабефа.
В то самое время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливцев, спускался туда и г-н Мабеф.
«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Г-ну Мабефу удалось вырастить там лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак двумя яйцами, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. И часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно поступал, не посещая его больше. Но иногда, в часы, когда г-н Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в беседу и только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет! Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.
Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежда. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений ловко создам новый успех моей «Флоре» и куплю, уж я-то знаю где, «Искусство навигации» Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, издания 1559 года». Пока же он целые дни работал над своей грядкой с индиго, а вечером возвращался к себе, поливал свой садик и читал книги. В это время ему было без малого восемьдесят лет.
Однажды вечером ему представилось странное видение.
Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.
Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в плодовых садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса весьма ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее — кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.
Господин Мабеф, надев очки, принялся перелистывать и просматривать две книги, весьма его волновавшие и даже, что еще примечательнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Природная робость способствовала некоторой его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра «О личинах демонов», вторая, in quarto, Мютор де ла Рюбодьера «О воверских дьяволах и бьеврских кобольдах». Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его являлся местом, которое встарь посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные цвета небо и в темные — землю. Читая, дедушка Мабеф поглядывал поверх книги, которую держал в руке, на свои растения и среди них на великолепный рододендрон, бывший его утешением. Вот уже четыре дня, как стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли растений согнулись, бутоны поникли, листья повисли — все это нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Дедушка Мабеф принадлежал к числу тех людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над своей грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и отправился неверными шагами, совсем сгорбившись, к колодцу; но, ухватившись за цепь, не мог даже дернуть ее настолько, чтобы снять с крюка. Тогда он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.
В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль человеческой души какой-то скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.
«Все небо в звездах! — думал старик. — Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!»
И снова опустил поднятую было голову. Затем, опять взглянув на небо, прошептал:
— Хоть бы одна росинка! Хоть капля жалости!
Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не смог.
Туг он услышал голос, произнесший:
— Дедушка Мабеф, хотите, я полью ваш сад?
В то же время в изгороди послышался треск, словно через нее пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка, которая остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.
Прежде чем дедушка Мабеф, который, как мы отмечали, легко приходил в смущение и легко пугался, мог произнести хотя бы один звук, девушка, чьи движения в темноте приобрели какую-то странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец и, вытащив наверх ведро, наполнила лейку, а затем добрый старик увидел, как это босоногое, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу дедушки Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.
Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.
Когда она бегала по аллеям в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.
Лишь только она окончила свое дело, дедушка Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.
— Да благословит вас господь, — сказал он, — вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.
— Ну нет, — ответила она, — я дьявол, а впрочем, мне это все равно.
Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:
— Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!
— Кое-что вы можете сделать, — ответила она.
— Что же?
— Сказать мне, где живет господин Мариус.
Старик сначала не понял.
— Какой господин Мариус?
Он поднял свой тусклый взгляд, казалось, всматриваясь во что-то исчезнувшее.
— Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.
Тем временем г-н Мабеф усиленно рылся в памяти.
— А, да… — вскричал он, — понимаю, что вы хотите сказать. Стойте! Господин Мариус… барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет… или, вернее, он там больше не живет… Ах, нет, я не знаю.
Разговаривая с нею, он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.
— Подождите, — продолжал он, — теперь я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его легко встретить.
Когда г-н Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.
Само собою разумеется, что он немного испугался.
«Право, — подумал он, — если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».
Часом позже, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он невнятно пробормотал:
— В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?
Глава 4
Видение Мариуса
Спустя несколько дней после того, как «дух» посетил дедушку Мабефа, однажды утром, в понедельник, — день, когда Мариус обычно брал взаймы у Курфейрака сто су для Тенардье, — Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «немного прогуляться», в надежде, что, возвратившись, будет лучше работать. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол с книгой и листом бумаги, думая состряпать какой-нибудь перевод, — как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор — контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался написать хотя бы одну и не мог, он видел какую-то звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал со словами: «Надо пройтись. Это меня оживит».
И шел на Жаворонково поле.
А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклей становились Савиньи и Ганс.
Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.
Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.
В это утро он покинул свое седьмое дерево и уселся на парапете набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распустившуюся и блестевшую листву.
Он думал о «ней». И его думы, переходя в упрек, обращались к нему самому; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.
У него даже не было сил отчаиваться. Однако сквозь эту грустную сосредоточенность, сквозь этот поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, Мариус все же воспринимал впечатления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны — шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой — шум работы. Эти-то веселые звуки и навеяли на него глубокую задумчивость, почти переходившую в размышления.
Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос:
— А вот и он!
Он поднял голову и узнал ту несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, — старшую дочь Тенардъе, Эпонину: теперь ему было известно ее имя. Странно, на вид она еще больше обнищала, но похорошела — перемена, на которую она отнюдь не казалась прежде способной. Она осуществила двойной прогресс: на пути к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старее: дыры стали шире, рубище еще омерзительнее. У нее был тот же хриплый голос, тот же поблекший и сморщенный от загара лоб, тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее физиономии еще сильней, чем прежде, проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.
В волосах у нее запутались стебельки соломы и сена, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.
И несмотря на все это, она была хороша. О юность, какая звезда сияет в тебе!
Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился слабый проблеск радости и что-то напоминавшее улыбку.
Некоторое время она молчала, словно не в силах была говорить.
— Все-таки я вас нашла! — сказала она наконец. — Дедушка Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не отвечаю. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых шесть недель. Значит, теперь вы там не живете?
— Нет, — ответил Мариус.
— А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты. Вы, значит, переехали? Послушайте, почему вы носите такую старую шляпу? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, дедушка Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше — не упомню как. Но ведь вы не барон? Бароны — они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают «Ежедневник», по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы живете теперь?
Мариус не отвечал.
— Ах, — продолжала она, — у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.
Она прибавила с печальным выражением:
— Вы как будто не рады меня видеть?
Мариус молчал; она тоже помолчала минутку, потом вскричала:
— А все-таки если я захочу, то вы будете очень рады!
— Как? — спросил Мариус. — Что вы этим хотите сказать?
— Ах, вы прежде говорили мне «ты»! — заметила она.
— Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?
Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.
— Тем хуже, но все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу…
— Да, да! Говори же!
Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:
— Я знаю адрес.
Мариус побледнел. Вся кровь хлынула ему к сердцу.
— Какой адрес?
— Адрес, который вы у меня просили!
И прибавила как бы с усилием:
— Адрес… Ну, вы ведь сами знаете…
— Да, — пролепетал Мариус.
— Той барышни!
Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.
Мариус вскочил с парапета, на котором он сидел, и вне себя схватил ее за руку.
— О! Так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?
— Пойдемте со мной, — ответила она. — Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.
Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не опьяненного, охваченного восторгом Мариуса:
— О, как вы рады!
Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонину за руку.
— Поклянись мне в одном!
— Поклясться? Что это значит? Ах! Вы хотите, чтобы я поклялась вам?
И она засмеялась.
— Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!
Она обернулась к нему, ошеломленная.
— Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?
— Обещай мне сделать то, о чем я тебя прошу!
Но она, казалось, не слышала.
— Как это мило! Вы назвали меня Эпониной!
Мариус взял ее за обе руки.
— Но ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись мне, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!
— Моему отцу? — переспросила она. — Ах, да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!
— Да, но ты мне не обещаешь! — вскричал Мариус.
— Ну, пустите же меня! — рассмеявшись, сказала она. — Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?
— И никому?
— Никому.
— А теперь, — сказал Мариус, — проводи меня.
— Сейчас?
— Сейчас.
— Идем. О, как он рад! — вздохнула она.
Сделав несколько шагов, она остановилась.
— Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите позади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.
Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.
Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему и как бы в сторону, она проговорила:
— Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?
Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.
Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:
— Не нужны мне ваши деньги.
Книга III Дом на улице Плюме
Глава 1
Таинственный дом
В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, — в ту эпоху знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, — построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».
Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходящей на улицу. Сад занимал почти арпан, — только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине — низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля, через потайную калитку позади него, можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, и извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством и как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.
Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу — значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря ловко прикупленным земельным участкам изобретательный судья смог проложить потайной ход у себя, на своей собственной земле, и, стало быть, не опасаясь никакого надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и собственники участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, не подозревая даже о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только одни птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия немало посплетничали насчет господина председателя.
Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто — рокайль внутри, рококо снаружи, — окруженный тройной цветущей изгородью, производил впечатление какой-то скрытности, кокетливости и важности, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.
Этот дом и проход, исчезнувшие теперь, еще были на месте пятнадцать лет тому назад. В 93-м году некий медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает больше жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее и малоразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом тех десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.
К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками — признак того, что там жила женщина.
В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель, и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил там и сям то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал туда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.
Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка — Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика — три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще быстрее признал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье.
Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?
Ничего не случилось.
Как читатель помнит, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он нежно лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверно, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что — о восхитительная надежда! — они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на все это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что это дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы помимо его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем жизненное призвание, — значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и сожалея о своем монашестве? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь.
Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Что касается препятствий, то их не было. Пять лет жизни, проведенных между этими четырьмя стенами со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его узнает теперь? И кроме того, если предположить самое худшее, угроза опасности существовала только для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности.
К этому времени воспитание Козетты было почти полностью закончено.
Остановившись на определенном решении, он стал ожидать случая, который не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.
Жан Вальжан испросил приема у достопочтенной настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он смиренно просит достопочтенную настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает иноческому общежитию за пять лет, проведенных Козеттой под его кровом.
Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.
Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого всегда имел при себе. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.
Заметим тут же, что отныне он не расставался с этим чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан неразлучным, добавляя: «Я ревную к нему».
Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю не без глубокой тревоги.
Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультама Фошлевана.
В это же время он снял две другие квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей тревоге, — словом, не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он таким чудесным образом спасся от Жавера. Эти два помещения были убогими и бедными с виду квартирками в двух кварталах, весьма отдаленных друг от друга, — одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.
Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, чтобы провести там месяц, полтора. Он пользовался там услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого было пристанище и в городе. Столь высокая добродетель имела три жилища в Париже, чтобы ускользнуть от полиции.
Глава 2
Жан Вальжан — национальный гвардеец
Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свое существование следующим образом.
Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с ковровыми обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к этим древностям легкую и изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжный шкаф и книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминающем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу — его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка — барышня». — «А вы, су-сударь?» — спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше, чем хозяин: я — отец!»
В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье — к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал там подаяние, и в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для запасов дров и вина воспользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов страсти нежной» не было любви без грота.
К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет; но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в эту эпоху, распространились и на монастырь Малый Пикпюс — на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.
Три или четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и нес свою караульную службу, впрочем, весьма охотно; то было законное переодевание, которое связывало его со всеми другими людьми, оставляя в то же время обособленным. Жану Вальжану уже минуло шестьдесят лет — возраст законного освобождения от воинской службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал вес и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, — в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешностью он стремился уподобиться буржуа.
Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дома вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, а это бывало обычно вечером, то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было — предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и едва замечала странности отца. Что касается Тусен, то она почитала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Это какой-то чудак». Она ответила: «Это святой».
Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, — разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.
Но в этом он, быть может, заблуждался.
Глава 3
Foliis ac frondibus[595]
Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок тому назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.
Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько шпалер, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего к жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки — все это смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность в проникновенном и тесном объятии славила и свершала там, под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, свое святое таинство братства — символ братства человеческого. Этот сад уже не был садом — он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.
В флореале эта огромная заросль, вольная за своей решеткой и в своих четырех стенах, страстно вступала в глухую работу вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти так же, как животное, которое вдыхает веяния космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; потрясая по ветру своей чудесной зеленой гривой, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было упоительно смотреть, как хлопьями вихрился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов нежно сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный и тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; там чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.
Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода; сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному и толстому ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался в любое время года — весной, зимой, летом, осенью, — от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога; и старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад — мой».
Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах — великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом — купол Дома инвалидов, недалеко — палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, — улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось среди этих четырех стен неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь это муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.
На самом деле в природе нет ничего незначительного; тот, кто наделен даром глубокого проникновения в нее, знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.
Алгебра приложима к облакам; излучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ — явление значительное; малое велико, великое мало; все уравновешивается необходимостью; видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворящее начало усложняется — от образования метеора и до удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит равно к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Там, где кончается телескоп, начинается микроскоп. У кого из них поле зрения более велико? Выбирайте. Плесень — это плеяда цветов; туманность — муравейник звезд. Та же тесная близость, и еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других — и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновения, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, — здесь зарождая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная повсюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, называемой «я»; сводя все к душе — атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя — кто знает? быть может, лишь по тождеству закона — передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой — мошка, а последнее колесо — зодиак.
Глава 4
После одной решетки другая
Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак, который, сгущаясь то здесь, то там, ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью некоего садовника, — один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой — продолжателем искусства Ленотра, — исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных похождений; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуготовила для любви.
Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.
Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей едва исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она выглядела скорее дурнушкой, чем красивой; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой одновременно, — словом, это был подросток.
Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и в особенности благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но, в общем, она не знала ничего, а в этом таится и очарование, и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, — впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие, слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму должно мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт — это изумительное прирожденное чувство, с которым слиты девические воспоминания и женская опытность, — знает, как, каким образом должно создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят одной матери.
У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».
Что же касается Жана Вальжана, то, хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, он был не более как старик, ничего в этом не понимавший.
Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!
Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, потеряв возможность излиться, и замыкается, потеряв возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, — сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.
Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но на улицу.
Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще только ребенком. Жан Вальжан предоставил ей этот запущенный сад. «Делай здесь все, что хочешь», — сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, переворошила камни, она искала там «зверушек»; она там играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради тех насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради тех звезд, которые она увидит сквозь ветви над своей головой.
И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всею своей душой, с наивной дочерней страстью и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал чтение и стал хорошим рассказчиком; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; то был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала с мечтательным блуждающим взором.
Этот простой человек удовлетворял мысль Козетты так же, как этот дикий сад — ее глаза. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к нему и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.
Козетта обожала доброго старика. Она всегда ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, и маленькую каморку с соломенными стульями — большой гостиной, обтянутой ковровыми обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что ему докучают, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».
Козетта ему отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу:
— Отец, мне очень холодно у вас, почему вы не положите здесь ковер и не поставите печку?
— Дорогое дитя, на свете столько людей, лучших, чем я, а у них нет даже крыши над головой.
— Почему же в таком случае у меня тепло и есть все, что нужно?
— Потому что ты женщина и ребенок.
— Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?
— Некоторые мужчины.
— Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить.
Потом она ему говорила:
— Отец, почему вы едите такой гадкий хлеб?
— Потому… дочь моя.
— Ах так? Ну и я буду есть такой же.
Тогда, чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жан Вальжан принимался есть белый.
Козетта очень смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардье остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Собственное детство представлялось ей временем, когда вокруг себя она видела лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.
Когда он сидел возле нее, она прижималась щечкой к его седым волосам и молчаливо роняла слезу, думая: «Быть может, это моя мать!»
Материнство — понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда ей случалось спросить об этом Жана Вальжана, тот молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчивой, тогда его улыбка сменилась слезой.
Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.
Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь предать ее имя на волю случая, доверив его чужой памяти?
Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но, когда она превратилась в молодую девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на то права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине и чувствовал всю тяжесть молчания. Неясно различал он во мраке что-то, походившее на приложенный к устам палец. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы, веруя в смерть, не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.
Как-то Козетта сказала ему:
— Отец, сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.
— Да, мученичеством, — ответил Жан Вальжан.
Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.
Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной лишь на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его тонет в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый небесной радостью; он восторженно твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он говорил в душе, что, право, недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил господа, позволившего, чтобы он, отверженный, был столь любим этим невинным существом.
Глава 5
Роза замечает, что она стала орудием войны
Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала какое-то странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. И кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только один Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? — думала она. — Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» И она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду как мадемуазель такая-то!»
На следующий день она уже нарочно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? — подумала она. — Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиною.
Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или какой-нибудь другой работой, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.
В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то позади сказал: «Красивая женщина! Но плохо одета». «Ну, — подумала она, — это не про меня. Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериносовом платье.
Наконец, однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слышала, что ответил ее отец, слова Тусен были для нее каким-то откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу — уже три месяца, как она не смотрелась в него, — и вскрикнула. Она была ослеплена собой.
Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то неведомое сияние зажглось в голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, — сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.
А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.
Действительно, с некоторых пор он с ужасом глядел на эту красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.
Козетта была хороша задолго до того, как заметила это. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим молодую девушку неожиданным светом. Он почувствовал это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, — этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и молил у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного: любви Козетты!
Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» — он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил: «Хочешь райского блаженства?» — он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом».
Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не слишком понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.
Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.
Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станется со мной?»
В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.
Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.
На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» — она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красива, но плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые позже, развившись, заполняют всю жизнь женщины, — зерно кокетства. Второе зерно — любовь.
Как только она поверила в свою красоту, в ней раскрылась вся ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериносовому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу — тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.
Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, — а это немало, но и одной из самых «хорошо одетых», — что гораздо больше. Ей хотелось бы встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение теперь и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.
Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее — ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.
Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.
Выйдя из дому в первый раз в своем черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила: «Ну, как вы меня находите, отец?» Жан Вальжан ответил тоном, в котором словно сквозила горькая нотка зависти: «Восхитительной!» На прогулке он держался как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:
— Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?
Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.
— Этот костюм для ряженого! — воскликнула она. — На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!
Жан Вальжан глубоко вздохнул.
С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец, мне приятнее побыть здесь с вами», — теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?
Он заметил также, что Козетта уже не так любила задний дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой.
Жан Вальжан, замкнувшись в себе, туда не показывался. Он не покидал своего заднего дворика, словно сторожевой пес.
Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, — невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке, не зная того сама, ключи от рая. Но, потеряв прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.
Именно в это время Мариус, после шести месяцев перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.
Глава 6
Битва начинается
Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым и таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака — грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.
В любовных романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов вовсе перестали ей верить. Теперь едва осмеливаешься говорить, что двое полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И однако именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.
В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.
Он причинил ей то же зло и то же благо.
Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядят в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.
Все же она не могла не признаться, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он вовсе не кажется глупым, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.
В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и, наконец, сказали друг другу те темные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. Задумчиво она вернулась в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала об этом молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание нисколько не льстит ей. Скорее она немного сердилась на красивого гордеца. Что-то воинственное шевельнулось в ней. Ей казалось, что она, наконец, отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.
Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.
Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на своей скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека — робость, у молодой девушки — смелость. Это удивительно, и, однако, нет ничего проще. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.
В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.
Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она больше не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.
Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова, произнесенного в земном его значении. В тетрадях светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображение старших пансионерок, например: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость — не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?
Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»
Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности — другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, — словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перепутывались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный — ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недосягаемое.
Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.
Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»
Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.
Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и не ведающей о своей любви. Сверх всего — кокетливой по своей невинности.
Глава 7
За одной печалью печаль еще бо'льшая
При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, как будто чувствуя, что где-то рядом нечто созидается, нечто разрушается. Мариус, так же предупрежденный той же матерью-природой, — и в этом мудрость божественного закона, — делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Случалось, однако, что Жан Вальжан его иногда замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж больше не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в своем старом фраке, теперь же всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.
Козетта не давала никаких поводов для догадок. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.
Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у этого незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.
Он никогда не говорил ни слова Козетте об этом незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека неожиданно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей: «Как важничает этот молодой человек!»
Годом раньше Козетта с безразличием девочки ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:
— Кто? Ах, этот молодой человек! — словно она его увидела в первый раз в жизни.
«Как я глуп! — подумал Жан Вальжан. — Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».
О, простота старцев! О, мудрость детей!
Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадается ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святом неразумии, свойственном его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все эти тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнутой в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к следующему выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».
И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло наступить с минуты на минуту. Не начинается ли все с равнодушия?
Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула: «Уже?»
Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и особенно опасаясь возбудить подозрение Козетты; но во время этих, столь сладких для влюбленных часов, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он более не считал себя способным к какому-либо недоброму чувству, однако порой, при виде Мариуса, ему казалось, что он снова становится диким и свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему почти казалось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.
«Как! Он здесь, этот малый! Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!»
«Да, — продолжал думать Жан Вальжан, — это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет своей жизни стоять на коленях, выстрадать все, что можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, — а это справедливо, это хорошо, я заплатил за это, я заслужил это, — чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души лишь только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»
И тогда его глаза загорались зловещим и необычным светом. Это уж не был человек, взирающий на другого человека; это не был враг, взирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.
Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он вступил в разговор с привратником. Тот в свою очередь заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» — осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.
Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась никаких ответов; она уже достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жан Вальжан был совершенно не искушен в несчастьях подобного рода, ибо из всех несчастий только эти одни таят в себе очарование, и только этих ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. С обеих сторон это свидетельствовало о неопытности в борьбе.
Однажды, желая испытать ее, он спросил:
— Хочешь пойти в Люксембургский сад?
Луч света озарил бледное личико Козетты.
— Да, — ответила она.
Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.
На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:
— Хочешь пойти в Люксембургский сад?
— Нет, — печально и кротко ответила она.
Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда вместо того, чтобы лечь спать, Жан Вальжан целые ночи просиживал около своего жалкого ложа, охватив руками голову. Спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?» — он старался представить себе, о чем она могла думать.
О, какие скорбные взоры он обращал в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся прямо к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир, — этот бедный герой, принесенный в жертву и повергнутый в прах собственной преданностью долгу! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»
Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней всегда у него было то же ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.
Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно и не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на обычные прогулки, женское чутье невнятно прошептало ей в глубине души, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что, если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молчаливо принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала какое-то стеснение в груди, оно не проходило, а увеличивалось с каждым днем. Она больше не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она оставалась угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной только мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.
Впрочем, она также ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.
Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он ее спрашивал:
— Что с тобой?
Она отвечала:
— Ничего.
И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:
— А вы, отец, что с вами такое?
— Со мною? Ничего, — говорил он.
Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь.
Глава 8
Кандальники
Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе какой-то свет.
В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке дитя. Им владело какое-то непреодолимое чувство, ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время стариковские, внушали ему, в силу самой их наивности, довольно справедливое мнение о влиянии мишуры на воображение молодых девушек. Как-то ему пришлось увидеть на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, — то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.
К этим печальным мыслям добавилось неожиданное потрясение.
В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца — тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее.
Утренняя прогулка для любящего одиночество равноценна ночной прогулке, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынны, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала в ранние часы. Эти утренние путешествия подготовлялись накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета — то были ее скромные утехи. Такие невинные чудачества нравятся юности.
Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности малопосещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись скудные, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им особенное предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее — свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, она снимала свою шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость, и молодая девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.
Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.
Однажды в октябрьское утро, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет — восхитительный и суровый час. Мерцавшие там и сям в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, совсем побелевшее небо, вздрагивающие стебельки травы, всюду таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на неслыханной высоте, и, казалось, этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворял беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила позади ее купола, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.
Всюду были мир и тишина; никого на дороге; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, отправлявшихся на свою работу.
Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот лесного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть размышления, которые можно было бы назвать вертикальными, — они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.
Вдруг она вскричала: «Отец, вон оттуда как будто едут». Жан Вальжан поднял голову.
Она была права.
Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы и перерезана под прямым углом бульваром. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался труднообъяснимый в такое время шум и виднелась какая-то неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.
Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, но казалось в то же время каким-то взъерошенным и колыхающимся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно виднелись лошади, колеса, слышались крики, раздавалось хлопанье бичей. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще и тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали все громче, это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.
Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.
По дороге цепочкой тянулось семь повозок. Из них первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги, скажем лучше, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные гуськом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей еще нельзя было, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, — так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало, то была цепь; на шеях что-то поблескивало, то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом, эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы какое-то единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояли два человека с ружьями, каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунных горшков, жаровен и цепей и лежали, вытянувшись во весь рост, несколько связанных человек, с виду больных. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.
Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шествовали двумя рядами гнусного вида конвойные, в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и почти изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, — настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властностью палачей. Тот, кто казался их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стушеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы с саблями наголо.
Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только съезжала с бульвара.
По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В соседних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на это зрелище.
Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. Остальная одежда свидетельствовала о причудах нищеты. Она была отвратительно пестра; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и рядом с блузой черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, у других на головах — плетушки; виднелись волосатые груди, сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него; то был хлеб, который он ел. Глаза у всех были сухие, потухшие или светящиеся каким-то недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые из этих людей зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза толпа ребятишек заливалась смехом.
Эта вереница повозок, какова она ни была, вызывала мрачные мысли. Можно было ожидать, что если не сегодня, так завтра разразится ливень, за ним еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.
Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно сваленные туда мешки с мусором.
Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно: то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рог трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря резко подчеркивала черными тенями жалкие профили; каждый был изуродован нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попурри из прославленной в то время «Весталки» Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.
В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных, там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и поэтому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, быть может, когда-то невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, сравнялось с разумом, перешедшим в отчаяние. Никакой выбор не был возможен среди этих людей, являвших взору как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега — свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; можно было заметить такую, на которой скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была молчалива, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.
Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице апокалипсиса, а, что еще более мрачно, на позорных тюремных повозках.
Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти, говоря при этом: «Это тебе урок, негодник!»
Так как пение и брань все усиливались, тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому сигналу ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, что удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.
Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть — и не мог двинуть пальцем. Иногда то, что видишь, как бы хватает и удерживает нас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это преследование из-за гроба, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу — обычное движение у тех, к кому внезапно возвращается память, — он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.
Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:
— Отец, что же там такое в этих повозках?
Жан Вальжан ответил:
— Каторжники.
— Куда же они едут?
— На каторгу.
В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, — то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их к отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.
Козетта дрожала с головы до ног; она снова спросила:
— Отец, и все это — люди?
— Некоторые из них, — ответил несчастный.
Действительно, то был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Ман, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.
Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленным. Такая встреча равносильна удару, и память, которую она по себе оставляет, похожа на потрясение.
Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она еще задавала вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала: «О господи, мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!»
К счастью, на следующий день после этой трагической встречи в Париже по случаю какого-то официального торжества состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация повсюду. Жан Вальжан, вопреки своим привычкам, повел Козетту на этот праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся во всем Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.
Парад, бывший приправой к празднеству, естественно, вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, смутно испытывая чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе, цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народное гулянье»; таким образом, Жан Вальжан мог полагать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.
Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли на крыльцо в сад — это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит — не любит» и т. д., да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку — значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заворожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем эту девушку. Рядом, в кустарнике, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила: «Отец, а что это такое — каторга?»
Книга IV Помощь снизу может быть помощью свыше
Глава 1
Рана снаружи, исцеление внутри
Так, день за днем, омрачалась их жизнь.
У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, — оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось облегчить нужду многих страдальцев, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.
На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, сильно воспаленной, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал весьма уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара».
Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. И, глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»
Пока отец был болен, Козетта покинула особняк, она снова полюбила маленький флигель и задний дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты — все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я выдумал все это. Я старый сумасброд».
Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардье в конуре Жондрета, можно сказать, почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, — думал он, — и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»
Что до отвратительного видения на Менской заставе, то Козетта больше не заговаривала об этом.
В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.
Наступила весна, сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». — «Хорошо, отец», — сказала Козетта.
И, повинуясь его желанию, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.
Его рана дала другое направление мыслям обоих.
Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не приметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель — этот рассвет лета, свежий, как всякая заря, веселый, как всякое детство, иногда немного плаксивый, как всякий новорожденный. Природа в этом месяце исполнена пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов прямо в человеческое сердце.
Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как ярким полднем в подвале. Козетта даже и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.
Жан Вальжан в упоении убеждался, что она снова становилась свежей и румяной.
— О целебная рана! — тихонько повторял он.
И он был благодарен Тенардье.
Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.
Но было бы заблуждением думать, что можно по вечерам гулять одному по малонаселенным окраинам Парижа, не натолкнувшись на какое-нибудь приключение.
Глава 2
Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление
Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка, ему показалось, что это деревня Аустерлиц.
Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, и в этом саду — довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко — это ужин; яблоко — это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. К саду примыкала пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.
Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? — раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.
В двух шагах от него, по другую сторону изгороди, как раз против того места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.
— Господин Мабеф! — сказала старуха.
«Мабеф! — подумал Гаврош. — Да это прямо смех».
Старик не шевельнулся. Старуха повторила:
— Господин Мабеф!
Старик, не поднимая глаз, наконец ответил:
— Что скажете, тетушка Плутарх?
«Тетушка Плутарх! — подумал Гаврош. — Да это прямо умора».
Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.
— Хозяин недоволен.
— Почему?
— Мы ему должны за девять месяцев.
— Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.
— Он говорит, что выставит нас на улицу.
— Что ж, я пойду.
— Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас совершенно нет дров.
— Зато есть солнце.
— Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.
— Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Оно для меня слишком тяжело.
— Что же подавать на обед?
— Хлеб.
— Булочник требует по счету и говорит, что, раз нет денег, не будет и хлеба.
— Хорошо.
— Что же вы будете есть?
— У нас есть яблоки.
— Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.
— У меня их нет.
Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Уже почти совсем стемнело.
Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней — таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.
«Смотри-ка, — воскликнул про себя Гаврош, — да тут настоящая спальня!» И, забравшись поглубже, свернулся в комочек. Спиной он почти прислонился к скамье дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.
Затем, вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.
Сон кошки — сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.
Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.
Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой — на некотором расстоянии сзади.
— А вон и еще двое, — пробормотал Гаврош.
Первый силуэт напоминал старого, согбенного и задумчивого буржуа, одетого более чем просто, ступавшего медленно, по-стариковски и вышедшего побродить вечерком под звездным небом.
Другой был тонкий, стройный, подобранный. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство, вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозили сила и изящество, а под шляпой в сумерках можно было различить бледный юношеский профиль с розой во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.
Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.
Гаврош тотчас уставился на них.
Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то намерения относительно другого. Гаврош мог отлично видеть, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.
Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте — это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.
Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.
Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, сжал руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из этих людей лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.
Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом с такой страшной силой, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.
«Ай да старик!» — подумал Гаврош.
И, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.
Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»
Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:
— Вставай.
Монпарнас поднялся, но старик продолжал его держать. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.
Гаврош смотрел и слушал во все глаза и во все уши. Он забавлялся от души.
Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел следующий разговор, приобретавший в ночной тьме какой-то трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал.
— Сколько тебе лет?
— Девятнадцать.
— Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?
— Ну, это скучно.
— Чем же ты занимаешься?
— Бездельничаю.
— Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?
— Вором.
Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.
Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.
Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука:
— Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Видел ли ты одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться — она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу платья, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; ты не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг — ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа — закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Ты не хочешь быть тружеником, так станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; ты не хочешь быть его другом, так будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости, так будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы — какое наслаждение! Барка на свободе под ветром — ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать — это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без чувства изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. То, что для других будет легким, как перышко, для тебя будет каменной глыбой. Вещи самые простые обернутся крутым откосом. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать — какая ужасная работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь ли пройти или там — станет для тебя трудноразрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово — он на улице. Для тебя же выйти из дому — значит пробуравить стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь полоска за полоской веревку, потом ты вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, — и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься — упасть. Упасть как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымовой трубе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя там утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые нужно маскировать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять по двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в своем тюфяке. Допустим, перед тобой замок, у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной и диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить наружной их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, — ведь за тобой будут следить, — это просто монета в два су, для тебя — ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку и спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоем окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпения, что ты получишь в награду, если обнаружат твое изобретение? Карцер. Вот твое будущее. Лень, удовольствие — да ведь это бездонный омут! Ничего не делать — печальное решение, знаешь ли ты об этом? Жить праздно за счет общества! Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведет прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль — хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть черный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твое тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьешь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползешь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как звери лесные. И ты будешь пойман. И тогда ты проведешь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы даже собаки, и будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты еще совсем молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Так ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни — на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину — получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной совет! Воровство — самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд — лень. Быть мошенником нелегко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.
И старик, выпустив Монпарнаса, положил ему в руку кошелек. Монпарнас сразу взвесил его на руке и с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман своего сюртука.
Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.
— Дуралей! — пробормотал Монпарнас.
Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.
Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезал в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.
В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.
Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что дедушка Мабеф, по-видимому задремавший, все еще сидит на скамье. Тогда мальчишка вылез из кустов и потихоньку пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и снова пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся в первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел дедушка Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.
Кошелек упал на ногу дедушки Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом — шесть золотых монет.
Господин Мабеф, совсем растерявшись, отнес находку своей домоправительнице.
— Это упало с неба, — сказала тетушка Плутарх.
Книга V, конец которой не сходен с началом
Глава 1
Уединенность в сочетании с казармой
Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, неведомо для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную и девственную душу нечто, походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.
Однажды она вдруг вспомнила Мариуса. «Как странно, — сказала она, — я больше о нем не думаю».
На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девическими щечками, с саблей на боку, нафабренными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. Вдобавок у него были белокурые волосы, голубые глаза навыкате, круглое, пустое, красивое и наглое лицо — полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.
На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.
Начиная с этого момента, — была ли это только случайность? — она видела, как он проходил мимо почти каждый день.
Приятели офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается некое довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.
— Послушай-ка, — говорили они ему, — тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!
— Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! — отвечал улан.
Это было как раз в то время, когда Мариус был уже по-настоящему близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя. Кто был бы в этом виноват? Никто. Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта — к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают наверх.
Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке — это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что выпадает на долю только его жены, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, — настоящей кабацкой стойкой.
Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь; нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глуби ее, какое-то воспоминание? В самой глуби? Быть может. Козетта не знала.
Вдруг произошел странный случай.
Глава 2
Страхи Козетты
В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хоть и через значительные промежутки времени. Он отсутствовал день или два, самое большее. Куда он отправлялся? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз, в один из этих отъездов, она провожала его в фиакре до маленького глухого переулка, на углу которого можно было прочитать: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не оставалось денег.
Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».
Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе, «В лесу заблудились охотники…» — хор из «Эврианты», быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.
Внезапно послышались чьи-то шаги в саду.
Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.
Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и приникла к ней ухом.
Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.
Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. Стояло полнолуние. Было светло, как днем.
В саду никого не оказалось.
Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, — пустынно, как всегда.
Козетта подумала, что ошиблась, очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным и мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, — хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать…
Впрочем, по натуре Козетта не была слишком робкой. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость.
На другой день вечером, но пораньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. Среди смутных мыслей, занимавших ее, ей казалось, что время от времени она ясно различает шум, подобный вчерашнему, словно кто-то ходил в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Но она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих друг друга, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.
Она вышла из «заросли»; ей оставалось лишь пересечь маленькую зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна, всходившая позади, отбросила ее тень на эту лужайку.
Козетта остановилась в испуге.
Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей особенный страх и ужас, — тень в круглой шляпе.
Казалось, это была тень человека, стоявшего на опушке зарослей кустарника, в двух-трех шагах от Козетты.
Несколько мгновений она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевельнуться, ни повернуть голову.
Наконец она собралась с духом и решительно оглянулась.
Никого не было.
Она посмотрела на землю. Тень исчезла.
Она снова вернулась в заросли кустарника, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.
Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация — это еще куда ни шло, но две галлюцинации? Особенно тревожило ее то, что тень, безусловно, не была привидением. Привидения никогда не носят круглых шляп.
На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей прислышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты маленькая дурочка».
Но Жан Вальжан задумался.
— Тут что-нибудь да есть, — сказал он.
Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.
Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду на самом деле был какой-то человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.
Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»
Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующие ночи. Козетта видела его в щель ставни.
На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее:
— Козетта!
Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно.
Ее отец стоял внизу, на лужайке.
— Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, — сказал он, — смотри. Вот твой призрак в круглой шляпе.
И он показал ей лежащую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.
Козетта тоже рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над этим зловещим садом, который посещали призраки печных труб.
К Жану Вальжану вернулось его спокойствие; что же до Козетты, то она даже хорошенько не приметила, могла ли печная труба отбрасывать свою тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, — Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль о том, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.
Но через несколько дней случилось новое происшествие.
Глава 3
Обогащенная комментариями Тусен
В саду, возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба, тем не менее при желании прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.
Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею — та непреодолимая печаль, которую приносит вечер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.
Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в этой вечерней тьме?
Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, непременно нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».
Она снова направилась к скамье.
Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, несомненно, не было за несколько мгновений до этого.
Козетта смотрела на камень, спрашивая себя: что это может означать? Внезапно в ней возникла мысль, испугавшая ее, — мысль о том, что этот камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.
— Отец вернулся? — спросила она Тусен.
— Нет еще, барышня.
(Мы как-то уже указали на заикание Тусен. Да будет позволено нам больше его не отмечать. Нам претит звуковое изображение прирожденного недостатка.)
Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.
— Тусен, — продолжала Козетта, — хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?
— О, будьте спокойны, барышня.
Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо знала об этом, все же она не могла не прибавить:
— Ведь здесь так пустынно вокруг!
— Вот уж правда, барышня, — подхватила Тусен. — Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но не бойтесь ничего, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Только подумать! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут «молчи» и начнут полосовать тебе горло… И не так уж боишься смерти, все умирают, ничего тут не поделаешь, ведь все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди берутся за тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!
— Полно вам, — сказала Козетта. — Заприте все хорошенько.
Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении прошлой недели, даже не посмела сказать: «Ступайте же, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, огромный, как гора, и весь изрытый пещерами.
Утром, когда взошло солнце, — а восходящему солнцу свойственно вызывать у нас смех над всеми ночными страхами, и смех этот тем радостнее, чем сильнее испытанный нами страх, — Козетта, проснувшись, ощутила свой ужас, как мучительный сон. «Что это мне привиделось? — сказала она себе. — Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.
«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, — решила она. — Мне приснился этот камень, как и все остальное».
Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и облилась холодным потом. Камень был там.
Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.
«Какой вздор! — сказала она себе. — Ну-ка посмотрим, что тут такое!»
Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.
Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и незаклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.
Козетта открыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.
Она вынула из конверта маленькую тетрадь, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как подумала Козетта, и очень мелким почерком.
Козетта стала искать имя — его не было; подпись — ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти каких-то непреодолимых чар, она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, о чем там написано. Вот что она прочла.
Глава 4
Сердце под камнем
Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество — вот любовь.
Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам.
Как печальна душа, когда она опечалена любовью!
Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое одним собою заполняет весь мир! Как верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, а это очевидно, вселенную для души, а душу для любви.
Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.
Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо — значит проникнуть в его душу.
Некоторые мысли — те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, — на коленях.
Разлученные возлюбленные обманывают разлуку тысячью химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они находят множество таинственных средств общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Почему же нет? Все творения божии созданы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания. О весна! Ты — письмо, которое я ей пишу.
Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить — вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.
В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она — божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее самой глуби небес.
О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются сюда на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.
Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, — вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить саму силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог — это полнота неба; любовь — это полнота человеческого существа.
Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина!
У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда — смерть. Умереть из-за отсутствия любви — ужасно. Это смерть от удушья.
Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!
В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается только одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.
То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.
Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.
Если вы камень — будьте магнитом; если вы растение — будьте мимозой, если вы человек — будьте любовью.
Ничем не удовлетворяется любовь. Человек обрел счастье — он хочет рая; он обрел рай — он хочет неба.
О, любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. У любви есть то же, что у неба, — созерцание, и больше, чем у неба, — наслаждение.
— Бывает ли она еще в Люксембургском саду? — Нет, сударь. — Она ходит к мессе в эту церковь, не правда ли? — Она больше в нее не ходит. — Она по-прежнему живет в этом доме? — Она переехала. — Где же она теперь живет? — Она не сказала.
Как безотрадно не знать адреса своей души!
Любви свойственна ребячливость, другим страстям — мелкость. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!
Как странно! Знаете? Я — во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.
О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться пальцев друг друга — этого было бы достаточно мне на целую вечность!
Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильней. Умирать от любви — значит жить ею.
Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.
О, радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.
Любовь — божественное вдыхание воздуха рая.
Глубокие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приготовление к неведомой судьбе. Эта судьба — истинная судьба — открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Увы, горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.
Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи — в его душу.
Какое великое дело быть любимым! И еще более великое — любить! Сердце становится героическим силою страсти. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.
Не найдись на свете хоть один любящий, солнце угасло бы.
Глава 5
Козетта после письма
Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер — это было время его обычного появления — победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла его отвратительным.
Она снова принялась созерцать тетрадку. Почерк записей показался Козетте восхитительным; они были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернила, — следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся там, вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без выбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда — о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Эта рукопись в пятнадцать страниц внезапно и мягко открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей вдруг пригоршню лучей. Она почувствовала в этих нескольких строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный, казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.
Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?
Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.
Он!
Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет, никогда! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но — она ясно это видела — он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! — говорила она. — Как мне знакомо все это. Я уже раньше прочитала все в его глазах».
Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и очень безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, пристыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.
Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и помечтать. Хорошенько перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.
Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.
Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. Лицо ее то и дело бледнело, по всему телу пробегала дрожь. Мгновениями ей казалось, что она начинает бредить; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее в это время, он содрогнулся бы, глядя на неведомую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, — думала она, — это, наверное, он! Это он написал для меня».
И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.
О, превращения любви! О, мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.
Глава 6
Старики существуют, чтобы вовремя уходить из дома
С наступлением вечера, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько глубже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это ни в какой мере не было неприличным, но зато как нельзя более красивым. Она сама не знала, для чего так принарядилась.
Собиралась ли она выйти из дому? Нет.
Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.
В сумерках она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходившей окнами в задний дворик.
Она тихо бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.
Так она дошла до скамьи.
Камень по-прежнему лежал на ней.
Она уселась и положила нежную белую руку на этот камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.
Вдруг ею овладело то неопределимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.
Она повернула голову и встала.
Это был он.
Он стоял с обнаженной головой. Он казался бледным и исхудавшим. Во тьме едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.
Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.
Его шляпа лежала неподалеку на траве.
Козетта, готовая лишиться сознания, не вскрикнула. Она медленно отступала назад, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.
Отступая, Козетта встретила дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.
Тогда она услышала его голос, этот голос, которого она никогда еще не слыхала, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:
— Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Читали вы то, что я положил здесь на скамью? Узнаете ли вы меня? Не бойтесь. Помните ли тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени. Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. И день, когда вы прошли мимо? То было шестнадцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видала вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, — видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? И потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы — мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?
— О, матушка! — промолвила она.
И, словно умирая, начала медленно склоняться долу.
Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он крепко сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, сам шатаясь. Его голова была как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет религиозный обряд и что он совершает святотатство. И все же у него не было никакого вожделения к этой пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.
Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:
— Так вы меня любите?
Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:
— Молчи! Ты это знаешь!
И спрятала раскрасневшееся лицо на груди у гордого и опьяненного юноши.
Он опустился на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды. Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зябкой вершине холма загорается заря?
Один поцелуй — это было все.
Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.
Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.
Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!
Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.
Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.
Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видеться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка — душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.
Когда они сказали все, она положила голову на его плечо и спросила:
— Как вас зовут?
— Мариус. А вас?
— Козетта.
Книга VI Маленький Гаврош
Глава 1
Злая шалость ветра
С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.
Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.
Отделалась — подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для своих дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, и ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ — это «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», — говорила мамаша.
Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.
Маньон — о ней речь шла выше — была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы заменить свой дурной запах доброй славой. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет тому назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день — одного утром, другого вечером — своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались — того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс. В Париже при переезде с одной улицы на другую тождественность личности исчезает.
Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, что г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» — твердила ему Маньон.
Тенардье, для которого превращения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва имели время заметить, что у них были два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает какое-то равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются смутными формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.
Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает, какие-то угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть следующими словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству: «А что, если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье, то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»
Маньон была в некотором роде модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с притязаниями на роскошь, проживала опытная воровка — одна офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».
Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.
Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Надо, чтобы отец дал им образование».
И вдруг эти дети, до сих пор достаточно опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.
Арест целой шайки злодеев, как это имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение — настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формацией; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардье вызвала катастрофу с Маньон.
Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела неожиданную облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший лавочку напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете, — сказал им башмачник. — Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».
Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченелые пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время было к ночи, ребенок не мог ее найти.
Они пустились блуждать по улицам наугад.
Глава 2
В которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона
Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачавшие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как те холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года — время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии огромная эпидемия, — ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.
С точки зрения метеорологической особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И в ту весну разражались частые грозы с громом и молнией.
Однажды вечером, когда ветер дул с такой силою, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, словно замирая от восхищения, стоял перед лавочкой парикмахера близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флердоранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом же деле он наблюдал за лавочкой, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».
Созерцая невесту и все время посматривая на кусок мыла, он бормотал сквозь зубы: «Во вторник… Нет, не во вторник… Разве во вторник?.. А может, и во вторник… Да, во вторник».
Так и осталось неизвестным, к чему относился этот монолог.
Если бы он случайно имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сейчас была пятница.
Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной лавочке, время от времени косо поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.
Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чистенько одетые, на вид один семи лет, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и вошли в лавочку, попросив чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь со словами:
— Только холоду зря напустили!
Дети, плача, отправились дальше. Тем временем надвинулась туча и заморосил дождь.
Гаврош догнал их и спросил:
— Что с вами стряслось, птенцы?
— Мы не знаем, где нам спать, — ответил старший.
— Только-то? — удивился Гаврош. — Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Вот так глупыши!
И, сохраняя все тот же вид несколько насмешливого превосходства, принял покровительственный мягкий тон растроганного начальства:
— Пошли за мной, малявки.
— Хорошо, сударь, — сказал старший.
И двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.
Гаврош поднялся с ними на улицу Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.
На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на лавку цирюльника.
— Экий бесчувственный, настоящая вобла! — разразился он. — Верно, англичанишка какой-нибудь.
Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом. Смех указывал на отсутствие уважения к этой компании.
— Здравствуйте, мамзель Для-всех, — приветствовал ее Гаврош.
Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:
— Я ошибся насчет той скотины, это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!
Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:
— Сударыня, вы всегда выезжаете на собственной лошади?
И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.
— Шалопай! — крикнул взбешенный прохожий.
Гаврош высунул нос из своей шали.
— На кого изволите жаловаться?
— На тебя, — ответил прохожий.
— Контора закрыта, — выпалил Гаврош. — Я больше не принимаю жалоб.
Между тем, продолжая подниматься по улице, он заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она уже слишком выросла из своих нарядов. Рост может сыграть такую штуку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.
— Бедняжка! — сказал Гаврош. — У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На-ка, держи!
Размотав на своей шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.
Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.
— Бр-р-р, — застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.
При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильней обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.
— Ах, так? — воскликнул Гаврош. — Это еще что такое? Опять полилось? Господь бог, если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!
И он снова зашагал.
— Все равно, — прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью, — у ней-то надежная шкурка.
И, взглянув на тучу, крикнул:
— Вот тебя и провели!
Дети старались поспевать за ним.
Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, указывающей на булочную, — ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, — Гаврош обернулся:
— Да, вот что, малыши, вы обедали?
— Сударь, — ответил старший, — мы не ели с самого сегодняшнего утра.
— Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — величественно спросил Гаврош.
— Прошу извинить, сударь, у нас есть и папа, и мама, только мы не знаем, где они.
— Иной раз это лучше, чем знать, — заметил Гаврош, который был мыслителем.
— Вот уже два часа, как мы идем, — продолжал старший, — мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.
— Знаю, — сказал Гаврош. — Собаки подобрали, они все пожирают.
И, помолчав, прибавил:
— Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Людям в летах просто глупо вдруг заблудиться. Да, вот что! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.
Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья — что может быть проще?
Старший мальчуган, почти совсем вернувшись к свойственной детству беззаботности, воскликнул:
— Как смешно! Ведь мама-то говорила, что в Вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой…
— Для порки, — закончил Гаврош.
— Моя мама, — начал снова старший, — настоящая дама, она живет с мамзель Мисс…
— Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, — подхватил Гаврош.
Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.
Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.
— Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.
Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:
— Продавец, на пять сантимов хлеба!
«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.
— Три куска, продавец! — снова крикнул Гаврош.
И он прибавил с достоинством:
— Нас трое.
Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо:
— Этшкое?
Тех из наших читателей, которые имели бы поползновение счесть восклицание Гавроша русским или польским словом или тем воинственным кличем, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу «Это что такое?». Булочник это прекрасно понял и ответил:
— Ну и что ж? Это хлеб очень хороший, хлеб второго сорта.
— Вы хотите сказать — железняк? — возразил Гаврош спокойно и холодно-негодующе. — Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.
Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.
— Эй вы, хлебопек, — сказал он, — с чего это вы вздумали снимать с нас мерку?
Если бы их всех трех поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.
Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:
— Лопайте.
Мальчики с недоумением посмотрели на него.
Гаврош рассмеялся:
— А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли. — И затем прибавил: — Ешьте.
И протянул каждому из них по куску хлеба.
Решив, что старший, по его мнению, более достойный беседовать с ним, заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он прибавил, сунув ему самый большой кусок:
— Залепи-ка это себе в дуло.
Один кусок был меньше других; он взял его себе.
Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.
— Выйдем на улицу, — сказал Гаврош.
Они снова пошли по направлению к Бастилии.
Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.
— Ну не глупыши разве? — говорил Гаврош.
Потом, задумавшись, он бормотал сквозь зубы:
— Как-никак, будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.
Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая и зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:
— Смотри-ка, это ты, Гаврош?
— Смотри-ка, это ты, Монпарнас? — ответствовал Гаврош.
К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.
— Вот так штука! — продолжал Гаврош. — Твоя хламида как раз такого цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки — точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!
— Тише, — одернул его Монпарнас, — не ори так громко!
И он быстро оттащил Гавроша подальше от освещенных лавочек.
Двое малышей машинально пошли за ними, держась за руки.
Когда они оказались под черным сводом каких-то ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:
— Знаешь, куда я иду?
— В монастырь Вознесение-Поневоле[596], — ответил Гаврош.
— Шутник! — И Монпарнас продолжал: — Я хочу разыскать Бабета.
— Ах, ее зовут Бабетой! — ухмыльнулся Гаврош.
Монпарнас понизил голос:
— Не она, а он.
— Ах, так это ты насчет Бабета?
— Да, насчет Бабета.
— Я думал, он попал в конверт.
— Он его распечатал, — ответил Монпарнас.
И он быстро рассказал мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».
Гаврош подивился его ловкости.
— Ну и мастак! — сказал он.
Монпарнас прибавил несколько подробностей относительно бегства Бабета и окончил так:
— О, это еще не все!
Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.
— Ого! — сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. — Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.
Монпарнас подмигнул.
— Черт возьми! — продолжал Гаврош. — Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?
— Как знать, — с равнодушным видом ответил Монпарнас, — никогда не мешает иметь при себе булавку.
Гаврош настаивал:
— Что же ты думаешь делать сегодня ночью?
Монпарнас снова напустил на себя важность и сказал, цедя сквозь зубы:
— Так, кое-что. — И сразу, переменив разговор, воскликнул: — Да, кстати!
— Ну?
— На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя я шарю рукой в кармане, а там — ничего.
— Кроме проповеди, — добавил Гаврош.
— Ну, а ты, — продолжал Монпарнас, — куда ты сейчас идешь?
Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:
— Иду укладывать спать этих ребят.
— Где же ты их уложишь?
— У себя.
— Где это у тебя?
— У себя.
— Значит, у тебя есть квартира?
— Есть.
— Где же это?
— В слоне, — ответил Гаврош.
Хотя Монпарнас по своей натуре и мало чему удивлялся, но невольно воскликнул:
— В слоне?
— Ну да, в слоне! — подтвердил Гаврош. — Штотуткоо?
Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» обозначает: «Что ж тут такого?»
Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.
— А в самом деле! — сказал он. — Слон так слон. А что, там удобно?
— Очень удобно, — ответил Гаврош. — Там и вправду отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.
— Как же ты туда входишь?
— Так и вхожу.
— Значит, там есть лазейка? — спросил Монпарнас.
— Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.
— И ты взбираешься наверх? Так, я понимаю.
— Простой фокус. Раз, два — и готово, тебя уж нет.
Помолчав, Гаврош прибавил:
— Для этих малышей у меня найдется лестница.
Монпарнас расхохотался:
— Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?
Гаврош просто ответил:
— Это мне один цирюльник подарил на память.
Вдруг Моппарнас задумался.
— Ты узнал меня слишком легко, — пробормотал он.
И, вынув из кармана две маленькие штучки, попросту две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.
— Это тебе к лицу, — сказал Гаврош, — сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Оставь это навсегда.
Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.
— Без шуток, — сказал Монпарнас, — как ты меня находишь?
И голос тоже у него стал совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.
— Покажи-ка нам Петр-р-рушку! — воскликнул Гаврош.
Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были сами заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.
К сожалению, Монпарнас был озабочен.
Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:
— Слушай, парень, следи глазом, ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, — так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не Масленица.
Эта странная фраза произвела на мальчика особое впечатление. Он живо обернулся, с глубоким вниманием оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось: «Вон оно что!» — но он сразу сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:
— Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае если я тебе понадоблюсь ночью, ты можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.
— Ладно, — ответил Монпарнас.
И они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, а Гаврош — к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого, в свою очередь, тащил Гаврош, несколько раз обернулся назад, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».
Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звуковое сочетание диг, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог диг не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг — выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.
Лет двадцать тому назад в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, теперь уже исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».
Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими каждый раз все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, теперь же небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном и открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал — неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было какое-то исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах ввысь, рядом с невидимым призраком Бастилии.
Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря тому медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный — безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.
Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь — это подлинная стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.
Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но, несомненно, величественный и отмеченный печатью какой-то великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.
Как бы там ни было, но, возвращаясь к площади Бастилии, скажем одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.
Эта печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и обширным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.
К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».
Да будет нам дозволено здесь прервать наш рассказ и напомнить о том, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение общественного памятника.
Отметив этот факт, продолжаем.
Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:
— Птенцы, не бойтесь!
Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.
Вдоль забора здесь лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош, с неожиданной в нем силой, поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру и сказал:
— Взбирайтесь и входите.
Мальчики испуганно переглянулись.
— Вы боитесь, малыши! — вскричал Гаврош. — И прибавил: — Сейчас увидите.
Он плотно обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.
— Ну вот, — крикнул он, — лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! — крикнул он старшему. — Я подам тебе руку.
Дети подталкивали друг друга. Гаврош одновременно внушал им и страх, и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелился. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его совсем одного между лап этого огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел.
Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош тем временем подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования — своего ученика или погонщик — своего мула:
— Не трусь!
— Так, правильно!
— Лезь же, лезь!
— Ставь ногу сюда!
— Руку туда!
— Смелей!
И когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.
— Попался! — сказал Гаврош.
Малыш проскочил в трещину.
— Теперь, — сказал Гаврош, — подожди меня. Сударь, потрудитесь присесть.
И, выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:
— Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе.
В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:
— Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!
После этого взрыва веселья он прибавил:
— Ну, карапузы, вы у меня дома!
Гаврош на самом деле был у себя дома.
О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, что жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим — над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.
Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.
— Начнем вот с чего, — сказал Гаврош, — скажем привратнику, что нас нет дома.
И, нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.
Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.
Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.
Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку, или, еще точнее, что должен был испытать Иона во чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям, в углах, можно было заметить большие, кажущиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.
Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.
Младший прижался к старшему и сказал вполголоса:
— Тут темно.
Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.
— Что вы мне голову морочите? — воскликнул он. — Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну, не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!
Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.
Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему.
— Дуралей, — сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном, — это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь ни ветерка; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!
Дети смелее начали осматривать помещение; но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.
— Живо! — крикнул он.
И подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать существенной частью комнаты.
Там находилась его постель.
Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.
Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом — довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.
Три довольно длинные жерди, воткнутые — две спереди и одна позади — в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший изнутри брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.
Эта сетка и служила пологом.
Гаврош отодвинул немного в сторону камни, придерживающие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.
— Ну, малыши, на четвереньки! — скомандовал Гаврош.
Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.
Все втроем растянулись на циновке.
Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».
— Теперь, — сказал он, — дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.
— Сударь, — спросил старший, показывая на сетку, — а что это такое?
— Это, — важно ответил Гаврош, — от крыс. Дрыхните!
Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение этим младенцам и продолжал:
— Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.
Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего, который пролепетал:
— Как хорошо! Как тепло!
Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.
— Это тоже из Ботанического сада, — сказал он. — У обезьян забрал.
И, указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, прибавил:
— А это было у жирафа.
Помолчав, он продолжал:
— Все это принадлежало зверям. Я отобрал у них. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».
Снова немного помолчав, он заметил:
— Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.
Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но в каком-то смысле изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.
— Сударь, — робко сказал старший, — а разве вы не боитесь полицейских?
Гаврош ограничился ответом:
— Малыш, не говорят: «полицейские», а говорят: «фараоны»!
Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:
— Ну как? Хорошо тут?
— Очень! — ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.
Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.
— Кстати, — снова заговорил Гаврош, — почему же это вы давеча плакали? — И, показав на младшего, продолжал: — Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь, это совсем глупо: точь-в-точь теленок.
— Ну да! — ответил тот. — Ведь у нас не было никакой квартиры, и некуда было деваться.
— Птенец! — заметил Гаврош. — Не говорят: «квартира», а говорят: «домовуха».
— А потом мы боялись остаться ночью одни.
— Не говорят: «ночь», а говорят: «потьмуха».
— Благодарю вас, сударь, — ответил ребенок.
— Послушай, — снова начал Гаврош, — никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду заботиться о вас. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл в пьесе. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. После этого мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем посмотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Марэ. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово поразвлечься!
В это время на палец Гавроша упала капля смолы, это и вернуло его к действительности.
— Ах, черт! — воскликнул он. — Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.
— А потом, — робко вставил старший, один только и осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, — уголек может упасть на солому, надо быть осторожным, чтобы не сжечь дом.
— Не говорят: «сжечь дом», — поправил Гаврош, — а говорят: «подсушить мельницу».
Ненастье усиливалось. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.
— Обставили мы тебя, дождик! — сказал Гаврош. — Забавно слышать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.
Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что сетка почти слетела; но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:
— Спокойно, ребята! Не толкайте так наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.
После этого он привел в порядок сетку, тихонько толкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:
— Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать — это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь-ка хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?
— Да, — прошептал старший, — мне хорошо. Под головой словно пух.
— Не говорят: «голова», — крикнул Гаврош, — а говорят: «сорбонна».
Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:
— Дрыхните!
И погасил фитилек.
Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.
Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:
— Сударь!
— Что? — спросил уже засыпавший Гаврош.
— А что это такое?
— Это крысы, — ответил Гаврош.
И снова опустил голову на циновку.
Действительно, крысы, сотнями кишевшие в остове слона, — они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, — держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясцом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались до самой верхушки и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.
Между тем мальчуган не засыпал.
— Сударь! — снова начал он.
— Ну?
— А что это такое — крысы?
— Это мыши.
Объяснение Гавроша немного успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:
— Сударь!
— Ну?
— Почему у вас нет кошки?
— У меня была кошка, — ответил Гаврош, — я ее сюда принес, но они ее съели.
Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.
— Сударь!
— Ну?
— А кого же это съели?
— Кошку.
— А кто съел кошку?
— Крысы.
— Мыши?
— Да, крысы.
Ребенок, изумляясь, что здешние мыши едят кошек, продолжал:
— Сударь, значит, такие мыши и нас могут съесть?
— Понятно! — ответил Гаврош.
Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:
— Не бойся! Они до нас не доберутся. И кроме того, я здесь! На, возьми мою руку. Молчи и дрыхни!
И Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и почувствовал себя успокоенным. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, — трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего больше не слышали.
Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем дул порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и, в поисках ночных бродяг, молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей трех беглых спящих детишек.
Чтобы понять все нижеследующее, нелишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.
На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, бегом пересек площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное понятие о котором может дать следующее начертание:
— Кирикикиу!
На второй крик из брюха слона ответил звонкий и веселый детский голос:
— Здесь!
Почти тут же дощечка, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.
Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Ты спросишь господина Гавроша».
Услышав этот крик, он сразу вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, затем открыл люк и спустился вниз.
Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас ограничился словами:
— Ты нам нужен. Поди, помоги нам.
Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.
— Ладно, — сказал он.
И оба отправились к Сент-Антуанской улице, откуда и появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную цепь тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.
Сидящие в своих тележках меж грудами салата и овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.
Глава 3
Перипетии побега
Вот что случилось в ту же самую ночь в тюрьме Форс.
Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, договорились о побеге. Что до Бабета, то он «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем извне.
Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, зрело обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь же места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как ясно из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.
Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе — гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.
Брюжон, о котором уже пора составить себе полное представление, несмотря на тщедушный свой вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смышленый, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был продиктован его волей, а улыбка — натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».
Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами — мосты и ступени на пути к свободе.
Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных», как говорится на тюремном языке.
Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.
Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.
Тенардье находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».
Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, — сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс.
Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося позади Беркена.
Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, — то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба — то была труба, проходившая через общие камеры.
«Вольный воздух», чердак Нового здания, был своего рода огромным сараем, разделенным на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если туда войти с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа — четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, — из железных брусьев.
Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так никогда и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.
Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всякими правдами и неправдами.
Итак, в ту самую ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, таким образом, не было слышно никакого стука. Сильный ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной каморке с окошечком на камеру, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкой.
— Хороша потьмуха для вылета! — сказал Брюжон.
Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивало в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки на верху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.
Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.
Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.
Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать почти целиком содранной с ладоней кожи.
В эту ночь Тенардье был предупрежден, — каким образом, выяснить не удалось, — и не спал.
Около часа пополуночи, хотя ночь и была очень темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца против его камеры промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большего ему не требовалось.
Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, — в те времена так еще делалось, — входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Этот сторож со своими догами наведывался также два раза ночью.
Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, чтобы «прикалывать» свой хлеб к стене, втыкая конец шипа в одну из щелей. «Это, — говорил он, — убережет его от крыс». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то ничего предосудительного в этом шипе не нашли. Однако позднее вспомнили, что один сторож сказал: «Было бы лучше оставить ему деревянный шип».
В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, разве только слишком юный возраст и «глуповатый вид» этой «пехтуры» — часового. Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого же Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею — другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере также обнаружили наполовину пустую бутылку, содержавшую остаток одурманивающего вина, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез.
В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардье считали вне пределов досягаемости. На самом же деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.
Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.
Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас же направо вам встретится грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся и посейчас; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червями перекладиной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в прошлые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.
Пустоту, образовавшуюся среди улицы на месте разрушенного дома, наполовину заполнял забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами, за ним притаилась маленькая хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.
На самом верху этой развалины и очутился Тенардье чуть попозже трех часов утра.
Как он добрался сюда? Этого никогда не могли ни объяснить, ни понять. Молнии должны были одновременно и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но стена тюрьмы Форс шла неровной и зубчатой линией. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается почти необъяснимым. Одним ли способом, другим ли — все равно бегство казалось невозможным. Но, воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого никогда не узнали.
Не всегда возможно понять, каким чудом осуществляется побег. Человек, спасающийся бегством, повторяем это, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указует путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам; и об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»?»
Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в лохмотья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во всю свою длину, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.
Взятая им с собой веревка была слишком коротка.
Он ожидал здесь, бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа — время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, в страшной глубине, мокрую мостовую — желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.
Он спрашивал себя, удалось ли бежать его трем соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку через улицу Сент-Антуан.
Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток на петлях, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел, из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая там и сям вдоль крыш. В то же время Тенардье увидел со стороны Бастилии белесый отсвет, зловеще побеливший край неба.
А он лежал, вытянувшись на верху стены шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».
Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Нелишним будет отметить, что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует себя погибшим.
Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго.
Первый сказал тихо, но отчетливо:
— Шлепаем дальше. Чего нам тутго маячить?
Второй отвечал:
— Этот дождь заплюет самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыпемся туткайль.
Эти два слова тутго и туткайль, оба обозначавшие «тут» — первое на арго застав, второе — Тампля, были лучами света для Тенардье. По «тутго» он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по «туткайль» — Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль.
Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.
Тем временем в разговор вмешался третий:
— Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?
По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который простер свое изящество до понимания всех арго, однако сам не пользовался ни одним из них.
Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.
Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:
— Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывесить шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться — тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!
Бабет все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому красочному и смелому арго Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, добавил:
— Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже наседка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас, ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.
— Друзей в беде не оставляют, — проворчал Монпарнас.
— Я тебе звоню, что у него боль, — ответил Брюжон. — Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.
Монпарнас сопротивлялся слабо; действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, — был такой ливень, что все улицы опустели, — пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревожный шум, поднявшийся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх — все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился в некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.
Он не осмеливался их позвать: если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжущий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.
Веревка упала к их ногам.
— Удавка! — сказал Бабет.
— Мой шнурочек! — подтвердил Брюжон.
— Трактирщик здесь, — заключил Монпарнас.
Они подняли глаза, Тенардье немного приподнял голову над стеной.
— Живо! — сказал Монпарнас. — Другой конец веревки у тебя, Брюжон?
— Да.
— Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.
Тенардье отважился подать голос:
— Я промерз до костей.
— Согреешься.
— Я не могу шевельнуться.
— Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.
— У меня окоченели руки.
— Привяжи только веревку к стене.
— Я не могу.
— Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, — сказал Монпарнас.
— На третий этаж! — заметил Брюжон.
Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, позже совсем обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкой.
— Можно взобраться по ней, — сказал Монпарнас.
— По этой трубе? — вскричал Бабет. — Мужчине — никогда. Здесь нужен малек.
— Нужен малыш, — подтвердил Брюжон.
— Где бы найти ребятенка? — спросил Живоглот.
— Подождите, — сказал Монпарнас. — Я придумал.
Он тихонько приоткрыл калитку ограды, удостоверился, что на улице нет ни одного прохожего, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.
Прошло семь или восемь минут — восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка, наконец, снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему совершенно пустынна.
Гаврош вошел в ограду и спокойно посмотрел на эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.
— Малыш, мужчина ты или нет? — обратился к нему Живоглот.
Гаврош пожал плечами и ответил:
— Такой малыш, как я, — мужчина, а такие мужчины, как вы, — мелюзга.
— Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал Бабет.
— Пантенский малыш — не мокрая мышь, — добавил Брюжон.
— Ну, что же вам нужно? — спросил Гаврош.
Монпарнас ответил:
— Вскарабкаться по этой трубе.
— С этой удавкой, — заметил Бабет.
— И прикрутить шнурок, — продолжал Брюжон.
— К верху стены, — снова вступил Бабет.
— К перекладине в стекляшке, — прибавил Брюжон.
— А дальше? — спросил Гаврош.
— Все! — заключил Живоглот.
Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену, окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает:
— Только и всего!
— Там наверху человек, надо его спасти, — заметил Монпарнас.
— Согласен? — спросил Брюжон.
— Дурачок! — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.
Живоглот подхватил Гавроша рукой, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие скулы, заострившийся и хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.
— Смотри-ка, — сказал он, — да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!
И, взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.
Мгновение спустя Тенардье был на улице.
Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, он словно и не уставал вовсе, не коченел от холода, не дрожал от страха; все ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный и дикий ум пробудился и, осознав свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.
Вот каковы были первые слова этого человека:
— Кого мы теперь будем есть?
Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего одновременно: убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть — это пожирать.
— Надо смываться, — сказал Брюжон. — Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме, улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.
— Отлично! Почему же нет? — спросил Тенардье.
— Твоя дочка Эпонина ходила туда, — ответил Бабет.
— И принесла сухарь Маньон, — прибавил Живоглот. — Делать там нечего.
— Дочка не дура, — заметил Тенардье. — А все-таки надо будет посмотреть.
— Да, да, — сказал Брюжон, — надо будет посмотреть.
Однако никто из этих людей, казалось, не обращал больше внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:
— Ну все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать своих ребят.
И он ушел.
Пять человек вышли один за другим из ограды.
Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.
— Ты разглядел этого малька?
— Какого малька?
— Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?
— Не очень.
— Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.
— Ба, — ответил Тенардье, — ты думаешь?
Книга VII Арго
Глава 1
Происхождение
Рigritia[597] — страшное слово.
Оно породило целый мир — la pégre, читайте: воровство; и целый ад — la pégrenne, читайте: голод.
Таким образом, лень — это мать.
У нее сын — воровство, и дочь — голод.
Где мы теперь? В сфере арго.
Что же такое арго? Это одновременно национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами — народа и языка.
Когда тридцать четыре года тому назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в одно из своих произведений[598], написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Может ли быть! Но ведь арго — ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.
Мы никогда не понимали возражений такого рода.
Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их естественном языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смерти», снова раздались вопли. Повторяли: «Чего хотят от нас писатели с этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»
Кто же отрицает? Конечно, это так.
Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких же это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна стало вызывать порицание? Мы всегда считали это проявлением мужества и, во всяком случае, делом полезным и достойным того сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.
Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность совсем живым и трепещущим это вытащенное на свет божий презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном какого-то кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, — все это задача и непривлекательная, и нелегкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую и взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует возвращения во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое — на потухший и кровавый глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.
Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо арго, — да будет известно тем, кто этого не знает, — одновременно и явление литературное, и следствие определенного общественного строя. Что же такое арго в собственном смысле? Арго — это язык нищеты.
Здесь нас могут прервать; могут обобщить приведенный факт, что иногда является средством уменьшить его значительность; могут нам сказать, что все ремесла, все профессии — к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления — имеют свое арго. Торговец, который говорит: Монпелье наличный. Марсель хорошего качества; биржевой маклер, говорящий: играю на повышение, страховая премия, текущий счет; игрок, который говорит: хожу по всем, пика бита; пристав на Нормандских островах, говорящий: съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика; водевилист, заявляющий: пьесу освистали; актер, сказавший: я провалился; философ, который сказал: тройственность явления; охотник, говорящий: красная дичь, столовая дичь; френолог, сказавший: дружелюбие, войнолюбие, тайнолюбие; пехотинец, именующий ружье кларнетом; кавалерист, который называет своего коня индюшонком; учитель фехтования, говорящий: терция, кварта, выпад; типограф, сказавший: набор на шпоны, — все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на арго. Живописец, который говорит: мой мазилка, нотариус, который говорит: мой попрыгун, парикмахер, который говорит: мой подручный; сапожник, который говорит: мой подпомощник, говорят на арго. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат арго: у матроса — штирборт и бакборт, у театрального декоратора — двор и сад, у причетника — апостольская и евангельская. Есть арго модниц, как было арго жеманниц. Особняк Рамбулье кое в чем граничит с Двором чудес. Есть арго герцогинь — свидетельством является следующая фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».
Дипломатические шифры также составлены на арго: папская канцелярия, употребляющая цифру 26 вместо Рим, grkztntgzyal вместо отправка и abfxustgrnogrkzu tu XI вместо герцог Моденский, говорит на арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum, говорили на арго. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жжёнка, бастер, кусковой, пиленый, изъясняется на арго. Известное направление в критике двадцать лет тому назад, утверждавшее: половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров, говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно здраво определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академик-классик, называющий цветы Флорой, плоды Помоной, море Нептуном, любовь огнем в крови, красоту прелестями, лошадь скакуном, белую или трехцветную кокарду розой Беллоны, треуголку треугольником Марса, — этот академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, столь законченный и столь живописный, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, — это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты — то же, что лев перед шакалом.
Это так. Но что бы там ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Что до нас, то мы сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова соединимы, существующее с незапамятных времен и бывшее целым царством, есть не что иное, мы это повторяем, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучия и господствующего права — в борьбу страшную, где то хитростью, то насилием, одновременно немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы — арго.
Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Желая или не желая, Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский, в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая нужда сохранять арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?»
На все это мы ответим только одним. Действительно, если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения — это язык, на котором говорила нищета.
Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.
И затем, мы настаиваем на этом, изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, — это отнюдь не является работой, где дозволен отбор материала. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного — поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции — все, что совершается на дневном свету, вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому не ведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное подземные предупреждающие удары закона, тайное перерождение душ, смутное содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных — все эти призраки, бродящие во тьме. Ему должно нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости одновременно, до самых непроницаемых казематов, где вперемежку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто претерпевает от зла, и тот, кто его творит. Облечены ли историки сердец и душ обязанностями меньшими, чем историки внешних событий? Допустимо ли думать, чтобы Данте мог сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?
Впрочем, заметим это мимоходом, из предшествующих кратких замечаний могут заключить, что между двумя категориями историков есть резкое различие; однако, на наш взгляд, его не существует. Никто не может быть назван хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза и открытой, если он в то же время в известной мере не является историком скрытой жизни его недр; и никто не может быть назван хорошим историком внутреннего бытия, если он не сумеет стать, каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана последней. Это два порядка различных явлений, отвечающих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое темное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и настоящий историк должен вмешиваться во все.
Человек — это не круг с одним центром; это эллипс с двумя средоточиями. События — одно из них, идеи — другое.
Арго — не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Таким образом, он становится страшным.
Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов взойти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес — костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами — всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается — двойственное движение пресмыкающегося. Отныне он готов ко всем ролям: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.
Если подойти изнутри к наружным дверям общества, то можно уловить разговор тех, кто по ту сторону двери. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хоть и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это — арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, слышишь говорящих гидр.
Это — непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкою. Глубокую тьму источает несчастие, еще более глубокую — преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба, он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, — в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.
Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы, мы сами? Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?
Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.
На самом ли деле вы тот, кто зовется счастливцем? Ну, так вот — вы грустны всякий день. Каждому дню своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим — несчастие друга; потом дурная погода, потом какая-нибудь разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иной раз — и положение государственных дел. Все это, не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то ночь, беспросветная ночь над ними.
Умы, размышляющие мало, пользуются выражением: счастливцы и несчастные. В этом мире, по-видимому являющемся преддверием иного, нет счастливцев.
Правильное разделение людей таково: осиянные светом и пребывающие во мраке.
Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных — такова цель. Вот почему мы кричим: «Обучения! Знания!» Научить читать — это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.
Впрочем, сказать: «свет» не всегда означает сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя — враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, — это и есть чудо, отмечающее гения.
Когда вы познаете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Осиянные светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.
Глава 2
Корни
Арго — язык пребывающих во мраке.
Это загадочное наречие, одновременно позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто дымятся еще. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.
Но, несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали и которое именуется литературой. У арго, — согласны с этим или не согласны, — есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.
Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:
Mais où sont les neiges d’antan?[599]написана на арго. Antan — ante annum — слово из арго Двора чудес, обозначающее прошедший год и в более широком смысле когда-то. Тридцать лет тому назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть следующее изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: Les dabs d’antan trimaient siempre pour la pierre du coёsre. Иными словами: Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию. Для этого «короля» каторга и была «коронацией».
Слово décarade, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и он достоин его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономатопеей в изумительном стихе Лафонтена:
Six forts chevaux tiraient un coche[600].С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование могло быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык, как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает подлинным напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский — этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в его трех разновидностях — романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая и причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных или возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.
Не угодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот boffette — пощечина, происшедшее от bofeton; vantane — окно (позднее — vanterne), от vantana; gat — кошка, от gato; acite — масло, от aceyte. He угодно ли итальянского? Вот spade — шпага, происшедшее от spada; carvel — судно, от caravella. He угодно ли английского? Вот bichot — епископ, происшедшее от bishop; raille — шпион, от rascal, rascalion — негодяй; pilche — футляр, от pilcher — ножны. Не угодно ли немецкого? Вот caleur — слуга, от kellner; hers — хозяин, от herzog. He угодно ли латинского? Вот frangir — ломать, от frangere; affurer — воровать, от fur; cadène — цепь, от catena. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти, это слово magnus — великий; Шотландия сделала из него свое mac, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор — великий Фарлан, великий Каллюмор[601]; арго сделало из него meck, а позднее meg, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот gahisto — дьявол, от gaïztoa — злой; sorgabon — доброй ночи, от gabon — добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот blavin — носовой платок, от blavet — брызжущая вода; ménesse — женщина (в дурном смысле), от meinec — полный камней; barant — ручей, от baranton — фонтан; goffeur — слесарь, от goff — кузнец; guédouze — смерть, от guenn-du, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет экю мальтийка в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.
Кроме его филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, самим разумом человека.
Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка — то, что можно было бы назвать его строительным гранитом.
Арго кишит словами такого рода, словами непосредственными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, — словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач — кат; лес — оксим; страх, бегство — плёт; лакей — лакуза; генерал, префект, министр — ковруг; дьявол — дедер. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают, и обнаруживают. Некоторые, например дедер, в то же время гротескны и страшны и производят на вас впечатление какой-то гримасы циклопа.
Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора — загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиомы, более метафорической, чем арго. Отвинтить орех — свернуть шею; хрястать — есть; венчаться — быть судимым; крыса — тот, кто ворует хлеб; алебардит — идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя плотному строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: дождит алебардами. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком и первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть дедером и становится пекарем — тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля и Еврипиду — после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, одновременно имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагории. Потьмушники мозгуют стырить клятуру под месяцем (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видишь, но что это такое — не ведаешь.
В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него наудачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры: Кеб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму — собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. Фраер — балбень, фраерша — клевая, а баруля фартовая — хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание на айль, орг, ерг или юш. Так: Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг? — Находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, подошла ли ему сумма, предложенная за побег. Окончание мар стали прибавлять сравнительно недавно.
Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, всегда стараясь скрыть свою сущность, оно, едва почувствует себя разгаданным, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь заново; это безвестная и проворная, никогда не останавливающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык — за десять столетий. Таким образом larton, хлеб, становится lartif; gail, лошадь, — gaye; fertanche, солома, — fertille; momignard, малыш, — momacque; siques, одежда, — frusques; chique, церковь, — érgugeoir; colabre, шея, — colas. Дьявол сначала хаушень, потом дедер, потом пекарь; священник — скребок, потом кабан; кинжал — двадцать два, потом перо, потом булавка; полицейские — кочерги, потом жеребцы, потом рыжие, потом продавцы силков, потом легавые, потом фараоны; палач — дядя, потом Шарло, потом кат, потом костылъщик. В семнадцатом веке бить — угощать табаком, а в девятнадцатом — натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша на слух Ласнера казался бы древнееврейским. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.
Однако время от времени, и именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго семнадцатого века, Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на анш старых подданных этого царства. Ты пьёаншь? (ты пьешь?) Он верианш (он верит). Но вечное движение отнюдь не перестает оставаться его законом.
Если философу удается удержать на мгновение этот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Никакое другое исследование не бывает более действенным, более плодотворным и поучительным. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. Среди этих людей бить означает прикидываться; они бьют болезнь — прикидываются больными; их сила — хитрость.
Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — потьмуха; человек — тёмник. Человек — производное от ночи.
Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу, и о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — больной; человек осужденный — мертвый.
Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу чистая. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль — о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу скрипка. Имя — это сердцевина; многозначительное уподобление. У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных делах, он называет сорбонной, другую, которой он платится, отрубком. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце — ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом gueux — нищий, то он готов к преступлению, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями — нуждой и злобой; поэтому арго не говорит gueux, оно говорит réguisé — навостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется хворостьё. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? Академия. Целая исправительная система может быть порождена этим словом.
У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, — вы, я, любой прохожий: pantre. (Pan — все люди.)
Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях lirlonfa?[602] Послушайте об этом.
В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плитки пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки, на некотором расстоянии друг от друга, свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, с дрожащими, подкашивающимися ногами, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них так и не просыпались больше. Чтобы поесть, они при помощи ступни одной ноги поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах при приближении галеры сначала слышали песню, а уже потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: Только рифмы меня и поддерживали. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: Тималумизен, тимуламизон. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна — нежная:
Туткайль театр Малютки стрелка[603].Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца — любовь.
В этом мире темных дел хранят тайну друг друга. Тайна — общая собственность. Тайна для этих отверженных — связь, являющаяся основой их союза. Нарушить тайну — значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести на энергичном языке арго обозначает съесть кусок. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.
Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: засветить тридцать шесть свечей. Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча — это камуфля. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним — камуфлет. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Если Пулайе сказал: Я зажигаю мою камуфлю, то Вольтер писал: Ланглевьель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов.
Раскопки в арго — это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклейменных проклятием.
Арго — это слово, ставшее каторжником.
Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.
О, бедная мысль отверженных!
Увы! Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее судьба в том, чтобы вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, эту пасть, изрыгающую пену, это змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна остаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое смутно чует ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?
Глава 3
Арго плачущее и арго смеющееся
Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века тому назад, так и арго нынешнего дня, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль тех нищих Двора чудес, которые употребляли для игры свои особые колоды карт; из этих игральных карт некоторые дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками — род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, — все отмечены печатью бессилия и угнетенности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется бедным вором, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: «Je n’entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses momignards et les locher criblant sans être atigé lui-même»[604]. Отверженный всякий раз, когда у него есть время подумать, ощущает свое бессилие перед лицом закона и ничтожество перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.
К середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевы воров приобрели, так сказать, дерзкие разудалые ухватки. Жалобный припев малюрэ заменился ларифля. В восемнадцатом веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская и загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный и подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:
Мирлябаби, сюрлябабо, Мирлитон рибон рибет. Сюрлябаби, мирлябабо, Мирлитон рибон рибо.Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши.
Это серьезный симптом. В восемнадцатом веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога, и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, как будто совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это служит признаком того, что они теряют чувство своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей какую-то неведомую им самим поддержку. Это служит признаком того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец, это служит признаком, если только не возникнет никакой помехи, пышного и близкого их расцвета.
Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? Восемнадцатый век? Его философию? Нет, конечно. Дело восемнадцатого века — доброе и полезное дело. Энциклопедисты, с Дидро во главе, физиократы, с Тюрго во главе, философы, с Вольтером во главе, утописты, с Руссо во главе, — это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, — их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро к прекрасному, Тюрго к полезному, Вольтер к истинному, Руссо к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты — ядовитая поросль, присоседившаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывающую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, весьма опекаемых одним принцем, — забавная подробность! — числятся в «Тайной библиотеке». Эти важные, но неизвестные факты остались не замеченными на поверхности. Порою именно сама тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон был из всех писателей тем, кто прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею.
Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии больше опустошения, чем где бы то ни было. В Германии в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, с виду правдоподобные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева, и в то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, — а в одном и другом случае глаза у них закрыты, — ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!
Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные жакериями, рядом с которыми чисто политические волнения — детская игра. Это уж не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.
Жакерии — это вулканические толчки в недрах народа.
Именно такой опасности, неизбежной, быть может, для Европы конца восемнадцатого века, поставила предел Французская революция — этот огромный акт человеческой честности.
Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним и тем же внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.
Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.
Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу — право.
Девятнадцатый век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, попросту невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция — это прививка против жакерии.
Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше Средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда почва раздавалась, когда свод пещер разверзался — и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.
Революционное чувство — чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон — это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует — царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс — это «Смерть ворам!». Прогресс — честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В этих фургонах, в ящиках, едва закрытых, а иных даже и полуоткрытых, среди сотни сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.
Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище не устрашает больше. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.
Глава 4
Два долга: бодрствовать и надеяться
При всем этом рассеялась ли всякая социальная опасность? Нет, конечно. Жакерии не существует. Общество может быть спокойно в этом отношении, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как следует ему дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.
Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.
Будем же повторять неустанно: прежде всего должно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но никогда — праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатства, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы — для всех способностей и училища — для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, — одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность — пусть сочувствующие души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость — пусть эгоистичные сердца знают об этом.
Отметим, однако, что все это — только начало. Подлинная задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.
Мы отмечаем это, но не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.
Если природа называется провидением, общество должно называться предвидением.
Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание — это напутствие, мысль — первая необходимость, истина — пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же равно и о желудках и об умах, лишенных пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.
Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря простому подъему общего уровня.
Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.
Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошлое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец — завоеватель. Оно идет со своим воинством — суевериями, со своей шпагой — деспотизмом, со своим знаменем — невежеством; с некоторого времени оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у наших дверей. Что до нас, то не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.
Мы верим, чего же нам опасаться?
Идеи не текут вспять, так же как и реки.
Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают отнюдь не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к мрачной болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: это умереть.
Мы же не хотим никакой смерти: для тела — как можно позже, для души — никогда.
Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия — явление, предопределенное небом.
Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их все в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она мало страшится тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от этого обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.
А пока — никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.
Мы видели не раз, как рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей: история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган и уносит с собой все — обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Мы этого не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Не ведаем. Могли ли быть эти общества спасены? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут, значит, дали течь; нам больше нечего сказать; и мы с какой-то растерянностью глядим, как в глубине этого моря, которое именуется «прошлым», за этими огромными волнами — веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли — Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там — мрак, а здесь — ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы пускаем в дело зонд, и, когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарства. Наша цивилизация, работа двадцати веков, — одновременно чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение — это уже много; дать ей свет — это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть доведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя — выслушать легкие и сердце цивилизации.
Мы повторяем, такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц — суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны — кратеры и лишаи — серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает свою лаву, болезни народа не убивают человека.
И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.
Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов — предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных — вожделение, зависть, ненависть при виде чужих наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.
Следует ли еще устремлять наш взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.
Книга VIII Чары и печали
Глава 1
Яркий свет
Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного — к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео: Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу — лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно старческий зуб. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.
Обычно на улице почти никого не бывало, к тому же Мариус появлялся в саду только ночью, поэтому ему и не грозила опасность, что его увидят.
Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека не слишком совестливого и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины — уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь — жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.
По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.
Пока длился май 1832 года, всякую ночь в этом запущенном скромном саду, под сенью этой чащи, с каждым днем все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, опьяненные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, что уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду — чистоту Козетты, а Козетта чувствовала опору — честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты! Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном состоянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.
В этот час любви, когда чувственность совершенно умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски-чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды, лунной ночью, Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону.
Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга.
Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная и мощная растительность, полная соков, опьяненная, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья.
Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что только есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!
Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, — тупица и дурной человек.
Козетта говорила Мариусу:
— Знаешь?..
(При всем сказанном, несмотря на божественную их невинность, и сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».)
— Знаешь? Меня зовут Эфрази.
— Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта.
— Нет. Козетта довольно-таки противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази. Тебе разве не нравится такое имя — Эфрази?
— Нравится, но Козетта вовсе не противное имя.
— Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?
— Ну… да.
— В таком случае мне тоже. Правда, это красиво, Козетта… Зови меня Козеттой.
И ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ.
В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула:
— Сударь, вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!»
И Мариусу в небесном упоении казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.
Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:
— Не кашляйте, сударь. Я не хочу, чтобы у меня кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?
Все это было просто божественно.
Как-то Мариус сказал Козетте:
— Представь себе, одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.
Они смеялись над этим весь вечер. В другой раз он среди разговора вдруг воскликнул:
— А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!
Но он сразу оборвал и не стал больше продолжать. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, что было для него невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом эта беспредельная невинная любовь.
Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцание спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди с нею вдыхать запах одного и того же цветка — и так всегда, бесконечно. В это время высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.
Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь, — это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент — это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все то жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смешение сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, все утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.
— О, — шептал Мариус, — как ты прекрасна! Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается — какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу — в телескоп.
И Козетта отвечала:
— Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра.
Ответы и вопросы чередовались как попало в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.
Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.
Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца, — вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова одновременно нежные и глубокие. Нежность и глубина — в этом вся женщина; в этом все небо.
Среди этого полного счастья у них каждое мгновение навертывались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, слегка повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви — это умиленность, иногда почти мучительная.
А наряду с этим, — подобные противоречия лишь игра света и теней в любви, — они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на двух мальчишек. И все же неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.
Они боготворили друг друга.
Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говорят на «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.
Глава 2
Опьянение полным счастьем
Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения их имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что он живет писанием разных статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Однажды он сказал еще, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус барон? Она не поняла. Она не знала, что должно означать это слово. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.
Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже самое недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно позабыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут те сомнамбулы, которых называют влюбленными.
Увы! Кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?
Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь — пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус лишь с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» — ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение — к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не бывало. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже ничего не помним. Розовая дымка застилает все.
Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии, перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи — вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.
Они дремали наяву в этой баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!
Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза — это лучший способ видеть душу.
Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.
Глава 3
Первые тени
Жан Вальжан ничего не подозревал.
Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она в восхищении. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа и лишь услышав на улице, как Козетта открывает двери подъезда. Не приходится говорить, что днем Мариуса здесь никогда не видали. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Один только раз, утром, он сказал Козетте: «Послушай, у тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус в порыве восторга обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.
Старуха Тусен, рано закончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне, и точно так же, как Жан Вальжан, ничего не знала.
Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветви деревьев. Если бы в эти мгновения молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили, так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.
Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковые. Такая любовь — это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.
Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.
Обычно он удалялся к полночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говаривал Баорелю:
— Можешь себе представить? Мариус начал являться домой в час ночи.
Баорель отвечал:
— Что ж такого? В тихом омуте черти водятся.
Иногда Курфейрак, принимая серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу:
— Молодой человек, вы сбились с пути истинного!
Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; не в его обычае были неземные страсти, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.
Однажды утром он обратился к нему со следующим увещеванием:
— Дорогой мой, сейчас ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну, будь же добрым малым, скажи, как ее зовут!
Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя — Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.
В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство:
Поссориться и говорить друг другу «вы» единственно затем, чтобы с большей приятностью говорить потом «ты»;
Долго рассказывать друг другу, и в самых мельчайших подробностях, о людях, до которых им не было никакого дела, — лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит;
Для Мариуса — слушать, как Козетта говорит о нарядах;
Для Козетты — слушать, как Мариус говорит о политике;
Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;
Смотреть на одну и ту же звезду в небесах или на одного и того же светляка в траве;
Вместе молчать — наслаждение еще большее, чем беседовать;
И т. д. и т. д.
Между тем надвигалась гроза.
Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел опустив голову; собираясь повернуть за угол улицы Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:
— Добрый вечер, господин Мариус.
Он поднял голову и узнал Эпонину.
Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она совсем исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.
Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она его просто ведет, мы уже это установили, к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он также забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эта девушка называлась Эпониной Тенардье, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, — то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой горячностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.
Он ответил с некоторым замешательством:
— Ах, это вы, Эпонина?
— Почему вы мне говорите «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?
— Нет, — ответил он.
Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но только он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.
Он молча смотрел на нее. Она воскликнула:
— Скажите же…
Тут она запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.
— Ну!.. — снова начала она.
Потом опять замолчала, потупив глаза.
— Покойной ночи, господин Мариус, — вдруг резко сказала она и ушла.
Глава 4
Кеб по-английски — то, что катится, а на арго — то, что лает
На следующий день, это было 3 июня, а 3 июня 1832 года — дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в ту эпоху грозовыми тучами над горизонтом Парижа, Мариус, с наступлением темноты, шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд — это уже было слишком. Он быстро свернул в сторону, оставил бульвар, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.
Вот почему Эпонина последовала за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не стараясь даже встретиться с ним. И лишь накануне она попыталась с ним заговорить.
Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.
— Смотри-ка! — сказала она про себя. — Идет к ней в дом!
Она подошла к решетке, пощупала один за другим прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.
Вполголоса, мрачным тоном, она пробормотала:
— Ну нет, черта с два!
Она уселась на цоколе решетки, рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где Эпонину разглядеть было невозможно.
Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.
Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавший буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой и угрожающий голос:
— Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!
Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаги.
Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.
Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; через минуту здесь сошлись все шестеро.
Эти люди начали тихо переговариваться.
— Туткайль, — сказал один из них.
— Есть ли кеб в саду? — спросил другой.
— Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.
— Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?
— Да.
— Решетка старая, — добавил пятый, говоривший голосом чревовещателя.
— Тем лучше, — сказал второй. — Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать.
Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпонина час тому назад, последовательно пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Таким образом он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Лишь только он собрался схватить этот прут, чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:
— Здесь есть кеб.
И тут же он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.
Он испытал то потрясение, которое свойственно вызывать неожиданности. Он словно весь ощетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:
— Это еще что за потаскуха?
— Ваша дочь.
Действительно, то была Эпонина, а говорила она с Тенардье.
При появлении Эпонины пять остальных, то есть Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон, бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи.
В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».
— Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли? — приглушенным голосом воскликнул Тенардье. — Пришла мешать нам работать?
Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею.
— Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?
Тенардье попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал:
— Отлично. Ты меня поцеловала, и хватит. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.
Но Эпонина не отпускала его и удвоила свою нежность:
— Папочка, как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться! Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите же, что с маменькой?
Тенардье ответил:
— Она здорова, впрочем, не знаю, говорю тебе, пусти меня и проваливай.
— Ни за что не хочу уходить, — жеманничала Эпонина с видом балованного ребенка, — вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.
И она снова обняла отца за шею.
— Ах, черт, как это глупо! — не выдержал Бабет.
— Мы теряем время! — крикнул Живоглот. — Того и гляди, появятся легавые.
Голос чревовещателя продекламировал следующее двустишие:
Для поцелуев — свой черед, У нас теперь не Новый год.Эпонина повернулась к пяти бандитам.
— Смотри-ка, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет. Здравствуйте, господин Звенигрош. Разве вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?
— Не беспокойся, все тебя узнали! — проворчал Тенардье. — Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.
— В этот час курам спать, а лисицам гулять, — сказал Монпарнас.
— Ты сама понимаешь, нам надо тутго поработать, — прибавил Бабет.
Эпонина схватила за руку Монпарнаса.
— Берегись! Обрежешься — у меня перо в руке, — предупредил тот.
— Монпарнас, миленький, — кротко ответила Эпонина, — люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот, ведь это мне поручили выяснить дело.
Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.
Своей маленькой, слабой и костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:
— Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.
— Там одни женщины, — сказал Живоглот.
— Нет. Все выехали.
— А свечи остались! — заметил Бабет.
И он показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.
Эпонина сделала последнюю попытку.
— Ну и что ж! — сказала она. — Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.
— Пошла к черту! — закричал Тенардье. — Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон.
И он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед.
— Господин Монпарнас, дружочек, — сказала Эпонина, — вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!
— Берегись, напорешься на нож! — ответил Монпарнас.
Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил:
— Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.
Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась, и сказала:
— Значит, вы хотите войти в этот дом?
— Только всунуть нос! — ухмыляясь, заметил чревовещатель.
Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:
— Ну, а я не хочу.
Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:
— Друзья, послушайте хорошенько! Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в этот сад, если дотронетесь до этой решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.
— С нее станется, — тихо сказал Тенардье Брюжону и чревовещателю.
Она тряхнула головой и прибавила:
— Начиная с моего папеньки!
Тенардье подошел к ней.
— Подальше от меня, старикан! — предупредила она.
Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:
— Сука!
Она рассмеялась ужасным смехом.
— Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорю вам, вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам объяснила уже: кеб — это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы мне надоели! Проваливайте куда хотите, но сюда не являйтесь, я вам это запрещаю! Вы меня ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка, попробуйте, подойдите!
Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам, вид ее был ужасен.
— Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем — мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться — чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так, что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!
Она уставилась пристальным взглядом на Тенардье и сказала:
— Даже и вас, папаша!
Потом, окидывая бандитов горящими глазами призрака, продолжала:
— Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!
Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыхание с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.
— Стоит мне только крикнуть, — продолжала она, — сюда прибегут, и — хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ.
Тенардье двинулся к ней.
— Не подходить! — крикнула она.
Он остановился и кротко сказал ей:
— Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка, значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?
— Вы мне надоели, — ответила Эпонина.
— Нужно ведь нам как-никак жить, есть…
— Подыхайте.
И она уселась на цоколь решетки, напевая:
И ручка так нежна, И ножка так стройна, А время пропадает…Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Ближний фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.
Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие.
А она спокойно и сурово глядела на них.
— Что-то ей засело в башку, — сказал Бабет. — Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.
— Ладно, вы все ступайте туда! — вскричал Монпарнас. — Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется…
И при свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава.
Тенардье не говорил ни слова и, видимо, был готов на все.
Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он, казалось, задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается, и всем было известно, что только из удальства он ограбил начисто полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни, поэтому пользовался большим авторитетом.
Бабет спросил его:
— А ты что скажешь, Брюжон?
Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, наконец решился подать голос:
— Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.
Они ушли.
По дороге Монпарнас пробормотал:
— Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.
Бабет ответил:
— А я нет. Дамочек я не трогаю.
На углу улицы они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами:
— Где будем ночевать сегодня?
— Под Пантеном.
— Тенардье, при тебе ключ от решетки?
— А то у кого же!
Эпонина, не спускавшая с них глаз, увидела, как они отправились той же дорогой, что и пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Так она проводила их до бульвара. Там они разошлись в разные стороны, и она увидела, как эти шесть человек потонули во мраке, словно растворились в нем.
Глава 5
Что таится в ночи
После ухода бандитов улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные чащи, кустарники, вересковые заросли, тесно переплетенные ветви, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; и вещам, неведомым нам — живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая и ощетинившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, и между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, чей источник и цель — чрево, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, которое возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и, чудится им, живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, смутно боятся иметь дело с необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятятся перед оборотнем.
Глава 6
Мариус возвращается к действительности в такой мере, что дает Козетте свой адрес
В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел возле Козетты.
Никогда еще небо не бывало таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.
Ее глаза покраснели.
То было первое облако над восхитительной мечтой.
— Что с тобой? — были первые слова Мариуса.
— Сейчас, — начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: — Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.
Мариус задрожал с головы до ног.
В конце жизни «умереть» — означает «расстаться»; в начале ее «расстаться» — означает «умереть».
В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», — прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм — простое кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились всякую ночь видеть друг друга во сне — и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавчики, ботинки — все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил про себя, — то был глухой и смутный лепет пробивающейся чувственности, — что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать. «Это моя». — «Нет, это моя». — «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». — «То, что ты принимаешь за себя, — я». Мариус был какою-то частью Козетты, а Козетта — какою-то частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это опьянение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», и резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта — не твоя!»
Мариус пробудился от сна. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к этой жизни.
Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала лишь, что его рука стала холодной, как лед. И теперь уже она спросила его:
— Что с тобой?
Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:
— Я не понимаю, что ты говоришь.
Она повторила:
— Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.
— Но ведь это чудовищно! — воскликнул Мариус. Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, никакой поступок Бюзириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком г-на Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там есть какие-то дела.
Он спросил упавшим голосом:
— И когда же ты уедешь?
— Он не сказал когда.
— И когда же ты вернешься?
— Он не сказал когда.
Мариус встал и холодно спросил:
— Козетта, вы поедете?
Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и сказала с какой-то растерянностью:
— Куда?
— В Англию? Вы поедете?
— Почему ты мне говоришь «вы»?
— Я спрашиваю вас, поедете ли вы?
— Но что же мне делать, скажи? — ответила она, умоляюще сложив руки.
— Значит, вы едете?
— А если отец поедет?
— Значит, вы едете?
Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.
— Хорошо, — сказал Мариус. — Тогда и я уеду куда-нибудь.
Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. Она пролепетала:
— Что ты хочешь сказать?
Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу и ответил:
— Ничего.
Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме.
— Какие мы глупые! Мариус, я придумала.
— Что?
— Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.
Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.
— Уехать с вами! — крикнул он Козетте. — Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги пропускают воду; уже полтора месяца, как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!
Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя ни жесткой коры, царапавшей ему лицо, ни лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.
Долго стоял он так. Подобное горе — бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.
То рыдала Козетта.
Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестные думы Мариуса.
Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ноги, выступавший из-под платья.
Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.
— Не плачь, — сказал он.
Она прошептала:
— Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне!
— Ты любишь меня? — спросил он.
Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы:
— Я обожаю тебя!
Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:
— Не плачь. Ну, ради меня не плачь!
— А ты? Ты любишь меня? — спросила она.
Он взял ее за руку.
— Козетта, я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь это делать. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.
В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила тот холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.
— Теперь слушай, — сказал он. — Не жди меня завтра.
— Почему?
— Ожидай меня только послезавтра.
— Почему же?
— Потом поймешь.
— Целый день не видеть тебя! Это невозможно.
— Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь. — И Мариус вполголоса, как бы про себя, прибавил: — Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером.
— О ком ты говоришь? — спросила Козетта.
— Я? Я ничего не сказал.
— На что же ты надеешься?
— Подожди до послезавтра.
— Ты этого хочешь?
— Да.
Она охватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать повыше, пыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду.
Мариус заговорил снова:
— Я вот о чем думаю. Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля, Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.
Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены:
Стекольная улица, № 16.
Между тем Козетта снова принялась смотреть ему в глаза.
— Скажи мне, что ты задумал, Мариус, ты о чем-то думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!
— О чем я думаю? Вот о чем: невозможно, чтобы бог хотел нас разлучить. Жди меня послезавтра.
— Что же я буду делать до тех пор? — спросила Козетта. — Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливцы мужчины! А я останусь совсем одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.
— Я попытаюсь кое-что предпринять.
— А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из «Эврианты» то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ожидать тебя к ночи, ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Так слышишь, ровно в девять часов я буду в саду.
— И я тоже.
И безотчетно, движимые одной и той же мыслью, увлекаемые теми электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби опьяненные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.
Когда Мариус ушел, улица была пустынна. В это время Эпонина шла следом за бандитами, провожая их до самого бульвара.
Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль — мысль, которую — увы! — он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.
Глава 7
Старое сердце и юное сердце друг против друга
Дедушке Жильнорману уже пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, № 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был один из тех стариков прежнего склада, которые ожидают смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает, и даже печаль не клонит долу.
И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение целых шести месяцев он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно он прочел в «Монитере» следующее сочетание слов: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец, несомненно, впал в уныние. Он не уступил, не сдался — это не было свойственно ни его физической, ни нравственной природе, но чувствовал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, — другими словами этого не выразить, — ждал Мариуса, убежденный, что «этот скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь же в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ожидать, то… Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь же она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает при искренних и естественных чувствах, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному внуку, исчезнувшему подобным образом. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего, г-н Жильнорман чувствовал или убедил себя, что ему, деду, совершенно невозможно сделать первый шаг навстречу внуку. «Лучше мне околеть», — говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе лишь с глубоким умилением и немым отчаянием старика, уходящего во тьму.
У него начали выпадать зубы, и это еще усилило его печаль.
Господин Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, никогда ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.
В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, словно желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он беспрестанно смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал:
— По-моему, он похож на нее.
— На сестру? — спросила девица Жильнорман. — Ну конечно.
Старик прибавил:
— И на него тоже.
Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:
— Отец, неужели вы все еще сердитесь?.. — Она запнулась, не решаясь продолжать.
— На кого? — спросил он.
— На бедного Мариуса.
Он поднял свою старческую голову, стукнул костлявым и морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:
— Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин — шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!
И отвернулся, чтобы дочь не заметила слезы на его глазах.
Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:
— Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.
Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».
«После той глупости» означало: с тех пор как она вышла замуж за полковника.
Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Г-н Жильнорман не согласился на добровольное заблуждение. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя он здесь и чуял наследство, питал отвращение к тяжелой повинности — нравиться. Старик наскучил улану, а улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был, несомненно, веселым, но болтливым малым; легкомысленным, но пошловатым; любившим хорошо пожить, но плохо воспитанным; у него были любовницы — это правда, и он много о них говорил — это тоже правда, — но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Г-ну Жильнорману надоело слушать россказни о всяких его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. Помимо того, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это его делало уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери: «Хватит с меня этого Теодюля. В мирное время я не чувствую особенного пристрастия к военным. Принимай их сама, если хочешь. Пожалуй, я даже предпочту саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен, в конце концов, как стукотня ножен по мостовой. Да и к тому же пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, словно бабенка, носить корсет под кирасой — это вдвойне смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства, и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе».
Напрасно дочь повторяла ему: «Но ведь это ваш внучатный племянник». Оказалось, что г-н Жильнорман, чувствовавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.
В сущности, так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль только заставил его еще больше сожалеть о Мариусе.
Однажды вечером, — то было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, — он отпустил дочь, занимавшуюся шитьем в соседней комнате. Один в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, он сидел, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи времен его молодости, и был похож на старинный портрет Гара́. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», — говорил он.
Дедушка Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. Его озлобленная нежность всегда в конце концов начинала возмущаться и превращалась в негодование. Он дошел до того состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. В настоящую минуту он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже сделал бы это, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «сего господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.
«Неужели, — говорил он, и это был его горестный ежедневный припев, — неужели он больше не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:
— Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?
Старик выпрямился в кресле, мертвенно-бледный и похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:
— Как? Господина Мариуса?
— Не знаю, — ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, — сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел какой-то молодой человек, доложите, что это господин Мариус».
Дед Жильнорман пробормотал еле слышно:
— Проси сюда.
Он остался сидеть в той же позе, голова его тряслась, взор был пристально устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.
Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти. Его почти нищенская одежда не была видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.
Старый Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, действительно это был он, это был Мариус!
Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел его красивым, благородным, изящным, взрослым, сложившимся мужчиной, умеющим себя держать, обаятельным. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец, вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жестокость. Он резко спросил:
— Что вам здесь нужно?
Мариус смущенно ответил:
— Сударь…
Господин Жильнорман хотел бы, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом, и самим собой. Он чувствовал, что был резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. Он угрюмо перебил Мариуса:
— Зачем же вы все-таки пришли?
Это «все-таки» обозначало: «Если вы не пришли затем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придала сходство с мрамором.
— Сударь…
Старик снова прервал его суровым голосом:
— Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?
Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:
— Нет, сударь!
— В таком случае, — с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, — чего же вы от меня хотите?
Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:
— Сударь, сжальтесь надо мной.
Эти слова вывели г-на Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Дед встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.
— Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина; вы богаты единственно подлинным богатством, какое только существует, а я — всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня уже нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц — Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами все будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди, настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это уже само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.
И старик снова спросил сердито и серьезно:
— Да, так чего же вы от меня хотите?
— Сударь, — ответил Мариус, — я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кое о чем, после этого я сейчас же уйду.
— Вы глупец! — воскликнул старик. — Кто вам велит уходить?
Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца: Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею! Г-н Жильнорман чувствовал, что Мариус вот-вот готов от него уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его возрастала, но так как эта скорбь тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:
— Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы причинили огорчение вашей тетушке, вы сделали это, — догадаться нетрудно, — потому что так гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, корчить щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали никаких признаков существования, наделали долгов, даже не попросив меня их заплатить, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?
Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности привел Мариуса только к молчанию. Г-н Жильнорман скрестил руки — этот жест был у него особенно повелительным — и с горечью обратился к Мариусу:
— Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.
— Сударь, — ответил Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть, — я пришел попросить у вас позволения жениться.
Господин Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.
— Попросите сюда мою дочь.
Минуту спустя дверь снова приоткрылась, м-ль Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника: г-н Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:
— Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.
Отрывистый и хриплый голос старика возвещал об особенной силе его возмущения. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, казалось, она едва узнала его и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.
Тем временем дедушка Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился следующей речью:
— Жениться? В двадцать один год! И все у вас уже улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика — недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, насупротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «28 июля 1830 года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника господину герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Можно ли, не будучи нескромным, спросить, на ком?
Он остановился и, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:
— Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?
— Ничего, — ответил Мариус с какой-то твердой и почти свирепой решимостью.
— Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?
Мариус ничего не ответил. Г-н Жильнорман продолжал:
— А, понимаю. Значит, девушка богата?
— Не больше, чем я.
— Что? Бесприданница?
— Да.
— Есть надежды на будущее?
— Не думаю.
— Совсем нищая? А что же такое ее отец?
— Не знаю.
— А как ее зовут?
— Мадемуазель Фошлеван.
— Фош… как?
— Фошлеван.
— Пффф! — фыркнул старик.
— Сударь! — вскричал Мариус.
Господин Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой:
— Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Госпоже баронессе Понмерси придется самолично отправляться к зеленщице покупать на два су петрушки.
— Сударь, — ответил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда, — умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!
Старик рассмеялся пронзительным и мрачным смехом, прерываемым кашлем.
— Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого непроходимого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы я тогда и без него! Ну, да все равно, я ему скажу: «Старый осел, счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадемуазель — все равно какой, дочерью — все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне угодно наплевать на свою карьеру, на свое будущее, на свою молодость, на свою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!» И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Шпаклеван, Пеклеван… Нет, сударь, никогда, никогда!
— Отец!
— Никогда!
По тому тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда потеряна. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Г-н Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, которая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, энергично втащил обратно, толкнул в кресло и сказал:
— Ну, рассказывай!
Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.
Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо г-на Жильнормана выражало только грубое и неизреченное добродушие. Предок уступил место деду.
— Ну, полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы!
— Отец, — снова начал Мариус.
Все лицо старика озарилось каким-то невыразимым сиянием.
— Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!
В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус словно был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола, и жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что дед Жильнорман взирал на него с изумлением.
— Итак, отец, — начал Мариус.
— Так вот оно что! — прервал его Жильнорман. — У тебя взаправду нет ни гроша? Ты одет, как воришка.
Он порылся в ящике, взял оттуда кошелек и положил его на стол.
— Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.
— Отец, — продолжал Мариус, — дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду — она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, не знаю сам, как это случилось, влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижусь с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только, они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, тогда я подумал: «Пойду к дедушке и расскажу ему об этом». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, брошусь в воду. Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума. Вот вам вся правда, мне кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.
Дедушка Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табаку на колени.
— Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? Погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая и есть. Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельга-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, никакой беды в этом нет. К тому же не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус, я считаю похвальным для молодого человека быть влюбленным! Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Что до меня, то должен отдать себе справедливость: из всех этих санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?
Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.
Старик разразился смехом, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, самым лукавым образом пожимая плечами:
— Дурачок! Сделай ее своей любовницей.
Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред окончился словами, которые Мариус понял и которые были смертельным оскорблением для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.
Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым уверенным шагом направился к дверям. Там он обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:
— Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.
Дедушка Жильнорман, остолбеневший от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести хотя бы одно слово, дверь закрылась и Мариус исчез.
Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как бы пораженный громом, не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала его за горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:
— Помогите! Помогите!
Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:
— Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже больше не вернется!
Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, причем Баск и Николетта удерживали его сзади, и прокричал:
— Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!
Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже поворачивал за угол улицы Сен-Луи.
Девяностолетний старец с выражением тягчайшей муки поднял два-три раза руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.
Книга IX Куда они идут?
Глава 1
Жан Вальжан
В тот же самый день, в четыре часа, Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах; картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. В настоящее время, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две тому назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродил неспроста в этом квартале. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь — значит, все опасности налицо. Кроме того, в Париже было неспокойно для всякого, кто имел основания скрывать что-либо в своей жизни; политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Морэ, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумался: его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.
Он был весьма озабочен всем этим.
Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился и сейчас, особенно усиливал его тревогу. Сегодня утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты еще были закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем:
Стекольная улица, № 16.
Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это означало? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад этот стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз всполошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он поостерегся сказать Козетте о строчке, нацарапанной на стене, боясь ее испугать.
Среди этих тревожных размышлений он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился на верхушке откоса, прямо за его спиной. Он уже хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул ее и прочел следующее, написанное карандашом, большими буквами, слово:
Переезжайте.
Жан Вальжан быстро поднялся, на откосе уже никого не было. Осмотревшись кругом, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах, который, перешагнув парапет, скользнул вниз, в ров Марсова поля.
Жан Вальжан в глубоком раздумье тотчас же отправился домой.
Глава 2
Мариус
Мариус ушел от г-на Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в бесконечном отчаянии.
Впрочем, — те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, — улан, пустельга-офицер, этот двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения — это те же морщины. В ранней юности их не бывает. То, что потрясает Отелло, не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам — обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. Было уже позднее утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и уже собирались уходить.
Курфейрак спросил его:
— Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?
Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.
Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.
Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда у него под черепом словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все это со вчерашнего дня. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше — тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из своей задумчивости и задавался вопросом: «Не дерутся ли там?»
С наступлением темноты, точно в девять часов, Мариус, как и обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую и невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, всегда таят в себе нечто столь властительное и чудесное, что, посетив его, они целиком заполняют сердце.
Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросль и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», — подумал он. Козетты там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад — в саду никого не было. Тогда он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это было пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» — крикнул он. «Козетта!» — повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду, никого в доме.
Мариус вперил отчаявшийся взор в этот мрачный дом, такой же черный, такой же безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько восхитительных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку крыльца; сердце его было полно нежности и решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями:
— Господин Мариус!
Он встал.
— Что? — спросил он.
— Господин Мариус, вы здесь?
— Да.
— Господин Мариус, — снова раздался голос, — ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шанврери.
Этот голос не был ему совсем незнаком. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел какого-то человека, с виду юношу, который, убегая, исчезал в сумерках.
Глава 3
Господин Мабеф
Кошелек Жана Вальжана не принес пользы г-ну Мабефу.
По своей благородной, но наивной строгости г-н Мабеф не принял подарка звезд; он отнюдь не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, и г-на Мабефа он ничуть не выручил.
Господин Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.
Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его «Флоры». Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением этих клише он не мог уже пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры «Флоры» и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как неполноценные. У него ничего больше не осталось от труда всей его жизни. Он стал проедать деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил свой сад и оставил его невозделанным. Еще раньше, и давно уже, он отказался от двух яиц и куска мяса, которые съедал время от времени. Обедал он хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего он мог обойтись, из постельного белья, одежды и одеял, затем свои гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, «Исторические библейские четверостишия», издание 1560 года, «Свод библий» Пьера де Бесс, «Жемчужины Маргариты» Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, книга «Об обязанностях и достоинстве посла» сьёра де Вилье-Хотмана, «Раввинский стихослов» 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэрция, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, тринадцатого века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, столь плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи двенадцатого столетия из Неаполитанской библиотеки. Г-н Мабеф никогда не разжигал камина в своей спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий — это наиболее леденящее. Однако дедушка Мабеф не утратил целиком своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги, и он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэрция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, только и уцелел его книжный шкаф со стеклянными дверцами.
Однажды тетушка Плутарх сказала ему:
— Мне не на что приготовить обед.
То, что она называла обедом, представляло собой хлебец и четыре или пять картофелин.
— А в долг? — спросил Мабеф.
— Вы отлично знаете, что в долг мне не дают.
Господин Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги одну за другой, словно отец, вынужденный отдать на заклание одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул ее под мышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:
— Вот вам на обед.
Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось какой-то мрачной тенью, и тень эта не исчезала больше.
Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Г-н Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков иногда тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека ушла к ним. Иногда он говорил: «Мне все же восемьдесят лет», словно у него была какая-то затаенная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малакэ, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Грэ. «Я задолжал пять су», — сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он совсем не обедал.
Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель этого Общества навестил его, обещал ему поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! — воскликнул министр. — Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день г-н Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», — сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то: «А кто же этот старый господин?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.
Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэрция. Он достаточно знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: это невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, болезнь усиливалась, нужна была сиделка. Г-н Мабеф открыл свой шкаф, там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэрций.
Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; то было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.
На следующий день с рассвета он уселся в своем саду на опрокинутую тумбу, и через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел в продолжение всего утра, опустив голову и тупо устремив взор на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся какой-то необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.
Дедушка Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:
— Что это такое?
Садовник совершенно спокойно ответил:
— Бунт.
— Какой бунт?
— Такой. Дерутся.
— Почему дерутся?
— А бог их знает! — сказал садовник.
— Где же это? — снова спросил г-н Мабеф.
— Где-то возле Арсенала.
Дедушка Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и, сказав: «Ах да, я и позабыл!» — вышел из дому с растерянным видом.
Книга X 5 июня 1832 года
Глава 1
Внешняя сторона вопроса
Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются по пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.
Куда?
На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.
Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушное ослепление, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, любое тщеславие, считающее себя обойденным судьбой; недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, всякий, чающий выхода из крушения; наконец, в самом низу чернь, эта воспламеняющаяся грязь, — таковы составные элементы мятежа.
Самое великое и самое ничтожное — существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, праздношатающиеся, темные личности, бродяги предместий, все те, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безыменные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, — все они принадлежат мятежу.
Любой, кто носит в душе тайный бунт против государственного порядка, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.
Мятеж — это своего рода смерч, при некоторых температурных условиях внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, древесный ствол и соломинку.
Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.
Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика — в генерала.
Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то с точки зрения власти мятеж в небольшой дозе даже не мешает. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет те правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.
Мятеж тридцать лет тому назад рассматривался еще и с других точек зрения.
Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом»; Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерную мягкость, которая, будучи смешением хулы и прощения, воображает себя мудростью, часто оказываясь одним лишь педантством. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы — между горячей и холодной. Школа эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бранит народные волнения.
Если послушать эту школу, то окажется: «Мятежи, усложняющие переворот 1830 года, лишают в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю эту революцию, первоначально столь замечательную своим единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые места повреждений; мятеж сделал их ощутимыми. Оказалось возможным сказать: «Ага! Здесь перелом». После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.
Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх; во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй — сорок, третий — шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, — иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.
Конечно, с точки зрения исторической, мятеж отмечен своеобразной красотой; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом чувствуется сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее своеобразные особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие возрастов, — это одна и та же раса, это те же стоические люди, умирающие в возрасте двадцати лет за свои идеи, и в сорок лет — за свои семьи. Армия, всегда опечаленная во время гражданской войны, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали и мужество буржуазии.
Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели!» Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, но Францию, несомненно, ослабевшую. Прибавьте — потому что следует сказать обо всем — кровопролития, слишком часто позорящие победу рассвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге — мятежи были гибельны».
Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется столь охотно.
Что до нас, то мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И кроме того, всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за равную цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые кажутся доводами, а на самом деле — только слова. Предмет наших размышлений — мятеж, исследуем поэтому его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины.
Мы уточняем.
Глава 2
Суть вопроса
Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева — один неправый, другой правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда малой кучке людей удается захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одна и та же пушка, наведенная на толпу, виновна 10 августа и права 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт — истинное. То, что всеобщее голосование создало в сознании своей свободы и верховенства, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации: инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельс, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием, Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, — это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона — это мятеж; Париж против Бастилии — это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба — это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое усиление света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Встречается ли, например, что-либо более странное, чем длительное в кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»! Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы госпожи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки — вот мятеж. Вандея — это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества — нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, пусть, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание — это только движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять — это насилие над человеческим родом. Восстание — это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание; Гебер против Дантона — это мятеж.
Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.
Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание — вулкан, а мятеж — горящая солома.
Бунт, мы уже отметили это, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк — мятежник; Камилл Демулен — правитель.
Порою восстание — это возрождение.
Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования — явление совершенно новое, поэтому каждая эпоха предшествовавшей нам истории, в течение четырех тысяч лет только и говорившей что о попранном праве и страдании народов, несла с собой свою, возможную для нее форму протеста. При цезарях не было восстания, зато был Ювенал.
Facit indignatio[605] заступает место Гракхов.
При цезарях был сиенский изгнанник; был, кроме него, и человек, написавший «Анналы».
Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса, он также обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса.
Иоанн на своей скале — это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший «Анналы», — латинянин; выразимся точнее — римлянин.
Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу.
Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, — слово страшное. Писатель удваивает и утраивает силу своего пера, когда молчание навязано народу властелином. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном.
Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цицероновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы — больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.
Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.
Скажем мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит — два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик; бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии — вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается своего рода чуткость божественного правосудия, которое поколебалось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.
Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры — Тацит и Ювенал — с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.
Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов — дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммоде, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.
Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь.
Но и Ювенал, и Тацит, точно так же как Исайя в библейские времена, как Данте в эпоху Средневековья, — это человек; мятеж и восстание — это народ, иногда неправый, иногда правый.
В наиболее частых случаях мятеж является следствием причин материального порядка; восстание — всегда явление нравственного порядка. Мятеж — это Мазаньелло, восстание — это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж — с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. В случаях голода мятеж, в Бюзансе например, имеет реальный, волнующий и справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ — цель хорошая, истреблять его — плохой для этого способ.
Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается той же смутой. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания — мятеж, точно так же как исток реки — горный поток. И обычно оно впадает в океан — Революцию. Иногда, однако, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном своем триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.
Все это в прошлом, будущее — иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн — как уличных войн, так и войн на границах государства — вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра — это мир.
Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он мало разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик.
Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!»
Чем же, после этого объяснения, является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание?
Это восстание.
Может статься, что в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, в то же время всегда памятуя о различии между его формой — мятежом и его сущностью — восстанием.
Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она всегда неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит к состоянию спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.
Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который парижане памятуют как эпоху мятежей, без сомнения, представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.
Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.
События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой и драматической действительности, которою историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, и мы настаиваем на этом, — именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Малые подробности, как мы, кажется, уже говорили, — это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует подробностями такого рода. Судебные следствия, хоть и по иным основаниям, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что не ведомо никому, — факты, над которыми прошло забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать заверение: мы сами видели то, о чем расскажем. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, — дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы собираемся приподнять, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.
Глава 3
Погребение — повод к возрождению
Весной 1832 года, несмотря на то что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июне 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка.
Ламарк был человек действия и доброй славы. Последовательно, при Империи и при Реставрации, он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и Фуа, его предшественник, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой — за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя in petto[606] одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года задели его как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом армия на устах, Ламарк — со словом отечество.
Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство — как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.
В канун и утро 5 июня — день, назначенный для погребения генерала Ламарка, Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от своих верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив его и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Один плотник, по имени Ломбье, встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» — «Да, видишь ли, у меня нет оружия». — «Ну, так что же?» — «Вот я и иду на стройку за своим циркулем». — «А на что он тебе?» — «Не знаю», — ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Ну-ка, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал: «У тебя есть работа?» — «Нет». — «Поди к Фиспьеру, что между Монрейльской и Шаронской заставами, там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «гоняли, точно на почтовых», то есть бегали повсюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми, возле Тронной заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» — «Под блузой». — «А ты?» — «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистовой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал более недели — хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время спорить с ним». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос: «Чего же ты хочешь?» — отвечал: «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали некоего Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто.
Итак, 5 июня, в день, попеременно то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал похоронный кортеж генерала Ламарка. Гроб сопровождали два батальона с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, — члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей; знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, трехцветные длинные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивающие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, почти все размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, иногда шумной толпой, иногда колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей; какой-то человек, вооруженный парой отчетливо проступавших под одеждой пистолетов, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на сучьях деревьев, на балконах, в окнах, на крышах — всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; все глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.
Правительство наблюдало в свою очередь. Оно наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с трубачами во главе; в Латинском квартале и в Ботаническом саду — муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице; на Винном рынке — эскадрон драгун; на Гревской площади — половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину — на площади Бастилии; 6-й драгунский — у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.
В процессии передавались всевозможные слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадтском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. На лицах большинства людей, шедших с обнаженной головой, преобладало выражение восторженности и одновременно подавленности. Там и сям среди этого множества народа, находившегося во власти столь неистовых, но благородных чувств, виднелись также физиономии настоящих злодеев, виднелись гнусные рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют такого рода волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда со дна поднимается на поверхность туча грязи. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.
Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий — гроб, обнесенный вокруг Вандомской колонны, камни, брошенные в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, галльский петух, сорванный с одного народного знамени и втоптанный в грязь, полицейский, раненный ударом сабли у ворот Сен-Мартен, офицер 12-го легкого кавалерийского полка, громко провозгласивший: «Я республиканец», Политехническая школа, неожиданно вырвавшаяся из своего вынужденного заточения и появившаяся здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» — отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к похоронному кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.
Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой, он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, эта самая рыжая бородка снова появилась позднее, в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.
Похоронная колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили — с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.
Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громогласные крики: Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу! Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета по Морландской набережной.
В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.
Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом — драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча двигались вперед шагом, с видом мрачного выжидания.
В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.
Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, а другие — что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно лишь одно: внезапно раздались три выстрела, первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым — глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» — и тут же со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая все перед собой.
Теперь кончено: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада; молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны разносится по всем четырем концам Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.
Глава 4
Волнения былых времен
Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там — внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, вмиг исчезают выставки товаров; потом слышатся отдельные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, теперь начнется потеха!»
Не прошло и четверти часа, как в двадцати различных местах Парижа почти в одно и то же время произошло следующее.
На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда с трехцветным длинным знаменем, обернутым крепом, и тремя вооруженными людьми во главе — один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.
На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, звучным голосом открыто предлагал прохожим патроны.
На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя, на нем белыми буквами начертаны были слова: Республика или смерть! На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились кучки людей со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слова секция и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и чуть заметной промежуточной белой полоской.
На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников — одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-ле-Конт, третью на улице Тампль. В несколько минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей — почти все двухствольные, — шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Чтобы вооружить побольше людей, один брал ружье, другой — штык.
Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое — патроны, мой муж потом сказал мне».
Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла оттуда ятаганы и турецкое оружие.
Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.
И всюду — на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков — запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций, читали прокламации и кричали: «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.
Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствующих мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: Оружие сдано. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья и сабли, говоря при этом: Завтра пошлите за ними в мэрию. На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола́ офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в одном доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.
В квартале Сен-Жак студенты целыми роями выходили из своих меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдов» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснонен, чтобы построить баррикады, разнесли лесной склад. Лишь в одном только месте — на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран — жители оказали сопротивление и сами разрушили баррикаду. И лишь в одном только месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, начатую на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.
То, что мы здесь рассказываем медленно и последовательно, происходило сразу во всем городе, среди невероятной суматохи, подобно множеству молний, вспыхнувших при одном раскате грома.
Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был тот знаменитый дом № 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, а с другой — баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом — одна с улицы Монторгейль на улицу Большая Бродяжная, другая — с улицы Жофруа-Ланжевен на улицу Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Марэ, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной — на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой — возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.
У баррикады на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто казался начальником баррикады, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, — сказал он, — на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты. К тому же мятеж вел себя согласно законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами, были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. Человек, убитый на улице Понсо, как установили, обыскав его, имел при себе план Парижа.
В действительности же правила мятежом какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Марэ, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д’О, все улицы возле рынков; на левом берегу — казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Треть Парижа была в руках повстанцев.
Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, домашние обыски, быстро захваченные лавки оружейников свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.
К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска — другой, противоположный. Перестреливались от одной решетки к другой. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался в пассаже между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса он провел в этом щекотливом положении.
Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа один барабанщик получил удар кинжалом. Другой на Лебяжьей улице был окружен тридцатью молодыми людьми, которые прорвали его барабан и отобрали саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт три офицера пали мертвыми один за другим. Много муниципальных гвардейцев, раненных на Ломбардской улице, отступили.
Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с такой надписью: Республиканская революция, № 127. Была ли это революция на самом деле?
Восстание превратило центр Парижа в какую-то недоступную, в извилинах улиц, огромную цитадель.
Там находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались, это и доказывало, что вопрос решался именно там.
В некоторых полках солдаты колебались, и это увеличивало ужасающую неизвестность исхода. Они вспоминали народное ликование, с которым была встречена в июне 1830 года нейтральность 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками — Бюжо под начальством Лобо. Огромные патрули, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали друг за другом. Правительство, располагая целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, и послышался набат Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, видевший Аустерлиц, смотрел на это мрачно.
Эти старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и руководства только знанием тактики — этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихни, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.
Национальные гвардейцы предместья прибежали второпях в беспорядке. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.
В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полное спокойствие.
Глава 5
Своеобразие Парижа
Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем — ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышатся барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник ограничивается тем, что говорит:
— Кажется, на улице Сен-Мартен заварилась каша.
Или:
— В предместье Сент-Антуан.
Часто он беззаботно прибавляет:
— Где-то в той стороне.
Позже, когда уже можно различить мрачную и раздирающую душу трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:
— Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!
Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки быстро закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.
Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.
Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.
Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен маленький хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.
Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; ни в одной из других столиц ее не встретишь. Для этого необходимы два условия — величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.
Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный, и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил им: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят к центру восстания — первая от Бастилии, вторая от ворот Сен-Мартен, третья от Гревской площади, четвертая от рынков; что, впрочем, возможно, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит, несомненно, серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было очевидно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке какое-то неведомое чудовище.
Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; полицейская префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В частности, в Консьержери длинное подземелье, именовавшееся «Парижской улицей», было все покрыто охапками соломы, на которых валялось множество арестованных; некто Лагранж, лионец, мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под этими копошащимися на ней людьми казалось шумом ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Повсюду чувствовалась тревога и какой-то мало свойственный Парижу трепет.
В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство, только и слышалось: «Боже мой, он еще не вернулся!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому и неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего к надрывному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» С минуты на минуту, по мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.
Книга XI Атом братается с ураганом
Глава 1
Несколько разъяснений относительно корней поэзии Гавроша. Влияние некоего академика на эту поэзию
В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, уходить, спасаться — одни, призывая к сопротивлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, покрывавшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как бишь тебя звать, я забираю твою машинку!» — убежал с пистолетом.
Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, встретила мальчика, который размахивал пистолетом и напевал:
Днем видно все, зато ночами Мы ни черта не видим с вами! Любой забористый стишок Для буржуа — что вилы в бок. Эй, колпаки! Господь — свидетель, Вы позабыли добродетель.То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.
На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.
Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и все другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, они были его собственные. Помимо того, Гаврош хорошо знал все ходячие народные песенки и присоединял к ним свое собственное щебетание. Проказливый гном и уличный мальчишка, он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял все песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение для господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.
Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для собственных братьев. Братья вечером, отец утром — вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешно вернулся к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, затем ушел, доверив их той доброй матери-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес следующую речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята, если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Оба мальчика, подобранные полицейским сержантом и уведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромной китайской головоломке Парижа, не возвратились. На дне нашего общества полно таких исчезнувших следов. Гаврош больше их не видел. Два с половиной или три месяца протекло с той ночи. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, к черту, девались мои ребята?»
Между тем он прибыл с пистолетом в руке на улицу Капустный мост. Он заметил, что на этой улице осталась открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ничего, даже одного су, закричал: «Караул!»
Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!
Это не помешало, однако, Гаврошу продолжать свой путь.
Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя улицу Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.
Немного подальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи:
— До чего они жирные, эти самые рантье! Знай едят. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они и сами не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут сколько влезет в брюхо.
Глава 2
Гаврош в походе
Размахивать среди улицы пистолетом без собачки — занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:
— Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете. Друзья мои, я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!
В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.
На улице Ториньи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Марэ, представляло резкий контраст с огромным возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже — квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету — в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.
Но кумушки с улицы Ториньи — три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком — занимались только собственными делами.
Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости — одряхления, немощи, нужды и печали.
Тряпичница была смиренной. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница валяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной, — по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.
Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:
— А ваша кошка все такая же злюка?
— Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки — вот кто может на них пожаловаться.
— Да и люди тоже.
— Однако кошачьи блохи не переходят на людей.
— Это пустяки, вот собаки — те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили маленькую колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?
— А мне больше нравился герцог Бордоский.
— А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.
— Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!
— Ах, и не говорите, мясники эти просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.
Тут вмешалась тряпичница:
— Да, сударыни мои, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.
— Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.
— Что правда, то правда, — угодливо согласилась тряпичница, — у меня все-таки есть профессия.
После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:
— Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам у меня в комнате. Потом я убираю тряпки в корзину, огрызки фруктов — в лохань, простые лоскутья — в шкаф, шерстяные — в комод, бумагу — в угол под окном, съедобное — в миску, осколки стаканов — в камин, стоптанные башмаки — за двери, кости — под кровать.
Гаврош, остановившись позади, слушал.
— Старушки, — спросил он, — по какому это случаю вы завели разговор о политике?
Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.
— Еще один злодей тут как тут!
— Что это он держит в своей культяпке? Пистолет?
— Скажите на милость, этакий негодный мальчишка!
— Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!
Гаврош, исполненный презрения, ограничился вместо всякого возмездия тем, что щедро, всей пятерней, сделал им нос.
Тряпичница крикнула:
— Ах ты, бездельник босопятый!
Та, что именовалась мамашей Патагон, яростно всплеснула руками:
— Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бороденкой, он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, — уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в… в… — ну, там, где этот теленок! — в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж наверное увижу на гильотине!
— Ты сопишь, старушенция, — ответил Гаврош. — Высморкай получше свой хобот.
И отправился дальше.
Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и разразился следующим монологом:
— Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.
Внезапно он услышал шум позади: погнавшаяся за ним привратница Патагон издали грозила ему кулаком и кричала:
— Ублюдок несчастный!
— Плевать мне на это с высокого дерева, — ответил Гаврош.
Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он испустил следующий клич:
— Вперед, на бой!
Но тут его охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать.
— Я иду биться, — сказал он, — а ты вот не бьешь!
Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделек. Гаврош разжалобился.
— Бедненький мой тяв-тяв, — сказал он ему, — ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.
Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.
Глава 3
Справедливое негодование парикмахера
Достойный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во время Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он его приукрасил бы и назвал: «Диалог бритвы и сабли».
— Сударь, — спросил парикмахер, — а как император держался на лошади?
— Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.
— А хорошие кони были у него? Должно быть, прекрасные?
— В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. То была рысистая кобыла, вся белая. У нее были очень широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, очень длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.
— Славная лошадка, — сказал парикмахер.
— Да, это была верховая лошадь его величества.
Парикмахер почувствовал, что после таких значительных слов подобает немного помолчать; он сообразовался с этим, затем снова начал:
— Император был ранен только раз, не правда ли, сударь?
Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который присутствовал при этом:
— В пятку. Под Ратисбоном. Я его никогда не видел так хорошо одетым, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.
— А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?
— Я? — спросил солдат. — Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем — пулю в правую руку, другую — в левую ляжку под Иеной, под Фридландом — удар штыком, вот сюда, под Москвой — семь или восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец… Ах да, еще в битве при Ватерлоо я получил картечную пулю в бедро. Вот и все.
— Как прекрасно умереть на поле боя! — с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. — Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, понемногу, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот пушечное ядро!
— У вас губа не дура, — сказал солдат.
Едва он это сказал, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной.
Парикмахер побледнел как полотно.
— О боже, — воскликнул он, — это то самое!
— Что?
— Пушечное ядро.
— Вот оно, — сказал солдат.
И он поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник.
Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо лавочки парикмахера, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать его по-своему и швырнул камнем в окно.
— Понимаете ли, — прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, — они делают пакости, лишь бы напакостить! Чем его обидели, этого мальчишку?
Глава 4
Ребенок удивляется старику
Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло стратегическое соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и увеличили собою отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом — два пистолета, высовывавшихся из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера старый кавалерийский мушкетон, у Баореля карабин; Курфейрак размахивал тростью, из которой вытащил спрятанный в ней клинок. Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди, крича: «Да здравствует Польша!»
Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.
— Куда мы идем?
— Иди с нами, — ответил Курфейрак.
Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежа, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел при себе запас слов, способных сокрушить все, что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего, который, потеряв голову от страха, закричал:
— Красные пришли!
— Красные, красные! — подхватил Баорель. — Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, и красная шапочка не внушает мне никакого ужаса. Поверьте мне, буржуа, предоставим бояться красного только рогатому скоту.
Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства — разрешение есть яйца; это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».
Баорель воскликнул:
— Паства! Это вежливый способ сказать: «стадо».
И он сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.
— Баорель, — заметил Анжольрас, — ты неправ. Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.
— У каждого своя манера, — возразил Баорель. — Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. У тебя манера — кипеть под ледком, ну а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег; а послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус!
Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался всяким случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он возымел почтительные чувства. Он спросил его:
— Что это значит — «Геркулес»?
Баорель ответил:
— По-латыни это обозначает: черт меня побери.
Здесь Баорель увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:
— Живо патронов! Para bellum![607]
— Красивый мужчина! Это верно, — сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.
Их сопровождала шумная толпа — студенты, художники, молодые люди, состоявшие членами Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В этой толпе шел какой-то старик, с виду очень дряхлый. Он был без всякого оружия, но старался не отставать, хотя и казался погруженным в какие-то думы. Гаврош заметил его.
— Этшкое? — спросил он.
— Так, старичок.
То был г-н Мабеф.
Глава 5
Старик
Расскажем о том, что произошло.
Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, когда драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер принадлежали к числу тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика.
Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. К тому же, хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал дедушку Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:
— Господин Мабеф, ступайте домой.
— Почему?
— Начинается суматоха.
— Отлично.
— Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф.
— Отлично.
— Палить из пушек.
— Отлично. А куда вы все идете?
— Мы идем свергать правительство.
— Отлично.
И он пойдет с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки, он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо — как у спящего.
— Что за странный старикан, — перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца.
Все это скопище народа вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:
Вот луна поднялась в небеса. — Не пора ли? Ложится роса, — Молвил Жан несговорчивой Жанне. Ту, ту, ту На Шату. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Чтобы клюкнуть, — не смейтесь, друзья! — Встали до́ свету два воробья И росы налакались в тимьяне. Зи, зи, зи На Пасси. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Точно пьяницы, в дым напились, Точно два петуха подрались, — Тигр от смеха упал на поляне. Дон, дон, дон На Медон. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Чертыхались на все голоса. — Не пора ли? Ложится роса, — Молвил Жан несговорчивой Жанне. Тен, тен, тен На Пантен. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.Они направлялись к Сен-Мерри.
Глава 6
Новобранцы
Толпа увеличивалась каждое мгновение. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую и грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и вовсе не обратил внимания на этого человека.
Случилось так, что, свернув на Стекольную улицу, толпа проходила мимо подъезда Курфейрака.
— Это очень кстати, — сказал Курфейрак, — я забыл дома кошелек, и я потерял шляпу. — Он оставил толпу и быстро, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Там он взял старую шляпу и кошелек, а также захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:
— Господин де Курфейрак!
— Привратница, как вас зовут? — в ответ спросил Курфейрак.
Привратница опешила.
— Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.
— Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите: в чем дело? Что такое?
— Здесь кто-то вас спрашивает.
— Кто такой?
— Не знаю.
— Где он?
— У меня, в привратницкой.
— К черту! — крикнул Курфейрак.
— Но он уже больше часа ждет вас, — заметила привратница.
В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский:
— Могу я повидать господина Мариуса, позвольте вас спросить?
— Его нет.
— Вернется он сегодня вечером?
— Я ничего не знаю. — И Курфейрак прибавил: — Что до меня, то я не вернусь.
Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:
— Почему?
— Потому.
— Куда же вы идете?
— А тебе какое дело?
— Можно мне понести ваш ящик?
— Я иду на баррикаду.
— Можно мне пойти с вами?
— Как хочешь! — ответил Курфейрак. — Улица свободна, мостовые — для всех.
И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.
Толпа никогда не идет именно туда, куда хочет. Мы объяснили уже, что ее несет, словно порывом ветра. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная каким образом, на улице Сен-Дени.
Книга XII «Коринф»
Глава 1
История «Коринфа» со времени его основания
Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона Первого со следующей надписью:
НАПОЛЕОН ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН
Однако они нисколько не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет тому назад.
Именно здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок, именуемый «Коринфом».
Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, теперь покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.
Да будет нам дозволено для ясности рассказа прибегнуть к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сент-Эсташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, взяв вершиной улицу Сен-Дени, а основанием — рынок; вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина — улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путаный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туазов, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени — с одной стороны, и улицами Лебяжьей и Проповедников — с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, различной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.
Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных уличках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной фасады подпирались рядом балок, тянувшихся от дома к дому. Улица была узкой, а сточная канава широкой, прохожие брели по вечно мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто стерла все это.
Название Мондетур[608] отлично передает извилистость всех этих улиц. Еще выразительнее говорит об этом название улицы Пируэт, примыкающей к улице Мондетур.
Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улички он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог полагать, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, которыми он мог пробраться. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим — с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого своего рода тупика, на углу правого прохода, стоял дом пониже остальных и выдававшийся на улицу наподобие мыса.
Именно в этом доме, только о двух этажах, бойко обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которое старик Теофиль отметил следующим двустишием:
Там качается страшный скелет, То повесился бедный влюбленный.Место для этого заведения было подходящее, кабатчики наследовали его от отца к сыну.
Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет[609]. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил свою вывеску и велел под этой кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда и название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова — это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже совершенно не зная предания, приказал выкрасить столб в синий цвет.
Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня — вот что представлял собою кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, скорее по лесенке, за незаметной дверью в большую залу второго этажа. Под крышей находились две чердачных каморки — приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.
Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, да вышел поваром; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно — фаршированных карпов, которых он называл carpes au gras[610]. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:
Carpes ho gras.
Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву s, которой кончалось первое слово, и g, которой начиналось третье, после чего осталось:
Carpe ho ras.
При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубоко осмысленным советом.
Таким образом, оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая только затмить Карема, он сравнялся с Горацием[611]. Было поразительно и то, что сие изречение означало также: «Зайдите в мой кабачок».
Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, сейчас не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.
Как мы упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантэр. Он зашел туда, привлеченный надписью Carpe ho ras, и возвратился ради carpes au gras. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили — здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.
Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка — забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застращать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И тем не менее, мы подтверждаем это, здесь всякого ожидал радушный прием. Такая чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга со словами: «Ну-ка, пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать». Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг разражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает только чихание.
Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.
В 1830 году Гюшлу умер. С ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшилась и стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф», — «из жалости», как говорил Боссюэ.
Одышка и безобразие не мешали вдове Гюшлу предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Благодаря ее произношению они утрачивали слащавость. У нее была особенная манера выражаться, что придавало соль ее экскурсиям в свое деревенское и девическое прошлое. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярки, и ничего мне на свете больше не нужно», — рассказывала она.
Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; в ней же стоял и старый, хромой бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.
Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было следующее четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:
В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она. В ее ноздре волосатой бородавка большая видна. Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет, И нос ее крючковатый провалится в черный рот.Это было написано углем на стене.
Госпожа Гюшлу, весьма сходная с портретом, изображенным в этих стихах, с утра до вечера совершенно невозмутимо ходила взад и вперед мимо них. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами[612], помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место своей хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатической бледностью в лице, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, можно было бы сказать — пораженная хронической усталостью, вставала первой, ложилась последней, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной усталой, сонной улыбкой.
У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе следующие строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:
Коли можешь — угости, Коли смеешь — сам поешь.Глава 2
Чем закончилась веселая попойка
Легль из Мо, как известно, имел пребывание главным образом у Жоли. Он находил жилье так же, как птица, — на любой ветке. Оба друга жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общим, даже отчасти Мюзикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был хорошо одет.
Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».
Они поднялись на второй этаж.
Их встретили Матлота и Жиблота.
— Устриц, сыру и ветчины, — приказал Легль.
Затем они уселись за стол.
В кабачке никого не было; они сидели только вдвоем.
Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.
Только они принялись за устриц, как чья-то голова появилась в лестничном трапе и чей-то голос произнес:
— Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.
То был Грантэр.
Он взял табурет и уселся за стол.
Жиблота, увидев Грантэра, поставила две бутылки вина на стол.
Итого — три.
— Ты разве собираешься выпить обе бутылки? — спросил Легль у Грантэра.
— Тут все люди с умом, один ты недоумок, — ответил Грантэр. — Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?
Друзья начали с еды, Грантэр с вина. Полбутылки было живо опорожнено.
— Дыра у тебя в желудке, что ли? — спросил Легль.
— Дыра у тебя на локте, — ответил Грантэр. И, допив свой стакан, прибавил: — Да, да, Легль — орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старенек.
— Надеюсь, что так, — ответствовал Легль. — У нас согласная домашняя жизнь, у моего сюртука и у меня. Он сам принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье — что старые друзья.
— Вод эдо правда, — воскликнул Жоли, вступив в разговор, — сдарый сюрдук — все равдо что сдарый друг.
— Особенно в устах человека с насморком, — согласился Грантэр.
— Грантэр, — спросил Легль, — ты с бульвара?
— Нет.
— А мы с Жоли видели начало шествия.
— Чудесдое зрелище, — сказал Жоли.
— А как спокойно на этой улице! — воскликнул Легль. — Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список, и аббат Лебеф также. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поль, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами… Их расплодилось видимо-невидимо.
— Не будем говорить о монахах, — прервал Грантэр, — от этого хочется чесаться.
Потом он разразился:
— Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек — двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, презренная, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика, и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами, и за птицами. Не прошло еще и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде, она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Я встретил жертву ныне утром развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт — символ любви, лавр — символ войны, оливу, эту глупышку, — символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу — эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите — право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума — наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум».
Тогда Бренн взял Рим. После этого он вскричал: Vae victis![613] Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже продирает!
Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантэр выпил и продолжал, почти не прервав своих разглагольствований, — этот стакан вина словно и не был никем замечен, даже им самим:
— Бренн, завладевающий Римом, — орел; банкир, завладевающий гризеткой, — орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина — лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, — неважно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господа бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Живо, революцию! У господа бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, мне бы не нужны были запасные средства, у меня не было бы экстренных постановок. То, что иные прочие называют прогрессом, преуспевает при помощи двух двигателей: людей и событий. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей должны быть гении, а меж событий — революции. Чрезвычайные события — это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих театральных постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает блуждающее светило на стене небесного свода. Появляется нежданно какая-то чудна́я звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог — кометой. Трах! — и вот северное сияние, вот — революция, вот — великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки — Наполеон, наверху афиши — комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Все тут в беспорядке — и светила, и пьеса. Бог мой, это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, кричат о великолепии, но означают скудость. Друзья, провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция — что этим доказывается? Что господь иссяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это утверждает в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаредности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя нашу человеческую долю, даже долю королевскую, столь потертой — до самой веревочной основы, чему свидетель повесившийся принц Конде; видя зиму, являющуюся не чем иным, как прорехой в зените, откуда дует ветер; видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы — этот поддельный жемчуг; видя иней — этот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я подозреваю, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по одной видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите, сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось; вселенная только дразнит. Все равно как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дщерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинцев германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему обычно так плохо судят о турках; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство — единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар — неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут разбивать друг другу морды, резать друг друга, и когда же? — в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают!
После этого припадка красноречия Грантэр стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.
— Кстати, о революции, — сказал Жоли, — виддо Бариус влюблед по-дастоящему.
— В кого, не знаешь? — спросил Легль.
— Дет.
— Нет?
— Я же тебе говорю — дет!
— Любовные истории Мариуса! — воскликнул Грантэр. — Я наперед знаю все. Мариус — туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт — значит безумец. Timbroeus Apollo[614]. Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, — должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.
Грантэр уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.
Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.
— Не вы ли господин Боссюэ? — спросил он.
— Это мое уменьшительное имя, — ответил Легль. — Что тебе надо?
— Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» — «Да, — говорю я, — на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: «Азбука». Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.
— Жоли, дай мне взаймы десять су, — сказал Легль, потом повернулся к Грантэру: — Грантэр, дай мне взаймы десять су.
Таким образом, составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.
— Благодарю вас, сударь, — сказал тот.
— Как тебя зовут? — спросил Легль.
— Наве. Я приятель Гавроша.
— Оставайся с нами, — сказал Легль.
— Позавтракай с нами, — сказал Грантэр.
— Не могу, — ответил мальчик, — я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!»
И, скользнув одной ногой далеко назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.
Когда мальчик ушел, взял слово Грантэр:
— Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар — котелком, гамен-булочник — колпачником, гамен-лакей — грумом, гамен-моряк — юнгой, гамен-солдат — барабанщиком, гамен-живописец — мазилкой, гамен-лавочник — мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец — пажом, гамен-король — дофином, гамен-бог — младенцем.
Тем временем Легль размышлял, потом он сказал вполголоса:
— «Азбука» — иначе говоря, «Похороны Ламарка».
— А высокий блондин, — установил Грантэр, — это Анжольрас, уведомивший тебя.
— Пойдем? — спросил Боссюэ.
— Да улице дождь, — заметил Жоли. — Я поклялся идти в огодь, до де в воду. Я де хочу простудиться.
— Я остаюсь здесь, — сказал Грантэр. — Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам.
— Короче, мы остаемся, — заключил Легль. — Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.
— А, бятеж! Я за дего! — воскликнул Жоли.
Легль потер себе руки и сказал:
— Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками.
— Для меня она почти безразлична, ваша революция, — сказал Грантэр. — Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укращенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт — против дождя.
В зале стало темно, тяжелые тучи совсем заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события».
— Полдень сейчас или полночь? — вскричал Боссюэ. — Ничего решительно не видно. Жиблота, огня!
Грантэр мрачно продолжал пить.
— Анжольрас презирает меня, — бормотал он. — Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантэр пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я пошел бы с ним. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.
Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантэр остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи, одна в медном, совершенно позеленевшем подсвечнике, другая в горлышке треснувшего графина. Грантэр пробудил в Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантэру вновь обрести веселое расположение духа.
Сам Грантэр после полудня уже бросил пить вино — этот незамысловатый источник мечты. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Что касается хмеля, то здесь существует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантэр был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывавшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка — это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа — этот небесный мотылек — тонет в нем; и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает смутные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры — Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.
Грантэр еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, и Боссюэ и Жоли, чокаясь с ним, разделяли его веселье. Грантэр подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. Важно опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и обращал к толстухе Матлоте следующие торжественные тирады:
— Да откроют ворота дворца! Да будут все академиками и да получат право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!
И, повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:
— О женщина, античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя!
А Жоли кричал:
— Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Градтэру. Од растратил субасшедшие дедьги. Од уже прожрал с сегоддяшдего утра с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов!
А Грантэр снова вопиял:
— Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей?
Боссюэ, сильно упившийся, сохранял обычное спокойствие.
Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей.
Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики: «К оружию!» Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.
Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:
— Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!
Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.
— Строить баррикаду, — ответил Курфейрак.
— Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!
— Правильно, Орел, — ответил Курфейрак.
И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери.
Глава 3
Ночь начинает опускаться на Грантэра
Место действительно было указано превосходно: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.
При вторжении этого сборища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, начиная с первого этажа до самой крыши. Какая-то перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. «Боже мой! Боже мой!» — вздыхала тетушка Гюшлу.
Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.
Жоли, высунувшись в окно, кричал:
— Курфейрак, почебу ты без зодтика, ты простудишься!
Тем временем в несколько минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски некоего Ансо, торговца известью; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. С фасада соседнего дома были сорваны подпиравшие его балки и положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.
Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота ходила взад и вперед, таская для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, — словно во сне.
В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.
Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.
— Омнибусы, — сказал он, — не проходят перед «Коринфом». Non licet omnibus adire Corinthum[615].
Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы.
Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.
Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо подвывала. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.
— Светопреставление, — бормотала она.
Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной и морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантэру: «Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб-то бескодечдо изыскаддым».
Но Грантэр достиг высот дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся во второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.
— Матлота безобразна! — кричал он. — Матлота — идеал безобразия. Матлота — химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу — та старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи, мы свалим правительство, это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа, отец всегда презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я Грантэр — добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки — поцелуя любовника!
— Замолчи, пивная бочка! — сказал Курфейрак.
— Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! — ответил с важностью Грантэр.
Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.
— Грантэр, — крикнул он, — пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду!
Эти гневные слова произвели на Грантэра необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал ему:
— Позволь мне поспать здесь.
— Ступай для этого в другое место! — крикнул Анжольрас.
Но Грантэр, не сводя с него нежного и мутного взгляда, ответил:
— Позволь мне тут поспать, пока я не умру.
Анжольрас презрительно взглянул на него.
— Грантэр, ты не способен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.
— Ты увидишь, — серьезно ответил Грантэр. Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которой его сразу и резко подтолкнул Анжольрас.
Глава 4
Попытка утешить тетушку Гюшлу
Баорель, в восторге от баррикады, кричал:
— Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!
Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:
— Тетушка Гюшлу, вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно?
— Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность!
— Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.
Но тетушка Гюшлу, кажется, не слишком понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец, — сказала она, — ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» — «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».
Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два или три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их один лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоящий против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах — Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.
Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, обе опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая — улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать из них были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.
Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе и с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Был один, который кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронташ национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. Прибавьте к этому все возрасты, все разнообразие лиц бледных подростков, загорелых портовых рабочих. Все торопились и, помогая друг другу, говорили о своей надежде на успех: о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что весь Париж поднимется. То были страшные слова, к которым примешивалось какое-то сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали имен друг друга. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.
На кухне развели огонь, и в формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсюли и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившиеся от страха — одна отупев, другая запыхавшись, третья проснувшись, — рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев — трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.
Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.
Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу пустить все дело в ход. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, — его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, — его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку — настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.
Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики:
— Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада — это окрошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!
Один из работавших воскликнул:
— Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?
— Подумаешь, сам богатырь! — отпарировал Гаврош. — Застекленная дверь на баррикаде — превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду. Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!
Впрочем, он был взбешен своим пистолетом без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал: «Ружье, давайте ружье! Почему мне не дают ружья?»
— Ружье, тебе? — удивился Комбефер.
— Вот те на? — возмутился Гаврош. — А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым.
Анжольрас пожал плечами.
— Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям.
Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:
— Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.
— Мальчишка! — крикнул Анжольрас.
— Молокосос! — не остался в долгу Гаврош. Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание. Гаврош крикнул: — Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки родины? Неужели нет желанья ей помочь?
Щеголь поспешно скрылся.
Глава 5
Подготовка
Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. На деле она была в среднем не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли по своему желанию или исчезать за нею, или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку его при помощи четырех рядов камней, положенных друг на друга и образующих с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.
Между стеной дома и наиболее отдаленным от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы сквозь нее мог пройти человек, — таким образом, возможен был выход. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.
Малая баррикада Мондетур, скрытая позади кабачка, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не слишком страшась нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников.
Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать, таким образом, баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами.
Вся работа была произведена без помехи меньше чем за час; перед горсточкой этих смелых людей ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.
Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был наполнен патронами. Среди самых храбрых, когда они увидели патроны, пробежал трепет, и на мгновение воцарилась тишина.
Курфейрак раздавал их, улыбаясь.
Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Что касается бочонка пороха, то он стоял в сторонке на столе возле дверей, и его не тронули, оставив про запас.
Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце концов в какой-то однообразный шум, уже более не привлекали внимания. Этот шум то отдалялся, то приближался с заунывными раскатами.
Все одновременно, не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых — одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.
А когда баррикады были построены, места назначены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда одни на этих страшных безлюдных улицах, одни среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось никаких признаков человеческой жизни, окутанные нараставшими тенями сумерек, оторванные от всего мира, в этой тьме и в этом молчании, где чувствовалось приближение чего-то трагического и ужасающего, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.
Глава 6
В ожидании
Что делали они в эти часы ожидания?
Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.
Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные с оружием в руках наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам своих стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.
Какие стихи? Вот они:
Ты помнишь ту пленительную пору, Когда клокочет молодостью кровь И жизнь идет не под гору, а в гору, — Костюм поношен, но свежа любовь? Мы не могли начислить даже сорок, К твоим годам прибавив возраст мой. А как нам был приют укромный дорог, Где и зима казалась нам весной! Наш Манюэль тогда был на вершине, Париж святое правил торжество, Фуа гремел, и я храню доныне Булавку из корсажа твоего. Ты всех пленяла. Адвокат без дела, Тебя водил я в Прадо на обед. И даже роза в цветниках бледнела, Завистливо косясь тебе вослед. Цветы шептались: «Боже, как прелестна! Какой румянец! А волос волна! Иль это ангел низошел небесный, Иль воплотилась в девушку весна?» И мы, бывало, под руку гуляем, И нам в лицо глядят с улыбкой все, Как бы дивясь, что рядом с юным маем Апрель явился в праздничной красе. Все было нам так сладостно, так ново! Любовь, любовь! Запретный плод и цвет! Бывало, молвить не успею слово, Уже мне сердцем ты даешь ответ. В Сорбонне был приют мой безмятежный, Где о тебе всечасно я мечтал, Где пленным сердцем карту Страсти нежной Я перенес в студенческий квартал. И каждый день заря нас пробуждала В душистом нашем, свежем уголке. Надев чулки, ты ножками болтала, Звезда любви — на нищем чердаке! В те дни я был поклонником Платона, Мальбранш и Ламенне владели мной. Ты, приходя с букетом, как мадонна, Сияла мне небесной красотой. О, наш чердак! Мы, как жрецы, умели Друг другу в жертву приносить сердца! Как по утрам, в сорочке встав с постели, Ты в зеркальце гляделась без конца! Забуду ли те клятвы, те объятья, Восходом озаренный небосклон, Цветы и ленты, газовое платье, Речей любви пленительный жаргон! Считали садом мы горшок с тюльпаном, Окну служила юбка вместо штор, Но я, простым довольствуясь стаканом, Тебе японский подносил фарфор. И смехом все трагедии кончались: Рукав сожженный иль пропавший плед! Однажды мы с Шекспиром распрощались, Продав портрет, чтоб раздобыть обед. И каждый день мы новым счастьем пьяны, И поцелуям новый счет я вел. Смеясь, уничтожали мы каштаны, Огромный Данте заменял нам стол. Когда впервые, уловив мгновенье, Твой поцелуй ответный я сорвал, И, раскрасневшись, ты ушла в смятенье, — Как, побледнев, я небо призывал! Ты помнишь эти радости, печали, Разорванных косынок лоскуты, Ты помнишь все, чем жили, чем дышали, Весь этот мир, все счастье — помнишь ты?Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий — все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который, — мы упоминали о нем, — был нежным поэтом.
Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой — один из тех восковых факелов, которые на Масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.
Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.
Этот свет придавал багрецу знамени какой-то зловещий кровавый отблеск.
Глава 7
Человек, завербованный на Щепной улице
Уже совсем наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.
Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, который занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча света. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.
В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами. Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и уселся за наименее освещенный стол. На снаряжение ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, даже не замечал этого человека.
Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально проводил его взглядом, потом, когда человек сел, мальчишка вновь вскочил со своего места. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в какую-то сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к этому задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, одновременно дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали одна за другой все те выразительные стариковские гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не… Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу — свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, восхищен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош натолкнулся на важное открытие.
В самый разгар его усиленных размышлений к нему и подошел Анжольрас.
— Ты маленький, — сказал Анжольрас, — тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.
Гаврош выпрямился.
— Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим… — Затем, подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы: — Вы хорошо видите этого верзилу?
— Ну и что же?
— Это сыщик.
— Ты уверен?
— Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.
Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали позади стола, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.
Тогда Анжольрас подошел к нему и спросил:
— Кто вы такой?
При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно вообразить, и ответил с высокомерной важностью:
— Я вижу, что… Ну да!
— Вы сыщик?
— Я представитель власти.
— Ваше имя?
— Жавер.
Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.
У него нашли маленькую круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции и оттиснутой вокруг надписью: «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой — «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, пятидесяти двух лет» и подпись тогдашнего префекта полиции Жиске.
Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:
«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться особым розыском, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».
Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоящему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.
Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал ему:
— Вот мышь и поймала кота.
Все было выполнено столь быстро, что, когда об этом узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.
Жавер, стоявший у столба и так оплетенный веревками, что не мог пошевельнуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.
— Это сыщик, — сказал Анжольрас. — И, обернувшись к Жаверу, добавил: — Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.
В ответ Жавер высокомерным тоном спросил:
— Почему же не сейчас?
— Мы бережем порох.
— В таком случае прикончите меня ударом ножа.
— Шпион, — ответил красавец Анжольрас, — мы судьи, а не убийцы.
Затем он позвал Гавроша:
— Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.
— Иду, — крикнул Гаврош.
И уже на пороге, на минутку задержавшись, сказал:
— Кстати, вы мне отдадите его ружье! — И прибавил: — Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.
Мальчик отдал честь по-военному и весело проскользнул в проход большой баррикады.
Глава 8
Несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кабюка, который, быть может, и не именовался Кабюком
Трагическое описание, предпринятое нами, не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и жизненной выразительности эти великие часы рождения революции, часы высоких социальных усилий, сопряженных с мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического и дикого ужаса случай, последовавший тотчас после ухода Гавроша.
Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, в которой не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика; он размахивал руками, вопил и был похож на буйного пьяницу. Этот человек, именовавшийся или принявший имя Кабюк, по сути совершенно неизвестный тем, которые утверждали, будто его знают, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом, который они вытащили из кабачка. Этот Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:
— Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда — черта с два! — никто не пройдет по улице!
— Да, но дом заперт, — сказал один из его собутыльников.
— А мы постучимся.
— Не откроют.
— Высадим дверь!
Тут Кабюк бежит к двери, возле которой висит весьма увесистый молоток, и стучится. Дверь не открывают. Он стучит во второй раз. Никто не отвечает. Третий раз. То же молчание.
— Есть тут кто-нибудь? — кричит Кабюк.
Никаких признаков жизни.
Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь была старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, — настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась.
Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.
Кабюк перестал стучать.
— Что вам угодно, господа? — спросил привратник.
— Отворяй! — потребовал Кабюк.
— Господа, это невозможно.
— Отворяй сейчас же.
— Нельзя, господа!
Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.
— Ты отворишь? Да или нет?
— Нет, господа!
— Ты говоришь — нет?
— Я говорю — нет, милостивые…
Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронизав шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше.
— Так! — сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.
Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:
— На колени.
Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.
Он пришел на звук выстрела.
Левой рукой он схватил ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.
— На колени, — повторил он.
И властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, был схвачен рукой сверхчеловеческой силы.
Бледный, с обнаженной шеей и разметавшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении Древнего мира, подобает правосудию.
Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль, чувствуя невозможность произнести хотя бы слово перед тем, что им предстояло увидеть.
Побежденный Кабюк не пытался больше отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы.
— Соберись с силами, — сказал он. — Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.
— Пощадите! — пролепетал убийца; потом он опустил голову и пробормотал несколько невнятных ругательств.
Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кабюка, который, скорчившись и завывая, жался к его коленям, он приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из этих отважных людей, так спокойно отправившихся на самое рискованное и страшное предприятие, отвернулись.
Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.
Потом он толкнул ногою труп и сказал:
— Выбросьте это вон.
Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу Мондетур.
Анжольрас стоял задумавшись. Выражение какого-то мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.
— Граждане, — сказал Анжольрас, — то, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, — ужасно. Он убил, и вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь — большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод оклеветать нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил также и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.
Слушавшие содрогнулись.
— Мы разделим твою участь! — крикнул Комбефер.
— Пусть так, — ответил Анжольрас. — Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость — чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь — тебе будущее! Смерть, я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу! Граждане, в грядущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Так же как не будет больше Сатаны, не будет больше и Михаила Архангела. В грядущем никто не станет никого убивать, земля будет сиять, род человеческий — любить. Граждане, он придет, тот день, когда все станет согласием, гармонией, светом, радостью и жизнью, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть.
Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить вполголоса.
Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.
Скажем тут же, что позднее, после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.
Добавим также, что, если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа; казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец — тьмою.
Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса.
Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.
Книга XIII Мариус уходит во мрак
Глава 1
От улицы Плюме до квартала Сен-Дени
Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай; он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянию, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал: «Пойдем!»
Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный отныне согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после этих двух месяцев опьянения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел лишь одного — скорее покончить с жизнью.
Он пошел быстрым шагом. У него были при себе пистолеты Жавера, таким образом, он оказался вооруженным.
Молодой человек, которого он мельком увидел, скрылся из виду где-то на повороте улицы.
Мариус, выйдя с улицы Плюме бульваром, пересек эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины делали покупки в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, а в английской кондитерской — пирожки. Лишь несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».
Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.
Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа людей все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В этой толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое, низкое гудение.
По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» — неподвижные и мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.
У въезда на улицу Прувер толпа больше не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из тесно сгрудившихся людей, которые тихонько толковали между собой. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп — всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. По ту сторону этой толщи людей, на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре, не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегающие вдаль и меркнущие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынны. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.
Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей больше не было.
Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдье, молчание, ночь; неведомый, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно что войти в погреб.
Он продолжал двигаться вперед.
Он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это был? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог этого сказать. Тень мелькнула и исчезла.
Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине этой улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начатая и покинутая баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по другую сторону заграждения. Он шел у самых уличных тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади — те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад, из улицы в улицу и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которые в такой же степени постигают действия человека, в какой человек — пути провидения.
Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья.
Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. Но с этой минуты больше ничего не случилось.
Весь его путь походил на спуск по черным ступеням.
И все же Мариус шел вперед.
Глава 2
Париж — глазами совы
Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.
Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом какой-то громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна — это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал повсюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех тех средств, которыми эта темнота располагает, — вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни и обитатель. Поэтому все замерло там. В домах царили только страх, печаль и оцепенение; на улицах — какой-то священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни тех смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные и причудливые линии, очертания странных сооружений: там были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные и зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и два или три других громадных здания, которые человек создает гигантами, а ночь превращает в призраки.
Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горело несколько редких фонарей, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, возраставшее с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших.
Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.
Мраком первобытным, полным ловушек, чреватым неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым поворотом улиц — невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды отныне на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Никто не знал. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. Для одних и для других необходимость этого была одинаковой. Отныне оставался лишь один исход — выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые — ужасом.
Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед — значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться — значило умереть, но никто не думал бежать.
Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание стало революцией или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда и мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться, отсюда и нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздирающий сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие: набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалостно сетующего во мгле.
Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.
Пока битва, еще всецело политическая битва, подготовлялась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы — во имя принципов, а средний класс — во имя корысти приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга в прах, пока каждый торопил и призывал последний и решительный час, — вдали и вне рокового квартала, в глубочайших бездонных низинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотание сурового голоса народа.
Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предупреждает мудрых, который звучит одновременно снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.
Глава 3
Последний рубеж
Мариус дошел до Центрального рынка.
Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, леденящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом.
Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент-Эсташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к этому зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок переулка Мондетур.
Немного подальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывающего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, смутно различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренняя часть баррикады.
Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.
Мариусу оставалось сделать только один шаг.
Тогда несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.
Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы — ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, — и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисающей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давящей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся с рубцами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, все сделав для Франции и ничего против нее.
Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он также должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он, в свою очередь, будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы — улица, а эта война — гражданская война.
Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.
Тогда он содрогнулся.
Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и о которой он так горько сожалел. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она так бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину; что она, эта шпага, вернувшаяся с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти на улицу Шанврери и после подвигов, свершенных с отцом, иного свершать с сыном не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, приняв ее у изголовья умершего отца, он осмелился бы взять ее и принести с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла. Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: ведь лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть брошенной в железный лом, чем обагрять сегодня кровью грудь отечества.
И он горько заплакал.
Это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоявшую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Но это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!»
Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.
Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то неведомой внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них был теперь ответ.
Рассудим, почему отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание возвышается до степени исполняемого долга? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унизительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, ни Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?
Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми — не война между братьями? Война определяется лишь ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое человеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, — будь она гражданской или против иноземцев, — равно несправедлива, и имя ее — преступление. Помимо этого священного условия — справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана, — который из них более велик? Один защитник, другой освободитель. Возможно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестья на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? Почему же нет? Ведь такова война Амбиорикса, Артевелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде — против Франции, Марникс — против Испании, Пелагий — против мавров; все — против внешнего врага. Так вот, монархия — это и есть внешний враг; угнетение — внешний враг; «священное право» — внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан — это в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно только возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. «Скованный Прометей» начинает, Аристогитон заканчивает. «Энциклопедия» просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила — Фразибул; после Дидро — Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, метать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были слегка поражены собственным спасением; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть это несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее мрачное торжество ночи во всем его сумеречном великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы называете Луи-Филиппа тираном? Нет, не больше, чем Людовика XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено, Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, потому что он Бурбон; оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, до́лжно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную правду, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество на один уровень с правом, — какое дело может быть более справедливым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны созидают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить при Аустерлице — великий подвиг; взять Бастилию — величайший.
Нет человека, который не заметил бы по собственному опыту, что душа — и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, — обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное любовное горе, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика, и нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. Именно в таком состоянии и находился Мариус.
Размышляя подобным образом, изнеможенный, то полный решимости, то колеблясь и в конечном счете трепеща перед тем, что он собирался сделать, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не покидавшие своих мест повстанцы, и чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал какого-то зрителя или наблюдателя, казавшегося ему как-то по-особому внимательным. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груде булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Ничто не могло быть более необычным, чем это озаряемое колеблющимся мрачным светом иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо под вставшими дыбом волосами, с открытыми и застывшими глазами и разинутым ртом, словно из любопытства наклонившееся над улицей. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась вниз длинная кровяная дорожка, обрываясь на втором этаже.
Книга XIV Величие отчаяния
Глава 1
Знамя. Действие первое
Все еще никто не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять часов. Анжольрас и Комбефер уселись с карабинами в руках возле прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы даже самый глухой, самый отдаленный шум шагов.
Внезапно в этой зловещей тишине раздался звонкий молодой, веселый голос, казалось доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:
Друг Бюго, не спишь ли? Я от слез опух. Ты жандармов вышли Поддержать мой дух. В голубой шинели, Кивер на боку. Пули засвистели! Ку-кукурику!Они сжали друг другу руки.
— Это Гаврош, — сказал Анжольрас.
— Он нас предупреждает, — добавил Комбефер.
Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:
— Где мое ружье? Они идут!
Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох рук, нащупывающих ружья.
— Хочешь взять мой карабин? — спросил мальчика Анжольрас.
— Я хочу большое ружье, — ответил Гаврош.
И он взял ружье Жавера.
Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один — стоявший на посту в конце улицы, другой — дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, — очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.
Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.
Каждый занял свое боевое место.
Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицеле, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».
Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание, и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о какой-то толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела.
Опять настало молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, — казалось, заговорила сама тьма, — крикнул:
— Кто идет?
В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.
— Французская революция, — взволнованно и гордо ответил Анжольрас.
— Огонь! — скомандовал голос.
Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.
Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было очевидно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.
— Товарищи, — крикнул Курфейрак, — не будем зря тратить порох. Подождем отвечать, пока они не продвинутся дальше по улице.
— И прежде всего, — сказал Анжольрас, — поднимем снова знамя!
Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов в стволах; отряд снова заряжал ружья.
— У кого из вас хватит отваги? — продолжал Анжольрас. — Кто водрузит знамя над баррикадой?
Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять была взята на прицел, — попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил:
— Никто не возьмется?
Глава 2
Знамя. Действие второе
Стех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на дедушку Мабефа. Однако г-н Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся позади стойки. Там он как бы целиком погрузился в самого себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждая об опасности и предлагая ему удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, его губы шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как его губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась вперед, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его; он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» — старик появился на пороге кабачка.
Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики:
— Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!
Возможно, г-н Мабеф не слышал этого.
Он направился прямо к Анжольрасу, — повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом, — вырвал знамя у Анжольраса, который, попятившись назад, окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец, с трясущейся головой, начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали: «Шапки долой!» То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, старческое лицо, огромный облысевший и морщинистый лоб, эти впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов, и чудилось, что призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.
Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, грандиозный вид.
Наступило молчание, какое бывает только при лицезрении чуда.
Среди этого молчания старик взмахнул красным знаменем и крикнул:
— Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть!
На баррикаде услышали быстрый и тихий говорок, похожий на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, то был полицейский пристав, который с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись».
Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?» — крикнул:
— Уходите прочь!
Господин Мабеф, мертвенно-бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:
— Да здравствует Республика!
— Огонь! — скомандовал голос.
Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.
У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.
Ручейки крови побежали из-под него. Старческое бледное и печальное лицо было обращено к небу.
Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к трупу.
— Что за люди эти цареубийцы! — воскликнул Анжольрас.
Курфейрак прошептал ему на ухо:
— Скажу только одному тебе, я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца. Я был с ним знаком. Его звали дедушка Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо.
— Голова скудоумного, а сердце Брута, — ответил Анжольрас.
Затем он повысил голос:
— Граждане! Вот пример, который старики подают молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славою умер! А теперь укроем в доме этот труп, пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!
Гул угрюмых и решительных голосов, выражающий согласие, последовал за этими словами.
Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, по-прежнему суровый, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и с нежной осторожностью касаясь мертвеца, словно боясь причинить ему боль, он снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:
— Отныне вот наше знамя.
Глава 3
Гаврош сделал бы лучше, если бы согласился взять карабин Анжольраса
Дедушку Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них тело и, обнажив головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли его на большой стол в нижней зале.
Эти люди, целиком занятые тем священным и важным, что они делали, больше не думали о грозившей им опасности.
Когда труп проносили мимо Жавера, хранившего свою невозмутимость, Анжольрас сказал шпиону:
— Скоро и тебя!
В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался в дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас закричал:
— Берегись!
Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ беспорядочной гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни, перелезая через омнибус, другие, воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, который хотя и отступал назад, но не бежал.
Мгновение было решительным. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается в уровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.
Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор; второй заколол Баореля ударом штыка. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив вперед штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, решительно нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.
Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.
То был Мариус, только что появившийся на баррикаде.
Глава 4
Бочонок с порохом
Скрываясь за поворотом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Безмерная опасность, смерть г-на Мабефа — эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, — все это сразу рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.
Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в одну толпу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями наготове. Они занимали уже более двух третей заграждения, но не прыгали внутрь баррикады, точно колебались, боясь какой-то ловушки. Они смотрели вниз в темноту, словно в львиное логово. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.
У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.
Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, — но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, мелькает перед ним, несется, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь неясно чувствует, что этот вихрь увлекает его к еще большему мраку и все вокруг него в тумане.
Повстанцы, захваченные врасплох, но не устрашенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул: «Подождите! Не стреляйте наугад!» Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друга друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в их числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, открыто отошли к домам, поднимавшимся позади кабачка, и гордо встали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.
Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга в упор на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, протянул шпагу вперед и крикнул:
— Сдавайтесь!
— Огонь! — ответил Анжольрас.
Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.
Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стеная, ползли раненые и умирающие.
Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.
Внезапно послышался громовой голос:
— Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!
Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос. Мариус, войдя в нижнюю залу, взял там бочонок пороха, затем, воспользовавшись дымом и туманной мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, — все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться; и теперь все — национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груде, где виднелся разбитый бочонок с порохом, и грозно воскликнул:
— Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!
Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.
— Взорвешь баррикаду? — воскликнул какой-то сержант. — Значит, и себя вместе с ней!
Мариус ответил:
— И себя вместе с ней!
И он приблизил факел к бочонку с порохом.
Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули беспорядочной толпой к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было настоящее паническое бегство.
Баррикада была освобождена.
Глава 5
Конец стихам Жана Прувера
Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.
— Ты здесь?
— Какое счастье! — воскликнул Комбефер.
— Ты пришел кстати! — сказал Боссюэ.
— Без тебя меня бы уже не было на свете! — вставил Курфейрак.
— Без вас меня бы ухлопали! — прибавил Гаврош.
Мариус спросил:
— Кто тут начальник?
— Ты, — ответил Анжольрас.
Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Этот вихрь, заключенный в нем самом, казалось ему, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, эта баррикада, г-н Мабеф, принявший смерть за Республику, он сам во главе повстанцев — все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все, происходившее вокруг, стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не познал, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что должно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни.
В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его.
Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на этот неприступный редут, ожидая, быть может, приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; некоторые, студенты медицинского факультета, принялись перевязывать раненых.
Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал дедушка Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На эти тюфяки положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то было неизвестно, что с ними сталось. Однако впоследствии их нашли спрятавшимися в погребе.
Горестное событие омрачило радость освобожденной баррикады.
Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных — Жана Прувера. Поискали среди раненых — его не было. Поискали среди убитых — его не было. Очевидно, он попал в плен.
Комбефер сказал Анжольрасу:
— Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?
— Да, — ответил Анжольрас, — но меньше, чем жизнь Жана Прувера.
Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.
— Отлично, — ответил Комбефер, — я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными.
— Слушай, — сказал Анжольрас, положив руку на плечо Комбефера.
В конце улицы раздалось многозначительное бряцание оружия.
Послышался мужественный голос, крикнувший:
— Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!
То был голос Прувера. Мелькнула молния, и грянул залп. Снова наступила тишина.
— Они его убили! — воскликнул Комбефер.
Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:
— Твои друзья сами тебя расстреляли.
Глава 6
Томление смерти после томления жизни
Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб, и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Поэтому-то все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая, очевидно, являлась наиболее угрожаемым местом, где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда. Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, в переулке Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей улиц было совершенно спокойно.
Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо позвал его:
— Господин Мариус!
Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа тому назад сквозь решетку на улице Плюме.
Но теперь этот голос казался лишь вздохом.
Он оглянулся и никого не заметил.
Мариус решил, что ослышался, что это был обман чувств, добавленный воображением к тем необыкновенным событиям, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, желая выйти из того закоулка, где находилась баррикада.
— Господин Мариус! — повторил голос.
На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.
— Я здесь, у ваших ног, — сказал голос.
Он нагнулся и увидел во мраке очертания какого-то живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.
Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное, поднятое к нему лицо и услышал слова:
— Вы меня не узнаете?
— Нет.
— Эпонина.
Мариус быстро наклонился. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.
— Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?
— Я умираю, — сказала она.
Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись:
— Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?
Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.
При этом он задел ее кисть.
Эпонина слабо вскрикнула.
— Я сделал вам больно? — спросил Мариус.
— Чуть-чуть.
— Но я дотронулся только до вашей руки.
Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.
— Что с вашей рукой? — спросил он.
— Она пробита!
— Пробита?
— Да.
— Чем?
— Пулей.
— Каким образом?
— Вы видели наведенное на вас ружье?
— Да, и руку, закрывшую дуло.
— То была моя рука.
Мариус содрогнулся.
— Какое безумие! Бедное дитя! Но тем лучше, если так; это пустяки. Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.
Она прошептала:
— Пуля прострелила руку, но вышла через спину. Не стоит брать меня отсюда! Я скажу вам сейчас, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.
Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:
— О, как хорошо! Как мне приятно! Вот и небольно! — Помолчав с минуту, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса: — Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад, — это глупо, потому что я сама показала вам дом, и, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы…
Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо промелькнувшие в ее уме, снова заговорила с раздирающей душу улыбкой:
— Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, — продолжала она, — вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Как чудно́! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ожидала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь небогаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут.
У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздирающее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Разговаривая, она прижимала к ней простреленную руку, — там, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.
Мариус с глубоким состраданием смотрел на эту несчастную девушку.
— Ох, — внезапно простонала она, — опять! Я задыхаюсь!
Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.
В этот момент на баррикаде раздался резкий петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал популярную в то время песенку:
Увидев Лафайета, Жандарм невзвидел света: Бежим! Бежим! Бежим!Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала:
— Это он. — И, повернувшись к Мариусу, добавила: — Там мой брат. Не надо, чтобы он меня видел. Он будет меня ругать.
— Ваш брат? — спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. — Кто ваш брат?
— Этот мальчик.
— Тот, который поет?
— Да.
Мариус хотел встать.
— Не уходите! — сказала она. — Теперь уж недолго ждать!
Она почти сидела, но ее голос был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпонина приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и прибавила с каким-то странным выражением:
— Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили отправить его почтой. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.
Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, — казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус в самом деле нащупал там какую-то бумагу.
— Возьмите, — сказала она.
Мариус взял письмо.
Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.
— Теперь обещайте мне за мой труд…
И она запнулась.
— Что? — спросил Мариус.
— Обещайте мне!
— Обещаю.
— Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.
Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпонина не шевелилась; внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, казалось, идущей уже из другого мира:
— А ведь знаете, господин Мариус, я думаю, что была немного влюблена в вас.
Она попыталась еще раз улыбнуться и умерла.
Глава 7
Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояния
Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвенном лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.
Он не без внутреннего трепета взял письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается о чем-то важном. Ему не терпелось прочитать его. Так уж создано мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он тихонько опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать это письмо возле умершей.
Он подошел к свече в нижней зале. То была маленькая записка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес, написанный женской рукой, был следующий:
«Господину Мариусу Понмерси, кв. г-на Курфейрака, Стекольная улица, № 16».
Он сломал печать и прочел:
«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.
Козетта. 4 июня».Чистота их любви была такова, что Мариус даже не знал почерка Козетты.
То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла двойное решение: расстроить замыслы отца и бандитов относительно дома на улице Плюме и разлучить Мариуса с Козеттой. Она обменялась своими лохмотьями с первым встречным молодым шалопаем, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это она на Марсовом поле сделала Жану Вальжану многозначительное предупреждение: Переезжайте. Жан Вальжан, вернувшись домой, действительно сказал Козетте: «Сегодня вечером мы уезжаем на улицу Вооруженного человека вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, спешно написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, непривычная к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Терзаясь беспокойством, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпонину, все время бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «этого молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо, сказав: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Утром, пятого июня, она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», — это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака — все для того же, чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и удостоверилась, в каком месте строится баррикада. Мариуса никто не предупреждал, письмо она перехватила; глубоко убежденная, что с наступлением ночи он, как обычно вечером, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с тем призывом, который, как она надеялась, должен был привести его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что́ она там свершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!»
Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда и вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть — лучший выход. И тогда он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее «прости», и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье.
У него был при себе тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:
«Наш брак невозможен. Я просил позволения у моего деда, он отказал; у меня нет средств, и у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя. Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».
Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес:
«Мадемуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, № 7».
Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки:
«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».
Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. На голос Мариуса тотчас появилась веселая и выражающая преданность рожица мальчугана.
— Хочешь сделать кое-что для меня?
— Все, что угодно, — ответил Гаврош. — Господи боже мой! Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка.
— Видишь это письмо?
— Да.
— Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош, забеспокоившись, стал почесывать у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадемуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер седьмой.
Маленький герой ответил:
— Ну хорошо, но… за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет!
— По всем признакам, баррикаду не атакуют раньше чем на рассвете и не возьмут раньше чем завтра к полудню.
Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.
— Слушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? — спросил Гаврош.
— Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах поставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.
Гаврош не нашелся что ответить и стоял в нерешительности, печально почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо.
— Ладно, — сказал он.
И пустился бегом по переулку Мондетур.
Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел какого-либо возражения.
Вот она, эта мысль:
«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться».
Книга XV Улица Вооруженного человека
Глава 1
Бювар-болтун
Что значит бурное волнение целого города в сравнении с душевной бурей? Человек — глубина еще более бездонная, чем народ. Жан Вальжан был во власти ужасного возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрогался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать так же, как и о Париже: «Вот две силы. Дух света и дух тьмы схватились на мосту, над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?»
Вечером, накануне дня 5 июня, Жан Вальжан в сопровождении Козетты и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.
Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз с тех пор, как они жили вместе, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли друг другу. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: переезжайте, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.
Оба прибыли на улицу Вооруженного человека, молчаливые, не сказав друг другу ни слова, каждого обуревали собственные заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана.
Жан Вальжан взял с собой Тусен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала любопытства. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю; достальное меня не касаемо».
Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики — это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.
Тусен лишь с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой только шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар.
Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан распорядился отъездом с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно.
Спать улеглись молча.
Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных комнат, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В жилище этом имелась вся необходимая домашняя утварь.
Люди поддаются успокоению почти так же безрассудно, как и тревоге, — такова человеческая природа.
Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его беспокойство стихло и постепенно рассеялось. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой посреди шумного города, сумрачной среди белого дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. На этой улице застыло забвение. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы отыскать здесь?
Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.
Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалась прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.
Что касается Козетты, то она велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.
К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством их новой квартиры, подала на стол в столовой холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать.
Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.
Во время этого скромного обеда он два или три раза смутно слышал, как Тусен, заикаясь, говорила: «Сударь, крик-шум кругом, дерутся в Париже». Но, поглощенный множеством своих соображений, он не обратил внимания на эти слова. Говоря по правде, он их толком и не разобрал.
Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, испытывая все большую умиротворенность.
Лишь только он успокоился, Козетта, его единственная забота, вновь завладела его мыслями. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, этим небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, — все это минует через день или два; но он думал о будущем, и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в свою колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую — все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что самого его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, — эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит, она принадлежит ему; то был оптический обман, действие которого всем знакомо. Мысленно он устраивал, и со всеми возможными удобствами, отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье.
Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.
Прямо напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и ясно прочел следующие четыре строки:
«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.
Козетта. 4 июня».
Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.
Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, позабыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки эти отпечатались на пропускной бумаге бювара.
Зеркало отражало написанное.
Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением; строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл; перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.
Это было просто и оглушительно.
Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.
Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал: «Это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре; опрокинутые отпечатки букв образовывали какую-то причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. Тогда он подумал: «Но ведь это ничего не означает, здесь ничего не написано» — и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.
Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало, и повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это не было миражем. Повторившееся явление — уже реальность; это было очевидно, это было письмо, правильно восстановленное зеркалом. Он понял.
Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок его мутился. Он сказал себе, что все это было правдой, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. Тогда он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо!
Как это ни было странно и печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану раньше, чем вручить Мариусу.
До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стоическим до такой степени, что порою его, подобно мученику, можно было считать отрешившимся от самого себя. Его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, могла казаться навеки неодолимой. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то был бы вынужден признать, что она ослабевает.
Из всех мук, которые он перенес в долгой пытке, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знавал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы, величайшее испытание, скажем лучше, единственное испытание — это утрата любимого существа!
Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец; однако, мы уже отметили выше, самое сиротство его жизни включило в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа — это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому чувство любви к женщине, наиболее стойкое из всех, смутное, слепое и чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Оно было даже скорее инстинктом, чем чувством, скорее влечением, чем инстинктом, неощутимое и невидимое, но реальное; и в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, неведомой и нетронутой в недрах горы.
Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак не был возможен между ними, даже брак духовный; и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и любовные увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени — светло-зеленых и темно-зеленых, — какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, переваливших за пятый десяток. В итоге, — как мы уже не раз упоминали, — все это внутреннее слияние чувств, все это целое, равнодействующей которого явилась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась и мать; отец, любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.
И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде, когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я — только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» — скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, — и вот итог! Как же так? Оказывается, он — ничто? Тогда, как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, и «я» зарычало в безднах души этого человека.
Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав некие глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными самим себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, — такой мрачной печалью веяло от него.
Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало — ибо страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.
Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть — все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.
Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.
Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния — это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. С первых же догадок он напал на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца, — ведь это подлость строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит.
Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, — этот юноша и что он — источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастья обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак — Ненависть.
Великая скорбь подавляет. Она разочаровывает в жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже — зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца, полного чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль — впереди, когда вы полны жизненной силы, — даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!
Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:
— Где это происходит? Вы не знаете?
Озадаченная Тусен только и могла спросить:
— Что вам угодно?
Жан Вальжан спросил снова:
— Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?
— Ах да, сударь! — ответила Тусен. — В стороне Сен-Мерри.
Нам свойственны бессознательные побуждения, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице.
С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.
Наступила ночь.
Глава 2
Гаврош — враг освещения
Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе какую-нибудь твердую точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы ответить.
Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома № 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот, неподвижный, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния — замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Перекрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; ибо набат — дело рук человеческих, время — дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, и затем снова, еще более оглушительный; вероятно, то началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этом двойном залпе, ярость которого, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.
Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза, — по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и при свете фонаря у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, юное и веселое лицо.
На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.
Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.
Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:
— Черт побери!
Потом снова начал смотреть вверх.
Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому сам не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком.
— Малыш, — сказал он, — что тебе надо?
— Мне надо поесть, — откровенно ответил Гаврош. И прибавил: — Сами вы малыш.
Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.
Но Гаврош, принадлежавший к породе трясогузок и быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь.
— Смотрите-ка, — сказал он, — у вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило.
И он бросил камнем в фонарь; стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие за своими укрытиями в доме напротив, закричали: «Вот и начинается девяносто третий год!»
Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.
— Так, так, старушка-улица, — одобрил Гаврош, — надевай свой ночной колпак. — И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил: — Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду, вот было бы славно!
Жан Вальжан подошел к Гаврошу.
— Бедняжка, — пробормотал он про себя, — он хочет есть.
И сунул ему в руку пятифранковую монету.
Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. Он сказал: «Поглядим-ка на этого тигра».
Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и величественно сказал:
— Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.
— Есть у тебя мать? — спросил Жан Вальжаи.
— Уж скорей, чем у вас, — не задумываясь, ответил ему Гаврош.
— Тогда возьми эти деньги для твоей матери, — продолжал Жан Вальжан.
Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.
— Вправду? — спросил он. — Это не для того, чтобы я не бил фонари?
— Бей, сколько хочешь.
— Вы славный малый, — заметил Гаврош.
И опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он прибавил:
— Вы живете на этой улице?
— Да, а что?
— Можете вы мне показать дом номер семь?
— Зачем тебе дом номер семь?
Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:
— Да так!
У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения.
— Может быть, ты принес мне письмо, которого я ожидаю? — спросил он.
— Вам? — сказал Гаврош. — Вы не женщина.
— Письмо адресовано мадемуазель Козетте, не так ли?
— Козетте? — проворчал Гаврош. — Как будто там так и написано. Смешное имя!
— Ну так вот, — ответил Жан Вальжан, — я-то и должен передать ей письмо. Давай его сюда.
— В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?
— Конечно, знаю.
Гаврош сунул руку в другой свой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу.
Затем он сделал под козырек.
— Почет депеше, — сказал он. — Она от временного правительства.
— Давай, — сказал Жан Вальжан.
Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.
— Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам.
— Давай.
— Право, вы, кажется, славный малый, — продолжал Гаврош.
— Давай скорей.
— Нате.
Он вручил бумажку Жану Вальжану.
— И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.
Гаврош был весьма доволен своей остротой.
— Куда отнести ответ? — спросил Жан Вальжан. — К Сен-Мерри?
— Ну и ошибетесь немножко, — воскликнул Гаврош, — как говорится, пирожок — не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин.
С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру, с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись там, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут громкий треск разбитого стекла и раскатистый грохот фонаря, обрушившегося на мостовую, вдруг снова не разбудил негодующих обывателей. То орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.
Глава 3
Пока Козетта и Тусен спят…
Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса. Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада три или четыре спички, прежде чем он зажег одну, так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать.
Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:
«…Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя».
Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с каким-то пьяным изумлением; ему представилось великолепное зрелище — смерть ненавистного существа.
В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все это кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Этот Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждения, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете; но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим, он попал между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, вновь открывалось перед ним будущее. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено свершиться, — думал он. — Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!»
Сказав себе все это, он стал мрачен.
Затем он спустился вниз и разбудил привратника.
Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.
Глава 4
Излишний пыл Гавроша
Тем временем с Гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел случай подходящим, чтобы затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. Вдоль заснувших или напуганных домов посыпались следующие зажигательные куплеты:
Злословил дрозд в тени дубравы: «Недавно с девушкой одной Какой-то русский под сосной…» Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Дружок Пьерро, ну что за нравы, Ты, что ни день, всегда с другой! К чему калейдоскоп такой? Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Подчас любовь страшней отравы! За горло нежной взят рукой, Терял я разум и покой. Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? О, где минувших дней забавы! Лизон играть хотела мной, Раз, два… и обожглась игрой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Когда Сюзетта — боже правый! — Метнет, бывало, взгляд живой, Я весь дрожу, я сам не свой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Я перелистываю главы, Мадлен со мной в тиши ночной, И что мне черти с сатаной! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Но как причудницы лукавы! Приманят ножки наготой — И упорхнут… Адель, постой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Бледнели звезды в блеске славы, Когда с кадрили, ангел мой, Со мною Стелла шла домой. Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой?Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест — точка опоры для припева. Он корчил причудливые рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно прорехи рваного белья, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, и этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты.
Внезапно он остановился.
— Прервем романс, — сказал он.
Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря, некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо — спавшим на ней овернцем.
Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.
Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу. Это был какой-то уличный возчик, крепко выпивший и крепко спавший.
«Вот на что годятся летние ночи, — подумал Гаврош. — Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».
Его ум только что осенила следующая блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».
Овернец храпел.
Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.
Тележка была свободна.
Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил при себе все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, подтибренный у какого-то плотника.
Он написал:
«Французская республика.
Тележка получена».
И подписался:
«Гаврош».Затем он засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, толкая перед собой грохочущую тележку, пустился во всю прыть в сторону Центрального рынка, торжествуя свою победу.
Это грозило опасностью. Возле королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд начал шевелиться, и головы то и дело поднимались на походных койках. Два фонаря, разбитые один за другим, песенка, распеваемая во все горло, — всего этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уже с час уличный мальчишка бесновался в этой мирной округе, подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.
Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения и вынудил сержанта к попытке произвести расследование.
— Они здесь, целой шайкой! — воскликнул он. — Пойдем посмотрим потихоньку.
Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.
И сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.
Внезапно, как раз у выхода с улицы Вьейль-Одриет, Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.
Он разом остановился вторично.
— Смотри-ка, — удивился Гаврош, — он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок.
Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.
— Ты куда идешь, оборванец? — закричал сержант.
— Гражданин, — ответил Гаврош, — я вас еще не назвал буржуа. Почему же вы меня оскорбляете?
— Ты куда идешь, шалопай?
— Сударь, — ответил Гаврош, — может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания.
— Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?
— Вы разговариваете очень мило. Право, вам нельзя дать ваши годы. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.
— Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!
— Какие скверные слова, — заметил Гаврош. — В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот.
Сержант выставил штык.
— Ты скажешь, наконец, куда ты идешь, злодей?
— Господин генерал, — ответил Гаврош, — я ищу доктора для моей супруги, она родит.
— К оружию! — закричал сержант.
Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью, — вот верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.
В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в самое брюхо, кувырком полетел в канаву, причем ружье его тут же разрядилось в воздух.
На крик сержанта гурьбой высыпали солдаты; ружейный выстрел повлек за собой общий беспорядочный залп, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.
Эта пальба наугад продолжалась добрых четверть часа, и пули поразили насмерть несколько оконных стекол.
Тем временем Гаврош, без памяти бросившийся назад, остановился за пять или шесть улиц от места происшествия и, запыхавшись, уселся за тумбу, отмечающую угол улицы Красных сирот.
Он внимательно прислушался.
Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Сей выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, по-видимому, живуч, так как он держится уже с полвека.
Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.
«Так, — подумал он, — я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюк. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!»
Вслед за этим он продолжал свой путь.
«Ах да, на чем же это я остановился?» — стал он вспоминать на бегу.
И он снова запел свою песенку, быстро ныряя из улицы в улицу, а в темноте, постепенно затихая, звучало:
Скосило время вас, как травы, Но тверд иных бастилий строй. Друзья, долой режим гнилой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Сразимся в кегли для забавы! Где шар? Один удар лихой — И трон Бурбонов стал трухой. Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Бледнея, в Лувре ждут расправы, Народ, монархию долой! Мети железною метлой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Решетки не задержат лавы! Ах, Карл Десятый, срам какой, Летит за дверь — и в грязь башкой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой?Вооруженное выступление караула не оказалось безрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.
Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, является одним из самых страшных воспоминаний старых буржуа Марэ и запечатлено в их памяти нижеследующим образом: «Ночная атака на караульное помещение Королевской типографии».
Часть V ЖАН ВАЛЬЖАН
Книга I Война в четырех стенах
Глава 1
Харибда предместья Сент-Антуан и Сцилла предместья Тампль
Две наиболее памятные баррикады, которые может отметить исследователь социальных болезней, не принадлежат к тому времени, когда происходят события этой книги. Обе эти баррикады, являющиеся каждая в своем роде символом грозной эпохи, выросли из земли во время рокового июньского восстания 1848 года — величайшей из всех уличных войн, какие только видела история.
Случается иногда, что чернь, великая бунтовщица, восстает даже против высоких принципов, против свободы, равенства и братства, против избирательного права, против верховной власти народа, восстает из бездны своего отчаяния, своих скорбей, разочарований, тревог, лишений, смрада, невежества, темноты; случается, что простонародье объявляет войну народу.
Оборванцы нападают на общественное право; охлократия ополчается против демоса.
Это мрачные дни, ибо даже в таком безумии всегда есть известная доля справедливости, такая дуэль похожа на самоубийство, а слова якобы оскорбительные — оборванцы, чернь, охлократия, простонародье — доказывают, увы, скорее вину тех, кто господствует, чем тех, кто страдает: скорее вину привилегированных, чем вину обездоленных.
Что до меня, я произношу эти слова с болью и уважением, ибо если философия углубится в явления, которым эти слова соответствуют, она нередко найдет там великое наряду с ничтожным. В Афинах была охлократия, гезы создали Голландию, плебеи много раз спасали Рим, а чернь следовала за Иисусом.
Кто из мыслителей порою не задумывался над величием социального дна!
Именно об этой черни, о всех этих бедняках, бродягах, отверженных, из которых вышли апостолы и мученики, думал, вероятно, блаженный Иероним, когда произнес свое загадочное изречение: Fex urbis, lex orbis[616].
Возмущение этой толпы, страдающей и обливающейся кровью, ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония являются попытками государственного переворота и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и именно из любви к толпе вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хоть и сопротивляется! Как уважает ее, хоть и дает ей отпор! Здесь один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем — это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди.
Поспешим оговориться — июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные нами выше, надо взять обратно там, где речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость труда, взывающего о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собою июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя.
То, что относится к основному сюжету, нельзя считать отступлением; поэтому да будет нам дозволено ненадолго остановить внимание читателя на двух единственных в своем роде баррикадах, о которых мы только что упоминали и которые особенно характерны для этого вооруженного восстания.
Одна заграждала заставу предместья Сент-Антуан, другая защищала подступы к предместью Тампль; те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут.
Сент-антуанская баррикада была чудовищных размеров — высотой с трехэтажный дом и шириной в семьсот футов. Она загораживала от угла до угла широкое устье предместья, то есть сразу три улицы; изрытая, иссеченная, зубчатая, изрубленная, с громадным проломом, как бы образующим бойницу, подпираемая грудами камней, превращенными в бастионы, там и сям выдаваясь вперед неровными выступами, надежно прикрывая свой тыл двумя высокими мысами домов предместья, она вздымалась, как гигантская плотина, в глубине страшной площади, некогда видевшей 14 июля. Девятнадцать баррикад громоздились уступами, уходя в глубь улиц, позади этой баррикады-прародительницы. Достаточно было увидеть ее издали, чтобы почувствовать ужасные предсмертные страдания городских окраин, достигшие того предела, когда нужда превращается в катастрофу. Из чего была построена баррикада? Как говорили одни, из развалин трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных. По словам других, ее сотворило чудо народного гнева. Эти развалины наводили тоску, как все порождения ненависти. Можно было спросить: кто это построил? Можно было спросить также: кто это разрушил? То было создано вдохновенным порывом клокочущей ярости. Стой! вот дверь! вот решетка! вот навес! вот рама! вот сломанная жаровня! треснувший горшок! Давай все, швыряй все! Толкай, тащи, выворачивай, выламывай, сшибай, разрушай все! В одну кучу дружно валились булыжники, щебень, бревна, железные брусья, тряпье, битое стекло, ободранные стулья, капустные кочерыжки, лохмотья, мусор, проклятия. Это было величественно и ничтожно. Пародия на первозданный хаос, мгновенно созданная нищетой. Массы и атомы вперемешку; кусок стены рядом с дырявой миской — грозное братство всевозможных обломков; Сизиф бросил сюда свою каменную глыбу, а Иов — свой черепок. Все в целом внушало ужас. Это был Акрополь голытьбы. По всему скату торчали опрокинутые тележки; огромная повозка, перевернутая колесами вверх, казалась шрамом на этом мятежном лике; распряженный омнибус, который со смехом втащили на руках на самую верхушку, как будто строители варварского сооружения хотели соединить трагическое с забавным, вытягивал свое дышло навстречу каким-то неведомым небесным коням. Эта гигантская насыпь, намытая волнами мятежа, вызывала в памяти нагромождение Оссы на Пелион во всех революциях; 93-й год на 89-й, 9 термидора на 10 августа, 18 брюмера на 21 января, вандемьер на прериаль, 1848-й год на 1830-й. Площадь того стоила, и баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия. Если бы океан строил плотины, он воздвиг бы именно такую. Ярость прилива наложила печать на эту бесформенную запруду. Какого прилива? Толпы. Казалось, вы видите окаменелый вопль. Казалось, вы слышите, как жужжат над баррикадой, словно над ульем, огромные невиданные пчелы бурного прогресса. Была ли то непроходимая чаща? Или следы пьяной оргии? Или крепость? Чудилось, будто безумие создало это взмахом крыла. Было что-то омерзительное в этом укреплении и нечто олимпийское в этом хаосе. Там и сям в отчаянном сумбуре торчали стропила крыш, оклеенные обоями углы мансард, оконные рамы с целыми стеклами, стоящие среди щебня в ожидании пушечного выстрела, сорванные с кровель трубы, шкафы, столы, скамейки, в бессмысленном кричащем беспорядке, всевозможный убогий скарб, отвергнутый даже нищими и носящий отпечаток ярости и разрушения. Можно было бы сказать, что это лохмотья народа: лохмотья из дерева, из железа, меди, камня, и что предместье Сент-Антуан вышвырнуло все это за дверь могучим взмахом метлы, создав баррикаду из своей нищеты. Обрубки, напоминавшие плаху, разорванные цепи, брусья с перекладиной в виде виселиц, колеса, валяющиеся среди щебня, населяли это жилище анархии мрачными видениями всех древних пыток, каким некогда подвергался народ. Сент-Антуанская баррикада обращала в оружие все; все, чем гражданская война может запустить в голову обществу, вылетало оттуда; то было не сражение, а припадок бешенства. Карабины, которые защищали этот редут, в том числе и несколько мушкетонов, палили осколками, костяшками, пуговицами, даже колесиками из-под ночных столиков, представлявшими собой весьма опасные снаряды, так как они были из меди. Баррикада бесновалась. Она оглашала небо неистовыми воплями; время от времени, как бы дразня осаждавших, она покрывалась бушующей толпой, венчала себя морем горячих голов; она вся кишела людьми, щетинилась колючим гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков; огромное красное знамя плескалось по ветру. С баррикады доносились крики команды, боевые песни, дробь барабанов, женский плач и жуткий смех умиравших с голоду. Она была необъятна и полна жизни, она вспыхивала искрами, как спина электрического ската. Дух революции клубился облаком над этой вершиной, откуда гремел глас народа, подобный гласу божию; эта гигантская груда мусора казалась исполненной странного величия. То была куча отбросов, и то был Синай.
Как мы говорили выше, баррикада сражалась во имя Революции. С кем? С самой Революцией. Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, стояла лицом к лицу с Учредительным собранием, с верховной властью народа, со всеобщим избирательным правом, с нацией, с Республикой; Карманьола вызывала на бой Марсельезу.
Вызов безрассудный, но героический, ибо этот старый пригород сам был героем.
Предместье и его редут поддерживали друг друга. Предместье опиралось на редут, редут прислонялся к предместью. Громадная баррикада высилась, как скала, о которую разбивалась стратегия генералов, прославленных в африканских походах. Все ее впадины, наросты, шишки, горбы казались в клубах дыма ее гримасами, озорной ее усмешкой. Картечь застревала в ее бесформенной массе, снаряды вязли там, поглощались, исчезали, ядра только дырявили дыры; какой смысл бомбардировать хаос? И войска, привыкшие к самым страшным картинам войны, с тревогой глядели на этот редут-чудовище, щетинистый, как вепрь, и огромный, как гора.
В четверти мили оттуда, если бы кто отважился заглянуть за острый выступ, образуемый витриной магазина Далемань, на углу улицы Тампль, выходящей на бульвар близ Шато-д’О, то можно было увидеть вдалеке, по ту сторону канала, на верхнем конце улицы, поднимающейся лесенкой по предместью Бельвиль, какую-то странную стену в два этажа высотой. Она соединяла прямой чертой дома правой стороны с левой, как будто улица сама отвела назад свою самую высокую стену, чтобы выставить надежный заслон. Это была стена из тесаного камня. Прямая, гладкая, холодная, крутая, она была выверена наугольником, выложена по шнурку, проверена по отвесу. Разумеется, ее не цементировали, но, как и в иных римских стенах, это не нарушало строгой ее архитектуры. По высоте можно было догадаться о ее толщине. Карниз был математически точно параллелен основанию. На серой поверхности, через известные промежутки, можно было различить едва заметные отверстия бойниц, подобные черным линиям. Бойницы были расположены на равных расстояниях друг от друга. Улица была пустынна из конца в конец; все окна и двери заперты, а в глубине возвышалась эта застава — неподвижная и безмолвная стена, превращавшая улицу в тупик. На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей.
Ослепительное июньское солнце заливало светом это грозное сооружение.
То была баррикада предместья Тампль.
Подойдя к этому месту и увидев ее, даже самые смелые призадумывались, пораженные загадочным видением. Все здесь было строго, прямолинейно, тщательно прилажено, плотно пригнано, симметрично и зловеще. Здесь наука сочеталась с магией. Казалось, создателем такой баррикады мог быть геометр или призрак. Глядя на нее, невольно понижали голос.
Время от времени, как только солдат, офицер или представитель власти решался пересечь пустынную улицу, раздавался тонкий свистящий звук, и прохожий падал раненый или убитый. Если же ему удавалось перебежать, пуля вонзалась в закрытую ставню, застревала между кирпичами или в стенной штукатурке. А иногда вылетала и картечь. Бойцы баррикады сделали из двух обломков чугунных газовых труб, заткнутых с одного конца паклей и глиной, две небольшие пушки. Пороха зря не тратили: почти каждый выстрел попадал в цель. Здесь и там валялись трупы, лужи крови стояли на мостовой. Мне запомнился белый мотылек, порхавший посреди улицы. Лето остается летом.
Все подворотни окрестных домов были забиты ранеными.
Каждый чувствовал себя под прицелом невидимого врага и понимал, что улица пристреляна во всю длину.
Солдаты, построенные для атаки у Тампльской заставы, за горбатым мостом канала, хмуро и сосредоточенно разглядывали этот мрачный редут, неподвижный, бесстрастный, рассылающий смерть. Некоторые добирались ползком до середины выгнутого дугой моста, стараясь не выставлять кивера.
Бравый полковник Монтейнар любовался баррикадой не без внутреннего трепета. «А как построено! — сказал он, обращаясь к одному из депутатов. — Ни один камень не выдается. Точно из фарфора!» В этот миг пуля пробила орден на его груди, и он упал.
«Трусы! — кричали солдаты. — Да покажитесь же! Дайте на вас посмотреть! Они не смеют! Они прячутся!» Баррикада предместья Тампль, которую защищали восемьдесят человек против десяти тысяч, продержалась три дня. На четвертый, как в битве при Зааче и при Константине, атакующие ворвались в дома, прошли по крышам, и баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти «трусов» и не подумал бежать, все были убиты, кроме начальника Бартелеми, о котором мы скажем позже.
Баррикада Сент-Антуан поражала раскатами громов, баррикада Тампль — молчанием. Между двумя редутами была та же разница, что между страшным и зловещим. Одна казалась мордой зверя, другая — маской.
Если в грандиозном и мрачном июньском восстании сочетались гнев и загадка, то за первой баррикадой чудился дракон, за второй — сфинкс.
Две эти крепости были созданы двумя людьми, по имени Курне и Бартелеми. Курне воздвиг баррикаду Сент-Антуан, Бартелеми — баррикаду Тампль. Каждая отражала черты того, кто ее построил.
Курне был человек высокого роста, широкоплечий, полнокровный, с могучими кулаками, смелым сердцем, чистой душой, с открытым и грозным взглядом. Отважный, решительный, вспыльчивый, буйный, он был самым добродушным из людей и самым опасным из бойцов. Война, борьба, схватка были его родной стихией и радовали его. Он служил когда-то офицером флота; по его движениям и голосу можно было угадать, что он дитя океана, порождение бури; он врывался в битву как ураган. У Курне было нечто общее с Дантоном, но не было гениальности, как у Дантона было нечто общее с Геркулесом, но не было божественного происхождения.
Худенький, невзрачный, бледный, молчаливый Бартелеми напоминал гамена, но с трагической судьбой; получив как-то пощечину от полицейского, он его выследил, подстерег, убил и, семнадцати лет от роду, был сослан на каторгу. Выйдя оттуда, он построил баррикаду.
Волею рока, в Лондоне, где позже оба они жили в изгнании, Бартелеми убил Курне. Злосчастная дуэль! Некоторое время спустя, запутанный в одну из тех загадочных историй, где замешана страсть, в одну из тех катастроф, где французское правосудие видит смягчающие обстоятельства, а английское правосудие — только убийство, Бартелеми был повешен. Наш общественный строй так мрачен, что этот несчастный, который, несомненно, был одарен незаурядным, а может быть, и выдающимся умом, в силу материальных лишений и низкого морального уровня начал каторгой во Франции и кончил виселицей в Англии. Во всех случаях Бартелеми водружал одно только знамя — черное.
Глава 2
Что делать в бездне, если не беседовать?
Шестнадцать лет — немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832 года. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем по сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше; но для своего времени она была страшной.
Под наблюдением Анжольраса повстанцы употребили с пользой ночные часы; Мариус уже ни на что не обращал внимания. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики, взятые наперевес. Всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую чащу.
Лестницу из булыжников починили, так что на редут можно было всходить, как на крепостную стену.
На баррикаде навели порядок: очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перебинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, роздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы.
Убитых сложили грудой на улице Мондетур, которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Анжольрас велел сохранить.
Анжольрас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжольраса был равносилен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Фейи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене противоположного дома такую надпись:
ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ!
Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году.
Три женщины воспользовались ночной передышкой и окончательно исчезли: вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Повстанцы облегченно вздохнули.
Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне, которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжело раненных, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь.
В нижней зале остались только Мабеф, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу.
— Здесь будет мертвецкая, — сказал Анжольрас.
В комнате, едва освещенной свечой, в самой глубине, где за столбом, наподобие перекладины, виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного креста, образуемого фигурой стоящего во весь рост Жавера и лежащим Мабефом.
Дышло омнибуса, хоть и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, чтобы укрепить на нем знамя.
Анжольрас, отличавшийся свойством настоящего командира — всегда претворять слово в дело, привязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика.
Накормить людей было уже нечем. Не осталось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится плотом «Медузы». Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда на баррикаде Сен-Мерри Жанн, которого обступили повстанцы с криками: «Хлеба! Дайте есть!» — отвечал: «К чему? Теперь три часа. В четыре мы будем убиты».
Так как есть было нечего, Анжольрас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порции.
В погребе было обнаружено пятнадцать полных, плотно закупоренных бутылок. Анжольрас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил: «Это из старых запасов дядюшки Гюшлу, он начал с бакалейной торговли». — «Вино, должно быть, отменное, — заметил Боссюэ, — хорошо, что Грантэр спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки». Несмотря на ропот, Анжольрас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабеф.
Около двух часов ночи сделали перекличку. На баррикаде еще оставалось тридцать семь человек.
Начинало светать. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту и сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминала палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов, в вышине смутно белели трубы. Небо приняло тот очаровательный неопределенный оттенок, который кажется то белым, то голубым. В вышине с радостным щебетанием носились птицы. На крыше высокого дома, обращенного на восток и служившего опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека.
— Я рад, что потушил факел, — сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи, — меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру, будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов: оно плохо освещает, потому что дрожит.
Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц: все заговорили.
Увидев кошку, пробирающуюся по желобу на крыше, Жоли нашел в ней повод для философских размышлений.
— Что такое кошка? — воскликнул он. — Это поправка. Господь бог, сотворив мышь, сказал: «Стой-ка, я сделал глупость». И сотворил кошку. Кошка — это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка — это проверенный и исправленный пробный оттиск творения.
Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жане Прувере, о Баореле, о Мабефе, даже о Кабюке и о суровой печали Анжольраса. Он сказал:
— Гармодий и Аристогитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Занд — все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше так чувствительно, а жизнь человеческая такая великая тайна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, если оно совершено, раскаяние в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству.
И минуту спустя — так причудливы повороты мысли в беседе — от стихов Жана Прувера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков «Георгик»: Ро — с Курнаном, Курнана — с Делилем, отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря; при упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту.
— Убийство Цезаря справедливо, — сказал Комбефер. — Цицерон был суров к Цезарю, и был прав. Такая суровость — не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Мевий оскорбляет Вергилия, Визе — Мольера, Поп — Шекспира, Фрерон — Вольтера, тут действует старый закон зависти и ненависти: гении всегда подвергаются преследованию, великих людей всегда так или иначе травят. Но Зоил одно, а Цицерон — другое. Цицерон карает мыслью так же, как Брут карает мечом. Лично я порицаю этот последний вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ, и не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам Евтропия, как царь, даже больше — как тиран: regia ac pene tyrannica[617]. Он был великий человек; тем хуже, или, вернее, лучше: тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевок на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают бога.
Боссюэ, стоя на груде камней с карабином в руках и возвышаясь над всеми, восклицал:
— О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинф, о прекрасный Эантид! О, кто бы даровал мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона!
Глава 3
Чем, светлее, тем мрачнее
Анжольрас отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок Мондетур, проскользнув вдоль стен.
Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее, посмеиваясь. Они так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С тою легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на три определенные фазы: в шесть утра «соответствующим образом подготовленный» полк перейдет на их сторону, в полдень — восстание всего Парижа, на закате — революция.
Они слышали набатный колокол Сен-Мерри, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня; это доказывало, что другая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась.
Все эти чаяния и слухи передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжание пчелиного улья.
Появился Анжольрас. Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуту он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал:
— Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с места. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Мы покинуты всеми.
Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина; в ней, казалось, слышался полет смерти.
Но этот миг был краток.
Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжольрасу:
— Будь что будет! Подымем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов. Докажем, что если народ предает республиканцев, то республиканцы не предают народ!
Слова эти освободили сознание людей от гнетущего тумана личных тревог и страхов и были встречены восторженными криками.
Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому не ведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах и зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь исчезнуть во мраке, воплотив в себе на краткий миг, при блеске молнии, дух народа и божества.
Это непреклонное решение было настолько в духе 6 июня 1832 года, что почти одновременно на баррикаде Сен-Мерри прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе: «Придут к нам на помощь или не придут, не все ли равно! Погибнем здесь все до последнего!»
Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно.
Глава 4
Пятью меньше, одним больше
После того как выступил незнакомец, провозгласивший «клятву мертвецов», и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловещий по смыслу, но звучавший торжеством.
— Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного!
— Почему же все? — спросил Анжольрас.
— Все! Все!
Анжольрас возразил:
— Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок?
— Потому что никто не захочет уйти, — отвечали ему.
— Граждане! — крикнул Анжольрас, и в голосе его послышалась дрожь раздражения. — Республика не настолько богата людьми, чтобы тратить их понапрасну. Такое тщеславие — просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны выполнить его, как всякий другой долг.
Анжольрас, воплощенный принцип, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью, которой обладает все, что непогрешимо. Но как ни велика была сила его влияния, поднялся ропот.
Командир до мозга костей, Анжольрас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном:
— Пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом. — Ропот усилился.
— Если на то пошло, легко сказать: «Уйдите», — послышался голос из какой-то группы, — ведь баррикада оцеплена.
— Только не со стороны рынка, — возразил Анжольрас. — Улица Мондетур свободна, и улицей Проповедников можно добраться до рынка Инносан.
— Вот там-то и схватят, — раздался другой голос. — Как раз напорешься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместья. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. «Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? — и поглядят на руки. — Ага, от тебя пахнет порохом. К расстрелу!»
Вместо ответа Анжольрас тронул за плечо Комбефера, и оба вошли в нижнюю залу.
Минуту спустя они вернулись. Анжольрас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера.
— В таком мундире, — сказал Анжольрас, — легко затеряться в рядах и скрыться. Во всяком случае, на четверых здесь хватит.
И он бросил мундиры на землю.
Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер.
— Полноте, — сказал он, — будьте же сострадательны. Знаете, в чем тут все дело? Дело в женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, подымите руку. Ах, вы хотите быть убитыми! Я сам, поверьте, хочу того же, но я не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство — действие, строго ограниченное и не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших ближних, оно назовется убийством. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о сединах стариков. Слушайте, Анжольрас рассказал мне сейчас, что видел на углу Лебяжьей улицы освещенное свечой узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая, верно, всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать своей матери: «Матушка, вот и я!» Ему нечего беспокоиться, мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких своим трудом, не имеет права жертвовать собой. Это значит бросить семью на произвол судьбы. А вы, у кого остались дочери, у кого остались сестры? Вы подумали о них? Вы идете на смерть, вас убьют — прекрасно! А завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть! Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. О прелестные создания, ласковые и нежные, с цветком в волосах! Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием, они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов на небесах! Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими, о пленительных благородных существах, которые являются гордостью и благословением вашей семьи, — и они, о боже! — они будут голодать! Что я могу сказать вам? Есть рынок, где торгуют человеческим телом; и если они пойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками? Вспомните об улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи полуобнаженные женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах, у многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар — вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким чудесным созданиям, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майская сирень. Ах, вот как, вы дали себя убить? Вас уже нет на свете! Отлично, нечего сказать! Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок. Полноте, друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем! Мы полагаемся на то, что женщины не так образованны, как мы, им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой; но разве вы можете запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать там ваши трупы? Слушайте, вы, у кого осталась семья, не упрямьтесь, пожмите нам руки и уходите, мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю: чтобы уйти, нужно мужество; это трудно. Но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите: у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет — не слишком ли сгоряча сказано? Будет, друзья мои, завтрашний день; вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает! Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками, который болтает, щебечет, тараторит, смеется, который так вкусно пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного, совсем крошечного, вот такого роста. Его отец умер. Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден. Стояла зима. Он не плакал. Он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками кусочки глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер. А умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которым доставляет радость гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша, я как сейчас вижу его голое тельце на анатомическом столе, ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зола. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает пятидесяти пяти процентов. Повторяю, речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет о малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми! Прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве. В добрый час! Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не будьте эгоистами!
Все угрюмо насупились.
Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в эти торжественные мгновения! Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был «эгоистом».
Изнуренный голодом и лихорадкой, Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самое страшное из крушений — упадок духа, истерзанный бурными волнениями и чувствуя близость конца, все больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти.
Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которое так же относится к страданию, как страсть — к наслаждению. У отчаяния также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всего происходящего; как мы уже говорили, он видел все как бы издалека, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно отделенные от него огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны.
Однако речь Комбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела только одна мысль — умереть, и он не желал ничем отвлекаться, однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других.
Он возвысил голос:
— Анжольрас и Комбефер правы, — сказал он, — не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними; но надо спешить. То, что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед.
Никто не тронулся с места.
— Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед! — повторил Мариус.
Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, являлся Анжольрас, но Мариус был ее спасителем.
— Я приказываю! — крикнул Анжольрас.
— Я вас прошу, — сказал Мариус.
Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжольраса, тронутые просьбой Мариуса, начали указывать друг на друга. «Это верно, — говорил молодой пожилому, — ты отец семейства, уходи». — «Уж лучше ты, — отвечал тот, — у тебя две сестры на руках». И разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы.
— Торопитесь, — сказал Комбефер, — через четверть часа будет поздно.
— Граждане, — настаивал Анжольрас, — у нас здесь республика, все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти.
Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласно и вышли из рядов.
— Их пятеро! — воскликнул Мариус.
Мундиров было только четыре.
— Ну что же, одному придется остаться, — ответили пятеро.
И снова каждый стремился остаться и убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась.
— У тебя любящая жена. — У тебя старая мать. — А у тебя ни отца, ни матери, что станется с твоими тремя братишками? — У тебя пятеро детей. — Ты должен жить, в семнадцать лет слишком рано умирать.
На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное там становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу.
— Скорее, скорее, — твердил Курфейрак.
Из толпы закричали Мариусу:
— Назначьте вы, кому остаться.
— Правильно, — сказали все пятеро, — выбирайте. Мы подчинимся.
Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно.
Он подошел к пятерым; они улыбались ему, глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал:
— Меня, меня, меня!
Мариус растерянно пересчитал их; по-прежнему их было пятеро. Затем он перевел глаза на четыре мундира.
В этот миг на четыре мундира как будто с неба упал пятый.
Пятый человек был спасен.
Мариус поднял глаза и узнал г-на Фошлевана.
Жан Вальжан только что появился на баррикаде.
Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы Мондетур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно.
Дозор, выставленный мятежниками на улице Мондетур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это, вероятно, кто-нибудь из пополнения или, в худшем случае, пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост.
Появления Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Но Жан Вальжан видел и слышал все: он молча снял с себя мундир и бросил его поверх прочих.
Трудно описать всеобщее волнение.
— Кто этот человек? — спросил Боссюэ.
— Тот, кто спасает других, — ответил Комбефер.
— Я знаю его, — прибавил Мариус серьезно.
Его поручительства было достаточно. Анжольрас обратился к Жану Вальжану:
— Добро пожаловать, гражданин. — И добавил: — Вы знаете, что нам придется умереть?
Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу переодеться в свой мундир.
Глава 5
Какой горизонт открывается с высоты баррикады
Душевное состояние всех в роковой этот час, в этом месте, откуда не было исхода, нашло свое высшее выражение в глубокой печали Анжольраса.
Анжольрас являлся воплощением революции, но была в нем некоторая узость, насколько это возможно для абсолютного: он слишком походил на Сен-Жюста и недостаточно на Анахарсиса Клотца. Однако в обществе Друзей азбуки его ум в конце концов воспринял до известной степени идеи Комбефера; с некоторых пор, высвобождаясь мало-помалу из тесных рамок догматичности и поддаваясь расширяющему кругозор влиянию прогресса, он пришел к мысли, что великолепным завершением эволюции явится преобразование Великой Французской республики в огромную всемирную республику. Если же говорить о методах действия, то в данных обстоятельствах он стоял за насилие против насилия. В этом он не изменился и остался верен той грозной эпической школе, которая определяется словами: Девяносто третий год.
Анжольрас стоял на каменных ступенях, опершись на ствол своего карабина. Он был погружен в раздумье, он вздрагивал, словно на него налетали порывы ветра; в местах, где веет смерть, порою веет и пророческий дух. Глаза его, приняв выражение глубокой сосредоточенности, излучали мерцающий свет. Вдруг он поднял голову, его светлые кудри откинулись назад, окружая ее сияющим ореолом, словно волосы ангела, летящего на звездной колеснице ночи, словно разметавшаяся львиная грива, и Анжольрас воскликнул:
— Граждане, вы представляете себе будущее? Улицы городов, затопленные светом, зеленые ветви у порога домов, братство народов! Люди справедливы, старики благословляют детей, прошедшее в согласии с настоящим; мыслителям — полная свобода, верующим — полное равенство, вместо религии — небеса. Первосвященник — сам бог, вместо алтаря — совесть человека; нет больше ненависти на свете, в школах и мастерских — братство; наградой и наказанием служит гласность; труд для всех, право для всех, мир надо всеми; нет больше кровопролития, нет больше войн, матери счастливы! Покорить материю — первый шаг; осуществить идеал — это второй. Подумайте, как многого уже достиг прогресс! Некогда первобытные племена взирали в ужасе на гидру, вздымающую океанские воды, на дракона, изрыгающего огонь, на страшного владыку воздуха грифона с крыльями орла и когтями тигра, — на чудовищных тварей, которые превосходили человека могуществом. Однако человек расставил западни, священные западни мысли, и в конце концов изловил чудовищ. Мы укротили гидру, и она зовется пароходом; мы укротили дракона, и он зовется локомотивом; мы вот-вот укротим грифона, мы уже поймали его, и он называется воздушным шаром. В тот день, когда завершится этот прометеев подвиг, когда воля человека окончательно обуздает трехликую Химеру древности — гидру, дракона и грифона, он станет властелином воды, огня и воздуха, он будет тем же для остальных одушевленных существ, чем древние боги были некогда для него. Итак, смелее вперед! Граждане, куда мы идем? К государству, которым руководит наука, к силе реальности, которая станет единственной общественной силой, к естественному закону, содержащему в себе самом право признания и осуждения и утверждающему себя своей очевидностью, к восходу истины, подобному восходу зари. Мы идем к единению народов, мы идем к единению человечества. Не будет ложных истин, не останется паразитов. Реальность, управляемая истиной, — вот наша цель. Цивилизация будет заседать в сердце Европы, а позднее — в центре материка, в великом парламенте разума. Нечто подобное бывало и прежде. Собрания амфиктионов происходили дважды в год: раз в Дельфах, обиталище богов, другой раз в Фермопилах, усыпальнице героев. Будут амфиктионы Европы, будут амфиктионы земного шара. Франция носит в своем чреве это величественное будущее. Вот чем беременно девятнадцатое столетие; Франция достойна завершить то, что зачато Грецией. Слушай меня, Фейи, честный рабочий, сын народа, сын народов. Я уважаю тебя! О да, ты прозреваешь грядущее, о да, ты прав. У тебя нет ни отца, ни матери, Фейи, и ты избрал вместо матери человечество, вместо отца — право. Тебе суждено здесь умереть, то есть восторжествовать. Граждане, что бы с нами ни случилось нынче, ждет ли нас поражение или победа, — все равно, мы творим революцию. Подобно тому как пожары озаряют весь город, революции озаряют все человечество. Во имя чего мы творим революцию, спросите вы? Я только что сказал: во имя Истины. С точки зрения политической существует один лишь принцип: верховная власть человека над самим собой. Моя власть над моим «я» называется Свободой. Там, где объединяются две таких верховных власти или более, возникает государство. Однако в этом союзе нет никакого самоотречения. Тут верховная власть добровольно уступает известную долю самой себя, чтобы образовать общественное право. Доля эта одинакова для всех. Равноценность уступок, которые каждый делает обществу, называется Равенством. Общественное право — не что иное, как защита всеми прав каждого в отдельности. Такая защита всеми прав каждого называется Братством. Точка пересечения всех этих видов верховной власти, собранных вместе, называется Обществом. Так как пересечение есть соединение, то такая точка есть узел. Отсюда возникает то, что называют социальной связью. Иные именуют это общественным договором, что, собственно, то же самое: этимологически слово «договор» образовалось из понятия связи. Условимся, как понимать равенство. Если свобода — вершина, то равенство — основание. Но равенство, граждане, вовсе не стрижка под одну гребенку всего, что способно расти и развиваться, не сборище высоких трав и низкорослых дубов, не соседство зависти и недоброжелательства, которые взаимно обеспложивают друг друга; в гражданском отношении — это открытая дорога для всех способностей, в политическом — равноправие всех голосов при голосовании, в религиозном — одинаковая свобода совести для каждого. У равенства есть могучее орудие — бесплатное и обязательное обучение. Право на грамоту — вот с чего надо начать. Начальная школа обязательна для всех, средняя школа доступна всем — вот основной закон. Следствием одинакового образования является общественное равенство. Да, просвещение! Свет! Свет! Все исходит из света и к нему возвращается. Граждане, девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым веком. Не будет тогда ничего похожего на прежнюю историю. Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций, перерыва в развитии цивилизации, зависящего от брака в царской фамилии, от рождения наследника в династии тиранов; не будет раздела народов конгрессом, расчленения, вызванного крушением династии, борьбы двух религий, столкнувшихся лбами, будто два адских козла на мостике бесконечности. Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни сражений, ни случайного разбоя в чаще происшествий. Я мог бы сказать, пожалуй: не будет и самих происшествий. Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое; между душой и небесными светилами установится гармония; дух будет тяготеть к истине, как планеты, вращаясь, тяготеют к солнцу. Друзья, мы живем в мрачную годину, и я говорю с вами в мрачный час, но этой страшной ценой мы платим за будущее. Революция — это наш выкуп. О, человечество будет освобождено, возвеличено и утешено! Мы заверяем его в том с нашей баррикады. Откуда может раздаться голос любви, если не с высот самопожертвования? Братья, вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она сложена из великих идей и великих страданий. Здесь несчастье соединяется с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: «Я умру с тобой, а ты возродишься со мною». Из слияния всех скорбей рождается вера. Страдания несут сюда свои предсмертные муки, а идеи — свое бессмертие. Эта агония и это бессмертие, соединившись воедино, станут нашей смертью. Братья, кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари.
Анжольрас закончил свою речь — вернее, прервал ее; его губы беззвучно шевелились, как будто он продолжал говорить сам с собой. Все смотрели на него, затаив дыхание, словно стараясь расслышать его слова. Рукоплесканий не было, но долго еще переговаривались шепотом. Слово подобно дуновению ветра; вызываемое им волнение умов похоже на волнение листвы под ветром.
Глава 6
Мариус угрюм, Жавер лаконичен
Поговорим о том, что происходило в мыслях Мариуса. Припомним состояние его души. Как мы недавно отметили, все представлялось ему только видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, что он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца.
Как очутился здесь г-н Фошлеван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус вовсе не задавался такими вопросами. К тому же отчаянию свойственно вселять в нас уверенность, что другие также охвачены им, поэтому Мариусу казалось естественным, что все идут на смерть.
Сердце его сжималось только при мысли о Козетте.
Впрочем, г-н Фошлеван не говорил с ним, не смотрел на него и даже как будто не слышал слов Мариуса: «Я знаю его».
Но такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса, мы сказали бы даже, радовало, если бы это слово подходило к его переживаниям. Ему всегда представлялось немыслимым заговорить с этим загадочным человеком, который казался ему одновременно и подозрительным, и внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус.
Пятеро избранных ушли с баррикады по переулку Мондетур; с виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался.
Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжольрас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись.
— Тебе ничего не нужно? — спросил Анжольрас.
Жавер спросил:
— Когда вы убьете меня?
— Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету.
— Тогда дайте мне пить, — сказал Жавер.
Анжольрас сам подал ему стакан и, так как Жавер был связан, помог напиться.
— Это все? — снова спросил Анжольрас.
— Я устал стоять у столба, — отвечал Жавер. — Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого?
И кивком головы он указал на труп г-на Мабефа.
Припомним, что в глубине залы стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился.
По приказу Анжольраса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили связанными за спиной, а ноги спутали тонким, но прочным ремнем, позволяющим делать шаги в пятнадцать дюймов, — так поступают с теми, кого отправляют на эшафот; затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела.
Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, для пущей безопасности его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук.
Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул, но закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил только:
— Этого следовало ожидать.
Глава 7
Положение осложняется
Быстро рассветало. Но ни одно окно не отворялось, ни одна дверь не приоткрывалась: это была заря, но не пробуждение. Солдат, занимавших конец улицы Шанврери, против баррикады, отвели назад; улица казалась безлюдной и простиралась перед прохожими в зловещем покое. Улица Сен-Дени была безмолвна, словно аллея сфинксов в Фивах. На перекрестках, белевших в лучах зари, не было ни одного живого существа. Нет ничего печальнее утренней прозрачности пустынных улиц.
Ничего не было видно, но что-то доносилось до слуха. Где-то неподалеку происходило таинственное движение. Все говорило о том, что близилась страшная минута. Как и накануне вечером, дозорных отозвали обратно, на этот раз всех до одного.
Баррикада была укреплена сильнее, чем при первой атаке. После ухода пяти повстанцев ее надстроили еще выше.
Опасаясь неожиданного нападения с тыла, Анжольрас, по совету дозорных, обследовавших район рынка, принял важное решение: он велел загородить узкий проход переулка Мондетур, который до сих пор оставался свободным. Для этого вдоль нескольких домов разобрали мостовую еще дальше. Таким образом, баррикада, перегородившая три улицы каменной стеной — спереди улицу Шанврери, слева Лебяжью и Малую Бродяжную, справа улицу Мондетур, — стала действительно почти неприступной; правда, защитники ее оказались наглухо запертыми. У нее было три фронта, но не осталось ни одного выхода. «Не то крепость, не то мышеловка», — сказал, смеясь, Курфейрак.
У входа в кабачок Анжольрас велел сложить в кучу штук тридцать оставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выразился Боссюэ.
В той стороне, откуда должна была начаться атака, стояла такая глубокая тишина, что Анжольрас приказал всем занять боевые посты.
Каждому выдали порцию водки.
Ничего нет необычайнее баррикады, которая готовится выдержать нападение. Каждый устраивается поудобнее, точно на спектакле. Кто прислоняется к стене, кто облокотится, кто обопрется плечом. Некоторые сооружают себе скамью из булыжников. Здесь мешает угол стены — от него отходят подальше; там выступ — надо укрыться под его защиту. Левши в большой цене: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы вести бой сидя. Всем хочется найти положение, в котором удобно убивать и покойно умирать. Во время роковой июньской битвы 1848 года один повстанец, одаренный необычайной меткостью и стрелявший с площадки на крыше, велел принести себе туда вольтеровское кресло; там его и поразил залп картечи.
Как только командир приказал приготовиться к бою, беспорядочная суета на баррикаде тотчас прекратилась: перестали перекидываться словами, собираться в кружки, перешептываться по углам, разбиваться на группы. Все, что бродило в мыслях, сосредоточилось на одном и превратилось в ожидание атаки. Баррикада перед нападением — воплощенный хаос; в грозный час — воплощенная дисциплина. Опасность порождает порядок.
Лишь только Анжольрас взял свой двуствольный карабин и занял выбранный им пост перед отверстием наподобие бойницы, все замолчали. Вдоль стены, сложенной из булыжников, раздалось легкое сухое потрескивание. Это заряжали ружья.
Несмотря ни на что, все держались более гордо и более уверенно, чем когда-либо: предельное самоотвержение есть самоутверждение; надежды ни у кого не оставалось, но оставалось отчаяние. Отчаяние — последнее оружие, иногда приводящее к победе, как сказал Вергилий. Крайняя решимость идет на крайние средства. Порою броситься в пучину смерти — это способ избежать крушения, и крышка гроба становится тогда спасительной доской.
Как и накануне вечером, внимание всех было обращено, можно сказать, приковано, к перекрестку улицы, уже освещенной зарей и ясно различимой.
Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле явственно послышалось какое-то движение, но оно не было похоже на шум вчерашней атаки. Лязг цепей, беспокойная тряска движущейся громады, звон меди по мостовой, какой-то торжественный грохот — все возвещало приближение грозной железной машины. Сотрясалось самое нутро старых тихих улиц, проложенных и застроенных для мирного плодотворного общения людских интересов и идей, — улиц, не приспособленных для чудовищных перекатов колес войны.
Пристальный взгляд бойцов, устремленный на перекресток, стал еще напряженней.
И вот показалась пушка.
Артиллеристы катили орудие, приготовленное для стрельбы и снятое с передка; двое поддерживали лафет, четверо толкали колеса, другие везли позади зарядный ящик. Видно было, как дымится зажженный фитиль.
— Огонь! — крикнул Анжольрас.
С баррикады дали залп, раздался ужасающий грохот; туча дыма скрыла и заволокла людей и орудие; через несколько секунд облако рассеялось, и пушка с людьми показалась снова. Капониры устанавливали орудие против баррикады, медленно, аккуратно, не торопясь. Ни один из них не был ранен. Затем наводчик налег на казенную часть, чтобы поднять прицел, и начал наводить пушку с серьезностью астронома, направляющего подзорную трубу.
— Браво, артиллеристы! — вскричал Боссюэ.
И вся баррикада разразилась рукоплесканиями.
Минуту спустя, прочно утвердившись на самой середине улицы, оседлав канаву, орудие приготовилось к бою. Оно разевало на баррикаду свою страшную пасть.
— А ну-ка, валяй! — проговорил Курфейрак. — Вот так зверюга! Сперва в щелчки, а потом в кулаки. Армия протягивает к нам свою лапищу. Баррикаду здорово встряхнет. Ружьем нащупывают, пушкой бьют.
— Это восьмидюймовое орудие нового образца, из бронзы, — добавил Комбефер. — Такие орудия при малейшем нарушении пропорции — на сто частей меди десять частей олова — могут взорваться. Излишек олова делает их ломкими. В стволе могут получиться пустоты и раковины. Чтобы избежать этой опасности и увеличить заряд, пожалуй, следовало бы вернуться к набивке обручей, как в четырнадцатом веке, и насадить на дуло, от казенной части до цапфы, ряд стальных колец. А до тех пор стараются помочь горю, чем могут: с помощью трещотки удается определить, где появились трещины и раковины в стволе орудия. Но есть лучший способ, это движущаяся искра Грибоваля.
— В шестнадцатом веке пушки были нарезные, — заметил Боссюэ.
— Да, — подтвердил Комбефер, — это увеличивает силу удара, но уменьшает его точность. Кроме того, при стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет нужного угла, парабола ее чрезмерно увеличивается, снаряд летит недостаточно прямолинейно и не в состоянии поразить то, что встретит на своем пути. А в сражении это необходимо и тем важнее, чем ближе неприятель и чем чаще должна стрелять пушка. Этот недостаток натяжения кривой снаряда в нарезных пушках шестнадцатого века зависел от слабости заряда, а слабые заряды в подобных орудиях отвечали требованиям баллистики и способствовали сохранности лафетов. В общем, такой деспот, как пушка, не волен делать все, что захочет; ее сила в сущности — большая слабость. Скорость пушечного ядра только шестьсот миль в час, тогда как скорость света — семьдесят тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном.
— Зарядите ружья, — приказал Анжольрас.
Способно ли укрепление выдержать пушечное ядро? Пробьет ли его выстрелом? Вот в чем вопрос. Пока повстанцы перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку.
Защитники редута застыли в тревожном ожидании.
Грянул выстрел, раздался грохот.
— Есть! — крикнул веселый голос.
И в ту же секунду, как ядро попало в баррикаду, внутрь ее скатился Гаврош.
Он пробрался с Лебяжьей улицы и легко перелез через добавочную баррикаду, отгородившую запутанные переулки Малой Бродяжной.
Гаврош произвел куда большее впечатление на баррикаде, чем ядро.
Оно застряло в груде хлама, разбив всего-навсего одно из колес омнибуса и доконав старые сломанные роспуски Ансо. Увидев это, вся баррикада разразилась хохотом.
— Валяйте дальше! — крикнул Боссюэ артиллеристам.
Глава 8
Артиллеристы дают понять, что с ними шутки плохи
Гавроша окружили.
Но он не успел ничего рассказать. Мариус отвел его в сторону, весь дрожа.
— Зачем ты сюда пришел?
— Вот те на! — воскликнул мальчик. — А вы-то сами? — И он смерил Мариуса пристальным, спокойно-дерзким взглядом. Его глаза казались больше от сиявшей в них гордости.
Мариус продолжал строгим тоном:
— Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу?
По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы выйти из положения, он избрал самый простой способ — начал бессовестно врать.
— Гражданин, я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется.
Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель — проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться лишь половиной задуманного.
Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием г-на Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на г-на Фошлевана, он спросил:
— Ты знаешь этого человека?
— Нет, — ответил Гаврош.
Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только в ту ночь.
Смутные и болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения г-на Фошлевана? Может быть, г-н Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою совершенно понятно.
Между тем Гаврош, уже успев удрать на другой конец баррикады, кричал: «Где мое ружье?»
Курфейрак приказал отдать ему оружие.
Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорогу держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы.
Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил:
— Разрешаю вам всыпать им как следует.
Между тем Анжольрас, стоя у своей бойницы, с напряженным вниманием следил за противником.
Осаждавшие, видимо, не слишком довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли.
Подошел пехотный отряд и занял конец улицы, позади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, небольшую низкую стену, нечто вроде защитного вала, дюймов восемнадцати высотой. За левым углом вала виднелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени.
Анжольрасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу.
— Нагните головы, прижмитесь к стене! — крикнул Анжольрас. — Станьте на колени вдоль баррикады!
Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздался выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп.
Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих.
Было ясно, что, если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали ее.
Послышались тревожные возгласы.
— Попробуем-ка помешать второму выстрелу! — сказал Анжольрас.
И, опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел.
Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну.
Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу.
— Как жаль! — сказал он. — Какая отвратительная вещь бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Представь себе, быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы — народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблен, ему самое большее — двадцать пять лет, он мог бы быть твоим братом.
— Он и есть мой брат, — произнес Анжольрас.
— Ну да, и мой тоже, — продолжал Комбефер. — Послушай, давай пощадим его.
— Оставь. Так надо.
И по бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза.
В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, как по спине его, между лопатками, текла струя крови. Пуля пробила ему грудь навылет. Он был мертв.
Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут.
Глава 9
На что могут пригодиться старый талант браконьера и меткость в стрельбе, повлиявшие на приговор 1796 года
На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара. Анжольрас отдал приказание:
— Туда надо положить тюфяк.
— У нас их нет, — возразил Комбефер, — на них лежат раненые.
Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него: «Эх, досада, ружье пропадает зря».
Услыхав приказ Анжольраса, он поднялся. Припомним, что, как только на улице Шанврери появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а вверху его удерживали две веревки, казавшиеся издали шнурками и привязанные к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти веревки, тонкие, как волоски, ясно выделялись на фоне неба.
— Не может ли кто-нибудь дать мне двуствольный карабин? — спросил Жан Вальжан.
Анжольрас, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое.
Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил.
Одна из веревок, поддерживавших тюфяк, оборвалась.
Тюфяк держался теперь только на одной.
Жан Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлестнула по окошку мансарды. Тюфяк скользнул меж шестами и упал на мостовую.
Баррикада зааплодировала.
Все кричали в один голос:
— Вот и тюфяк!
— Так-то так, — заметил Комбефер, — но кто пойдет за ним?
В самом деле, тюфяк упал впереди баррикады, между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из булыжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить затихшую поневоле пушку, молчавшую в ожидании пополнения орудийного расчета. Повстанцы не отвечали на пальбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью.
Жан Вальжан пролез через оставленный в баррикаде проход, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфяка, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду.
Он сам загородил тюфяком опасное место и так приладил его к стене, что артиллеристы не могли его видеть. Покончив с этим, стали ждать залпа.
И он раздался.
Пушка с ревом изрыгнула заряд картечью. Но рикошета не получилось. Картечь застряла в тюфяке. Задуманный эффект удался. Баррикада была хорошо защищена.
— Гражданин, — обратился Анжольрас к Жану Вальжану. — Республика благодарит вас.
Боссюэ хохотал от восторга. Он восклицал:
— Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над громовержцем! Все равно, слава тюфяку, победившему пушку!
Глава 10
Заря
В эту самую минуту Козетта проснулась.
У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившая на задний двор, на восток.
Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою комнату, когда Тусен сказала: «Сдается мне, в городе неспокойно».
Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились сладкие сны, может быть, потому, что ее постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, озаренный сиянием. Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, что сон продолжается.
В первую минуту ее мысли, навеянные сном, были полны радости. Козетта чувствовала себя совершенно успокоенной. Как незадолго перед тем Жан Вальжан, она отогнала все тревоги и не хотела верить в несчастье. Она стала надеяться всеми силами души, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила себя, что он, несомненно, получил ее письмо и знает теперь, где она; он ведь так умен, он придумает способ с ней повидаться. И он непременно придет сегодня, может быть, в это самое утро. Было уже совсем светло, но лучи солнца еще падали горизонтально; вероятно, еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса.
Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось. Ведь все это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса — как только господь бог допустил это! Теперь эта жестокая шутка судьбы, это испытание было позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность, она быстро осушает слезы, она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность — улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой — естественно для юности, самое дыхание ее как будто напоено надеждой.
К тому же Козетта никак не могла припомнить, что говорил ей Мариус о возможном своем отсутствии — самое большее на один день — и чем он объяснял его. Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю, с каким искусством превращается она в невидимку. Бывает, что и мысли проделывают с нами ту же штуку: они забиваются куда-то в уголок мозга — и кончено, они потеряны, припомнить их невозможно. Козетта немножко подосадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть слова, сказанные Мариусом.
Она встала с постели и совершила двойное омовение — души и тела, молитву и умывание.
Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи едва осмеливаются на это, а прозе вход туда запрещен.
Это чашечка нераспустившегося цветка, белизна во мраке, бутон нераскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина, еще нерасцветшая, священна. Полураскрытая девическая постель, прелестная нагота, боящаяся самой себя, белая ножка, прячущаяся в туфле, грудь, которую прикрывают перед зеркалом, словно у зеркала есть глаза, сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, если скрипнет стул или проедет мимо коляска, завязанные ленты, застегнутые крючки, затянутые шнурки, это смущение, эта легкая дрожь от холода и стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрассветные облака, — рассказывать об этом не следует, упоминать об этом — и то уже дерзость.
Глаз человека должен взирать на пробуждение юной девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особенное уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки — все это грубо в сравнении с целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка — это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее альков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор — грубое оскорбление для этого смутного полумрака. Здесь даже созерцать — значит осквернять.
Поэтому мы совсем не будем описывать милую утреннюю суетню Козетты.
В одной восточной сказке говорится, что бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распускалась, и она застыдилась и заалела. Мы принадлежим к тем, кто смущается перед молодыми девушками и цветами, мы почтительно преклоняемся перед ними.
Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась кругом, в надежде разглядеть хоть часть улицы, угол дома, кусочек мостовой, чтобы не пропустить появления Мариуса. Но из окна ничего нельзя было увидеть. Внутренний дворик окружали довольно высокие стены, и в просветах меж ними виднелись только какие-то сады. Козетта нашла, что сады эти отвратительны; первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любой кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Тогда она стала смотреть в небо, словно думая, что и оттуда может явиться Мариус.
Вдруг она расплакалась. Это было вызвано не переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду — значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не пленительной, а мрачной.
Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в бога, вновь появилась на ее губах.
В доме все еще спали. Там царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Каморка привратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, вполне естественно, что и отец ее спит. Видно, много пришлось ей выстрадать и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток; но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным. Время от времени она слышала вдалеке какие-то глухие удары и говорила себе: «Как странно, что в такой ранний час хлопают воротами». То были пушечные залпы, громившие баррикаду.
Под окном Козетты, на несколько футов ниже, на старом почерневшем стенном карнизе прилепилось гнездо стрижа; край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распустив крылья веером над птенцами, отец порхал вокруг, взад и вперед, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство; здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, и нежная тайна расцветала в сиянии утра. С солнцем в волосах, с грезами в душе, освещенная зарей и светящаяся любовью, Козетта невольно наклонилась и, едва осмеливаясь признаться, что думает при этом о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством, самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда.
Глава 11
Ружье, которое бьет без промаха, но никого не убивает
Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Пострадала только верхняя часть фасада «Коринфа»; окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями и картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад: стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню становится заметно, что патроны и порох на исходе, дается приказ идти на приступ. Анжольрас не попался в эту ловушку: баррикада не отвечала.
При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения.
— Ладно, — говорил он, — рвите тряпье, нам как раз нужна корпия.
Курфейрак громко требовал объяснений, почему картечь не попадает в цель, и кричал пушке:
— Эй, тетушка, ты что-то заболталась!
В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание редута начало беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности; необходимо было заглянуть через груду булыжников и разведать, что творилось за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислонясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный, неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен прямо вниз, внутрь баррикады.
— Этот соглядатай нам вовсе ни к чему, — сказал Анжольрас.
Жан Вальжан вернул карабин Анжольрасу, но у него оставалось ружье.
Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела на мостовую. Испуганный солдат поспешно скрылся.
На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан, перезарядив ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера вдогонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше; слежка за баррикадой прекратилась.
— Почему вы не убили его? — спросил Боссюэ у Жана Вальжана.
Жан Вальжан не ответил.
Глава 12
Беспорядок на службе порядка
— Он не ответил на мой вопрос, — шепнул Боссюэ на ухо Комбеферу.
— Этот человек расточает благодеяния при помощи ружейных выстрелов, — ответил Комбефер.
Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни 1832 года. Какой-нибудь безобидный кабатчик из «Плясуна», «Добродетели» или «Канавки», чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, одновременно буржуазную и героическую, рыцари идеи стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Убыль золотых запасов заставляла банкиров распевать Марсельезу. Буржуа восторженно проливали кровь ради торгового прилавка и со спартанским энтузиазмом защищали свою лавчонку — этот микрокосм родины.
В сущности, все это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие.
Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с «правительственностью» (варварское наименование партии благомыслящих). Стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихоти такого-то полковника капитальной гвардии; то какой-то капитан шел в огонь по вдохновению, а такой-то национальный гвардеец дрался «за идею» на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая защищала порядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом, вроде Фаннико, или пером, как Анри Фонфред.
Цивилизация, к несчастью, представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была, или считала себя, в опасности; она взывала о помощи, и каждый, воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел; первый встречный брал на себя задачу спасения общества.
Усердие становилось иногда губительным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев собственной властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так как он одинаково применяется и в республиканской Америке, и в монархической Европе. Но суду Линча легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания на Королевской площади национальные гвардейцы погнались было со штыками наперевес за молодым поэтом по имени Поль-Эме Гарнье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома № 6. Ему кричали: «Вот еще один сенсимонист!» — и чуть не убили. Он и в самом деле нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово «Сен-Симон» и завопил: «Смерть ему!»
6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев предместья под командой вышеупомянутого капитана Фаннико по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатический и своенравный привереженец «правительственности», не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока, домогаясь чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки, и, по знаменитому выражению одного из них, «предоставляют восстанию вариться в собственном соку». Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки и, как всякий зрелый плод, должна пасть; поэтому он отважился на штурм.
Его люди были такие же смельчаки, как он сам, — «бесноватые», как выразился один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и двух третей всего расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Четверо смельчаков, бежавших впереди, были убиты выстрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружья, и нападавших настиг новый смертоносный залп прежде, чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и неосторожный Фаннико стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самим правопорядком.
Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжольраса.
— Глупцы! — воскликнул он. — Они губят своих людей, и мы только попусту тратим снаряды.
Анжольрас говорил как истый генерал восстания, да он и был им. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро истощая свои запасы, не могут тратить лишние снаряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат людьми и, располагая арсеналом Венсена, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде патронташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение, улицы бурлят, народные баррикады растут как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие quid divinum[618], веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью, — и перед войском, этим львом, спокойно, с величием пророка, встает Франция.
Глава 13
Проблески надежды гаснут
В хаосе чувств и страстей, стоящих на защите баррикады, есть всего понемногу: тут и смелость, и молодость, и гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт и в особенности мерцающие лучи надежды.
Один из таких проблесков, одна из таких вспышек смутной надежды внезапно озарила в самый неожиданный миг баррикаду Шанврери.
— Слушайте! — крикнул вдруг Анжольрас, не покидавший своего наблюдательного поста. — Кажется, Париж просыпается.
И действительно, утром 6 июня, в течение часа или двух, могло показаться, что мятеж разрастается. Упорный звон набата Сен-Мерри раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал один на целый эскадрон кавалерии. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул: «Вот и еще одним врагом меньше!» Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какая-то женщина стреляла в муниципальных гвардейцев, скрывшись за жалюзи. Видно было, что при каждом выстреле вздрагивали планки жалюзи. На улице Виноградных лоз задержали подростка лет четырнадцати с полными карманами патронов. На многие посты были произведены нападения. На углу улицы Бертен-Пуаре полк кирасир во главе с генералом Кавеньяком де Баранем неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битой посудой и кухонной утварью — это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе: «Когда старухи начнут выливать нам на голову ночные горшки, мы пропали».
Эти признаки, появившиеся в то время, когда считалось, что распространение бунта уже приостановлено, нарастающее гневное возбуждение толпы, искры, вспыхивающие здесь и там в глубоких залежах горючего, которые называют предместьями Парижа, — все это вместе взятое сильно встревожило военных начальников. Они спешили потушить очаги начинающегося пожара. До тех пор пока не были подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюэ, Шанврери и Сен-Мерри, чтобы потом бросить против них все силы и покончить все одним ударом. На улицы, охваченные восстанием, были направлены колонны войск; они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды вышибали двери в домах, из которых стреляли; в то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборища на бульварах. Эти меры не обошлись без громкого ропота и беспорядочного шума, обычного при столкновениях народа с войсками. Именно этот шум и слышал Анжольрас в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на конце улицы проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку: «Эти раненые не с нашей стороны».
Однако надежда длилась недолго, луч ее быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось; казалось, сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод, которым придавило их равнодушие народа, покинувшего упрямцев на произвол судьбы.
Всеобщее движение, как будто смутно намечавшееся, совершенно заглохло; отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли целиком сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались.
Солнце поднималось все выше.
Один из повстанцев обратился к Анжольрасу:
— Мы голодны. Да неужто же мы так и умрем, не поевши?
Анжольрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой.
Глава 14
Из которой читатель узнает имя возлюбленной Анжольраса
Сидя на камне рядом с Анжольрасом, Курфейрак продолжал издеваться над пушкой, и всякий раз, как проносилось с отвратительным шипением темное облако пуль, называемое картечью, он встречал его взрывом насмешек.
— Ты совсем осипла, бедная старушенция, мне тебя жалко. Зря ты надсаживаешься. Разве это гром? Это просто кашель.
И все вокруг хохотали.
Курфейрак и Боссюэ, отвага и жизнерадостность которых возрастали вместе с опасностью, заменяли, по примеру г-жи Скаррон, пищу шутками, а вместо вина угощали всех весельем.
— Я восторгаюсь Анжольрасом, — говорил Боссюэ. — Его невозмутимая отвага восхищает меня. Он живет одиноко и потому, вероятно, всегда немного печален; сетует на свое величие, обрекающее его на вдовство. У нас, грешных, почти у всех есть любовницы, которые, сводя нас с ума, превращают в храбрецов. Когда ты влюблен, как тигр, совсем нетрудно драться, как лев. Это лучший способ отомстить нашим госпожам гризеткам за все их проделки. Роланд погиб, чтобы насолить Анжелике; всеми нашими героическими подвигами мы обязаны женщинам. Мужчина без женщины — это пистолет без курка; только женщина приводит его в действие. А вот у Анжольраса нет возлюбленной. Он ни в кого не влюблен и тем не менее бесстрашен. Быть холодным, как лед, и пылким, как огонь, — это просто неслыханно.
Анжольрас, казалось, не слушал Боссюэ, но если бы кто стоял рядом с ним, то уловил бы, как он проговорил вполголоса: Patria[619].
Боссюэ продолжал шутить, как вдруг Курфейрак воскликнул:
— А вот еще одна!
А затем, передразнивая дворецкого, докладывающего о прибытии гостя, прибавил:
— Ее превосходительство Восьмидюймовка.
И в самом деле, новое действующее лицо появилось на сцене — второе пушечное жерло.
Артиллеристы, поспешно сняв с передков второе орудие, установили его рядом с первым.
Это приближало развязку.
Несколько минут спустя оба орудия, быстро заряженные, стреляли по редуту прямой наводкой; взводы пехоты и гвардейцев предместья поддерживали огонь артиллерии ружейными выстрелами.
Где-то неподалеку также слышалась орудийная пальба. Пока обе пушки с остервенением били по редуту улицы Шанврери, два других огненных жерла, нацеленных одно с улицы Сен-Дени, другое — с улицы Обри-ле-Буше, решетили баррикаду Сен-Мерри. Четыре орудия перекликались, словно зловещее эхо.
Лай этих злобных псов войны звучал согласно.
Из двух пушек, стрелявших по баррикаде улицы Шанврери, одна палила картечью, другая ядрами.
Пушка, стрелявшая ядрами, была несколько приподнята, и ее прицел наведен с тем расчетом, чтобы ядро било по самому краю острого гребня баррикады, разрушало его и засыпало повстанцев осколками камней, точно картечью.
Такой способ стрельбы преследовал цель согнать бойцов со стены и принудить их укрыться внутри, другими словами, это предвещало штурм.
Как только удастся ядрами прогнать бойцов баррикады с гребня стены и картечью — от окон кабачка, колонны осаждающих немедленно хлынут на улицу, уже не боясь, что их увидят и обстреляют, с ходу пойдут на приступ, как накануне вечером, и — кто знает? — быть может, даже, захватив повстанцев врасплох, овладеют редутом.
— Нужно во что бы то ни стало обезвредить эти пушки, — сказал Анжольрас и громко скомандовал: — Огонь по артиллеристам!
Все были наготове. Баррикада, так долго молчавшая, разразилась бешеным огнем, один за другим раздались шесть или семь залпов, звучащих яростью и торжеством; улицу заволокло густым дымом, и через несколько минут сквозь этот туман, пронизанный огнем, можно было смутно разглядеть, что две трети артиллеристов полегли под колесами пушек. Те, кто выстоял, продолжали заряжать орудия с тем же суровым спокойствием, однако выстрелы стали реже.
— Вот здорово, — сказал Боссюэ Анжольрасу. — Это успех.
Анжольрас ответил, покачав головой:
— Еще четверть часа такого успеха, и на баррикаде не останется даже десяти патронов. — Вероятно, Гаврош слышал эти слова.
Глава 15
Вылазка Гавроша
Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень.
Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чем не бывало принялся опустошать набитые патронами сумки национальных гвардейцев, убитых у подножия редута.
— Что ты там делаешь? — закричал Курфейрак.
Гаврош задрал нос кверху:
— Наполняю свою корзинку, гражданин.
— Да ты не видишь картечи, что ли?!
— Эка невидаль, — отвечал Гаврош. — Дождь идет. А что дальше?
— Ступай обратно! — крикнул Курфейрак.
— Сию минуту, — ответил Гаврош.
И одним прыжком он очутился посреди улицы.
Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил за собой длинный ряд трупов.
Не менее двадцати убитых лежало на мостовой на всем протяжении улицы. Это означало двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов — для баррикады.
Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облака в горном ущелье меж двух крутых откосов, может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно поднималась кверху, непрестанно появляясь снова; от этого все постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся лишь с трудом могли различить друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой.
Такая мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная их командирами, которые должны были руководить штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу.
Под покровом этой дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он довольно далеко пробрался по улице, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок.
Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял сумки и патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи.
С баррикады, от которой он отошел не так уж далеко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов.
На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашел пороховницу.
— Пригодится вина напиться, — сказал он, пряча ее в карман.
Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане.
В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля.
— Что за черт! — фыркнул Гаврош. — Они убивают моих покойников.
Вторая пуля высекла искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку.
Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья.
Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел:
Все обитатели Нантера Уроды по вине Вольтера. Все старожилы Палессо Болваны по вине Руссо.Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, отправился опустошать следующую патронную сумку. Четвертая пуля снова пролетела мимо. Гаврош распевал:
Не удалась моя карьера, И это по вине Вольтера. Судьбы сломалось колесо, И в этом виноват Руссо.Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет:
Я не беру с ханжей примера, И это по вине Вольтера, А бедность мною, как в серсо, Играет по вине Руссо.Так продолжалось довольно долго.
Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал стрелков. Казалось, ему было очень весело. Воробей задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывая ей длинный нос, и в то же время не переставал искать патроны, опустошать патронташи и наполнять свою корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он — он распевал песенки. Казалось, это не ребенок, не человек, а какой-то маленький чародей. Какой-то сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу.
Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош пошатнулся и потом упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел:
Я пташка малого размера, И это по вине Вольтера. Но могут на меня лассо Накинуть по вине…Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Эта детская и великая душа отлетела.
Глава 16
Как брат может стать отцом
В это самое время по Люксембургскому саду — ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме — шли двое детей, держась за руки. Одному можно было дать лет семь, другому лет пять. Промокшие под дождем, они брели по солнечной стороне аллеи, старший вел младшего; бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек. «Мне ужасно хочется есть», — говорил младший.
Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик.
Они были совсем одни в саду. Там было пусто, так как полиция распорядилась запереть садовые ворота по случаю восстания. Отряды войск, стоявшие там биваком, ушли сражаться.
Как попали сюда эти дети? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки, быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости — у Адской заставы, или на площади перед Обсерваторией, или на соседнем перекрестке, где возвышается фронтон с надписью: Invenerunt parvulum pannis involutum[620], а может быть, накануне вечером, в час закрытия парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет. Как бы то ни было, они бродили где вздумается и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит где вздумается и пользуется полной свободой — значит, он заблудился. Бедные малыши и в самом деле заблудились.
Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош. Дети Тенардье, приписываемые г-ну Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром.
Их одежда, такая опрятная во времена Маньон, что служило ей рекомендацией в глазах г-на Жильнормана, обратилась в рубище.
Отныне эти существа переходили в рубрику «покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на парижской мостовой.
Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад: если бы сторожа их заметили, они прогнали бы вон этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки; между тем следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами.
Эти двое проникли сюда только благодаря запертым решеткам. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться, надзор якобы продолжается, но ослаблен; сторожа, сами захваченные всеобщим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников.
Накануне шел дождь, да и утром тоже накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка.
Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет, если можно так выразиться, пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажда. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью.
Нет ничего пленительнее зелени, омытой дождем и осушенной лучами солнца; это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы — в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна — преддверие рая; солнце помогает человеку терпеть и ждать.
Существуют люди, которые и не требуют большего; есть смертные, которые говорят, любуясь небесной лазурью: «Вот все, что нам нужно!» Есть мечтатели, погруженные в мир чудес, черпающие в обожании природы безразличие к добру и злу, созерцатели вселенной, беспечно равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о каких-то жаждущих, о наготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного, о чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода, — зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями. Эти уравновешенные и внушающие ужас умы не знают жалости и всем довольны. Странная вещь, им довольно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно овладеть, неведомо им. Конечное, предполагающее прогресс, возвышенный труд, не занимает их мыслей. Все то, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью — и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг. Созерцание — вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает Целого; великое Целое остается вовне, — стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает, что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран! У матери нет больше молока, новорожденный умирает, какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони! Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов, одновременно и великих и малых. Таким был Гораций, таким был Гете, может быть, даже Лафонтен; это великолепные эгоисты бесконечности, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша; солнце затмевает для них костер, даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов; они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата, они все находят прекрасным, если на дворе месяц май, всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака; они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы.
Это злополучные счастливцы. Они не подозревают, что достойны сострадания, а между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездою посреди лба.
По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с тем хромым; тому свидетельство Вулкан. Можно подняться выше человека и опуститься ниже его. Природе свойственно безграничное несовершенство. Кто знает, не слепо ли само солнце?
Но как же быть тогда, кому верить? Solem quis dicere falsum audeat?[621] Неужели же иные гении, иные богочеловеки, люди-светила, могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху, надо всем, на предельной высоте, в зените, то, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество.
6 июня 1832 года, в одиннадцать часов утра, опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетание пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами по трещинам коры. На длинных цветочных грядках по праву царили горделивые лилии; нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны — эти языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от этих огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки; в этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного; низко летающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно; жизнь благоухала; вся природа источала кротость, сочувствие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, которую целуешь.
Белые нагие статуи под деревьями были одеты тенью, прорванной светом; солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь; с их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя.
В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, испарений; под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник; во всех этих дуновениях, напоенных любовью, в этой игре отблесков и отсветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность неистощимого и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, — звездного миллионера, бога.
Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка, дождь не оставил ни одной пылинки. Цветы только что умылись; все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных роев, дуновениям ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре; голоса весны и лета вступали и умолкали в стройном порядке; когда кончалась сирень, расцветал жасмин; иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано; авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра зыбились роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил: «Вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме».
Вся природа завтракала, все живое было приглашено к столу; в установленный час на небе была разостлана огромная голубая скатерть, а на земле громадная зеленая скатерть; солнце светило a giorno[622]. Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикие голуби — конопляное семя, зяблики — просо, щеглы — курослеп, малиновки — червей, пчелы — цветы, мухи — инфузорий, дубоносы — мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла; но ни одна тварь не оставалась голодной.
Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна и, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинуясь инстинкту слабого и бедного перед всяким великолепием, даже неодушевленным; они укрылись за дощатым домиком для лебедей.
Время от времени, когда поднимался ветер, с разных сторон смутно доносились крики, гул голосов, шумный треск ружейной пальбы и тяжкое уханье пушечных выстрелов. Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол.
Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял: «Есть хочется».
Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара. Какой-то толстяк лет пятидесяти вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку.
В те годы многие домовладельцы со смежных улиц — Принцессы и Адской — имели ключи от Люксембургского сада, и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном, по всей вероятности, жили в одном из таких домов.
Двое маленьких оборвышей заметили приближение «важного господина» и постарались получше спрятаться.
Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреду, советовал сыну «избегать излишеств». У него был благовоспитанный чванный вид и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душу.
У ребенка, зажавшего в руке надкусанную плюшку, был откормленный вид. Ребенок был наряжен национальным гвардейцем по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье — из осторожности.
Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие. Он был похож на них в том отношении, что тоже ходил вперевалку.
Лебеди плавали — в этом и проявляется их высокое искусство; они были восхитительны.
Если бы двое маленьких нищих прислушались и если бы доросли до понимания подобных истин, они могли бы запомнить поучения этого рассудительного человека. Отец говорил сыну:
— Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками; я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня.
Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились; им вторили удары колокола и гул толпы.
— Что это такое? — спросил мальчик.
— Это сатурналии, — отвечал отец.
Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей.
— Ну вот, начинается! — проворчал он.
И добавил, помолчав:
— Анархия проникла даже в этот сад.
Сын между тем откусил кусочек плюшки, выплюнул и сразу заревел.
— О чем ты плачешь? — спросил отец.
— Мне больше не хочется есть, — ответил ребенок.
Отец еще шире оскалил зубы:
— Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку.
— Мне надоела булка. Она черствая.
— Ты больше не хочешь?
— Не хочу.
Отец показал ему на лебедей.
— Брось ее этим перепончатолапым.
Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим.
— Будь же гуманным. Надо жалеть животных.
И, взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн. Плюшка упала довольно близко от берега. Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки.
Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадет добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек в конце концов внимание лебедей.
Они заметили, что на поверхности воды что-то плавает, повернулись другим бортом, точно настоящие корабли, и медленно направились к плюшке с добродетельным и величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц.
— Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах, — сказал буржуа, очень довольный собой.
В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносит звуки особенно явственно. Ветер, который подул теперь, донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили набатный колокол и пушки. Это совпало с появлением темной тучи, неожиданно закрывшей солнце.
Лебеди еще не успели доплыть до плюшки.
— Идем домой, — сказал отец, — там атакуют Тюильри.
Он снова схватил сына за руку.
— От Тюильри до Люксембурга, — продолжал он, — расстояние не больше, чем от короля до пэра; это недалеко. Скоро выстрелы посылаются градом.
Он взглянул на небо.
— А может, и туча разразится градом; само небо вмешалось в борьбу, младшая ветвь Бурбонов обречена на гибель. Идем скорей.
— Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку, — захныкал ребенок.
— Нет, — возразил отец, — это было бы неблагоразумно.
И он увел маленького буржуа.
Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями.
Между тем двое маленьких бродяг, одновременно с лебедями, приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа.
Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще, возле улицы Принцессы.
Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой, свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду, что оказалось на руку маленькому ловцу; вода под лебедями всколыхнулась, и одна из мягких концентрических волн подтолкнула плюшку прямо к прутику. Не успели лебеди подплыть, как прут дотянулся до булки. Мальчик быстро хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка вся размокла, но дети были голодны и хотели пить. Старший разделил булку на две части, побольше и поменьше, сам взял меньшую, протянул большую своему братишке и сказал:
— На, залепи себе в дуло.
Глава 17
Mortuus pater filium moriturum expectat[623]
Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами, Мариус принес ребенка.
«Увы, — думал он, — я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему мой долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым».
Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка.
Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого.
Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб.
Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика и на ребенка.
Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки.
На каждого пришлось по пятнадцати зарядов.
Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой.
— Вот так чудак! — шепнул Комбефер Анжольрасу. — Быть на баррикаде и не сражаться!
— Что не мешает ему защищать баррикаду, — возразил Анжольрас.
— Среди героев тоже попадаются оригиналы, — заметил Комбефер.
— Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф, — прибавил Курфейрак, услышав их разговор.
Необходимо отметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, не может даже представить себе, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, разговаривают, шутят. Один мой знакомый сам слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем, редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положение стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота.
Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны при помощи пороховницы, найденной Гаврошем на трупе капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал: трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», — объяснял он. Юноши из Кугурды города Экс весело болтали меж собой, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус был озабочен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире.
Глава 18
Хищник становится жертвой
Остановимся на одном психологическом явлении, имеющем место на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны.
Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которое мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри.
В гражданской войне есть что-то апокалипсическое; густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени; народные восстания загадочны, как сфинкс, и тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается, как сон.
Мы обрисовали на примере Мариуса то, что переживают люди в эти часы, и мы увидим последствия такого состояния, — это ярче и вместе с тем бледнее, чем реальная жизнь. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен — и сам не сознавал этого. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего. Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись нескончаемо долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обагренные кровью, там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина; там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и были раскрытые рты, умолкшие навсегда; его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин; он разглядывал какие-то красные пятна на пальцах. Он ничего не помнил более.
Вернемся к улице Шанврери.
Вдруг, в промежутке между двумя залпами, послышался отдаленный бой часов.
— Полдень! — сказал Комбефер.
Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжольрас выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом:
— Тащите булыжники в дом. Завалите подоконники внизу и на чердаке. Половине людей — готовиться к бою, остальным — носить камни. Нельзя терять ни минуты.
На конце улицы показался взвод саперов-пожарников, в боевом порядке, с топорами на плечах.
Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Несомненно, штурмовой, так как за саперами, посланными разрушить баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом.
Очевидно, приближалось мгновение, когда им «затянут петлю на шее», как выразился в 1822 году г-н Клермон-Тоннер.
Приказ Анжольраса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах — этих двух полях битвы, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжольраса перед входом в «Коринф», были перенесены во второй этаж и на чердак, и не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и чердачные оконца. По указанию главного строителя Фейи между камнями были предусмотрительно оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, пролом для атаки.
Когда было готово заграждение из булыжников, предназначенное для обороны последнего оплота, Анжольрас велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабеф.
— Кто же их выпьет? — спросил Боссюэ.
— Они, — ответил Анжольрас.
После этого повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа наготове железные брусья, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри.
Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок — главной башней.
Оставшимися булыжниками завалили единственный проход в баррикаде.
Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые припасы, и противнику это известно, поэтому осаждающие проводят все приготовления с раздражающей медлительностью, выдвигаются раньше времени за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда с неторопливой методичностью, после чего вдруг разражается гроза.
Эта медлительность позволила Анжольрасу все проверить и, где возможно, улучшить. Он решил, что уж если таким людям суждено умереть, их смерть должна стать непревзойденным примером мужества.
Он сказал Мариусу:
— Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последнее распоряжение. А ты оставайся снаружи и наблюдай.
Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады.
Анжольрас велел заколотить дверь кухни, обращенной, как мы помним, в лазарет.
— Чтобы в раненых не попали осколки, — заметил он. Он отдавал последние распоряжения в нижней зале отрывистым, но совершенно спокойным голосом; Фейи выслушивал и отвечал ему от имени всех.
— Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть?
— Есть, — отвечал Фейи.
— Сколько штук?
— Два топора и колун.
— Хорошо. У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей?
— Тридцать четыре.
— Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолеты. Двадцать человек на баррикаду. Шестеро — на чердак и к окну второго этажа; стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без дела не сидеть. Как только барабаны начнут бить атаку, вы, все двадцать, бегите на баррикаду. Те, кто прибегут первыми, займут лучшие места.
Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал:
— Я о тебе не забыл.
И, положив на стол пистолет, добавил:
— Кто выйдет отсюда последним, размозжит голову шпиону.
— Здесь? — спросил чей-то голос.
— Нет, его труп недостоин лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мондетур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты. Шпион крепко связан. Уведите его туда и пристрелите.
Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжольрас: то был Жавер.
В эту минуту появился Жан Вальжан.
Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжольрасу:
— Вы начальник?
— Да.
— Вы благодарили меня недавно.
— Да, от имени Республики. Баррикаду спасли два человека: Мариус Понмерси и вы.
— Считаете ли вы, что я заслужил награду?
— Разумеется.
— Так вот, я прошу награды.
— Какой?
— Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку.
Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, сделав еле уловимое движение:
— Это справедливо.
Анжольрас, перезарядив свой карабин, обвел всех глазами:
— Возражений нет?
И повернулся к Жану Вальжану:
— Забирайте шпиона.
Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер, тем самым как бы заявив на него свои права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его.
Почти в ту же секунду раздался рожок горниста.
— К оружию! — крикнул Мариус с вершины баррикады.
Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал:
— А ведь вам придется не лучше моего.
— Все на баррикаду! — скомандовал Анжольрас.
Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину — да простят нам это выражение — следующее напутствие Жавера:
— До скорого свидания!
Глава 19
Жан Вальжан мстит
Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивающую пленника поперек туловища веревку, узел которой находился под столом. После этого он знаком велел ему встать.
Жавер повиновался с той не поддающейся описанию улыбкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в оковах.
Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, точно вьючное животное за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный по ногам, мог делать только маленькие шаги, вывел его из кабачка.
Жан Вальжан шел, зажав в руке пистолет.
Так они пересекли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, стояли к ним спиной.
Один Мариус, стоявший в стороне, в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры — палача и осужденного — он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу.
Жан Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, не выпуская его из рук ни на миг, перелезть через низенький вал в переулок Мондетур.
Перебравшись через заграждение, они очутились одни в пустынном переулке. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады.
Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленное распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина.
Жавер, искоса взглянув на мертвую женщину, заметил вполголоса, с полнейшим спокойствием:
— Мне кажется, я знаю эту девку.
Затем он повернулся к Жану Вальжану. Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший без слов: «Это я, Жавер».
— Твоя взяла, — ответил Жавер.
Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана нож и раскрыл его.
— Ага, перо! — воскликнул Жавер. — Правильно. Тебе это больше подходит.
Жан Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера, разрезал веревки на кистях рук, затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал:
— Вы свободны.
Жавера трудно было удивить. Однако при всем его самообладании он был невольно потрясен. Он застыл на месте от удивления.
Жан Вальжан продолжал:
— Я не думаю, что выйду отсюда живым, но, если случайно мне удалось бы спастись, запомните: я живу под именем Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.
Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы:
— Берегись.
— Уходите, — сказал Жан Вальжан.
Жавер переспросил:
— Ты сказал Фошлеван, улица Вооруженного человека?
— Номер семь.
— Номер семь, — повторил Жавер вполголоса. Он снова застегнул свой сюртук, распрямил плечи по-военному, сделал пол-оборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану:
— Вы мне надоели! Лучше убейте меня!
Сам того не замечая, Жавер перестал говорить «ты» Жану Вальжану.
— Уходите прочь! — крикнул тот.
Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спустя он завернул за угол улицы Проповедников.
Как только Жавер скрылся из виду, Жан Вальжан разрядил пистолет в воздух.
После этого он возвратился на баррикаду и сказал:
— Дело сделано.
А в его отсутствие произошло следующее.
Мариус, занятый больше тем, что делалось на улице, чем в доме, не удосужился до этого времени поглядеть на шпиона, лежащего связанным в темном углу нижней залы.
Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуаз и как тот дал ему два пистолета, те самые, что пригодились ему здесь, на баррикаде; он припомнил не только лицо, но и имя.
Однако это воспоминание было туманным и смутным, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал самому себе: «Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавером?»
Быть может, он еще успеет вступиться за этого человека. Но надо сначала удостовериться, действительно ли это тот самый Жавер.
Мариус окликнул Анжольраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады.
— Анжольрас!
— Что?
— Как зовут этого человека?
— Какого?
— Полицейского агента. Ты знаешь его имя?
— Конечно. Он нам сказал.
— Как же его зовут?
— Жавер.
Мариус вздрогнул.
В этот миг послышался пистолетный выстрел.
Появился Жан Вальжан и крикнул: «Дело сделано».
Смертный холод сковал сердце Мариуса.
Глава 20
Мертвые правы, и живые не виноваты
На баррикаде наступала агония.
Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых вооруженных толп, движущихся по городу, прерывистый галоп конницы, тяжелое громыхание артиллерии, перекрестная ружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимающийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносящиеся откуда-то издалека, грозные зарницы со всех сторон, звон набата Сен-Мерри, заунывный, как рыдание, мягкая летняя пора, великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием и полного облаков, чудная погода и устрашающее безмолвие домов.
Ибо со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврери обратились в две стены — в две неприступные стены: двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены.
В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решался покончить с отжившим старым порядком, с дарованной хартией или с действующими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстание шептало на ухо благосклонно улыбающейся буржуазии свой пароль, — тогда мирные жители, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев и дом братался с выросшей словно из-под земли крепостью и служил ей опорой. Но если время еще не назрело, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то повстанцы обречены были на гибель. Город вокруг них обращался в пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой.
Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его! Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Повстанцы попадают в положение зачумленных. Дом становится неприступной кручей, дверь — преградой, фасад — глухой стеной. Стена эта все видит, все слышит, но не хочет прийти на помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас. Но нет! Эта стена — судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов! Они кажутся вымершими, хотя на самом деле продолжают жить. Жизнь, как будто остановившаяся, течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все налицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу семьи, едят и пьют, дрожат от страха, — вот что ужасно! Страх может извинить эту неумолимую жестокость; вызванная им растерянность — смягчающее обстоятельство. Порою — даже и такие случаи бывают — страх становится одержимостью; испуг может обратиться в ярость, так же, как осторожность — в бешенство; вот откуда взялось полное глубокого смысла выражение «бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную мрачному облаку дыма. «Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они недовольны. Только сбивают с пути мирных горожан. Как будто и без того мало всех этих революций! Зачем их принесло сюда? Пусть проваливают! Поделом им. Сами виноваты. Пускай получат по заслугам. Нам-то какое дело! Всю нашу бедную улицу они изрешетили пулями. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей!» И дом преображается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью, вот его настигает картечь, вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что, сколько ни кричи, помощь не придет, хотя его и слышат. Там есть стены, которые могли бы укрыть его, там есть люди, которые могли бы спасти его, — и у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня.
Кто тут виноват?
Никто и каждый из нас.
Виновно то несовершенное время, в какое мы живем.
Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из философской борьбы в борьбу вооруженную, из Минервы — в Палладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет; почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастрофу. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их; благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом препятствий и снисходительна к неблагодарным.
Впрочем, неблагодарность ли это?
С точки зрения человечества — да.
С точки зрения отдельной личности — нет.
Прогресс — это форма человеческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это великое земное странствие человека к небесному и божественному. У него бывают остановки в пути, где он собирает отставших; бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его.
«Уж не умер ли бог?» — сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль, путая прогресс с богом и принимая перерыв в движении за смерть высшего существа.
Те, кто отчаивается, не правы. Прогресс неизменно пробуждается, и в сущности, можно было бы сказать, что и во сне он продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока; не ставьте ему преград, не бросайте каменных глыб в его русло; препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут; но после каждого волнения оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок, — а порядок не что иное, как всеобщий мир, — пока не воцарятся на земле гармония и единство, до тех пор этапами прогресса будут служить революции.
Что же такое прогресс? Мы уже сказали. Непрерывное движение, жизнь народов.
Однако случается иногда, что преходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода.
Признаемся без горечи: у каждого есть свои личные интересы, и вовсе не преступно отстаивать и защищать их; настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма; преходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрерывно жертвовать собою ради будущего. Нынешнее поколение, свершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности, подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую, — шепчет некто, именуемый Все. — Я молод и влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются внаем, у меня есть сбережения, я счастлив, у меня жена и дети, я люблю их, я хочу жить, оставьте меня в покое». Вот почему благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие.
К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Она, эта истина грядущего дня, вступая в войну, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать; насилием грубым и неразборчивым в средствах, которое противоречит нравственным правилам, за что она роковым образом несет кару. Утопия-восстание сражается с древним военным кодексом в руках; она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти — это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом. Но меч не так прост. Всякий клинок — оружие обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам.
Сделав эту оговорку, — и со всею должной суровостью, — мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, безразлично — достигнут ли они своей цели, или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рукоплесканий; но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху, и для нас Джон Браун — выше Вашингтона, а Пизакане — выше Гарибальди.
Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных.
Мы несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение.
Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность. Их обвиняют в том, что против существующего социального строя они поднимают, нагромождают и воздвигают горы нужды, скорби, несправедливости, жалоб, отчаяния, извлекают с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат: «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить: «Вот почему наша баррикада вымощена благими намерениями».
Бесспорно, самое лучшее — мирно разрешать проблемы. Словом, что ни говори, когда смотришь на булыжник, вспоминаешь медведя из басни, а такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества в его собственных руках; так пусть же оно само и проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах. Изучить зло беспристрастно, признать, что оно существует, затем излечить от него. Вот к чему мы призываем общество.
Как бы там ни было, все те, кто, устремив глаза на Францию, сражается во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, — полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные; они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс, они выполняют волю провидения, они творят священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу с бесстрастием актера, подающего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты — священнослужители. Французская революция — веление божества.
Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим, уже отмеченным в прежних главах: бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом, — их зовут революцией, и восстания отвергнутые — их зовут мятежом.
Вспыхнувшее восстание — это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна, восстание обречено на неудачу.
Народы не вступают в борьбу по первому зову, всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут всегда и непрерывно проявлять душевную силу героев и мучеников.
Народ рассудителен. Восстание ему неугодно a priori; во-первых, потому, что часто приводит к катастрофе, во-вторых, потому, что всегда исходит из отвлеченной теории.
Но именно то и прекрасно, что всегда приносят себя в жертву те, кто способен жертвовать собой ради идеала, ради одного только идеала. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость, тогда он берется за оружие. Кроме того, всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года и, в частности, юные энтузиасты с улицы Шанврери сражались — мы настаиваем на этом — не против Луи-Филиппа как такового. В откровенной беседе большинство из них признавало достоинства этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию. Никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников божьих в лице Луи-Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X; и, свергая монархию во Франции, они стремились, как мы уже говорили, ниспровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегий над правом. Сегодня Париж без короля, завтра — мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой.
Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя этой призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией для посвященного, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Кто знает? Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия; но они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте, но о Леониде. И они идут вперед и, раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечества, всеобщее освобождение или в худшем случае Фермопилы.
Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу, и мы уже объяснили почему. Паладину трудно увлечь за собой неподатливые толпы. Тяжеловесные, несметные, ненадежные именно в силу своей неповоротливости, они боятся риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском.
Не надо забывать к тому же, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся с идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце.
Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы; она охотно затягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она — искательница новых путей.
Это объясняется ее художественной натурой.
Идеал — не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота — не что иное, как вершина истины. Народы-художники являются вместе с тем и народами-преемниками. Любить красоту — значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция, которая передала его Италии, а та вручила его Франции. Великие народы-просветители! Vitae lampada tradunt[624].
Удивительная вещь! — поэзия народа является необходимым звеном его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Коринф, но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом; надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете человечеству образец идеала.
У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов: красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи А + В. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность — необходимый элемент прекрасного, и научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его; мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опорой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум — это гений Греции, колесницей которому служит гений Индии; Александр, восседающий на слоне.
Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные наживой, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение вопросами религии и торгашескими интересами омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт, и лишает присущей народам-миссионерам способности, божественной и человеческой одновременно, постигать общие для всего рода людского цели. У Вавилона нет идеала; у Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь кромешную тьму веков сияние цивилизации.
Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция — афинянка по красоте и римлянка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она готова все отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчива и непостоянна, в этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма, и ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. Что поделаешь? Великанше угодно притворяться карлицей; у огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все.
Тут нечего возразить. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь. Заря и возрождение — синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я».
Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопожертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя самопожертвования — бескорыстие. Пусть всеми покинутые остаются покинутыми, пусть изгнанники идут в изгнание; ограничимся тем, что обратимся с мольбой к великим народам — не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко.
Существуют, бесспорно, и материя, и нужды дня, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом. У преходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у вечной жизни. Увы, можно подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. Мы видим в истории такие случаи чаще, чем хотели бы. Какая-нибудь прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копаться в грязи и находит в этом вкус; если ее спросят, по какой причине она покидает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Потому что я люблю государственных мужей».
Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде.
Битвы, вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как исступленный порыв к идеалу. Прогресс в оковах подвержен болезням и страдает этими трагическими припадками эпилепсии. Мы неизбежно должны были встретить на своем пути исконную болезнь прогресса — междоусобную войну. Здесь один из роковых этапов, одновременно и акт, и антракт нашей драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой «Прогресс».
Прогресс!
В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния; и так как заключенной в них идее в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь если не приподнять над ней покрывало, то по крайней мере хоть показать сквозь завесу яркое ее сияние.
Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частностях, — каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы, — путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к богу. Исходная точка — материя, конечный пункт — душа. В начале — чудовище, в конце — ангел.
Глава 21
Герои
Вдруг барабан забил атаку.
Штурм разразился как ураган. Накануне, во мраке ночи, противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же, среди бела дня, нападение врасплох на открытом пространстве было неосуществимо, потому что живые силы атакующих оказались на виду; раздался рев пушки, и войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкрепленная через равные промежутки национальной и муниципальной гвардией в пешем строю, опираясь на шумные, хотя и невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом, с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе, и, держа штыки наперевес, не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду, с силой медного тарана, бьющего в стену.
Стена выдержала.
Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажденной баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводненной атакующими; но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь такая же крутая, черная и грозная.
Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытой позиции, и ответила на огонь редута ожесточенной ружейной стрельбой. Те, кому приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещенных молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дробь и картечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть гроздьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град.
Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрость доходила до дикого безрассудства и усугублялась каким-то свирепым героизмом, жертвующим в первую очередь жизнью самого героя. В ту эпоху солдаты национальной гвардии дрались, как зуавы. Войска стремились закончить битву, повстанцы — продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья — это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника этой схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами.
На одном конце баррикады находился Анжольрас, на другом Мариус. Анжольрас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии; три солдата, один за другим, упали мертвыми под его бойницей, даже не заметив его. Мариус сражался без прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута больше чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутить, и никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Он чувствовал себя в бою словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках.
Патроны у осажденных подходили к концу, но их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться.
Курфейрак стоял с обнаженной головой.
— Куда же ты девал свою шляпу? — спросил Боссюэ.
— Они ухитрились в конце концов сбить ее пушечными ядрами, — отвечал Курфейрак.
Их насмешки чередовались с презрением.
— Кто может понять этих людей? — с горечью восклицал Фейи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии. — Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь, поклялись в этом честью, они наши командиры — и они же нас предали!
Комбефер ответил с суровой усмешкой:
— Некоторые люди знакомы с правилами чести, как астрономы — со звездами: только издалека.
Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что можно было подумать, будто выпал снег.
У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев — позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат, которые, спотыкаясь среди раненых и убитых, застревали на крутом ее откосе. Баррикада, построенная подобным образом и отлично укрепленная подпорами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целое войско. Тем не менее атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась; мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно армия зажимала баррикаду в тиски.
Атаки следовали одна за другой. Опасность нарастала.
И тогда на этой груде камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трои. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненные, кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, — в изодранной и залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но ни разу не могли взять.
Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите огонь, подложенный под костер из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение, а жерло раскаленной печи; уста извергали пламя, лица были искажены. Казалось, то были уже не люди; бойцы пламенели яростью, и страшно было смотреть на этих саламандр войны, которые метались взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной сечи, и в целом и в их последовательности. Одной лишь эпопее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы.
Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, называемую в Ведах «Лесом мечей».
Дрались врукопашную, грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками; стреляли издалека и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против шестидесяти. Полуразрушенный фасад «Коринфа» был страшен. Татуированное картечью окно, с выбитыми стеклами и рамами, превратилось в бесформенную дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссюэ был убит; Фейи убит; Курфейрак убит; Жоли убит; Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух.
Мариус все еще сражался, но был столько раз ранен, большей частью в голову, что лицо его исчезло под заливавшей его кровью, — казалось, оно закрыто было красным платком.
Один Анжольрас оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остался лишь обломок от четырех шпаг; у Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше.
Гомер говорит: «Диомед убил Аксила, сына Тевфрания, обитавшего в счастливой Аризбе; Эвриал, сын Мекистея, лишил жизни Дреса, Офелтия, Эсепа и Педаса, зачатого наядой Абарбареей от беспорочного Буколиона; Уллис поразил Пидита Перкосийского; Антилох — Аблера, Полипет — Астиала, Полидамант — Ота Килленейского, Тевкр — Аретаона; Мегантий гибнет от копья Эврипила. Царь героев Агамемнон повергает во прах Элата, уроженца высоко стоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатнионом». В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана маркиза Свантибора, который, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних стенных фресках изображены два герцога, Бретонский и Бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах; они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках, один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще; Бретонский герцог — с изображением льва между двух зубцов короны, герцог Бурбонский — с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, привезти из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Япета, владыки мужей; достаточно отдать свою жизнь за свои убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Боса или из Лимузена, с тесаком на боку, который околачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду; вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами, — возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушра или в тупике Планш-Мибре, заставьте одного сражаться за свое знамя, а другого за свой идеал, и пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные этим пехотинцем и этим медицинским студентиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются с тенью Мегариона, царя Ликии, родины тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса богоравного.
Глава 22
Шаг за шагом
Когда не осталось в живых никого из вожаков, кроме Анжольраса и Мариуса на противоположных концах баррикады, центр ее, так долго державшийся благодаря Курфейраку, Жоли, Боссюэ, Фейи и Комбеферу, наконец дрогнул. Пушка, не проломив бреши, годной для прохода, выбила в середине редута довольно широкий полукруглый выем; разрушенный ядрами гребень стены в этом месте обвалился, и из обломков, грудой сыпавшихся внутрь и наружу, образовалось как бы два откоса по обе стороны заграждения, внутренней и внешней. Внешний откос представлял собою наклонную плоскость, удобную для нападения.
Тут осаждавшие предприняли решительную атаку, и эта атака удалась. Сомкнутым строем, ощетинясь штыками, пехота беглым шагом неудержимо бросилась вперед, и на вершине укрепления в пороховом дыму показался мощный авангард штурмовой колонны. На этот раз все было кончено. Защищавшая центр группа повстанцев отступила в беспорядке.
И тогда в некоторых из них внезапно проснулась смутная жажда жизни. Очутившись под прицелом этого леса ружей, они не захотели умирать. Пришла та минута, когда в нас начинает глухо рычать инстинкт самосохранения и когда в человеке пробуждается зверь. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, служившему опорой баррикаде. В этом доме они могли бы найти спасение. Дом был заперт наглухо и как бы замурован сверху донизу. Прежде чем отряд пехоты проник внутрь редута, дверь дома успела бы отвориться и мгновенно затвориться; эта вдруг приоткрывшаяся и тотчас захлопнутая дверь для отчаявшихся людей означала бы жизнь. Позади дома был выход на улицу, возможность бегства, простор. Они стучали в дверь ружейными прикладами и ногами, взывали о помощи, кричали, умоляли, простирали руки. Никто не отпер им. Голова мертвеца смотрела на них из слухового оконца третьего этажа.
Но Анжольрас и Мариус с кучкой в семь или восемь человек бросились к ним на помощь. «Ни шагу дальше!» — крикнул Анжольрас солдатам; когда какой-то офицер ослушался его, он убил офицера. Он стоял во внутреннем дворике редута, у стены «Коринфа», со шпагой в одной руке, с карабином в другой, держа открытой дверь кабачка и загораживая ее от атакующих. Тем, кто пал духом, он крикнул: «Осталась только одна дверь на волю, вот эта!» И, заслоняя их своим телом, один против целого батальона, он прикрывал их отход. Все бросились в дверь. Орудуя своим карабином, как палкой, применяя прием, называемый на языке фехтовальщиков «мельницей», Анжольрас отбился от штыков, направленных в него со всех сторон, и вошел в дверь последним; тут наступила страшная минута, когда солдаты пытались ворваться, а повстанцы старались запереть дверь. Дверь захлопнулась с такой силой, входя в дверную раму, что к ней прилипли отрезанные и раздавленные пальцы какого-то солдата, вцепившегося в наличник.
Мариус остался снаружи. Выстрелом ему раздробило ключицу; он почувствовал, что теряет сознание и падает. В этот миг, уже закрыв глаза, он ощутил, как его схватила чья-то могучая рука, и в его угасающем сознании, сливаясь с последним воспоминанием о Козетте, промелькнула мысль: «Я в плену. Меня расстреляют».
Не видя Мариуса среди бойцов, укрывшихся в кабачке, Анжольрас предположил то же самое. Но в такое мгновение каждый успевает подумать только о собственной смерти. Анжольрас наложил засов, опустил задвижку, защелкнул замок и, дважды повернув ключ, запер дверь, в то время как снаружи в нее неистово колотили прикладами и топорами солдаты и саперы. Атакующие столпились теперь перед этой дверью. Начинался штурм кабачка.
Надо отметить, что к этому времени солдаты остервенели.
Их привела в ярость гибель сержанта артиллерии, а кроме того, — еще более роковое обстоятельство, — за несколько часов до атаки среди них пустили слух, что повстанцы истязают пленных и что в кабачке находится обезглавленный труп солдата. Подобные опасные измышления обычно сопутствуют междоусобным войнам, и позднее клевета такого рода вызвала катастрофу на улице Транснонен.
Когда дверь была забаррикадирована, Анжольрас сказал товарищам:
— Продадим нашу жизнь подороже!
Затем он подошел к столу, на котором покоились Мабеф и Гаврош. Под черным покрывалом угадывались два неподвижных окоченелых тела, большое и маленькое, и два лица смутно обрисовывались под холодными складками савана. Со стола свешивалась рука, высунувшаяся из-под покрова. То была рука старика.
Анжольрас нагнулся и поцеловал его благородную руку с тем же почтением, с каким накануне целовал его в лоб.
Эти два поцелуя были единственными в жизни Анжольраса.
Сократим наш рассказ. Баррикада защищалась, словно ворота древних Фив; кабачок боролся, точно дом в Сарагосе. Оборонялись с угрюмым упорством. Никакой пощады. Никаких переговоров. Люди согласны умереть, только бы убивать. Когда Сюше говорит: «Сдавайтесь!» — Палафокс отвечает: «Нет! Палили из пушек, перейдем на ножи». При штурме кабачка Гюшлу можно было увидеть все: булыжники, которые градом сыпались на осаждавших из окон и с крыши и доводили солдат до неистовства, нанося им страшные увечья, выстрелы из подвалов и чердаков, ярость атаки, отчаяние сопротивления, и наконец, — когда удалось вышибить дверь, — бешеную, исступленную резню. Ворвавшись в кабачок, спотыкаясь о разбросанные по полу филенки выломанной двери, атакующие не нашли там ни одного бойца. Посреди нижней залы валялась винтовая лестница, обрубленная топором, да несколько раненых при последнем издыхании; все, кто не был убит, поднялись на второй этаж и открыли ожесточенный огонь из отверстия в потолке, откуда прежде спускалась лестница. На это ушли их последние патроны. Когда все было израсходовано, когда у этих обреченных, но все еще опасных противников не осталось ни пуль, ни пороха, каждый из них вооружился двумя бутылками из запаса, сохраненного, как мы помним, Анжольрасом, и принялся отбиваться от осаждавших этими грозными и хрупкими булавами. В бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности этой бойни, нигде ничего не утаивая. Увы, осажденные сражаются всем, что есть под рукой! Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда. На войне все ужасно, тут не из чего выбирать. Выстрелы атакующих, при всем неудобстве целиться снизу вверх, были убийственны. Края люка вскоре покрылись мертвыми головами, из которых сочились длинные струйки красной дымящейся крови. В воздухе стоял невообразимый грохот; густой, обжигающий дым заволакивал мглой кровавую битву. Не хватает слов, чтобы описать весь ужас этой минуты. Участники адской схватки потеряли человеческий образ. То уже не гиганты бились с великанами: картина напоминала скорее Мильтона и Данте, чем Гомера. Нападали дьяволы, защищались призраки.
Это был героизм, принявший чудовищный облик.
Глава 23
Голодный Орест и пьяный Пилад
Наконец при помощи остатков лестницы, влезая друг другу на плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытия, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два осаждавших — солдаты, национальные и муниципальные гвардейцы, вперемешку, почти все изуродованные при этом опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые, — пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах — Анжольрас. У него уже не было ни патронов, ни сабли, в руках он держал только ствол от карабина, — приклад он разбил о головы солдат. Загородившись от нападающих бильярдным столом, он отступил в угол залы; и даже теперь гордый его взгляд, высоко поднятая голова, рука, сжимавшая обломок оружия, внушали такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики:
— Вот их вожак. Он-то и убил артиллериста. Он сам забрался туда, тем лучше для нас. Пусть там и остается. Расстреляем его на месте.
— Стреляйте, — сказал Анжольрас.
И, отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям.
Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжольрас скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной могильной тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжольраса укротило шум, казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовящейся убить его. Гордая осанка придавала его красоте в эту минуту особый, ослепительный блеск; по истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брали ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии кто-то из свидетелей, выступая перед военным судом: «Там был один бунтовщик, которого, я слыхал, называли Аполлоном». Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжольраса, опустил ружье со словами:
«Мне кажется, будто я стреляю в цветок».
Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы, против Анжольраса, и молча вскинули ружья.
Послышалась команда сержанта:
— На прицел!
Вдруг вмешался офицер:
— Погодите.
И обратился к Анжольрасу:
— Завязать вам глаза?
— Нет.
— Это вы убили сержанта артиллерии?
— Да.
В это время проснулся Грантэр.
Как мы помним, Грантэр со вчерашнего вечера спал в верхней зале кабачка, сидя на стуле и уронив голову на стол.
Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение: мертвецки пьяный. Чудовищная смесь полынной настойки, портера и спирта погрузила его в летаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки, окруженный стаканами, кружками и бутылками. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало — ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетавшая в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени храп его вторил пушечной пальбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов, и он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки.
Шум не пробуждает пьяницу; его будит тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение; грохот убаюкивал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжольраса, послужило толчком, который пробудил Грантэра от этого тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантэр вскочил как встрепанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понял.
Внезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за нею скрывалось. Все сразу воскресает в памяти, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрался. Мысли его приобретают необычайную ясность, пьяное забытье рассеивается, как туман, затемнявший рассудок, и уступает место ясному и четкому восприятию действительности.
Солдаты, устремив все внимание на Анжольраса, даже не заметили забравшегося в угол и загороженного бильярдом Грантэра, и сержант уже готовился повторить приказ: «На прицел», как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул:
— Да здравствует Республика! Я с ними заодно!
Грантэр встал.
Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы; он как будто преобразился.
— Да здравствует Республика! — крикнул он снова, пересек залу уверенным шагом и стал рядом с Анжольрасом, прямо против ружейных стволов.
— Прикончите нас обоих разом, — сказал он. И, обернувшись к Анжольрасу, спросил тихонько: — Ты позволишь?
Анжольрас с улыбкой пожал ему руку.
Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп. Пронзенный навылет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонившись к стене, словно пригвожденный к ней пулями. Только голова его поникла на грудь. Грантэр, убитый наповал, рухнул к его ногам. Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую, в некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака из карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. Солдат и повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятия. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята.
Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и вылавливать беглецов.
Глава 24
Пленник
Мариус действительно был пленником. Пленником Жана Вальжана.
Рука, которая подхватила его сзади, когда он падал, и силу которой он почувствовал, теряя сознание, была рука Жана Вальжана.
Жан Вальжан не принимал участия в битве, но и не уклонялся от опасности. Не будь его, некому было бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные часы. Благодаря ему, вездесущему среди этого побоища, как провидение, все, кто падал, были подняты, перенесены в нижнюю залу и перевязаны. В промежутках он заделывал бреши в стене баррикады. Но его рука не поднималась ни для чего, что напоминало бы удар, нападение или даже самозащиту. Он молча спасал других. При этом он отделался всего несколькими царапинами. Пули как будто избегали его. Если предположить, что его привела в этот склеп жажда самоубийства, то цели он не достиг. Однако маловероятно, чтобы он задумал самоубийство, противное законам религии.
Жан Вальжан, казалось, не замечал Мариуса в густом дыму сражения; на самом же деле он не спускал с него глаз. Когда выстрел сбил Мариуса с ног, Жан Вальжан бросился к нему с быстротой молнии, схватил его, как тигр хватает добычу, и унес.
В этот миг, в вихре атаки, всеобщее внимание было настолько приковано к Анжольрасу и к двери кабачка, что никто не заметил, как Жан Вальжан, неся на руках бесчувственного Мариуса, пересек по развороченной мостовой дворик баррикады и скрылся за углом дома, занимаемого «Коринфом».
Читатель помнит этот угол, образующий как бы выступ на повороте улицы; он защищал от пуль, от картечи, а также от любопытных взглядов площадку в несколько квадратных метров. Так иногда среди пожара одна какая-нибудь комната остается невредимой и даже в самых бурных морях, за высоким мысом или в бухте между рифами, можно найти тихую заводь. В этом-то закоулке дворика баррикады, имевшего форму трапеции, и умирала Эпонина.
Там Жан Вальжан остановился, опустил Мариуса на землю и, прислонившись к стене, огляделся кругом.
Положение было отчаянное.
На время, минуты на две, на три, стена могла послужить прикрытием, но как спастись из этого побоища? Ему припомнился тревожный момент, пережитый им восемь лет назад на улице Полонсо, и способ, каким ему удалось скрыться оттуда; тогда это было трудно, теперь — невозможно. Перед ним возвышался тот угрюмый, наглухо запертый пятиэтажный дом, где, казалось, не было других обитателей, кроме мертвеца, склонившегося головой на подоконник. Справа от него находилась низенькая баррикада, замыкавшая Малую Бродяжную улицу; преодолеть это препятствие ничего не стоило, но над гребнем ее щетинились ряды штыков. Там была линейная пехота, стоявшая в засаде по ту сторону редута. Было несомненно, что перелезть через баррикаду значило попасть под обстрел целого взвода, и высунувшаяся из-за стены голова послужила бы мишенью для залпа шестидесяти ружей. Налево от него шел бой. За углом подстерегала смерть.
Что делать?
Одной только птице удалось бы спастись отсюда.
Надо было немедленно принять решение. Изыскать способ, найти выход. В нескольких шагах от него продолжалось сражение; по счастью, вся ярость атакующих сосредоточилась на одной цели: двери кабачка; но если какому-нибудь солдату, одному-единственному, вздумалось бы завернуть за угол или предпринять атаку с фланга, все было бы кончено.
Жан Вальжан взглянул на высокий дом перед собой, на баррикаду направо, затем с отчаянием, как человек в последней крайности, впился глазами в землю, точно хотел просверлить ее взглядом.
Чем пристальнее он смотрел, тем яснее у его ног начало вырисовываться и принимать очертания нечто едва уловимое сквозь туман смертной муки, словно взгляду дана власть воплощать желаемое. В нескольких шагах от себя, у подножия невысокой баррикады, которую осаждали и стерегли снаружи неумолимые враги, он заметил плоскую железную решетку вровень с землей, наполовину скрытую под грудой булыжников. Эта решетка из толстых поперечных брусьев занимала пространство около двух квадратных футов. Укреплявшая ее рамка булыжников была разворочена, и решетка словно отделилась от мостовой. Сквозь прутья виднелось темное отверстие, что-то вроде каминного дымохода или круглого водоема. Жан Вальжан бросился к решетке. Воспоминание о его прежнем искусстве устраивать побеги вдруг молнией озарило его мозг. Он расшвырял камни, откинул решетку, взвалил на плечи неподвижного, как труп, Мариуса, спустился с ношей на спине, упираясь локтями и коленями, в этот, к счастью, неглубокий колодец, захлопнул над головой тяжелую железную заслонку, которую снова засыпали сдвинутые им камни, и наконец встал ногами на вымощенное плитами дно на глубине трех метров под землей, — все это было проделано им как в бреду, с силой великана и быстротой орла, и на все хватило нескольких минут.
Жан Вальжан с бездыханным Мариусом на руках очутился в каком-то длинном подземном коридоре.
Там был глубокий покой, мертвая тишина, ночь.
Им вновь овладело чувство, испытанное в тот далекий час, когда он прямо с улицы попал за ограду монастыря. Только на этот раз он нес на руках не Козетту; он нес Мариуса.
До него едва доносился теперь смутным гулом, где-то над головой, грозный грохот штурма кабачка.
Книга II Утроба левиафана
Глава 1
Земля, истощенная морем
Париж ежегодно швыряет в воду двадцать пять миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда, каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. При помощи чего? При помощи своего кишечника. Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы.
Двадцать пять миллионов — еще наиболее умеренная из цифр, полученных специалистами в результате вычислений.
Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действительным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города иначе, как неся на концах своего бамбукового коромысла два полных ведра так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае все так же тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столицы. Большой город — превосходная навозная куча. Использование города для удобрения полей принесло бы несомненный успех. Пусть наше золото — навоз, зато наш навоз — чистое золото.
Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть.
С одной стороны, затрачивая большие средства, снаряжают целые караваны судов на Южный полюс за пометом пингвинов и буревестников, с другой — топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того чтобы бросать в воду, запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир.
Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой, — знаете ли, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычание огромных быков по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс — превращение на земле, преображение на небесах.
Верните это обратно в великое горнило: оно отплатит вам вашим благоденствием. От питания полей зависит пища человека.
В вашей воле бросить на ветер богатство да еще счесть меня чудаком в придачу. Но это будет верхом невежества с вашей стороны.
Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устья своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих пятисот миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек до такой степени туп, что предпочитает избавиться от этих пятисот миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капля за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков — в реки, то мощным извержением рек — в океан. Каждая отрыжка наших клоак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия: истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, река — болезнями.
Установлено, например, что Темза в настоящее время отравляет Лондон.
Что касается Парижа, то в последние годы там пришлось перенести большую часть выводных отверстий клоаки вниз по реке, за самый последний мост.
Между тем, чтобы провести в наши города чистые воды полей и оросить наши поля городской водой, богатой удобрениями, было бы вполне достаточно установки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду, — этой элементарной системы дренажа, простой, как человеческие легкие, и уже широко распространенной во многих округах Англии; таким легким способом обмена, самым простым на свете, мы сохранили бы пятьсот миллионов, брошенных на ветер. Но мы и не думаем об этом.
Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение — возвращать то, что он берет, заменит наконец повсюду сточные трубы, просто-напросто промывающие и истощающие почву, — тогда на основе новой социальной экономики урожай увеличится вдесятеро и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной.
В ожидании этого времени народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка — вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения.
Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена двадцать пятая часть всего населения Франции и к тому же парижское гуано — самое ценное, то мы даже преуменьшим цифру, исчисляя в двадцать пять миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте и на украшение города, эти двадцать пять миллионов удвоили бы блеск и великолепие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящие празднества, его кумир Божон, разгульные оргии, струящееся потоками золото, его пышность, роскошь, великолепие — это и есть его клоака.
Таким образом, по вине недальновидной экономической политики народное достояние просто бросают в воду, где, подхваченное течением, оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесь пригодились бы сетки Сен-Клу.
С точки зрения экономики можно сделать вывод, что Париж — дырявое решето.
Париж — образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город-нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Коринфа; однако же Париж с той точки зрения, с какой мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фо-Кьяна.
Попробуйте подражать Парижу — и вы разоритесь.
Но в этом безрассудном, длящемся с незапамятных времен мотовстве Париж сам оказывается подражателем.
Такая поразительная глупость не нова, это вовсе не ошибка юности. Древние народы поступали так же, как и мы. «Клоака Рима, — по словам Либиха, — поглотила все благосостояние римских крестьян». После того как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию, а бросив Италию в свои клоаки, он отправил туда Сицилию, затем Сардинию, затем Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клоака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. Urbi et orbi. Вечный город, бездонная клоака.
В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример.
Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственным городам, являющимся средоточиями духовной жизни.
Для осуществления упомянутого процесса под Парижем существует второй Париж — Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями, тупиками, магистралями и даже своим уличным движением — потоками грязи вместо людского потока.
Никому не следует льстить, даже великому народу; там, где есть все, наряду с величием имеется и позор; и если Париж заключает в себе Афины — город просвещения, Тир — город могущества, Спарту — город доблести, Ниневию — город чудес, он заключает в себе также и Лютецию — город грязи.
Впрочем, на этом также лежит отпечаток его могущества; в грандиозных подземных трущобах Парижа, как и в других его памятниках, воплощается тот странный идеал, какой в истории человечества воплощают собою люди, подобные Макьявелли, Бэкону и Мирабо, — величие гнусности.
Эти подвалы Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шести миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам, — водостоки сами по себе образуют под обоими берегами Сены причудливую, скрытую во мраке сеть; путеводной нитью в этом лабиринте служит уклон почвы.
Здесь во мгле и сырости водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа.
Глава 2
Древняя история клоаки
Если вообразить себе, что Париж снимается, как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы — ветвями, а тупики — побегами.
Это сравнение передает лишь общий вид и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, очень редко встречается в растительном мире.
Вы получите более правильное представление об этом необычном геометральном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные друг с другом в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно наугад.
Подземелья и сточные ямы играли важную роль в Средние века, в Византии и на Древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это ложе гнили, на эту чудовищную колыбель смерти. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает такое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневии. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хорасанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе.
В истории клоак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, социальный бунт, свобода совести, мысль, грабеж, все, что преследуют или преследовали когда-то человеческие законы, пряталось в этой дыре: шайки майотенов в четырнадцатом веке, уличные грабители в пятнадцатом, гугеноты в шестнадцатом, иллюминаты Морена в семнадцатом, банды поджаривателей в девятнадцатом. Сто лет тому назад оттуда выходил ночной убийца, туда прятался от погони вор; в лесу были пещеры, в Париже — водостоки. Нищая братия, галльское подобие picareria[625], свирепая и хитрая, считала водостоки филиалом Двора чудес, и по вечерам спускалась в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню.
Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике Карманников или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком Зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние; там и сям встречаются отдушины, сквозь которые некогда Вийон из недр водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху.
Клоака старого Парижа была местом встречи всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отбросов, социальная философия видит в ней осадочный пласт.
Клоака — это совесть города. Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или по крайней мере свой окончательный вид. Куча отбросов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска Базилио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоседился фальшивый нос Скапена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается напоказ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальней. Тут невозможна обманчивая личина, тут смываются все прикрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид разрушения и конца. Бытие и смерть. Здесь донышко бутылки указывает на пьянство, ручка корзины рассказывает о прислуге; там набалдашник от сломанной трости, некогда кичившийся литературными вкусами, снова становится простым набалдашником; королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной; плевок Кайафы сливается с блевотиной Фальстафа, золотая монета из игорного дома натыкается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы, посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой плясали на балу в Опере на прошлой масленице; судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше, чем братство, это — панибратство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клоака — циник. Она говорит все.
Это простодушие гнусности нравится нам, оно облегчает душу. После того как на земле нам пришлось столько времени терпеливо лицезреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность, чопорность, предписываемая высоким положением, неподкупность чиновников, — нам доставляет утешение спуститься в клоаку и увидеть обыкновенную грязь, которая там вполне уместна.
К тому же это и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клоаку. Варфоломеевские ночи сочатся туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все великие массовые убийства, всякая политическая и религиозная резня — все проносится через это подземелье цивилизации, сбрасывая туда трупы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника, и уныло смывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр, — все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неописуемое зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки.
Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Они являются частью его лаборатории. Философия — микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие увертки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаявшим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клоаке она судит о городе, по грязи судит о нравах. По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями гетто. По тому, что осталось, она определяет то, что было: добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанаре, преодоленные испытания, призываемые искушения, омерзительные оргии, черты опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского носильщика она узнает след от локтя Мессалины.
Глава 3
Брюнзо
В Средние века о парижских водостоках ходили легенды. В шестнадцатом веке Генрих II предпринял их исследование, но оно ни к чему не привело. Всего сто лет тому назад, по свидетельству Мерсье, клоака еще была предоставлена самой себе и растекалась, как хотела.
Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее 89-й год показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она плохо устраивала свои дела как в материальном, так и в моральном отношении и умела выметать мусор нисколько не лучше, чем злоупотребления. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клоака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города; на земле — непостижимое, под землей — непроходимое; вверху — смешение языков, внизу — путаница подземелий; под вавилонским столпотворением лабиринт Дедала.
По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное — наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клоаки подступало к горлу Парижа, и город мучился отрыжкой своих отбросов. В этом ощущалось сходство с угрызениями совести, что было небесполезным; это были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям и не желал допустить, чтобы грязь снова вылезала наружу. Гнать ее беспощадно!
Наводнение 1802 года — одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух выходных отверстий клоаки на Елисейских полях, улицу Сен-Флорантен из отверстия на Сен-Флорантен; улицу Пьер-а-Пуассон из отверстия на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, Горчичную улицу из отверстия на улице Лапп; она заполнила сточный желоб улицы Елисейских полей до уровня тридцати пяти сантиметров. В южных кварталах через водоотвод Сены, гнавший ее в обратном направлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоде и улицу Марэ, где растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав таким образом уже в восемнадцатом веке больше уважения к поэту, чем к королю. Наводнение достигло наибольшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывающих водосточные трубы, а наибольшего протяжения — на улице Сен-Сабен, где она разлилась на двести тридцать восемь метров в длину.
В начале нынешнего века клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь никогда особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели сколопендры пятнадцати футов длиной и куда мог бы окунуться бегемот. Грубые сапоги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступать дальше определенных знакомых мест. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа братался с маркизом де Креки, выгружались просто-напросто в сточные канавы. Что же касается очистки труб, то эту обязанность возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клоаку известной поэтичностью и называл ее Гемониями; Париж поносил свою и обзывал ее Вонючей дырой. Она внушала одинаковый ужас и науке, и суеверию. Гигиена относилась к Вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак Черного Монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар; трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму Бочарной улицы; эпидемию злокачественной лихорадки 1685 года Фагон приписывал водостоку Марэ, широкое отверстие которого продолжало зиять вплоть до 1833 года на улице Сен-Луи, почти напротив вывески «Галантного вестника». Про отдушину водостока на Камнедробильной улице ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза; загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия примешала к легендам об этих страшных каменных воронках парижской клоаки какое-то отталкивающее, путаное представление о бесконечности. Клоака не имеет дна. Клоака — бездонный адский колодец. Полиции даже не приходило в голову обследовать эти пораженные проказой недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее нашелся человек, который вызвался это сделать. У клоаки появился свой Христофор Колумб.
Как-то раз, в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декре, не то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади Карусели слышалось бряцание волочащихся по земле сабель легендарных солдат великой Республики и великой Империи; у дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила; соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера; воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жюно, кирасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в заливе Зюдерзее. Одни из них сопровождали Наполеона на Лодийский мост; другие следовали за Мюратом в траншеи Мантуи; третьи обгоняли Ланна по дороге на Монтебелло. Вся армия того времени, представленная где отрядом, где взводом, собралась здесь, во дворе Тюильри, охраняя покой императора: это происходило в ту блистательную эпоху великой армии, когда позади было Маренго, а впереди — Аустерлиц.
— Государь, — сказал Наполеону министр внутренних дел, — вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях Вашего величества.
— Кто же это? — резко спросил император. — И что он сделал?
— Он кое-что задумал, государь.
— Что именно?
— Осмотреть водостоки Парижа.
Глава 4
Подробности, доселе неизвестные
Осмотр состоялся. Это был тяжелый поход; ночной бой с заразой и удушливыми испарениями. Вместе с тем то было путешествие, богатое открытиями. Один из участников разведки, очень толковый рабочий, в ту пору совсем юноша, рассказывал еще несколько лет назад кое-какие любопытные подробности, которые Брюнзо в донесении префекту полиции счел уместным пропустить как недостойные административного стиля. Способы обеззараживания были в те времена весьма примитивны. Едва успел Брюнзо миновать первые разветвления сети подземных каналов, как восемь из двадцати его рабочих отказались идти дальше. Предприятие было сложным, осмотр влек за собой и очистку; следовательно, приходилось одновременно и расчищать, и производить измерения, отмечать входные отверстия стоков, считать решетки и смотровые колодцы, устанавливать места разветвлений, указывать точки присоединения новых каналов, обозначать на плане очертания различных подземных водоемов, измерять глубину мелких притоков главного канала, высчитывать высоту каждого бокового канала до замка свода и его ширину как у начала закругления свода, так и у основания стен, наконец, определять уровень всякого притока воды, откуда бы она ни поступала в главный водосток — из боковых ли каналов, или с поверхности земли. Продвигаться вперед было трудно. Нередко случалось, что спущенные вниз лестницы погружались в топкий ил на глубину трех футов. Фонари едва мерцали в ядовитых испарениях. То и дело приходилось уносить потерявших сознание рабочих. В некоторых местах неожиданно открывались пропасти. Грунт там расселся, каменный настил дна обрушился, водосток обратился в бездонный колодец, ноге не на что было опереться; кто-то из спутников Брюнзо вдруг провалился, его вытащили лишь с большим трудом. В местах, достаточно обезвреженных, по совету химика Фуркруа, зажигали, от перехода к переходу, большие клети с просмоленной паклей. Местами стены были покрыты безобразными грибами, похожими на опухоли; самые камни казались больными в этом месте, где нечем было дышать.
Брюнзо в своих изысканиях обследовал всю клоаку от верховья до устья. В месте, где Большой Ворчун разделяется на два водостока, он разобрал на каменном выступе дату 1550: этот камень указывал границу, где остановился Филибер Делорм, которому Генрих II поручил произвести осмотр подземных свалок Парижа. То была печать шестнадцатого века на клоаке; работу семнадцатого века Брюнзо узнал в кладке водостока Понсо и водостока Старой Тампльской улицы, крытых сводами между 1600 и 1650 годами, а работу восемнадцатого — в западной секции канала-коллектора, проложенной и покрытой сводом в 1740 году. Оба эти свода, в особенности менее древний, построенный в 1740 году, гораздо сильнее потрескались и обвалились, чем каменная кладка окружного водостока, проложенного в 1412 году. Это был год, когда ручей родниковой воды из Менильмонтана возвели в достоинство Главной клоаки Парижа, — так мог бы повыситься в чине простой крестьянин, став камердинером короля, или, скажем, Жан-дурак, превратившись в Левеля.
В нескольких местах, в особенности под Дворцом правосудия, было обнаружено нечто вроде старинных темниц, вырытых в самом водостоке. Это были ужасные in pace! В одной из таких келий висел железный ошейник. Все они были тотчас же замурованы. Среди находок попадались и очень странные, в их числе скелет орангутанга, убежавшего в 1800 году из Зоологического сада; его исчезновение, вероятно, находилось в связи с пресловутым чертом, которого многие видели на улице Бернардинцев в последнем году девятнадцатого столетия. Бедняга черт кончил тем, что утопился в клоаке.
Под длинным сводчатым коридором, примыкавшим к Арш-Марион, была найдена так прекрасно сохранившаяся корзина тряпичника, что это вызвало удивление знатоков. В топкой грязи, которую рабочие отважно принялись ворошить, всюду попадалось множество ценных вещей, золотых и серебряных украшений, драгоценных камней и монет. Если какому-нибудь великану вздумалось бы процедить эту клоаку, в его сите оказались бы сокровища многих веков. В месте слияния стоков с Тампльской улицы и улицы Сент-Авуа была подобрана любопытная медная медаль гугенотов с изображением на одной стороне свиньи в кардинальской шапке, а на другой — волка в папской тиаре.
Самая поразительная находка была сделана у входа в Главную клоаку. В прежние времена вход был загорожен решеткой. Ныне сохранились лишь крюки, на которых она держалась. На одном из крюков, вероятно занесенный потоком, висел, зацепившись за него, безобразный, испачканный кровью лоскут, совершенно истлевший. Брюнзо поднес фонарь, чтобы рассмотреть эту тряпку. Она оказалась из тончайшего батиста, и на одном уголке, изодранном меньше других, можно было различить вышитую геральдическую корону над следующими шестью буквами: ЛОБЕСП… Корона была короной маркиза, а шесть букв означали Лобеспин. Оказалось, что у них перед глазами находился лоскут от савана Марата. В юности у Марата бывали любовные приключения. Они относились к тому времени, когда он служил при дворе графа д’Артуа в качестве лекаря при конюшнях. От исторически доказанной любовной связи с одной знатной дамой у него осталась эта простыня, возможно, случайно забытая, возможно, подаренная на память. Это было единственное тонкое белье, которое нашлось в доме Марата после его смерти, и его похоронили в этой простыне. Старухи завернули сурового Друга народа в пелены сладострастия, превратив их в погребальные. Брюнзо прошел мимо. Изорванный лоскут оставили на месте, не тронув его. Из презрения или в знак уважения? Марат заслуживал того и другого. Впрочем, печать судьбы была здесь слишком явственна, чтобы осмелиться на нее посягнуть. К тому же могильные останки следует оставлять в том месте, какое они сами себе избрали. Все же это была необычайная реликвия. На ней спала маркиза, в ней истлел Марат; она прошла через Пантеон, чтобы достаться крысам клоаки. Обрывок альковной ткани, все складки которой с таким веселым изяществом изобразил бы некогда Ватто, кончил тем, что стал достойным пристального взгляда Данте.
Тщательный осмотр всех подземных свалок нечистот Парижа продолжался целых семь лет, с 1805 по 1812 год. Продвигаясь вперед, Брюнзо вместе с тем намечал, производил и завершал важные земляные работы: в 1808 году он понизил дно водостока Понсо и в 1809-м, прокладывая всюду новые линии, продолжил сточный канал под улицей Сен-Дени, вплоть до фонтана Инносан; в 1810-м он прорыл водосток под улицами Фруаманто и Сальпетриер; в 1811-м — под Новой Мало-Августинской улицей, улицей Майль, улицей Эшарп, под Королевской площадью; в 1812-м — под улицей Мира и Шоссе д’Антен. В то же время он руководил дезинфекцией и очисткой всей сети. На втором году работ Брюнзо взял себе в помощники своего зятя Нарго.
Вот каким образом в начале нынешнего столетия общество выгребало свое двойное дно и приводило в порядок свои клоаки. Так или иначе, но грязь была вычищена.
Извилистая, растрескавшаяся, развороченная, облупившаяся, изрытая ямами, вся в причудливых поворотах, с беспорядочными подъемами и спусками, зловонная, дикая, угрюмая, затопленная мраком, со шрамами на каменных плитах дна и с рубцами на стенах, страшная, — такова была, если оглянуться а прошлое, древняя клоака Парижа. Развилины во все стороны, перекрестки коридоров, разветвления — то в виде гусиных лапок, то звездообразные — словно в подкопах, тупики, похожие на отросток слепой кишки, пропитанные селитрой своды, смрадные отстойники, мокрые лишаи на стенах, капли, падающие с потолка, кромешная тьма. Ничто не могло сравниться по ужасу с этим древним склепом-очистителем, с этим пищеварительным аппаратом Вавилона, пещерой, ямой, пересеченной улицами бездной, необъятной кротовой норой, где вам чудится, будто во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот — прошедшее.
Такова, повторяем, была клоака былых времен.
Глава 5
Прогресс в настоящем
В наше время клоака опрятна, строга, выпрямлена, благопристойна. Она почти олицетворяет идеал, обозначаемый в Англии словом «респектабельный». У нее приличный вид, она сероватого цвета, вытянута в струнку и, если можно так выразиться, одета с иголочки. Она похожа на человека, который из купцов вдруг вышел в тайные советники. Там почти совсем светло. Там даже грязь держится чинно. На первый взгляд клоаку легко принять за один из подземных ходов, столь распространенных встарь и столь удобных для бегства разных монархов и принцев в доброе старое время, «когда народ так обожал своих государей». Нынешняя клоака, пожалуй, даже красива: там царит чистота стиля. Классический прямолинейный александрийский стиль, изгнанный из поэзии и как будто нашедший прибежище в архитектуре, чувствуется там в каждом камне длинного мрачного белесоватого свода; каждый сточный канал кажется аркадой — архитектура улицы Риволи распространяет свое влияние даже на недра клоаки. К тому же, если геометрические линии где-нибудь и уместны, то именно в каналах, выводящих нечистоты большого города. Там все должно быть подчинено соображениям кратчайшего расстояния. Клоака наших дней приобрела некий официальный вид. Даже в полицейских отчетах, где она зачастую упоминается, о ней говорится с оттенком уважения. Относящимся к ней словам административный язык придал благородство и достоинство. То, что называлось когда-то кишкой, именуется галереей, что называлось дырой — зовется смотровым колодцем. Вийон не узнал бы своего бывшего ночного пристанища. Правда, эта запутанная сеть подземелий по-прежнему и более чем когда-либо заселена грызунами, кишащими там с незапамятных времен; и теперь еще иной раз почтенная усатая крыса, отважившись высунуть голову в отдушину клоаки, разглядывает парижан; но даже эти гады мало-помалу становятся ручными, настолько они довольны своим подземным дворцом. Клоака совершенно потеряла первобытный дикий облик былых времен. Дождь, который некогда только загрязнял водостоки, теперь промывает их. Не слишком доверяйте им, однако. Не забывайте о вредных испарениях. Клоака скорее лицемер, чем праведник. Напрасно стараются префектура полиции и санитарные комиссии. Вопреки всем ухищрениям ассенизации клоака издает какой-то подозрительный запах, точно Тартюф после исповеди.
Из всего этого следует, что, выметая сор, клоака оказывает услугу цивилизации, а так как, с этой точки зрения, совесть Тартюфа — большой прогресс в сравнении с авгиевыми конюшнями, то нельзя не признать, что клоака Парижа, несомненно, усовершенствовалась.
Это больше, чем прогресс: это превращение древней клоаки в клоаку нашего времени. В ее истории произошел переворот. Кто же произвел этот переворот?
Человек, которого все позабыли и которого мы только что назвали: Брюнзо.
Глава 6
Прогресс в будущем
Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. Десяти векам вплоть до наших дней не удалось закончить эту работу, так же, как не удалось достроить Париж. В самом деле, ведь на клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине, одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь двадцать три тысячи триста метров — так обстояло дело в Париже к 1 января 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон — цифры эти крайне любопытны — провел четыре тысячи восемьсот четыре метра водосточных труб; Людовик XVIII — пять тысяч семьсот девять; Карл Х — десять тысяч восемьсот тридцать шесть; Луи-Филипп — восемьдесят девять тысяч двадцать; Республика 1848 года — двадцать три тысячи триста восемьдесят один; нынешнее правительство — семьдесят тысяч пятьсот. В итоге до настоящего времени проложено двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, другими словами, шестьдесят миль сточных труб — так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся; гигантское никому неведомое сооружение.
Как видим, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше чем вдесятеро против того, каким он был в начале столетия. Нам даже трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, а последнее десятилетие восемнадцатого века и революционная мэрия, лишь с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности: одни были связаны с особенностями грунта, другие — со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле, до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, называемая Парижем; как только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти наносные пласты, перед ним тотчас же возникают бесчисленные, скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, именуемый на профессиональном языке «горчицей». Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих, иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя, как стекло, самые массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны; пришлось посылать на поиски водолаза, который обнаружил в устье канала трещину и лишь с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например, в Бельвиле, под Большой улицей и пассажем Люньер, встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни, погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. После того как он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншее на глубине десяти метров; после того как, борясь с оползнями при помощи разведок, зачастую в гнилостных грунтах, и установки подпорных стенок, он покрыл сводом русло Бьевры от Госпитального бульвара до самой Сены; после того как для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров, у заставы Мучеников, он, повторяем, проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; после того как — вещь до сей поры неслыханная — он соорудил без открытых траншей, на глубине шести метров под землей, водосток улицы Бардю-Бек, — Монно умер. Вслед за ним, покрыв сводом три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Урсин, спустив через боковой канал под Самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток Податной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назаретской богоматери, — умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщений о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений.
В 1832 году парижская клоака была далеко не такова, как теперь. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жидкости, пролегала еще по улице Гурд под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, необходимых для того, чтобы прикрыть этот срам. Три поглощающих колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Мандэ, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем вдесятеро.
Тридцать лет тому назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака еще во многих местах сохраняла свой прежний вид. Весьма значительное число улиц имело тогда на месте нынешних выпуклых мостовых вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто можно было видеть широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название cassis[626]. Еще в 1832 году на множестве улиц — как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назаретской богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Олений мост, Марэ, в предместье Сен-Мартен, на улице Богоматери-победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон — старая средневековая клоака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с величественным бесстыдством огороженные кругом тумбами.
Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры: пяти тысяч трехсот двадцати восьми туаз. На 1 января 1832 года, после Брюнзо, они достигли сорока тысяч трехсот метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем семьсот пятьдесят метров сточных труб; с тех пор каждый год сооружали от восьми до десяти тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по двести франков на метр, шестьдесят миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в сорок восемь миллионов.
Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены.
Париж лежит меж двумя пеленами: пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска радиусом в двадцать пять миль; туда просачивается множество рек и ручьев; из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна, она образуется сначала в небе, потом в недрах земли; воздушная пелена вредоносна, она прилегает к сточным водам. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит город; потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взятый на пробу над навозной кучей, — это доказано наукой, — гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, усовершенствованной технике и свету знания водяная пелена поможет очистить пелену воздушную — иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унаваживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. А ныне болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса.
Мы могли бы сказать, что клоака вот уже десять веков является язвой Парижа. Сточные воды — это отрава, которая засела в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только ради высокой оплаты каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров; землекоп едва решался погрузить туда свою лестницу; поговорка гласила: «В сточную яму сойти, что в могилу войти». Как мы уже говорили, всевозможные отвратительные, вселявшие ужас легенды окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток как геологических, так и исторических переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом от савана Марата.
Книга III Грязь, побежденная силой души
Глава 1
Клоака и ее неожиданности
В этой самой парижской клоаке и очутился Жан Вальжан.
Еще одна черта сходства между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах.
Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы и, благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо, — от неминуемой гибели к полной безопасности.
Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь, — это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял, словно оглушенный, и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением!
Между тем раненый оставался недвижим, и Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца унес он с собой в эту могилу.
Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его толщу земли глухо и неясно, как смутный гул. Он ощущал под ногами твердую почву — вот и все, но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре; он поскользнулся и понял, что каменный пол залит водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется и дальше. На него пахнуло зловонием, и он догадался, где он.
Через несколько секунд он уже не был слепым. Сквозь отдушину смотрового колодца, в который он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя, — никаким словом не обрисуешь лучше его положение, — был замурован позади него и являлся одним из тупиков, называемых на профессиональном языке «тупиковой веткой». Впереди ему преграждала путь другая стена — стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти — двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым белесоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водостока. Дальше стояла сплошная тьма; вступить в нее казалось страшным, чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стену густой мглы было возможно и даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что, если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты, и что все зависело от этой случайности. Солдаты также могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса наземь, он снова поднял его, взвалил себе на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту.
На самом деле они были совсем не так близки к спасению, как думал Жан Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода, и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря битвы — пещера, полная миазмов и ловушек; вместо хаоса — клоака. Из одного круга ада Жан Вальжан попал в другой.
Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсюда расходились два пути. Который же избрать? Свернуть ли налево, или направо? Как разобраться в черном лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить — его естественный уклон. Следовать уклону значило спускаться к реке.
Жан Вальжан понял это сразу.
Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка; что, выбрав левый путь и следуя уклону, он может меньше чем в четверть часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым, иными словами, он рискует очутиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под ногами. Прибегут полицейские, вооруженная стража из ближайшей караульной. И их схватят прежде, чем они успеют выйти на свет. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю провидения.
Он стал подниматься вверх и пошел направо.
Как только он повернул за угол галереи, слабый отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинуты вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стену. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшей из ран Мариуса. Однако ощущаемая им у самого уха влажная теплота, которой веяло от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся там от вчерашнего ливня вода образовала небольшой ручей, бежавший посреди водостока, так что Жан Вальжан принужден был держаться у самой стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он напоминал те порожденные ночью существа, что движутся ощупью в невидимом, затерянные в подземных шахтах мрака.
Между тем мало-помалу, потому ли, что из дальних отдушин пробивался в густую мглу слабый мерцающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, но зрение отчасти вернулось к нему, и он снова начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов видит в ней свет, подобно тому как душа вырастает в страданиях и познает в них бога.
Выбирать дорогу становилось все труднее.
Направление сточных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал две тысячи двести улиц. Попробуйте представить себе под ними темную чащу переплетенных ветвей, называемую клоакой. Существовавшая в те годы система водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы одиннадцати миль. Мы уже говорили, что благодаря усиленному строительству последнего тридцатилетия теперь эта сеть — не менее шестидесяти миль длиной.
Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII, который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Двора чудес, и единственным разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка «Коринф», то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клоаку Монмартра; там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться: клоака Монмартра — одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан миновал стороной водостоки рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутавшихся корабельных мачт; однако ему предстояло еще немало неприятных случайностей и немало уличных перекрестков, — ибо это те же улицы, — выраставших перед ним во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою хаотическую путаницу стоков в виде букв Т и Z под Почтовым управлением и под ротондой Хлебного рынка, до самой Сены, где она заканчивается в форме буквы Y. Во-вторых, направо — изогнутый туннель Часовой улицы с тремя тупиками, похожими на зубцы. В-третьих, опять-таки налево, — ответвление под улицей Майль, которое, почти сразу расходясь какой-то развилиной, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземелье-отстойник под Лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо — глухой тупик улицы Постников, еще не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу, который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место.
Если бы Жан Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого тесаного камня, вместо древней архитектуры, сохраняющей даже в клоаке горделивое величие, с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в восемьсот ливров за одну туазу, он ощутил бы под пальцами современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, «труху», то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе, на бетонном основании, ценой всего двести франков за метр. Но Жан Вальжан ничего этого не знал.
Он шел прямо вперед, твердо, но с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, вверив свою судьбу провидению.
Надо сознаться, что мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак проникал и в его мозг. Он брел наугад среди неведомого. Сеть клоаки вероломна; она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта колоссальная подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, какое-нибудь непреодолимое препятствие? Неужели Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим суждено погибнуть здесь, и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке, среди этой вечной ночи? Кто знает! Он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа — бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился во чреве чудовища.
И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается вверх; течением ручья его било по ногам сзади, вместо того чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам Сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед.
Однако путь его вел совсем не к Сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам — в Сену и в Главную клоаку. Гребень этого бугра, составляющего водораздел, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клоаке Сент-Авуа, за улицей Мишель-ле-Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в клоаке Монмартра, возле Центрального рынка. Эту высшую точку гребня и миновал Жан Вальжан. Он спускался теперь к окружному каналу; он был на правильном пути. Но ничего этого не подозревал.
Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход более узок, чем прежний коридор, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо рассуждая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели, то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов.
В какой-то миг он вдруг почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличное движение, и что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома. Это катились колеса экипажей.
По собственному его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе; он только переменил руку, которой поддерживал Мариуса. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его.
Вдруг прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола; слабый, едва различимый багровый отблеск, смутно окрасивший камень у него под ногами и своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он обернулся пораженный.
Позади него, в конце коридора, на огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз.
Это было полицейское око — мрачное светило подземных трущоб.
За этой звездой смутно колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих.
Глава 2
Пояснение
Днем 6 июня в водостоках было приказано произвести облаву. Из опасения, как бы они не послужили убежищем для побежденных, префекту полиции Жиске поручили обыскать Париж подземный, пока генерал Бюжо очищал Париж наземный; эта двойная согласованная операция требовала двойной стратегии от государственной власти, представленной наверху войсками, внизу — полицией. Три отряда агентов и рабочих клоаки обследовали вдоль и поперек подземную свалку Парижа, один — вдоль правого берега Сены, другой — вдоль левого, третий — в центральной части города.
Полицейских агентов вооружили карабинами, дубинками, саблями и кинжалами.
Луч света, направленный в этот миг на Жана Вальжана, исходил из фонаря полицейского дозора, проверявшего правый берег.
Дозор только что обошел кривую галерею с тремя тупиками, расположенными под Часовой улицей. Пока они обшаривали с фонарем все закоулки этих тупиков, Жан Вальжан набрел на вход в галерею, обнаружил, что она гораздо уже главного коридора, и не свернул в нее. Он прошел мимо. На обратном пути из галереи под Часовой улицей полицейским почудился звук шагов, удалявшихся в сторону окружного канала. Это и были шаги Жана Вальжана. Сержант, начальник дозора, поднял фонарь, и весь отряд начал всматриваться в туман, в направлении, откуда слышался шум.
Для Жана Вальжана это была невыразимо страшная минута.
По счастью, если он хорошо видел фонарь, то фонарь освещал его плохо. Фонарь был светом, Жан Вальжан тенью. Он был очень далеко, сливаясь с окружающей чернотой. Он прижался к стене и застыл на месте.
Впрочем, он не вполне отдавал себе отчет в том, что за тени движутся там, позади. От бессонницы, недостатка пищи, волнения он был как бы в бреду. Ему мерещилось пламя и вокруг этого пламени какие-то привидения. Что это было? Он не понимал.
Когда Жан Вальжан остановился, шум затих.
Дозорные прислушивались, но ничего не слышали, они всматривались, но ничего не видели. Они стали совещаться.
В ту пору в водостоке Монмартра на этом месте находился так называемый «служебный перекресток», уничтоженный впоследствии из-за небольшого озерка, образуемого стремительным потоком дождевой воды, скоплявшейся там во время сильных ливней. Весь отряд мог разместиться на этой площадке.
Жан Вальжан увидел, что призраки собрались в круг. Их головы, напоминавшие бульдожьи морды, придвинулись ближе друг к другу и начали шептаться.
Совещание этих сторожевых псов вынесло решение, что они ошиблись, что шум только почудился им, что там не было ни души и что нет смысла идти по окружному каналу, ибо это будет лишь напрасной тратой времени; напротив того, надо спешить в сторону Сен-Мерри, так как если найдется какое-нибудь дело, если удастся выследить какого-нибудь «смутьяна», то именно в этом квартале.
Время от времени партии прибивают новые подметки к изношенным бранным кличкам своих противников. В 1832 году слово «смутьян» заменило затертое тогда слово «якобинец», предшествуя прозвищу «демагог», тогда еще почти неупотребительному, но превосходно сослужившему службу впоследствии.
Сержант скомандовал свернуть налево, вниз к Сене. Если бы им пришло в голову разделиться на две группы и пойти по двум направлениям, то Жан Вальжан был бы неминуемо схвачен. Его судьба висела на волоске. Однако вполне вероятно, что, предвидя возможность стычек и большую численность повстанцев, префектура полиции в своих инструкциях запретила дозорам разбиваться на группы. Итак, дозор пустился в путь, оставив Жана Вальжана у себя в тылу. Из всего происшедшего до Вальжана дошло лишь то, что фонарь, круто повернутый в сторону, вдруг померк.
Для очистки своей полицейской совести сержант перед уходом разрядил карабин в сторону, оставленную без проверки, то есть туда, где находился Жан Вальжан. Грохот выстрела многократным эхом раскатился по пещерам; казалось, забурчала вся эта необъятная утроба. Кусок штукатурки обвалился в ручей и расплескал воду в нескольких шагах от Жана Вальжана; он понял, что пуля ударила в свод над его головой.
Мерные, медленные шаги еще некоторое время гулко раздавались на каменных плитах и, постепенно удаляясь, затихли; группа черных теней углубилась во тьму; мерцающий свет фонаря, колеблясь и дрожа, отбрасывал на своды красноватый полукруг, который все уменьшался и наконец совсем погас. Снова наступила глубокая тишина, снова спустилась непроницаемая тьма, снова воцарилась слепая и глухая ночь. А Жан Вальжан долго еще стоял, прислонясь к стене, не смея пошевелиться, настороженный, с расширенными зрачками, глядя, как исчезал вдалеке этот патруль привидений.
Глава 3
Человек, которого выслеживают
Надо отдать справедливость полиции того времени: даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно выполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий и бросить общество на произвол судьбы только потому, что правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, нисколько не нарушая свой ход. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, продолжал вести слежку.
Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, по ту сторону моста Инвалидов.
В настоящее время там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился.
Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, казалось, избегая и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий позади старался нагнать его.
Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии. Казалось, ни один из них не спешил: оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу.
Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения. Но добыча не вдавалась в обман и держалась настороже.
Необходимое соотношение сил между загнанной куницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду, тот, кто преследовал, — высокий и здоровый мужчина, — был очень силен и, должно быть, жесток в схватке.
Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но уходил он в бессильной ярости; наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх.
Берег был безлюден: не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни даже грузчиков на пришвартованных к причалу баржах.
Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в своей дырявой блузе, а второй — почтенным должностным лицом в наглухо застегнутом форменном сюртуке.
Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей, если бы увидел их поближе.
Какова была цель второго?
По всей вероятности, одеть потеплее первого.
Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее — почетно, быть одетым в красное — неприятно.
Существует пурпур общественного дна.
Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода, вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий.
То, что второй беспрепятственно пускал его идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой.
Эту догадку вполне подтверждает то обстоятельство, что человек в застегнутом сюртуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак извозчику; извозчик понял, очевидно сразу сообразив, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной, следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого.
Фиакр катился под деревьями Елисейских полей. Над парапетом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке.
В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф: «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай».
Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, благодаря которому извозчики в те времена могли по дороге из Пасси спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии: пусть лошади дохнут от жажды, зато пейзаж услаждает взоры.
Было похоже на то, что человек в блузе собирается подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях, где, правда, много деревьев, но зато немало и полицейских, и где преследователь мог рассчитывать на подмогу.
Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Морэ в Париж полковником Браком, — так называемого дома Франциска I. А там и караульня рядом.
К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он по-прежнему шел вперед вдоль набережной.
Его положение явно становилось отчаянным.
Что ему оставалось делать? Только броситься в Сену.
Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную: дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом Сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и терялся под водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех сторон: справа ему отрежет путь отвесная стена, слева и спереди — река, с тыла — представитель власти.
Правда, конец береговой полосы загораживала от глаз куча щебня шести или семи футов в высоту, оставшаяся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал надежно укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов.
Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной.
Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся от глаз преследователя.
Потеряв его из виду и думая, что не виден сам, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он остановился, пораженный. Человека, за которым он охотился, там не оказалось.
Оборванец исчез бесследно.
Берег тянулся за грудой щебня не далее как на тридцать шагов, после чего уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной.
Беглец не мог ни броситься в реку, ни перелезть через стену, не будучи замечен своим преследователем. Куда же он девался?
Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился на минуту в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась полоска берега и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным сводом широкую и низкую железную решетку на трех массивных петлях, с тяжелым замком. Эта решетка, представлявшая собою нечто вроде двери, пробитой в подножии стены набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Этот ручей впадал в Сену.
За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора.
Человек скрестил руки и посмотрел на решетку с упреком.
Не добившись ничего взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко. Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя казалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа; во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли. Это доказывало, что тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ.
Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул:
— Это уж чересчур! У него казенный ключ!
Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо:
— Так, так, так!
После этого, неизвестно на что рассчитывая — то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли, как туда войдут другие, — он притаился в засаде за кучей щебня с терпением ищейки.
Фиакр, который соразмерял свой ход со всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу, — мешки, столь знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Иенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на эти две неподвижные подробности пейзажа — человека на берегу и фиакр на набережной.
Глава 4
Он тоже несет свой крест
Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался.
Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась; в среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан был принужден идти согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода; каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в омерзительных нечистотах города. Неверные отсветы дня, проникающие сюда сквозь редкие отдушины, были такими тусклыми, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жана Вальжана мучили голод и жажда, особенно жажда; между тем здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами благодаря строгой и воздержанной жизни, все же начинала сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того как уходили силы, возрастала тяжесть его ноши. Тело Мариуса, быть может, бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхания. Он чувствовал, как у него под ногами проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче.
Было, вероятно, часа три пополудни, когда он дошел до окружного канала.
Прежде всего его удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не наткнувшись на стены, и где его голова не задевала свода. Главный водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту.
В том месте, где в Главный водосток впадает водосток Монмартра, скрещиваются еще две подземные галереи: Провансальской улицы и Скотобойной. Всякий менее проницательный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос: спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что положение вещей вынуждало его спешить и что теперь следовало во что бы то ни стало дойти до Сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево.
И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода, один на Берси, другой на Пасси, и будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы должны припомнить, не что иное, как взятый в трубу ручей Менильмонтан, если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку — роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур, и впадает в Сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него, как раз под улицей Менильмонтан, каменным валом, являющимся водоразделом верховья и низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на глухую стену. И это был бы конец.
В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер страстей господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьен, — он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на Сену, возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по которой плутал, и если бы спросить его, где он находится, он ответил бы: «В сердце ночи».
Внутреннее чутье не обмануло его. Спускаться вниз — действительно означало возможность спасения.
Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под Шоссе д’Антен.
Миновав небольшой боковой проход, вероятно ответвление под улицей Мадлен, он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь достаточно широкую отдушину, по-видимому смотровой колодец улицы Анжу, пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным и осторожным движением, словно брат раненого брата, опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели, как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле. Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан Вальжан приложил руку к его груди; сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, перевязал раны, как только мог лучше, и тем остановил кровотечение; затем, склонившись в сумеречном полусвете над бесчувственным и почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти.
Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи: забытый со вчерашнего дня кусок хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель:
«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп деду моему, г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».
Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины, и замер на миг, сосредоточенно повторяя вполголоса: «Улица Сестер страстей господних, № 6, г-н Жильнорман». Потом он вложил записную книжку обратно в карман Мариуса. Он поел, и силы возвратились к нему; снова взвалив Мариуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться вниз по водостоку.
Главный водосток, проложенный в лощине по руслу Менильмонтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем.
У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие, — он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой и что день склоняется к вечеру; а по шуму колес над головой, который из непрестанного обратился в прерывистый и наконец почти затих, он заключил, что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам, возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше в клоаке и отдушин. Вокруг Жана Вальжана сгущалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробираясь ощупью во мраке.
Внезапно этот мрак стал ужасен.
Глава 5
Лесок коварен, как женщина: чем он приманчивей, тем опасней
Он почувствовал, что входит в воду и что под ногами его уже не каменные плиты, а ил.
На побережье Бретани или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с некоторым трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу, подошвы прилипают к ней; это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, но при каждом шаге, едва переставишь ноги, след заполняется водой. А между тем глаз не видит перемены: бесконечно тянется берег, он ровен, однообразен, песок повсюду кажется одинаковым, ничто не отличает твердой почвы от зыбкой, буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу. Он нисколько не обеспокоен. О чем ему беспокоиться? Ему кажется только, что с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или три дюйма. Положительно, он сбился с дороги; он останавливается, чтобы определить направление. И тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад — и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток; он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр; он кидается вправо, песок достигает колен. Тогда, в невыразимом ужасе, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он швыряет прочь свою ношу, если у него она есть, он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие; слишком поздно: он уже провалился выше колен.
Он зовет на помощь, размахивает шапкой или платком, песок засасывает его все глубже и глубже; если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь героя — тогда все кончено: его засосал песок. Он обречен на ту ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго; она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться тащит вас все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием; она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными полями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески — это могила, обернувшаяся приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый миг — это безжалостный могильщик. Несчастный пытается сесть, лечь, ползти, но всякое движение хоронит его все глубже; он выпрямляется — и погружается еще больше; он чувствует, что тонет; он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаяние. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, исступленно рыдает; песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка; теперь видно одно только лицо. Рот еще кричит, песок заполняет рот; настает молчание. Глаза еще смотрят, песок засыпает глаза; наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только развеваются над песком пряди волос; высовывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно двигается, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека.
Иногда пески засасывают всадника вместе с лошадью, иногда возницу вместе с повозкой; трясина все поглощает. Потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами, точно равнина, и разверзается под ногами, точно волна. Пучине свойственно такое коварство.
Подобное роковое происшествие, всегда возможное на некоторых морских побережьях, лет тридцать тому назад могло случиться также и в парижской клоаке.
До 1833 года, когда наконец были предприняты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы.
Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода; тогда настил, будь он мощенный камнем, как в старинных водостоках, или бетонный на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила ведет к трещине, а трещина — к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Эта расселина, эта щель, открывающая пучину грязи, на профессиональном языке называлась провалом, а самая грязь — плывуном. Что такое плывуны? Это зыбучие пески морского побережья, неожиданно оказавшиеся под землей; это песчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной; в жидкой среде все ее частицы находятся во взвешенном состоянии; это уже не земля и не вода. Иногда такая топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если преобладает вода, вам грозит мгновенная смерть — вас затопит; если преобладает земля, вам грозит медленная смерть — вас засосет.
Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу, какова же она в клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вместо вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо неугасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, вместо всего этого — глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под гробовой крышкой! Медленная гибель от недостатка воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушье и хватает вас за горло, предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана! Звать на помощь, скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает!
Невыразимо страшно умереть таким образом! Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени, так же, как в морской пене, — сохранить достоинство; такая гибель преображает человека. Здесь же этого нет. Здесь смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унизительно. Даже предсмертные видения, проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь — синоним позора. Все тут ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с мальвазией, подобно Кларенсу, — еще куда ни шло; но захлебнуться в выгребной яме, как д’Эскубло, — ужасно. Барахтаться там омерзительно: там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно счесть ее просто болотом, и умирающий не знает, станет ли он бесплотным призраком или обратится в жабу.
Могила повсюду мрачна; здесь же она безобразна. Глубина плывунов изменялась так же, как их протяженность и плотность, в зависимости от состояния подпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, иногда восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом — почти жидким. В плывуне Люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Фелипо поглотила бы его в пять минут. Трясина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от большей или меньшей своей плотности. Ребенок может спастись там, где проваливается взрослый. Первое условие спасения — это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творило с известкой — вот с чего начинал всякий рабочий в клоаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать.
Провалы вызывались различными причинами: рыхлостью грунта, случайным оползнем на недоступной исследованию глубине, бурными летними ливнями, непрерывными зимними осадками, осенними моросящими дождями. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто тому назад осевшее здание Пантеона завалило таким образом часть подземелий в горе Сент-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в клоаке, это разрушение в некоторых случаях обнаруживало себя наверху в виде рассевшихся булыжников мостовой, ощерившихся, точно зубья пилы; такая щель вилась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждение, можно было принять срочные меры. Нередко случалось, однако, что внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях несдобровать было рабочим клоаки! Войдя без предосторожностей в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в плывунах. Там перечислено много имен; среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей Заговенья; Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан, Никола́ Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище перестало существовать.
В те же реестры попал и упомянутый нами юный, прелестный виконт д’Эскубло, один из героев осады Лериды, которые шли на приступ в шелковых чулках, с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кузины, герцогини де Сурди, д’Эскубло утонул в трясине Ботрельи, куда укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда г-же де Сурди сообщили о его гибели, она потребовала флакон с солями и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, клоака потушит ее. Геро откажется обмыть труп Леандра, Фисба заткнет нос при виде Пирама и скажет: «Фи!»
Глава 6
Провал
Перед Жаном Вальжаном был провал.
Подобного рода разрушения в то время часто происходили в подпочве Елисейских полей, где грунт неудобен для гидравлических работ и недостаточно прочен для подземных сооружений из-за необычайной своей плывучести. Этот грунт превосходит плывучестью даже рыхлые пески квартала Сен-Жорж, с которыми удалось справиться лишь при помощи бетонного фундамента, даже пропитанные газом глинистые пласты квартала Мучеников, которые настолько разжижены, что подземную галерею под улицей Мучеников пришлось заключить в чугунную трубу. Когда в 1836 году под предместьем Сент-Оноре разрушили для перестройки древний каменный водосток, куда сейчас углубился Жан Вальжан, то зыбучие пески — основная подпочва Елисейских полей до самой Сены — явились таким серьезным препятствием, что работы затянулись почти на полгода, к величайшему огорчению прибрежных жителей, в особенности владельцев особняков и роскошных карет. Земляные работы были там не только трудными: они были опасными. Правда, надо учесть, что в том году дожди лили непрерывно четыре с половиной месяца и Сена три раза выступала из берегов.
Провал, который встретился на пути Жана Вальжана, был вызван вчерашним ливнем. Вследствие оседания каменного настила, плохо укрепленного на песчаной подпочве, там образовалось большое скопление дождевых вод. Вода просочилась под настил, вслед за чем произошел обвал. Прогнувшийся фундамент опустился в трясину. На каком протяжении? Невозможно установить. Мрак в этом месте был непрогляднее, чем где бы то ни было. Это был омут грязи в пещере ночи.
Жан Вальжан почувствовал, что мостовая ускользает у него из-под ног. Он ступил в яму. На поверхности была вода, на дне — тина. Все равно надо было пройти. Возвращаться назад немыслимо. Мариус казался при последнем издыхании, и сам он изнемогал. Да и куда ему идти? Жан Вальжан двинулся вперед. К тому же на первых порах яма показалась ему неглубокой. Но чем дальше он продвигался, тем глубже увязали ноги. Вскоре тина дошла ему до икр, а вода выше колен. Он шагал, поднимая Мариуса обеими руками как можно выше над водой. Тина доходила ему теперь уже до колен, а вода до пояса. Он уже не мог вернуться назад. Его затягивало все глубже и глубже. Ил, достаточно плотный, чтобы выдержать тяжесть одного человека, не мог, очевидно, выдержать двоих. Мариусу и Жану Вальжану удалось бы выбраться только поодиночке. Но Жан Вальжан продолжал идти вперед, неся на себе умирающего, а может быть, — кто знает? — мертвеца.
Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что тонет; он едва-едва передвигал ноги в этой глубокой тине. Толща грязи, служившая опорой, являлась в то же время и препятствием. Он по-прежнему приподнимал Мариуса над поверхностью и с нечеловеческим напряжением сил двигался вперед, но погружался все глубже. Над водой оставались только голова и две руки, держащие Мариуса. Где-то на старинной картине, изображающей Всемирный потоп, нарисована мать, которая вот так поднимает над головой своего ребенка.
Он погрузился еще глубже, он запрокинул голову назад, чтобы не захлебнуться; тот, кто увидел бы это лицо во тьме, принял бы его за маску, плывущую по мраку. Жан Вальжан смутно различал над собой свесившуюся голову и посинелое лицо Мариуса. Он сделал последнее отчаянное усилие и шагнул вперед; и вдруг нога его наткнулась на что-то твердое, нашла точку опоры. Еще миг, и было бы поздно!
Он выпрямился, рванулся вперед в каком-то исступлении и словно прирос к этой точке опоры. Она показалась ему первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни.
Опора, обретенная им в трясине в последний смертный миг, оказалась началом выходящего из-под воды каменного настила, который не обрушился, а только осел и прогнулся под водой целиком, подобно доске. Хорошо выложенный настил в таких случаях выгибается дугой и держится прочно. Эта часть мощеного дна водостока, наполовину затопленная, но устойчивая, представляла собою своего рода лестницу, и, попав на эту лестницу, человек был спасен. Жан Вальжан поднялся по наклонной плоскости и достиг другого края провала.
Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это как должное, он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву богу.
Потом он встал, весь дрожа, закоченев от холода, задыхаясь от смрада, сгибаясь под тяжестью раненого, которого тащил на себе; с него струились потоки грязи, но душа была полна неизъяснимым светом.
Глава 7
Порою терпят крушение там, где надеются пристать к берегу
И он снова пустился в путь.
Но если в трясине он не лишился жизни, то, казалось, лишился там всех своих сил. Напряжение последних минут доконало его. Усталость дошла до такого предела, что через каждые три-четыре шага он принужден был делать передышку и прислоняться к стене. Однажды, когда ему пришлось присесть на выступ у стены, чтобы переложить Мариуса поудобнее, он почувствовал, что там и останется. Но если телесные его силы иссякли, то воля не была сломлена. И он встал.
Он пошел вперед с отчаянием, почти бегом, сделал так шагов сто, не поднимая головы, не переводя духа, и вдруг стукнулся об стену. Он достиг угла, где водосток сворачивает в сторону, и так как он шел с низко опущенной головой, то на повороте наткнулся на стену. Он поднял глаза и вдруг, в конце подземелья, где-то впереди, далеко-далеко — увидел свет. На этот раз он не казался угрожающим, это был приветливый белый свет. Там был день.
Жан Вальжан видел впереди дверь на волю.
Если бы среди адского пекла душа грешника увидела вдруг выход из геенны огненной, она испытала бы то же, что испытал Жан Вальжан. В безумном порыве, на своих искалеченных обгорелых крыльях она устремилась бы к лучезарным вратам. Жан Вальжан уже не чувствовал усталости, не ощущал тяжести Мариуса, стальные мышцы его снова напряглись. Он уже не шел, а бежал. И все яснее и яснее обозначался просвет. Это была полукруглая арка, расположенная ниже постепенно опускающегося свода и более узкая, чем галерея, суживающаяся по мере того, как понижался свод. Конец туннеля напоминал собою внутренность воронки, с узким, неудобным выходом, вроде калитки смирительного дома, подходящей для тюрьмы, но никак не для клоаки; впоследствии эта несообразность была исправлена.
Жан Вальжан подошел к отверстию.
Там он остановился.
Это действительно был выход, но выйти было нельзя.
Арка была загорожена толстой решеткой, а решетка, которая, по всей видимости, редко поворачивалась на проржавленных петлях, плотно прилегала к каменному наличнику, запертая на массивный замок, красный от ржавчины и похожий на громадный кирпич. Были видны замочная скважина и тяжелый замочный язык, глубоко задвинутый в железную скобу. Замок, по-видимому, был заперт на два поворота и казался одним из тех тюремных замков, на какие не скупился в те времена старый Париж.
По ту сторону решетки — свежий воздух, река, дневной свет, береговая коса, узкая, но не настолько, чтобы нельзя было пройти по ней, отдаленные набережные Парижа — этой бездны, где так легко скрыться, широкий горизонт, свобода. Направо, вниз по реке, виднелся Иенский мост, налево, вверх по течению, — мост Инвалидов: самое подходящее место, чтобы дождаться темноты и незаметно ускользнуть. Это был один из самых безлюдных уголков Парижа, набережная против Большого Камня. Сквозь железные прутья решетки влетали и вылетали мухи.
Было, вероятно, около половины девятого вечера. Начинало смеркаться.
Жан Вальжан положил Мариуса у стены, на сухую часть каменного пола, и, подойдя к решетке, судорожно впился в прутья обеими руками; толчок был бешеный, результата никакого. Решетка не дрогнула. Жан Вальжан рванул каждый прут по очереди, надеясь, что удастся выломать наименее прочный и, орудуя им как рычагом, приподнять дверь или сбить замок. Ни один прут не подался. Даже у тигра зубы в деснах не сидят так прочно. Ни рычага, ничего тяжелого под рукой. Препятствие было непреодолимо. Отворить дверь невозможно.
Неужели их ждал тут конец? Что делать? Как быть? Вернуться назад, начать сызнова страшное путешествие, уже раз им проделанное, он был не в силах. К тому же, как снова перебраться через топь, откуда они выбрались только чудом? Да и помимо топи, разве не было там полицейского патруля, от которого, конечно, не удалось бы скрыться во второй раз? Кроме того, куда идти? Какое направление избрать? Спускаться по уклону вовсе не значило дойти до цели. Даже если найдется другой выход, он тоже окажется замурованным или загороженным решеткой. Очевидно, все выходы запирались таким образом. Решетка, через которую они проникли, лишь случайно оказалась неисправной, остальные же отверстия клоаки, несомненно, все были закрыты. Они спаслись лишь для того, чтобы попасть в темницу.
Это был конец. Все, что совершил Жан Вальжан, оказалось бесполезным. Силы иссякли, надежды рухнули.
Они запутались оба в необъятной темной паутине смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как, раскачивая черные нити, ползет к ним во мраке чудовищный паук.
Он повернулся спиной к решетке и опустился, вернее, рухнул, на каменные плиты, возле все еще недвижимого Мариуса; голова его низко склонилась к коленям. Выхода нет! Это была последняя капля в чаше отчаяния.
О чем думал он в смертельной тоске? Не о себе и не о Мариусе. Он думал о Козетте.
Глава 8
Лоскут от разорванною сюртука
Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья, и чей-то голос проговорил шепотом:
— Добычу пополам!
Что это? Здесь кто-то есть. Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит. Он не слышал шагов. Возможно ли это? Он поднял глаза.
Перед ним стоял какой-то человек.
Человек был одет в блузу; он стоял босиком, держа башмаки в левой руке; очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану.
Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты; он сразу узнал человека. Это был Тенардье.
Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапное нападение; даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Кроме того, его положение не могло стать хуже, чем было: отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить, и даже сам Тенардье не способен был сгустить мрак этой ночи.
С минуту они оба выжидали.
Приложив правую ладонь козырьком ко лбу, Тенардье нахмурил брови и прищурился, слегка сжав губы, как человек, с пристальным вниманием старающийся распознать другого. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но при всей его мертвенности отчетливым светом подземелья, Тенардье, согласно избитому, но меткому выражению, «сразу бросился в глаза» Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось достаточно, чтобы Жан Вальжан получил некоторое преимущество в той таинственной дуэли, которая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях. Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Тенардье — без маски.
Жан Вальжан тотчас же заметил, что Тенардье не узнал его.
Несколько мгновений они разглядывали друг друга в тусклом полусвете, как бы примеряясь один к другому. Первым нарушил молчание Тенардье:
— Как ты думаешь выбраться отсюда?
Жан Вальжан не ответил.
Тенардье продолжал:
— Отмычка здесь не поможет. А выйти тебе отсюда надо.
— Это правда, — сказал Жан Вальжан.
— Так вот, добычу пополам.
— Что ты хочешь сказать?
— Ты пришил человека. Дело твое. Но ключ-то у меня.
И Тенардье указал пальцем на Мариуса.
— Я тебя не знаю, — продолжал он, — но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень.
Жан Вальжан начал догадываться: Тенардье принимал его за убийцу.
Тенардье заговорил снова:
— Слушай, приятель. Коли ты прикончил молодца, так уж, верно, обшарил его карманы. Давай мне мою половину. А я отомкну тебе дверь.
И, вытащив наполовину из-под своей дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил:
— Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся.
Жан Вальжан был до такой степени «ошарашен», пользуясь словцом старика Корнеля, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличье, неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардье?
Тенардье засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану Вальжану.
— Держи-ка, — сказал он, — вот тебе еще веревка в придачу.
— Зачем мне веревка?
— Надо бы еще и камень, да ты найдешь его снаружи. Там целая куча щебня.
— Зачем мне камень?
— Вот болван! Тебе же придется бросить в реку эту падаль, стало быть, нужны и веревка, и камень. А то всплывет наверх.
Жан Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все.
Тенардье прищелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль:
— Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться… Фу, нельзя сказать, чтобы от тебя хорошо пахло.
Помолчав, он прибавил:
— Я задаю тебе вопросы, но ты правильно делаешь, что не отвечаешь. Готовишься к допросу у следователя? Поганая минутка! Конечно, если вовсе не говорить, не рискуешь проговориться. А все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, ты напрасно думаешь, будто мне непонятно, кто ты и чего тебе надо. Видали таких. Ты легонько подшиб этого молодца и теперь хочешь его сплавить. Тебе нужна река, — чтобы концы в воду. Так и быть, я помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды — это по моей части.
Хваля Жана Вальжана за молчание, он тем не менее явно старался вызвать его на разговор. Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос:
— Кстати, насчет трясины. Экий ты дурак! Почему ты не сбросил его туда?
Жан Вальжан хранил молчание.
Тенардье, жестом положительного, солидного человека подтянув к самому кадыку тряпку, заменявшую ему галстук, продолжал:
— А впрочем, ты, пожалуй, поступил неглупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру и уж, верно, нашли бы там этого подкидыша; а тогда шаг за шагом, потихоньку-помаленьку напали бы на твой след и добрались бы до тебя самого. Ага, скажут, кто-то ходил по клоаке! Кто такой? Откуда он вышел? Не видал ли кто, когда он выходил? Легавым ума не занимать стать. Водосток — доносчик, непременно выдаст. Ведь такая находка тут — редкость, она привлекает внимание; в клоаку мало кто заходит по делу, а река — для всех. Река — что могила. Ну, пускай через месяц выудят утопленника из сеток Сен-Клу. А на черта он годится? Падаль, и больше ничего. Кто убил человека? Париж. Суд даже и следствия не начнет. Ты хорошо сделал.
Чем больше болтал Тенардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардье снова тряхнул его за плечо.
— А теперь давай по рукам. Поделимся. Я показал тебе ключ, покажи свои деньги.
Вид у Тенардье был беспокойный, дикий, недоверчивый, слегка угрожающий и вместе с тем дружелюбный.
Странное дело, в повадках Тенардье чувствовалось что-то неестественное, ему словно было не по себе; хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал: «Тсс!» Трудно было угадать, почему. Кроме них двоих, там никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги и у Тенардье нет особой охоты делиться с ними добычей.
Тенардье опять заговорил:
— Давай кончать. Сколько ты наскреб в ширманах у этого разини?
Жан Вальжан порылся у себя в карманах.
Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В мрачной, полной опасностей жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером, находясь в подавленном, мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковых монеты и пять или шесть медяков по два су.
Тенардье выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой.
— Да ты же его убил задаром, — сказал он.
С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы Мариуса. Жан Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардье, с ловкостью опытного карманника, ухитрился оторвать лоскут от его сюртука и незаметно спрятать за пазуху, вероятно рассчитывая, что этот кусок материи может пригодиться ему впоследствии, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но, кроме упомянутых тридцати франков, он не нашел ничего.
— Что верно, то верно, — пробормотал он, — один на другом верхом, и у обоих ни шиша.
И, позабыв свое условие «добычу пополам», он забрал себе все.
Глядя на медяки, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь, ворча:
— Все равно! Можно сказать, без пользы пришил человека.
После этого он опять вытащил из-под блузы ключ.
— А теперь, приятель, выходи. Здесь, как на ярмарке, плату берут при выходе. Заплатил, можешь уходить.
Может ли быть, чтобы, выручая незнакомца при помощи ключа и выпуская на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться.
Тенардье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая; наконец, осмотревшись по сторонам, он вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что и решетка, и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина казалась зловещей; за ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления. Клоака, очевидно, была заодно с какой-то таинственной шайкой. Безмолвная решетка являлась их сообщницей.
Тенардье приотворил дверцу ровно настолько, чтобы пропустить Жана Вальжана, запер решетку, дважды повернул ключ в замке и погрузился в сумрак. Будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгинуло среди непроницаемой тьмы.
Жан Вальжан очутился на воле.
Глава 9
Человек, знающий толк в таких делах, принимает Мариуса за мертвеца
Жан Вальжан опустил Мариуса на берег.
Они были на воле!
Миазмы, темнота, ужас остались позади. Он свободно дышал здоровым, чистым, целебным воздухом, который хлынул на него живительным потоком. Повсюду кругом стояла тишина, отрадная тишина ясного безоблачного вечера. Сгущались сумерки, надвигалась ночь, великая избавительница, верная подруга всем, кому нужен покров мрака, чтобы отогнать мучительную тревогу. Со всех сторон необъятное небо струило на него бесконечное успокоение. Легкий плеск реки у его ног напоминал звук поцелуя. С высоких вязов Елисейских полей доносились воздушные диалоги птичьих семейств, перекликавшихся перед сном. Кое-где на светло-голубом небосклоне выступили звезды; бледные, словно в грезах, они мерцали в беспредельной глубине едва заметными искорками. Вечер изливал на Жана Вальжана все очарование бесконечности.
Стоял тот неверный и дивный час, который нельзя назвать ни днем, ни ночью. Было уже достаточно темно, чтобы потеряться на расстоянии, и еще достаточно светло, чтобы узнать друг друга вблизи.
Жан Вальжан на несколько секунд поддался неотразимому обаянию этого ласкового и торжественного покоя; бывают минуты забвения, когда страдания и тревоги перестают терзать несчастного; мысль затуманивается, благодатный мир, словно ночь, обволакивает мечтателя, и душа в этих лучистых сумерках, подобно загоревшемуся небу, также озаряется звездами. Жан Вальжан невольно отдался созерцанию этой необъятной светящейся мглы над своей головой; задумавшись, он погрузился в торжественную тишину вечного неба, словно в очистительную купель самозабвения и молитвы. Потом, спохватившись, как будто вспомнив о долге, он нагнулся над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, брызнул ему несколько капель в лицо. Веки Мариуса не разомкнулись, но его полуоткрытый рот еще дышал.
Жан Вальжан собирался зачерпнуть еще воды, но вдруг почувствовал какое-то неясное беспокойство — так бывает, когда кто-то не замеченный вами стоит у вас за спиной.
Нам уже приходилось в другом месте описывать это ощущение, знакомое всякому человеку.
Он обернулся.
Как и в прошлый раз, кто-то действительно был за его спиной.
Человек высокого роста, в длинном сюртуке, скрестив руки и зажав в правом кулаке дубинку со свинцовым набалдашником, стоял в нескольких шагах позади Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом.
Сгустившийся сумрак придавал ему облик привидения. Человек суеверный испугался бы его из-за темноты, человек разумный — из-за его дубинки.
Жан Вальжан узнал Жавера.
Читатель, разумеется, уже догадался, что преследователем Тенардье был не кто иной, как Жавер. Неожиданно выйдя целым и невредимым с баррикады, Жавер тут же отправился в полицейскую префектуру, лично, в короткой аудиенции, доложил обо всем префекту и тотчас вернулся к исполнению своих обязанностей, в которые входило, как мы помним из найденного при нем листка, особое наблюдение за правым берегом Сены, вдоль Елисейских полей, привлекавшим с некоторых пор внимание полиции. Там он заметил Тенардье и пошел за ним следом. Остальное мы уже знаем.
Нам понятно также, что решетка, столь предупредительно отворенная перед Жаном Вальжаном, была хитрой уловкой со стороны Тенардье. Тенардье чуял, что Жавер все еще здесь; человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом; необходимо было бросить кость этой ищейке. Убийца, какая находка! Это был жертвенный дар, на который всякий польстится. Выпуская на волю Жана Вальжана вместо себя, Тенардье науськивал полицейского на новую добычу, сбивал его со следа, отвлекая внимание на более крупного зверя, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда лестно для шпиона, а сам, заработав вдобавок тридцать франков, твердо рассчитывал ускользнуть при помощи этого маневра.
Жан Вальжан попал из огня да в полымя.
Перенести две такие встречи одну за другой — попасть от Тенардье к Жаверу — было тяжким ударом.
Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы говорили, стал сам на себя не похож. Не меняя позы и лишь крепче сжав неуловимым движением дубинку в руке, он сказал отрывисто и спокойно:
— Кто вы такой?
— Я.
— Кто это вы?
— Жан Вальжан.
Жавер взял дубинку в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои могучие руки на плечи Жану Вальжану, сдавив их, словно тисками, внимательно вгляделся и узнал его. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был страшен.
Жан Вальжан словно не почувствовал хватки Жавера; так лев не обратил бы внимания на когти рыси.
— Надзиратель Жавер, — сказал он, — я в вашей власти. К тому же с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Прошу вас только об одном.
Жавер, казалось, не слышал его слов. Он впился в Жана Вальжана своим пронзительным взглядом. Стиснутые челюсти и поджатые почти к самому носу губы служили признаком свирепого его раздумья. Наконец он отпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, снова взял в руки дубинку и, точно в забытьи, скорее пробормотал, чем проговорил:
— Что вы здесь делаете? И что это за человек?
Он продолжал обращаться на «вы» к Жану Вальжану. Жан Вальжан ответил, и звук его голоса как будто пробудил Жавера:
— О нем-то я как раз и хотел говорить с вами. Поступайте со мною, как вам угодно, но помогите мне сначала доставить его домой. Только об этом я и прошу.
Лицо Жавера скривилось, как бывало всякий раз, когда он боялся, что его сочтут способным на уступку. Однако он не отказал.
Он опять нагнулся, вытащил из кармана платок и, намочив его в воде, вытер окровавленный лоб Мариуса.
— Этот человек был на баррикаде, — сказал он вполголоса, как бы про себя. — Это тот, кого называли Мариусом.
Первоклассный шпион все подсмотрел, все подслушал, все расслышал и все запомнил, ожидая смерти; он выслеживал даже в агонии и, стоя одной ногой в могиле, продолжал брать все на заметку.
Он схватил руку Мариуса, нащупывая пульс.
— Он ранен, — сказал Жан Вальжан.
— Он умер, — сказал Жавер.
Жан Вальжан возразил:
— Нет. Пока еще жив.
— Значит, вы принесли его сюда с баррикады? — заметил Жавер.
Видно, он был сильно озабочен, если не настаивал на выяснении этого подозрительного бегства через подземелья клоаки и даже не заметил, что Жан Вальжан промолчал на его вопрос.
Да и Жана Вальжана занимала, казалось, одна-единственная мысль. Он снова заговорил:
— Он живет в Марэ, на улице Сестер страстей господних, у своего деда… Я забыл его имя.
Жан Вальжан пошарил в карманах Мариуса, вынул его записную книжку, раскрыл исписанную карандашом страницу и протянул Жаверу.
В вечернем небе брезжило еще достаточно света, и можно было читать. К тому же глаза Жавера фосфоресцировали, как глаза хищных ночных птиц. Он разобрал написанные Мариусом строчки и проворчал сквозь зубы: «Жильнорман, улица Сестер страстей господних, номер шесть».
Потом он крикнул: «Извозчик!»
Читатель помнит о фиакре, стоявшем в ожидании на всякий случай.
Записную книжку Мариуса Жавер оставил у себя.
Через минуту карета съехала на берег по спуску к водопою, Мариуса перенесли на заднее сиденье, а Жавер уселся рядом с Жаном Вальжаном на передней скамейке.
Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатил вдоль набережной, по направлению к Бастилии.
Свернув с набережной, они поехали по улицам. Извозчик, возвышаясь на козлах черным силуэтом, подхлестывал тощих лошадей. В карете царило ледяное молчание. Недвижимое тело Мариуса в углу кареты, с поникшей головой, с безжизненно висящими руками и вытянутыми ногами, как будто ждало, чтобы его положили в гроб; Жан Вальжан казался сотканным из мрака, а Жавер изваянным из камня. В этой темной карете, которая, словно неверной вспышкой молнии, по временам озарялась внутри мертвенным, синеватым светом уличного фонаря, случай зловещим образом свел и сопоставил три воплощения трагической неподвижности — труп, призрак, статую.
Глава 10
Возвращение блудного сына
При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови.
Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер страстей господних.
Жавер вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением столкнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке.
Весь дом спал. В Марэ ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне; так дети, в страхе перед букой, поспешно прячут голову под одеяло.
Жан Вальжан с помощью извозчика вынес Мариуса из кареты; Жан Вальжан держал его под мышки, а извозчик за ноги.
Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил.
Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугою бунтовщика:
— Живет тут кто-нибудь по имени Жильнорман?
— Живет. Что вам угодно?
— Мы привезли его сына.
— Сына? — тупо переспросил привратник.
— Он умер.
Показавшийся за спиной Жавера оборванный и грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, сделал ему знак, что это неправда.
Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана.
Жавер продолжал:
— Он пошел на баррикаду — и вот, доигрался.
— На баррикаду?! — вскричал привратник.
— Его там убили. Поди разбуди отца.
Привратник не трогался с места.
— Ступай же! — повторил Жавер. И добавил: — Завтра тут будут похороны.
Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям, с этого начинаются попечение и надзор; любой случайности было отведено определенное место; возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порознь, судя по обстоятельствам; на улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны.
Привратник ограничился тем, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту, Николетта разбудила тетушку Жильнорман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше.
Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей г-на Жильнормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам.
Привратник глядел им вслед с тем же сонным испуганным видом, с каким встретил их появление.
Они снова сели в фиакр, а извозчик взобрался на козлы.
— Надзиратель Жавер, — сказал Жан Вальжан, — окажите мне еще одну милость.
— Какую? — сурово спросил Жавер.
— Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной что хотите.
Жавер помолчал несколько мгновений, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты.
— Извозчик, — сказал он, — на улицу Вооруженного человека, номер семь.
Глава 11
Потрясение незыблемых основ
За все время пути они больше не раскрывали рта.
Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело: предупредить Козетту, сообщить ей, где находится Мариус, дать ей, быть может, другие полезные указания, сделать, если успеет, последние распоряжения. Что же до него, до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардье, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет; но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, мы подчеркиваем это, вызывало в Жане Вальжане глубокий религиозный протест.
Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось невозможным Жану Вальжану.
В самом начале улицы Вооруженного человека фиакр остановился, так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую.
Извозчик смиренно просил господина надзирателя обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты был весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил господина надзирателя сделать ему милость и написать там «какую ни на есть аттестацию, хоть самую пустячную».
Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик, и спросил:
— Сколько тебе следует, считая за проезд и простой?
— Теперь уж четверть восьмого, — отвечал кучер, — да и бархат мой был новехонький. Восемьдесят франков, господин инспектор.
Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр.
Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается пешком отвести его на караульный пост улицы Белых мантий или Архива, находившихся совсем рядом.
Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном. Они поравнялись с домом номер 7. Жан Вальжан постучался. Дверь отворилась.
— Хорошо, — сказал Жавер. — Входите.
Он прибавил с каким-то странным выражением, точно делая над собой усилие, произнося эти слова:
— Я подожду вас здесь.
Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был далеко не в привычках Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, чтобы вонзить в нее затем когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника, который дернул шнурок, не вставая с постели. Потом поднялся по лестнице.
Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки. Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно это выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение.
Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли просто безотчетно, высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю целиком. Жан Вальжан остолбенел от изумления: на улице никого не было.
Жавер ушел.
Глава 12
Дед
Баск и привратник перенесли в гостиную диван, на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Сразу послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жильнорман.
Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала: «Боже милостивый, возможно ли?» Иногда она прибавляла: «Все будет перепачкано кровью!» Когда первое потрясение улеглось, мозг ее оказался способным в некотором роде философски осмыслить создавшееся положение, что выразилось в следующем возгласе: «Этим и должно было кончиться!» Правда, она не дошла до формулы: «Я давно это предсказывала!», обычно изрекаемой в подобных случаях.
По приказанию врача рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, что на груди нет ни одной глубокой раны и что кровь, запекшаяся в углах рта, текла из носовой полости, велел положить его на койку плашмя, без подушки, — голову на одном уровне с туловищем, даже несколько ниже, — и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жильнорман, увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату, где принялась усердно молиться, перебирая четки.
У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений; скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но неглубокую и, следовательно, неопасную. Долгое подземное путешествие довершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами; ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только кожный покров? Или повредили череп? Пока еще определить было невозможно. Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходят в чувство. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой.
Баск и Николетта разрывали белье и готовили бинты; Николетта сшивала их. Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью.
Доктор казался погруженным в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал. Дурной знак для больного — эти таинственные диалоги врача с самим собой!
В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, тихонько касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной отворилась дверь, и появилась высокая белая фигура.
Это был дед.
Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил г-на Жильнормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом, и от усталости наконец задремал.
Сон у стариков чуткий; спальня г-на Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери.
Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка наклонив вперед трясущуюся голову; на нем был белый облегающий тело халат, прямой и гладкий, точно саван; казалось, призрак заглядывает в могилу.
Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, недвижимого.
Старик задрожал с головы до ног; глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели, лицо осунулось и уподобилось черепу, покрывшись землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина, раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись, и распахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами; он прошептал:
— Мариус!
— Сударь, — сказал Баск, — господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там…
— Он умер! — воскликнул старик страшным голосом. — Ах, разбойник!
И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша.
— Сударь, — сказал он, — вы врач. Прежде всего скажите мне одно: он умер, не правда ли?
Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание.
Заломив руки, г-н Жильнорман разразился ужасным смехом:
— Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло! А, кровопийца! Вот как он вернулся ко мне! Горе мне, он умер!
Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему не хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу:
— Исколот, изрублен, зарезан, искромсан, загублен, рассечен на куски! Посмотрите на него — каков негодяй! Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату, что я повесил у изголовья моей постели его детский портрет! Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком и не понимая, что делать! Ты хорошо знал, что тебе стоит только вернуться и сказать: «Вот и я!» — и ты станешь полным хозяином, и я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все, что тебе вздумается с твоим старым растяпой-дедом! Ты это знал и все-таки решил: «Нет, он роялист, я не пойду к нему!» И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства, нарочно, чтобы отомстить за мои слова о его светлости герцоге Беррийском! Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте-ка спать спокойно! Он умер. Вот оно, мое пробуждение.
Доктор, который начал тревожиться уже за обоих, покинул на минуту Мариуса, подошел к г-ну Жильнорману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес:
— Благодарю вас, сударь. Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика Шестнадцатого, я умею переносить испытания. Но вот что особенно ужасно — это мысль, что все зло наделали ваши газеты. Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения, прогресс, просвещение, права человека, свобода печати, — но вот в каком виде принесут вам домой ваших детей! Ах, Мариус, это чудовищно! Убит! Умер раньше меня! На баррикаде! Ах, бандит! Доктор, вы, кажется, живете в нашем квартале? О, я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердятся. Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке Тюильри с лопаткой и тележкой, и, чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо заравнивал тростью все ямки, которые он выкапывал в песке своей лопаточкой. И вот однажды он крикнул: «Долой Людовика Восемнадцатого!» — и ушел из дому. Это не моя вина. Он был такой розовый, такой белокурый. Мать его умерла. Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? Отчего это бывает? Он сын одного из этих луарских разбойников, но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву Д. Он щебетал так нежно и так непонятно, точно птенчик. Помню, как однажды, возле статуи Геркулеса Фарнезского, все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош! Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью, но он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестней этого ребенка. После этого что вы мне можете сказать о всех ваших Лафайетах, Бенжаменах Констанах, о Тиркюи де Корселях, о всех тех, кто отнял его у меня? Это вам даром не пройдет!
Он приблизился к мертвенно-бледному, безжизненному Мариусу, возле которого хлопотал врач, и снова принялся ломать руки. Бескровные губы его шевелились как бы непроизвольно, и из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова:
— Ах, бессердечный! Ах, якобинец! Ах, злодей! Ах, разбойник!
Умирающий еле слышным голосом упрекал мертвеца. Внутренние потрясения в конце концов неизбежно проявляются вовне, и речь деда мало-помалу снова стала связной, но у того уже не хватало сил произносить слова; голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти.
— Мне все равно, я и сам скоро умру. Подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, что не была бы рада составить счастье этого негодника! Бессовестный, вместо того чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями как дурак! И было бы за что! За Республику! Вместо того чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям! Ведь ему только двадцать лет! Республика, что за чертова чепуха! Бедные матери, рожайте после этого красивых мальчиков! Говорят вам, он умер. Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, этому генералу Ламарку? Этому рубаке, этому болтуну? Пошел на смерть ради покойника! Есть от чего с ума сойти! Поймите! Двадцать лет от роду! И даже не оглянулся на то, что осталось позади! И вот теперь бедному старику приходится умирать в одиночестве. Подыхай в своем углу, старый филин! Ну что ж, пожалуй, так лучше, именно этого я и хотел, это убьет меня сразу. Я слишком стар, мне сто лет, мне сто тысяч лет, я уже давным-давно имею право умереть. Этот удар и доконает меня. Значит, все кончено. Какое счастье! Зачем давать ему нюхать нашатырь и пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы лекарь! Будет вам, он же умер, умер по-настоящему. Уж я-то понимаю в этом толк, я тоже мертвец. Он довел дело до конца. Подлое, подлое, подлое время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, ваших системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодяях-писателях, прощелыгах-философах, о всех этих революциях, которые целых шестьдесят лет только распугивают ворон в Тюильри! И если ты был настолько безжалостен, что погубил себя таким образом, то и поделом, я и горевать о тебе не стану, слышишь ли ты, убийца!
В эту минуту веки Мариуса медленно раскрылись, и его взгляд, еще затуманенный летаргией, с удивлением остановился на г-не Жильнормане.
— Мариус! — вскричал старик. — Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив, благодарю тебя!
И он упал без чувств.
Книга IV Жавер сбился с пути
Медленным шагом Жавер удалился с улицы Вооруженного человека.
Впервые в жизни он шел, опустив голову, и также впервые в жизни — заложив руки за спину.
До этого дня из двух поз Наполеона Жавер заимствовал только ту, что выражает уверенность, — руки, скрещенные на груди; поза, выражающая нерешительность — руки за спиной, — была ему незнакома. Но теперь произошел перелом; вся его медлительная и угрюмая фигура носила отпечаток душевной тревоги.
Он углубился во тьму уснувших улиц.
Однако его путь лежал в определенном направлении.
Свернув кратчайшей дорогой к Сене, он вышел на набережную Вязов, пошел вдоль берега, миновал Гревскую площадь и остановился на углу моста Богоматери, не доходя караульного поста на площади Шатле. В этом месте, огороженная мостами Богоматери и Менял, а с боков набережными Сыромятной и Цветочной, Сена образует нечто вроде квадратного озера с быстриной посредине.
Лодочники избегают этого участка Сены. Ничего нет опаснее ее быстрины, которая в те времена еще была зажата здесь с боков и гневно бурлила между сваями мельницы, выстроенной на мосту и впоследствии разрушенной. Два моста, расположенные на таком близком расстоянии, еще увеличивают опасность, так как вода со страшной силой устремляется под их арки. Она катится туда широкими бурными потоками, клокочет и вздымается; волны яростно набрасываются на мостовые быки, словно стараясь вырвать их с корнем мощными водяными канатами. Упавший туда человек уже не всплывет на поверхность, даже лучшие пловцы здесь тонут.
Жавер облокотился на парапет, подперев обеими руками подбородок, и задумался, машинально запустив пальцы в свои густые бакенбарды.
В его душе произошел перелом, переворот, катастрофа, ему было о чем подумать.
Вот уже несколько часов, как он перестал себя понимать. Он был в смятении; ум его, столь ясный в своей слепоте, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился. Жавер чувствовал, что понятие долга раздвоилось в его сознании, и не мог скрыть этого от себя. Когда он так неожиданно встретил на берегу Сены Жана Вальжана, в нем проснулся инстинкт волка, наконец схватившего добычу, и вместе с тем инстинкт собаки, которая вновь нашла своего хозяина.
Он видел перед собою два пути, одинаково прямых, но их было два; это ужасало его, так как всю жизнь он следовал только по одной прямой линии. И, что особенно мучительно, оба пути были противоположны. Каждая из этих прямых линий исключала другую. Которая же из двух правильна?
Положение его было невыразимо трудным.
Быть обязанным жизнью преступнику, признать этот долг и возвратить его; наперекор себе самому стать на одну доску с закоренелым злодеем, отплатить ему услугой за услугу; дойти до того, чтобы сказать себе: «Уходи!», а ему: «Ты свободен!»; пожертвовать долгом, этой общей для всех обязанностью, ради побуждений личных, и вместе с тем чувствовать за этими личными побуждениями некий столь же общеобязательный, а может быть, и высший закон; предать общество, чтобы остаться верным своей совести! Надо же, чтобы все эти нелепости произошли на самом деле и свалились именно на него! Вот что его доконало.
Случилось нечто неслыханное, удивившее его: Жан Вальжан его пощадил; но случилось и другое, что окончательно его сразило: он сам, Жавер, пощадил Жана Вальжана.
До чего же он дошел? Он старался понять и не узнавал самого себя.
Что теперь делать? Выдать Жана Вальжана было дурно; оставить Жана Вальжана на свободе тоже было дурно. В первом случае представитель власти падал ниже последнего каторжника; во втором — колодник возвышался над законом и попирал его ногами. В обоих случаях обесчещенным оказывался он, Жавер. Что бы он ни решил, исход один — конец. В судьбе человека встречаются отвесные кручи, откуда не спастись, откуда вся жизнь кажется глубокой пропастью. Жавер стоял на краю такого обрыва.
Особенно угнетала его необходимость размышлять. Жестокая борьба противоречивых чувств принуждала его к этому. Мыслить было для него непривычно и необыкновенно мучительно.
В мыслях всегда кроется известная доля тайной крамолы, и его раздражало, что он не уберегся от этого.
Любая мысль, выходящая за пределы узкого круга его обязанностей, при всех обстоятельствах представилась бы ему бесполезной и утомительной; но думать о событиях истекшего дня казалось ему пыткой. Однако после стольких потрясений было необходимо заглянуть в свою совесть и отдать себе отчет о самом себе.
Он трепетал перед тем, что сделал. Он, Жавер, вопреки всем полицейским правилам, всем политическим и юридическим установлениям, вопреки всему кодексу законов, счел возможным отпустить преступника на свободу; так ему заблагорассудилось; он подменил своими личными интересами интересы общества. Ведь это неслыханно! Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия поступку, он содрогался с головы до ног. На что решиться? Ему оставалось одно: не теряя времени вернуться на улицу Вооруженного человека и взять под стражу Жана Вальжана. Конечно, следовало поступить только так. Но он не мог.
Что-то преграждало ему путь в ту сторону.
Но что же? Что именно? Разве существует на свете что-нибудь, кроме судов, судебных приставов, полиции и властей? Жавер был потрясен.
Каторжник, личность которого неприкосновенна! Арестант, неуловимый для полиции! И все это благодаря Жаверу!
Разве не ужасно то, что Жавер и Жан Вальжан, два человека, целиком принадлежащие закону и созданные один, чтобы карать, другой, чтобы терпеть кару, вдруг оба дошли до того, что попрали закон?
Как же так? Неужели могут произойти столь чудовищные вещи и никто не будет наказан? Неужели Жан Вальжан оказался сильнее всего общественного порядка и останется на свободе, а он, Жавер, будет по-прежнему получать жалованье от казны?
Его раздумье становилось все более мрачным.
Он мог бы среди всех этих размышлений упрекнуть себя еще и за бунтовщика, которого доставил на улицу Сестер страстей господних; но он даже не думал о нем. Мелкий проступок затмевала более тяжкая вина. Кроме того, бунтовщик, несомненно, был мертв, а со смертью, согласно закону, прекращается и преследование.
Жан Вальжан — вот тяжкий груз, давивший на его мозг.
Жан Вальжан сбивал его с толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном вставал образ господина Мадлена, и оба эти лица, наплывая друг на друга, сливались в одно, светлое и благородное. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто отвратительное — преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой. Как он ни противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное благородство отверженного. Это было нестерпимо.
Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает того, кто оскорбил его, — преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете.
Дальше так продолжаться не могло.
Правда, и мы настаиваем на этом, Жавер не без борьбы отдался во власть чудовищу, нечестивому ангелу, презренному герою, который вызывал в нем почти в равной мере и негодование, и восхищение. Когда он ехал в карете один на один с Жаном Вальжаном, сколько раз в нем возмущался и рычал тигр законности! Сколько раз его одолевало желание броситься на Жана Вальжана, схватить его и растерзать, иными словами, арестовать! В самом деле, что могло быть проще? Крикнуть, поравнявшись с первым же караульным постом: «Вот беглый каторжник, укрывающийся от правосудия!» Позвать жандармов и заявить: «Он ваш!» Потом уйти, оставить им проклятого злодея и больше ничего не знать, ни во что не вмешиваться. Ведь этот человек — пожизненный пленник закона; пусть закон и распоряжается им, как пожелает. Что может быть справедливее? Все это Жавер говорил себе; более того, он хотел действовать, хотел собственноручно схватить свою жертву, но и тогда и теперь был не в силах это сделать; всякий раз, как его рука судорожно протягивалась к вороту Жана Вальжана, она падала, словно была налита свинцом, а в глубине его сознания звучал голос, странный голос, кричавший ему: «Хорошо. Предай своего спасителя. А затем, как Понтий Пилат, вели принести сосуд с водой и умой свои когти».
Потом его мысли обращались на него самого, и рядом с величавым образом Жана Вальжана он видел себя, Жавера, жалким и униженным.
Его благодетелем был каторжник!
В сущности, с какой стати он разрешил этому человеку подарить ему жизнь? Он имел право быть убитым на баррикаде. Ему следовало воспользоваться этим правом. Он должен был позвать других повстанцев на помощь и насильно заставить их расстрелять себя.
Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. От жезла закона в его руке остались одни лишь обломки. Неведомые раньше сомнения одолевали его. В нем происходил нравственный перелом, некое откровение, глубоко отличное от того правосознания, какое до сей поры служило единственным мерилом его поступков. Оставаться в рамках прежней честности казалось ему недостаточным. Целый рой неожиданных событий обступил его и поработил. Новый мир открылся его душе: благодеяние, принятое и вознагражденное, самоотверженность, милосердие, терпимость, победа жалости над суровостью, доброжелательство, отмена приговора, пощада осужденному, слезы в очах правосудия, некая непостижимая божественная справедливость, противоположная справедливости человеческой. Он видел во мраке грозный восход неведомого духовного солнца; оно ужасало и ослепляло его. Филин был вынужден смотреть глазами орла.
Он говорил себе: значит, правда, что бывают исключения, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все умещается в своде законов, что приходится покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни, и думал с отчаянием, что он и сам был захвачен врасплох.
Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он — неслыханное дело! — только что проявил доброту. Значит, он обесчестил себя.
Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе.
Идеал для Жавера заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок.
Как он дошел до этого? Как все это случилось? Он и сам не мог бы сказать. Он сжимал голову обеими руками, но сколько ни думал, ничего не мог объяснить.
Несомненно, он все время имел намерение передать Жана Вальжана в руки правосудия, чьим пленником был Жан Вальжан и чьим рабом был он, Жавер. Ни на миг не признавался он себе, пока Жан Вальжан находился в его власти, что втайне решил отпустить его. Словно без его ведома, рука его сама собой разжалась и выпустила пленника.
Множество жгучих, мучительных загадок предстало перед ним. Он задавал себе вопросы и отвечал на них, но эти ответы пугали его. Он спрашивал себя: «Когда я попался в лапы этому каторжнику, тому безумцу, которого я безжалостно преследовал, и он мог отомстить мне и даже должен был отомстить, не только из злопамятства, но и ради собственной безопасности, — что же он сделал, даровав мне жизнь и пощадив меня? Исполнил свой долг? Нет. Нечто большее. А я, когда пощадил его, в свою очередь, что я сделал? Выполнил свой долг? Нет. Нечто большее. Следовательно, существует нечто большее, чем выполнение долга?» Здесь он терялся, душевное его равновесие нарушалось; одна чаша весов падала в пропасть, другая взлетала к небу, и та, что была наверху, устрашала Жавера не меньше, чем та, что была внизу. Он вовсе не был ни вольтерьянцем, ни философом, ни неверующим — напротив, чувствовал инстинктивное почтение к официальной религии; тем не менее он рассматривал ее как возвышенный, но несущественный элемент социального целого; установленный порядок был его единственным догматом и вполне его удовлетворял; с тех пор как он стал зрелым человеком и чиновником, он обратил почти все свое религиозное чувство на полицию и был сыщиком, — мы говорим это без малейшей насмешки, но с полной серьезностью, — был, повторяем, сыщиком, как бывают священником. Он знал своего начальника, г-на Жиске, и до сей поры он ни разу не подумал о другом начальнике — о господе боге.
Внезапно осознав этого нового хозяина, бога, он пришел в замешательство.
Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким начальством; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход — подать в отставку.
Но каким образом просить бога об отставке?
Что бы там ни было, он вечно возвращался к тому же факту, который заслонял для него все остальное, — он только что совершил тяжкое преступление. Он не задержал закоренелого злодея, беглого каторжника. Он выпустил острожника на волю. Он украл у представителей закона человека, принадлежавшего им по праву. Он действительно совершил это. Он перестал понимать себя. Он не узнавал себя. Самые причины такого поступка ускользали от него, даже от одной мысли об этом у него кружилась голова. До этой минуты он жил слепой верой, порождающей суровую честность. Теперь он потерял веру, а с нею и честность. Все, чему он поклонялся, разлетелось в прах. Ненавистные истины преследовали его неотвязно. С этих пор надо было стать другим человеком. Он испытывал странные муки, словно с его сознания внезапно сняли катаракту. Он прозрел и увидел то, чего видеть не желал. Он чувствовал себя опустошенным, бесполезным, вырванным из прошлого, уволенным с должности, уничтоженным. В нем умер представитель власти. Его жизнь потеряла всякий смысл.
Какое ужасное состояние — быть растроганным! Быть гранитом и усомниться! Быть изваянием кары, отлитым из одного куска по установленному законом образцу, и вдруг ощутить в бронзовой груди что-то непокорное и безрассудное, почти похожее на сердце! Дойти до того, чтобы отплатить добром за добро, хотя всю жизнь до этого дня внушал себе, что подобное добро есть зло! Быть сторожевым псом — и ластиться к чужому! Быть льдом — и растаять! Быть клещами — и обратиться в живую руку! Почувствовать вдруг, как пальцы разжимаются! Выпустить пойманную добычу — какое страшное падение! Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять! Приходилось признаться самому себе в том, что непогрешимость не безгрешна, что в догмат может вкрасться ошибка, что в своде законов сказано не все, общественный строй несовершенен, власть подвержена колебаниям, нерушимое может разрушиться, судьи такие же люди, как все, закон может обмануться, трибуналы могут ошибиться! На громадном синем стекле небесной тверди зияла трещина.
То, что происходило в душе Жавера, в его прямолинейной совести, можно было сравнить с крушением в Фампу: душа его словно сошла с рельсов, честность, неудержимо мчавшаяся по прямому пути, оказалась разбитой вдребезги, столкнувшись с богом. Разумеется, казалось невероятным, чтобы машинист общественного порядка, кочегар власти, оседлавший слепого железного коня, способного мчаться лишь в одном определенном направлении, мог быть выбит из седла лучом света! Чтобы неизменное, прямое, точное, геометрически правильное, покорное, безукоризненное могло изменить себе! Неужели и для локомотива существует путь в Дамаск?
Бог в человеке, его истинная совесть, которая отвергает совесть ложную, запрещает искре гаснуть, повелевает лучу помнить о солнце, приказывает душе отличать настоящую истину от столкнувшейся с нею мнимой истины, — этот родник человечности, неумолчный голос сердца, это изумительное чудо, самое прекрасное, быть может, из наших внутренних сокровищ, — понимал ли его Жавер? Постигал ли его Жавер? Отдавал ли себе отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что череп его готов расколоться под гнетом непостижимой непреложности.
Он не столько был обращен этим чудом, сколько являлся его жертвой. Он покорился с отчаянием. Он видел во всем этом лишь невыносимую тяжесть жизни. Ему казалось, что отныне дыхание его стеснено навеки.
Чувствовать над собой неведомое было ему непривычно.
Все, что до той поры стояло выше его, представлялось его взору гладкой поверхностью, простой, ровной, прозрачной; в ней не было ничего непонятного, ничего темного; ничего, кроме точного, упорядоченного, согласованного, ясного, отчетливого, определенного, ограниченного, законченного; решительно все было предусмотрено; власть расстилалась перед ним ровной плоскостью, без круч и обрывов; она не вызывала головокружения. Жаверу случалось видеть неведомое только внизу, на дне. Беззаконное, непредвиденное, беспорядочное, провал в хаос, возможность соскользнуть в пропасть — все это являлось уделом низших слоев, бунтовщиков, злодеев, отверженных. Теперь же, упав навзничь, Жавер вдруг пришел в ужас от небывалого зрелища: бездна разверзлась над ним, в вышине.
Что же это такое? Все перевернулось вверх дном; он был окончательно сбит с толку. На что же положиться? Все, во что он верил, рушилось!
Что же случилось? Какой-то отверженный с великодушным сердцем сумел найти в общественном строе уязвимое место? Как же так? Честный служитель закона вдруг оказался принужденным выбирать между двумя преступлениями: отпустить человека — преступление, арестовать его тоже преступление! Значит, в уставе, данном государством чиновнику, не все предусмотрено? Значит, на путях долга могли встретиться тупики? Что же это такое? Неужели так оно и есть? Неужели прежний бандит, согбенный под тяжестью обвинений, мог расправить плечи? Неужели правда на его стороне? Возможно ли этому поверить? Неужели бывают случаи, когда закон, бормоча извинения, должен отступить перед преображенным преступником?
Да, такое чудо произошло! И Жавер сам его видел! И Жавер осязал его! Он не только не мог отрицать его, но сам в нем участвовал. Оно было реальностью. Ужасно, что реальные факты могли дойти до такого уродства.
Если бы факты выполняли свое назначение, они служили бы лишь подтверждением закону; ведь факты посылаются богом. Неужто в наше время и анархия нисходит свыше?
Так, в тоске, в тревожном недоумении, порождающем как бы зрительный обман души, меркло все, что могло бы смягчить и улучшить его состояние, и с этой минуты общество, человечество, вселенная представлялись его глазам в простых и страшных очертаниях. Стало быть, система наказаний, вынесенное решение, непререкаемая сила закона, приговор верховного суда, магистратура, правительство, следствие и карательные меры, официальная мудрость, непогрешимость закона, основы власти, все догматы, на которых зиждется политическая и гражданская безопасность, верховная власть, правосудие, логика закона, устои общества, общепризнанные истины — все это только мусор, груда обломков, хаос! И сам он, Жавер, — блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, провидение в образе ищейки на страже общества, — испепелен и повержен наземь. А над этими развалинами возвышается человек в арестантском колпаке и с сиянием вокруг чела. Вот до какого потрясения основ он дошел; вот какое страшное видение угнетало его душу.
Можно ли это вынести? Нет.
Если все это так, у него отчаянное положение. Остается лишь два выхода. Один — вернуться немедля к Жану Вальжану и заточить беглого каторжника в тюрьму. Другой выход…
Жавер сошел с моста и твердым шагом, на этот раз с высоко поднятой головой, направился к полицейскому посту под фонарем, на углу площади Шатле.
Подойдя, он увидел в окно дежурного сержанта и вошел внутрь. Полицейские узнают друг друга сразу, хотя бы по манере толкнуть дверь в караульное помещение. Жавер назвал себя, показал сержанту свой билет и уселся за столом, где горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, лежали перья и бумага на случай протоколов или для письменных распоряжений ночным караулам.
Такой стол, с неизменным соломенным стулом возле него, по заведенному обычаю, есть на всех полицейских постах; его непременно украшает блюдце самшитового дерева, полное опилок, и картонная коробочка с красными облатками для запечатывания писем; этот стол — низшая ступень судопроизводства. Именно здесь и зарождается судебная литература.
Жавер взял перо и листок бумаги и принялся писать. Вот что он написал:
«Несколько заметок для пользы полицейской службы.
Во-первых: я прошу господина префекта прочесть то, что следует ниже.
Во-вторых: арестанты после допроса разуваются и стоят на полу босиком, пока их обыскивают. Многие, вернувшись в тюрьму, начинают кашлять. Это влечет за собой расходы на больницу.
В-третьих: наблюдение, со сменой агентов на определенных участках, поставлено хорошо; но в особо важных случаях следовало бы, чтобы по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду; если один из них почему-либо ослабит бдительность, другой следит за ним и заступает на его место.
В-четвертых: непонятно, почему в тюрьме Мадлонет особым распоряжением запрещено заключенным иметь стулья, даже за плату.
В-пятых: в тюрьме Мадлонет закусочная отгорожена только двумя перекладинами, что позволяет арестантам касаться руки буфетчицы.
В-шестых: арестанты, именуемые «выкликалами» и вызывающие других арестантов в приемную, требуют по два су с заключенного, чтобы выкрикивать их имена поотчетливее. Это воровство.
В-седьмых: в ткацкой мастерской за каждую спущенную нитку вычитают по десять су с заключенного, что является злоупотреблением со стороны подрядчика, так как холст от этого нисколько не хуже.
В-восьмых: недопустимо, что посетители тюрьмы Форс, направляясь в приемную приюта Св. Марии Египетской, проходят через двор малолетних преступников.
В-девятых: замечено, что жандармы каждый день рассказывают во дворе префектуры о допросах обвиняемых. Неуместно жандарму, который должен быть безупречным, разбалтывать то, что он слышал в кабинете следователя, — это важный проступок.
В-десятых: госпожа Анри — честная женщина и содержит свою закусочную очень чисто; но женщине не годится быть привратницей возле одиночных камер. Это недостойно тюрьмы Консьержери, как образцового учреждения».
Жавер вывел эти строки обычным своим ровным и аккуратным почерком, не пропустив ни одной запятой и громко скрипя пером по бумаге. Внизу, под последней строкой, он подписал:
«Жавер. Надзиратель 1-го класса. Полицейский пост на площади Шатле.
7 июня 1832 года, около часу пополуночи».
Жавер просушил свежие чернила на бумаге, сложил ее в виде письма, запечатал, надписал на обороте: «Донесение для администрации», положил на стол и вышел из комнаты. Застекленная, забранная решеткой дверь захлопнулась за ним.
Он снова пересек по диагонали площадь Шатле, достиг набережной и, возвратившись с точностью автомата на то самое место, какое покинул четверть часа назад, облокотился на ту же плиту парапета, совершенно в той же позе, как прежде. Могло показаться, что он и не трогался с места.
Было совсем темно. Наступил тот час могильной тишины, какой бывает после полуночи. Завеса облаков скрывала звезды. Небо застилала густая зловещая мгла. Ни один огонек не светился в домах квартала Ситэ; прохожих не было, все ближние улицы и набережные казались пустынными; собор Парижской Богоматери и башни Дворца правосудия казались очертаниями самой ночи. Фонарь освещал края перил красноватым светом. Силуэты мостов, возникавшие вдали один позади другого, расплывались в тумане. Река вздулась от дождей.
Место, где облокотился на перила Жавер, как помнит читатель, находилось над самой быстриной Сены, как раз над страшной спиралью водоворота, которая скручивалась и раскручивалась, точно бесконечный винт.
Жавер наклонил голову и заглянул вниз. Все было черно. Ничего нельзя было различить. Слышалось, как бурлила вода, но реки не было видно. По временам в головокружительной глубине вспыхивал, извиваясь, блуждающий огонек, так как даже в самую темную ночь вода обладает способностью ловить свет неизвестно откуда и отражать его искрящимися змейками. Но огонек потухал, и все снова тонуло во мгле. Чудилось, там разверзалась сама бесконечность. Внизу была не вода, а бездна. Отвесная темная стена набережной, сливаясь с туманом и пропадая во тьме, представлялась крутым обрывом в эту бесконечность.
Ничего не было видно, но тянуло студеным холодом воды и слабым запахом сырых камней. В глубине слышалось грозное дыхание бездны. Вздувшаяся река, которую скорее можно было угадать, чем увидеть, трагический рокот волн, унылая громада мостовых арок, манящая глубь черной пустоты, — весь этот мрак наводил ужас.
Несколько мгновений Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в эти отверстые врата ночи; он вглядывался в невидимое пристально, с упорным вниманием. Шумела вода. Вдруг он снял шляпу и положил ее на перила. Минуту спустя высокая черная тень, которую запоздалый прохожий мог бы издали принять за привидение, поднялась во весь рост на парапете, наклонилась над Сеной, затем выпрямилась и упала прямо во тьму; раздался глухой всплеск, и одна только ночь видела, как билась в судорогах эта темная фигура, исчезая под водой.
Книга V Дед и внук
Глава 1
Где читатель снова видит дерево с цинковым кольцом
Некоторое время спустя после описанных нами событий достойному Башке пришлось испытать сильное волнение.
Достойный Башка — тот самый шоссейный рабочий из Монфермейля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести.
Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обуревала одна мечта: он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермейльском лесу. Он надеялся в один прекрасный день где-нибудь под деревом найти в земле клад; в ожидании этого он не прочь был пошарить в карманах прохожих.
Однако теперь он держался осторожно. Ему только что удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда порок может пригодиться: Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. На основании вполне доказанной его невменяемости в вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок, между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щебень для казны, под наблюдением администрации, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, которое вызволило его из беды.
Что же так сильно взволновало Башку после его возвращения под дерновую кровлю своей землянки? А вот что.
Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место своей работы, возможно, служившее ему и местом засады, Башка заметил в кустарниках человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстояние и предрассветный сумрак, не совсем незнакомым. Башка, правда, пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью, необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком.
— Где, черт возьми, я видел этого человека? — спрашивал он себя.
И ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его памяти.
Тогда Башка, оставив в стороне сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот был явно нездешний. Он откуда-то прибыл. Очевидно, пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермейль в такие часы. Значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни узла. Наверно, из Парижа. Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору? Чего ему тут нужно?
Башка подумал о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый!
Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец исчез в чаще, в предрассветном тумане.
— Черт меня подери, если я его провороню! — воскликнул Башка. — Уж я разыщу молельню этого ханжи. Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря, уж я-то узнаю, в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которой бы я не распутал.
И он схватил свою острую кирку.
— Пригодится, — проворчал он, — и в земле поковырять, и человека ковырнуть.
И как бы связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца, начал пробираться сквозь заросли.
Не успел он сделать и сотни шагов, как разгоравшийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь, — все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился дальше в лес и вышел на какой-то пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный Титира и Башки. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше.
Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека.
Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду.
Незнакомец вышел, или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми деревьями, которую Башка очень хорошо знал, так как приметил там, возле большой кучи известняка, больное каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздями прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называли «прогалиной Бларю». Груда камней, неизвестно для чего предназначенная и лежавшая там еще лет тридцать тому назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время — лучший предлог, чтобы остаться надолго!
С радостной поспешностью Башка слез с дерева, вернее, скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был и пресловутый клад, о котором он так долго мечтал.
Добраться до полянки было вовсе не легким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, чрезвычайно колючие и цепкие в этих местах, надо было потратить целых полчаса. Вот чего Башка не сумел сообразить. Он доверился прямой линии — это вполне допустимый обман зрения, однако он губит многих людей. Чаща, как ни была она непроходима, показалась ему хорошей дорогой.
— Махнем по волчьему проспекту Риволи, — сказал он себе.
Привыкнув ходить окольными путями, Башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик.
Он решительно ринулся в драку с кустарником.
Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан.
На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд.
Наконец минут через сорок он добрался до прогалины Бларю, весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассвирепевший.
На прогалине никого не было.
Башка бросился к груде камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил.
Что же до человека, то он исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся? Угадать было невозможно.
И что поразило его в самое сердце, за кучей камней, у подножия дерева с цинковым кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму.
Яма была пуста.
— Вор проклятый! — закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому.
Глава 2
После войны гражданской Мариус готовится к войне домашней
Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. В течение нескольких недель у него продолжались лихорадка с бредом и довольно серьезные мозговые явления, вызванные скорее сотрясением от ран в голову, чем самими ранами.
Целые ночи напролет он твердил имя Козетты с мрачной настойчивостью горячечного больного, со зловещим упорством умирающего. Величина некоторых ран угрожала очень серьезной опасностью, ибо нагноение широкой раны легко может распространиться и под влиянием известных атмосферных условий привести к смертельным последствиям. Поэтому малейшая перемена погоды, всякая гроза сильно беспокоили доктора. «Главное, чтобы раненый ни в коем случае не волновался», — повторял он. Перевязки были сложным и трудным делом — в то время еще не изобрели способа скреплять липким пластырем повязки и бинты. Николетта изорвала на корпию целую простыню «шириной с потолок», как она выражалась. И лишь с большим трудом, при помощи примочек из хлористого раствора и прижигания ляписом, удалось справиться с гангреной. Пока Мариусу угрожала опасность, убитый горем г-н Жильнорман не отходил от изголовья внука и, подобно Мариусу, был ни жив ни мертв.
Каждый день, а то и по два раза в день почтенный седовласый господин, очень прилично одетый, по описанию привратника, приходил справляться о самочувствии раненого и оставлял толстый пакет корпии для перевязок.
Наконец, 7 сентября, день в день, ровно через четыре месяца после той ужасной ночи, когда умирающего принесли в дом деда, врач объявил, что теперь отвечает за его жизнь. Началось выздоровление. Однако Мариусу предстояло еще месяца два провести полулежа на кушетке из-за осложнений, вызванных переломом ключицы. В подобных случаях обычно остается одна последняя рана, которая не хочет заживать, что бесконечно затягивает перевязки, к великому огорчению больного.
Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли Мариуса от преследования. Во Франции всякий гнев, даже гнев народный, остывает по прошествии полугода. При тогдашнем настроении умов участие в мятежах было явлением до такой степени широко распространенным, что на это поневоле приходилось закрывать глаза.
Добавим, что беспримерный приказ префекта Жиске, предписывавший врачам выдавать раненых полиции, возмутил не только общественное мнение, но в первую очередь самого короля, и для раненых это всеобщее негодование послужило лучшей защитой и охраной; поэтому, за исключением тех, кто был захвачен на поле боя, военные трибуналы не осмелились никого привлекать к ответственности. Таким образом, Мариуса оставили в покое.
Господин Жильнорман прошел через все стадии отчаяния, а затем восторженной радости. Его с большим трудом отговорили проводить возле раненого все ночи напролет; он велел поставить свое большое кресло рядом с постелью Мариуса; он требовал, чтобы дочь употребила на компрессы и бинты самое лучшее белье, какое было в доме. Мадемуазель Жильнорман, как особа рассудительная и умудренная годами, нашла способ припрятать тонкое белье, оставив старика в убеждении, что его приказание исполнено. Г-н Жильнорман и слышать не хотел, будто грубый холст пригоднее для корпии, чем батист, и изношенное полотно лучше нового. Он неизменно присутствовал при перевязках, во время которых девица Жильнорман стыдливо удалялась. «Ай! Ай!» — вскрикивал он, когда при нем отрезали ножницами омертвелую ткань. Трогательно было видеть, как он протягивал раненому чашку с лекарственным питьем своей дрожащей старческой рукой. Он забрасывал доктора вопросами, не замечая того, что постоянно задает одни и те же.
В тот день, когда врач объявил, что Мариус вне опасности, старик совсем обезумел от счастья. На радостях он подарил привратнику три луидора. Вечером в своей спальне он протанцевал гавот, прищелкивая пальцами вместо кастаньет и напевая такую песенку:
Жанна родом из Бордо, Всех пастушек там гнездо. Если Жанну видел раз, Ты увяз. Плут Амур в нее вселился, В глазках Жанны притаился, Там раскинул сеть хитрец Для сердец. Как Диану, я пою Жанну резвую мою. С Жанной век свой коротать — Благодать.После этого г-н Жильнорман преклонил колени на скамеечке, и Баску, который следил за ним через полуоткрытую дверь, ясно послышалось, будто он молится.
До этих пор он никогда не верил в бога.
При каждом новом признаке выздоровления, все более и более несомненного, старец становился все сумасброднее. Он совершал множество беспричинных поступков, ища выхода для своей бурной радости, бегал вверх и вниз по лестницам, сам не зная зачем. Одна из соседок, правда, прехорошенькая, как-то утром была совершенно поражена, получив огромный букет цветов; его прислал г-н Жильнорман. Муж устроил ей сцену ревности. Г-н Жильнорман даже порывался сажать к себе на колени Николетту. Он называл Мариуса «господином бароном». Он кричал: «Да здравствует Республика!»
Каждую минуту он приставал к доктору с вопросом:
«Не правда ли, опасность миновала?» Он смотрел на Мариуса с нежностью бабушки. Он боялся дохнуть, когда того кормили. Он не помнил себя, не считался с собой. Хозяином дома был Мариус; радость старика была похожа на самоотречение, он стал внуком своего внука.
При всей своей ревности это было самое благонравное дитя на свете. Боясь утомить или наскучить выздоравливающему, он становился позади него и молча ему улыбался. Он был доволен, весел, счастлив, обворожителен, он помолодел. Седые волосы придавали его сияющему лицу кроткое величие. Когда радость озаряет лицо, изборожденное морщинами, она достойна преклонения. В улыбке старости есть какой-то отсвет утренней зари.
А Мариус, не противясь перевязкам, равнодушно принимал заботы о себе и был поглощен одной лишь мыслью — о Козетте.
С тех пор как бред и лихорадка прекратились, он больше не произносил ее имени, и могло показаться, будто он перестал о ней думать. На самом же деле он молчал именно потому, что душа его была с нею.
Он не знал, что сталось с Козеттой; все происшедшее на улице Шанврери представлялось ему как в тумане; в его памяти всплывали неясные тени — Эпонина, Гаврош, Мабеф, семья Тенардье, все его товарищи, окутанные зловещим дымом баррикады; странное появление г-на Фошлевана в этой кровавой сече казалось ему загадкой, промелькнувшей сквозь бурю; не понимал он также, почему сам остался в живых, не знал, кто спас его и каким образом, и ничего не мог добиться от окружающих; ему сообщили только, что ночью его привезли в карете на улицу Сестер страстей господних; прошедшее, настоящее, будущее — все превратилось лишь в смутное туманное воспоминание, но среди этой мглы была одна незыблемая точка, четкий и определенный план, нечто твердое, как гранит, одно решение, одно желание — найти Козетту. Мысль о жизни и мысль о Козетте были неотделимы в его сознании. Он положил в своем сердце, что не примет одну без другой, и от всякого, кто пытался бы заставить его жить, — будь то его дед, судьба или самый ад, — он бесповоротно решил требовать возвращения потерянного рая.
Что же до препятствий, то он не скрывал их от себя.
Отметим одно обстоятельство: заботы и ласки деда нисколько не смягчили Мариуса и даже мало растрогали. Во-первых, он знал далеко не все; кроме того, в своем болезненном, быть может, еще лихорадочном, состоянии, он не доверял этим нежностям, как чему-то странному и новому, имеющему цель подкупить его. Он держался холодно. Дед понапрасну расточал ему жалкие старческие улыбки. Мариус внушал себе, что все идет мирно только до поры до времени, пока он молчит и подчиняется; но стоит ему заговорить о Козетте, как дед покажет свое настоящее лицо и сбросит маску. Тогда разразится жестокая буря; снова встанет вопрос о ее семье, о неравенстве общественного положения, посыплется целый град насмешек и упреков, «Фошлеван», «Кашлеван», богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущность. Яростное сопротивление, и в итоге — отказ. Мариус заранее готовился к отпору.
И затем, по мере того как жизнь возвращалась к нему, в его памяти всплывали прежние обиды, раскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, и между внуком и дедом снова становился полковник Понмерси; Мариус говорил себе, что нечего ждать настоящей доброты от человека, который был так жесток и несправедлив к его отцу. И вместе с выздоровлением в нем росла какая-то неприязнь к деду. Старик терпел это с кроткой покорностью.
Господин Жильнорман отметил про себя, что Мариус, с тех пор как его принесли к нему в дом и он пришел в сознание, еще ни разу не назвал его отцом. Правда, он не именовал его также и «сударь», но строил фразы таким образом, что ухитрялся избегать всякого обращения.
Несомненно, назревал кризис.
Как обычно бывает в таких случаях, прежде чем вступить в бой, Мариус испытал себя в мелких стычках. На войне это называется разведкой. Однажды утром г-ну Жильнорману, по поводу попавшейся ему под руку газеты, вздумалось отозваться с пренебрежением о Конвенте и изречь какую-то роялистскую сентенцию насчет Дантона, Сен-Жюста и Робеспьера.
— Люди девяносто третьего года были титанами, — сурово отрезал Мариус.
Старик умолк и до самого вечера не проронил ни слова.
Мариус, который всегда помнил непреклонного деда своих детских лет, счел это молчание за глубокий сдержанный гнев и, предвидя ожесточенную борьбу, тем упорнее начал мысленно готовиться к предстоящему сражению.
Он твердо решил, что в случае отказа сорвет все повязки, чем повредит сломанной ключице, обнажит и разбередит не совсем еще зажившие раны и откажется от всякой пищи. Его раны были его оружием. Завоевать Козетту или умереть.
Он стал выжидать благоприятной минуты с угрюмым терпением больного.
Эта минута наступила.
Глава 3
Мариус идет на приступ
Однажды г-н Жильнорман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал ему самым ласковым своим тоном:
— Знаешь, мой мальчик, на твоем месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу. Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета.
Мариус, силы которого почти совсем восстановились, собрался с духом, сел на своем ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом:
— По этому поводу я должен вам кое-что сказать.
— Что же такое?
— Дело в том, что я намерен жениться.
— Это уже предусмотрено, — отвечал дедушка, разражаясь хохотом.
— Как предусмотрено?
— Так, предусмотрено. Девчурка будет твоей.
Мариус задрожал от радости. Господин Жильнорман продолжал:
— Ну да, бери ее, свою прелестную милую девочку. Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоем здоровье. С тех пор как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет корпию. Я наводил справки. Она живет на улице Вооруженного человека, номер семь. Ага, вот мы и договорились! Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался, голубчик! Ты задумал целый заговор, ты говорил себе: «Я все объявлю напрямик деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта; и у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои гризетки, свои Козетты; и он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны; хочет не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда. Дадим бой!» Ах, ты решил взять быка за рога! Хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку, а ты отвечаешь: «Да, кстати, я хочу жениться». Ну и переход! Ага, ты ожидал перепалки? Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Ты взбешен. Ты никак не ожидал, что твой дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат, как досадно! Тем лучше, бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай. Я наводил справки, ведь я тоже себе на уме; она очаровательна, она благонравна, про улана — все враки; она нащипала целую кучу корпии, это настоящее сокровище, и она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих, ее гроб несли бы вслед за моим. С тех пор как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить ее у твоего изголовья; но ведь только в романах девиц так вот, без церемоний, приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин? Да и что сказал бы доктор? Красивая девица — уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно, не будем больше говорить об этом: все сказано, сделано, кончено, бери ее. Вот какой я изверг! Я чувствовал, видишь ли, что ты меня невзлюбил, и я сказал себе: «Что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова?» И подумал: «Стой-ка, у меня ведь есть под рукой крошка Козетта, подарю-ка ему ее, авось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился». Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта — согласен; любовь — пожалуйста! Ничего лучшего мне не надо. Женитесь, сударь, сделайте милость. Будь счастлив, милое мое дитя!
С этими словами старик расплакался.
Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди, и оба разразились рыданиями. В этом находит иногда свое выражение высшее счастье.
— Отец! — воскликнул Мариус.
— Ах, значит, ты любишь меня! — прошептал старик.
Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить.
— Ну вот, — пролепетал наконец старик, — разродился-таки! Сказал мне: «отец»!
Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил:
— Отец, но ведь теперь я совсем здоров, я думаю, мне можно с ней повидаться?
— Это тоже предусмотрено, ты увидишь ее завтра.
— Отец!
— Ну что?
— Почему не сегодня?
— Ну что же, не возражаю. Пускай сегодня! Три раза подряд ты назвал меня отцом, это ведь чего-нибудь да стоит. Сейчас я распоряжусь. Тебе ее приведут. Все предусмотрено, говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии «Больной юноша» Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разб… то есть эти гиганты девяносто третьего года.
Господину Жильнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так некстати упомянул Андре Шенье, дедушка тотчас спохватился:
— Зарезали — не то слово. Дело в том, что великие гении революции, которые, бесспорно, никакие не злодеи, а, честное мое слово, истинные герои… нашли, что Андре Шенье немного мешает им и решили его гильотин… Вернее сказать, эти великие люди, в интересах общественного блага, седьмого термидора предложили Андре Шенье отправиться ко всем…
Поперхнувшись собственными словами, г-н Жильнорман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и, пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собою дверь, и, весь красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами, налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо:
— Тысяча чертей, эти разбойники укокошили его?
— Кого, сударь?
— Андре Шенье.
— Так точно, сударь, — ответил перепуганный Баск.
Глава 4
Мадемуазель Жильнорман в конце концов примиряется с тем, что Фошлеван вошел с пакетом под мышкой
Козетта и Мариус наконец свиделись.
Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться изобразить, в том числе солнце.
В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска с Николеттой.
Она появилась на пороге; казалось, ее окружало сияние.
Как раз в это время дедушка собирался сморкаться; он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту исподлобья.
— Обворожительна! — воскликнул он.
И оглушительно высморкался.
Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнея, то краснея, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она стыдилась выразить свою любовь при всех. Мы безжалостны к счастливым влюбленным: мы торчим рядом, когда им больше всего хочется остаться наедине. Ведь, в сущности, им никого не нужно.
Вместе с Козеттой, держась позади нее, в комнату вошел серьезный седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был «господин Фошлеван», то был Жан Вальжан.
Он был «очень прилично одет», как и говорил привратник, — во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее.
Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью, оборванный, черный, ужасный, дикий, с лицом, испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мариуса; тем не менее что-то в нем пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог удержаться, чтобы тихонько не поделиться с женой: «Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо».
В спальне Мариуса г-н Фошлеван стоял в сторонке, у двери. Он держал под мышкой какой-то пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета и казалась покрытой плесенью.
— Этот господин всегда таскает книги под мышкой? — шепотом спросила у Николетты девица Жильнорман, которая терпеть не могла книг.
— Что ж тут такого? — возразил г-н Жильнорман тоже шепотом. — Это ученый. Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант.
И, приветствуя гостя, проговорил уже громко:
— Господин Кашлеван…
Старый Жильнорман сделал это ненарочно, просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии.
— Господин Кашлеван, имею честь просить у вас руки мадемуазель для моего внука, барона Мариуса Понмерси.
«Господин Кашлеван» поклонился.
— По рукам, — заключил дед.
И, повернувшись к Мариусу и Козетте, он воздел обе руки для благословения и воскликнул:
— Отныне можете обожать друг друга.
Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя! Началось воркованье. Они разговаривали вполголоса — Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него.
— О господи, — шептала Козетта, — наконец-то я вас вижу. Это ты! Это вы! Подумать только, идти туда сражаться! Зачем же? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала со страху. О, как жестоко было с вашей стороны пойти в бой! Что я вам сделала? Я прощаю вам, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала! Я даже не успела приодеться, должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же! Все время говорю только я одна. Мы по-прежнему живем на улице Вооруженного человека. С вашим плечом, кажется, было ужас что такое? Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала. Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так, не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице Вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните-ка, сударь, я натерла мозоль на пальце, это по вашей вине.
— Ангел! — прошептал Мариус.
«Ангел» — единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные.
Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, только тихонько пожимали друг другу руки.
Повернувшись ко всем находящимся в комнате, г-н Жильнорман крикнул:
— Да говорите же громче, эй вы, публика! Шумите, изображайте гром за сценой. Ну же, погалдите немножко, черт возьми, дайте же детям поболтать всласть!
И, подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько:
— Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь.
Тетушка Жильнорман растерянно взирала на этот луч света, внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим и завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятисемилетней старой девы; то неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви.
— Девица Жильнорман-старшая, — сказал ей отец, — я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь.
Он помолчал с минуту и добавил:
— Любуйся теперь чужим счастьем.
Потом он повернулся к Козетте:
— До чего же она красива! До чего красива! Настоящий Грез! И все это достанется тебе одному, повеса! Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло! Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. Слушайте, я просто влюблен в вас, мадемуазель! В этом нет ничего удивительного. Ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадебка у нас будет! Наш приход — это Сен-Дени, но я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе Сен-Поль. Там церковь лучше. Она построена иезуитами. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Бирага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я всецело на вашей стороне, мадемуазель, я хочу, чтобы девушки выходили замуж, для того они и созданы. Пусть все юные девы идут по стопам праматери Евы — вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но жить холодно! В Библии сказано: «Размножайтесь». Чтобы спасать народы, нужна Жанна д’Арк, но чтобы плодить народы, нужна матушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы! Право, не понимаю, зачем оставаться в девушках? Я знаю, у них отдельные молельни в церквах и они утешаются сознанием своей принадлежности к общинам Святой Девы; но, черт побери, все-таки красивый муж, славный парень, а через год толстенький белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках, который весело сосет грудь, теребит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря, — это гораздо лучше, чем торчать у вечерни с церковной свечой и распевать Turris eburnea.
Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачастил с быстротой развертывающейся пружины:
Твоих мечтаний круг я замыкаю так: Алкипп, поистине ты скоро вступишь в брак!— Да, кстати!
— Что, отец?
— У тебя был, кажется, закадычный друг?
— Да, Курфейрак.
— Что с ним сталось?
— Он умер.
— Это хорошо.
Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках.
— Она восхитительна, прелестна. Она просто совершенство, эта самая Козетта! Настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой, это недостойно ее: она рождена маркизой. Одни ресницы чего стоят! Дети мои, зарубите себе на носу, что вы на правильном пути. Любите друг друга. Глупейте от любви. Любовь — это глупость человеческая и мудрость божия. Обожайте друг друга. Но какое несчастье! — добавил он, вдруг помрачнев. — Я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте; пока я жив, на нас хватит, но после моей смерти, лет эдак через двадцать, у вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке.
В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос:
— У мадемуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков.
Это был голос Жана Вальжана.
До сих пор он не произнес ни слова; никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей.
— О какой это мадемуазель Эфрави идет речь? — спросил озадаченный дед.
— Это я, — сказала Козетта.
— Шестьсот тысяч франков? — переспросил г-н Жильнорман.
— На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может, — уточнил Жан Вальжан.
И он выложил на стол пакет, который тетушка Жильнорман приняла было за книгу.
Жан Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятьсот. Итого пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.
— Ай да книга! — воскликнул г-н Жильнорман.
— Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — прошептала тетушка.
— Это улаживает многие затруднения, не так ли, мадемуазель Жильнорман-старшая? — заговорил дед. — Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу! Верьте после этого любовным увлечениям молодых людей! Студенты находят возлюбленных с приданым в шестьсот тысяч франков. Керубино работает лучше Ротшильда.
— Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — бормотала вполголоса мадемуазель Жильнорман. — Пятьсот восемьдесят четыре! Почти что шестьсот тысяч, каково!
А Мариус и Козетта в это время глядели друг на друга и едва обратили внимание на такую мелочь.
Глава 5
Лучше поместить капитал в любом лесу, чем у любого нотариуса
Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанматье, за несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, нажитый им под именем господина Мадлена в Монрейле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным, — а это действительно и случилось вскоре, — он спрятал и закопал эти деньги в Монфермейльском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма — шестьсот тридцать тысяч франков, целиком в банковых билетах, — была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке; однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище — подсвечники епископа! Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в одном ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними; и это опять-таки его видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство один заступ.
На самом деле сумма составляла пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Жан Вальжан отложил пятьсот франков для себя. «Там видно будет», — подумал он.
Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась расходами за десять лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков.
Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели, к величайшему восхищению Тусен.
Заметим, кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, и он нашел тому подтверждение в газете «Монитер», опубликовавшей это происшествие, что полицейский надзиратель по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым и что записка, которую оставил этот человек, до тех пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийство. «В самом деле, — подумал Жан Вальжан, — если могло случиться, что, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он уже был не в своем уме».
Глава 6
Оба старика, каждый на свой лад, прилагают все старания, чтобы Козетта была счастлива
Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья.
Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой.
— Очаровательница! Красотка! — восклицал он. — И такая нежная, такая кроткая! Спору нет, клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама Грация, право! С таким созданием надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя, брось сутяжничать!
Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был слишком внезапным и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем.
— Ты что-нибудь тут понимаешь? — спрашивал Мариус у Козетты.
— Нет, — отвечала Козетта. — Но мне кажется, что сам господь смотрит на нас с высоты.
Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем договорился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с тою же радостью, как сама Козетта.
Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному, — вопрос о гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении? Как знать, это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту от всех трудностей. Он изобрел ей родню из покойников — верный способ избежать всяких разоблачений. Козетта оказалась последним отпрыском угасшего рода; Козетта не его дочь, а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь; оттуда были получены наилучшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахини, мало смыслящие и мало склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана; они никогда хорошенько не знали, кому именно из двух Фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили, и очень охотно, то, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадемуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты, а г-н Жильнорман был назначен ее вторым опекуном.
Что касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло пятьсот девяносто четыре тысячи франков; но десять тысяч франков были истрачены на воспитание мадемуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков уплачены в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона с лишком. Правда, здесь имелись кое-какие странности, но на них никто не обратил внимания; одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, другим — шестьсот тысяч франков.
Козетта узнала, что она неродная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец — другой Фошлеван. Во всякое другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе, но в те несказанно счастливые минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью омрачило ее душу; вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают, — такова жизнь.
Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к окружавшим ее загадкам; всякое существо, чье детство окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям.
Однако она по-прежнему называла Жана Вальжана отцом. Козетта, на седьмом небе от счастья, была в восторге от старого Жильнормана. И действительно, тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение и закрепить за ней ее состояние, г-н Жильнорман хлопотал о ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся ему еще от его собственной бабки. «Моды возрождаются, — говорил он, — теперь все помешаны на старинных вещах, и я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего детства».
Он опустошал почтенные толстобокие комоды лакированного коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек, — приговаривал он, — посмотрим-ка, чем они полны». Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек. Китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турского шелка, индийские платки, вышитые золотом, не тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица, и с изнанки, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен тончайшей работы, наряды, ленты — всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, в упоении любви к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старого Жильнормана, грезила о безграничном счастье среди бархата и атласа. Козетте чудилось, что свадебную корзинку подносят ей серафимы. Душа ее воспаряла в небеса на крыльях из тончайших кружев.
Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице Сестер страстей господних неумолчно звенели трубы.
Каждое утро дедушка подносил Козетте старинные безделушки. Всевозможные украшения сыпались на нее, как из рога изобилия.
Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу:
— Деятели революции настолько велики, что уже в наши дни овеяны обаянием древности, подобно Катону или Фокиону; они приводят на память мемуары античных времен.
— Мемуары антич… Муар-антик! — воскликнул дедушка. — Вот спасибо, Мариус, надоумил; это как раз то, что мне нужно.
И наутро к свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы.
Дед извлекал из своих тряпок целую философию:
— Любовь — само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье — это лишь самое необходимое. Сдобрите же его излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее сердце и Лувр вдобавок. Ее сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но, если можно, обратите ее в герцогиню. Приведите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш, с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш, я не прочь и от волшебных палат из мрамора и золота. Счастье всухомятку похоже на черствый хлеб. Им можно закусить, но нельзя пообедать. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помню, мне довелось видеть на Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее, удостаивали обозначать время, но казались созданными совсем не для этого; отзвонив полдень или полночь, полдень — час солнца, полночь — час любви, или любой другой час суток на выбор, они показывали вам месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу, и уйму разных разностей, которые появлялись из ниши; тут были и двенадцать апостолов, и император Карл Пятый, и Эпонина, и Сабин, а сверх всего прочего целая орава золоченых человечков, игравших на трубах. Я уже не говорю о чудесном перезвоне, которым то и дело они оглашали воздух неизвестно по какому поводу. Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напросто отсчитывает минуты? Я стою за огромные страсбургские часы, я предпочитаю их швейцарским часам.
Господин Жильнорман особенно любил разглагольствовать по поводу самой свадьбы, и в его славословиях возникали, словно в зеркале, все тени восемнадцатого века вперемешку.
— Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднества! — восклицал он. — Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они, мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, «пристраиваются»: хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и коленкор. Дорогу им, дорогу! Достопочтенный Скаред женится на девице Сквалыге. Блеск и великолепие! К свечке прилепили настоящую золотую монету! Вот так эпоха! Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году я предсказывал, что все погибло, в тот самый день как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субиз, виконт Туарский, пэр Франции, ехал на скачки в Лоншан в двуколке! И это принесло свои плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги — и все до одного скряги. Они холят, и лелеют себя, и наводят на себя блеск: они одеты с иголочки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, причесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризненны, отполированы, как камешек, этакие разумники, этакие чистюли, и в то же время, — ей-же-ей! — в глубине их совести такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. «Нечистоплотная опрятность» — вот какой девиз я жалую вашей эпохе. Не сердись, Мариус, позволь мне отвести душу; как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сыт им по горло, но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы. Кого люблю, того и бью. Засим скажем прямо: хоть нынче и женятся, но жениться-то не умеют. Ах, право же, я грущу о милых старых нравах! Я грущу обо всем. Ах, где прежнее изящество, рыцарство, это милое учтивое обхождение, всем доступная, веселящая душу роскошь, эта музыка — непременная участница всякой свадьбы: оркестр у знати, трескотня барабанов у народа, — танцы, веселые лица за столом, изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, чистосердечный смех, дым коромыслом, пышные банты из лент? Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной — двоюродная сестра пояса Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт возьми! Почему идет бой, почему Диомед богоравный раскокал на голове Мериюнея громадный медный шлем о десяти остриях, почему Ахилл и Гектор угощают друг друга могучими ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую «Илиаду» из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Друзья мои, в старое время, в наше доброе старое время люди женились с толком: сначала заключали контракт по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, на сцену выступал Камачо. Какого черта! Желудок, славная скотина, требует своего, он тоже хочет покутить на свадьбе! Пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с весьма умеренно прикрытой грудью! Ах, как громко смеялись, ах, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов, каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз; будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориана. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз походил на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящи, вылощенны, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы — и это не мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха «Галантной Индии». Одной из черт нашего века было изящество, другой — великолепие; ну и забавлялись же мы, разрази меня бог! Зато нынче вы чопорны до невозможности. Буржуа скуп, буржуазка жеманна. Экий злосчастный век! Сейчас изгнали бы самих Граций за то, что они слишком декольтированы. Увы! теперь скрывают красоту, словно какое-то уродство. После революции все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы; любая уличная плясунья корчит недотрогу; ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными. Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстуке. Всякий двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женясь, походить на господина Руайе-Коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? К ничтожеству. Запомните — радость не только радостное, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дери! Коли жениться, так уж жениться очертя голову, в упоении счастья, с треском и блеском! Храните серьезность в церкви — согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям! Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп, ну хоть на один-то день! Будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сильфами, гениями Игр и Смеха, аргираспидами, а вы просто сопляки! Друзья мои, каждый новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унестись на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы наутро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушечье болото. Не скаредничайте на празднике Гименея, не подрезайте его роскошных крыльев, не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу — это ведь не расходы на хозяйство. О, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как это было бы изысканно!.. Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазурь и серебро — вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриад и нереид. Свадьба Амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные и совершенно обнаженные нимфы, ученый академик, подносящий богине четверостишие, морские чудовища, впряженные в колесницу.
Тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался, И каждый был пленен, и каждый восхищался!Вот это программа празднества! Ай да программа, или я ни черта не понимаю, провалиться мне на этом месте!
Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помехи.
Тетушка Жильнорман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений: Мариус вернулся, Мариуса принесли окровавленным, Мариуса принесли с баррикады, Мариус умер, нет, жив, Мариус примирился с дедом, Мариус помолвлен, Мариус женится на бесприданнице, Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков доконали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала Ave[627] в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали I love you[628], и Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом же деле тенью была она сама.
Существует особый род бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и оцепенелая, чуждая всему, что можно назвать жизненной деятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. «Такое благочестие, — говаривал дочери старый Жильнорман, — все равно что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни. Ни ее зловония, ни аромата».
Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с ней, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению, он весь отдался порыву и, став из деспота рабом, руководился одной только мыслью: угодить Мариусу. И он даже не вспомнил ни о существовании тетки, ни о том, что у нее может быть свое мнение; несмотря на всю овечью покорность, она была этим задета. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе: «Отец решает вопрос о браке без меня; ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет. И свое решение на этот счет она хранила про себя. Вполне возможно, что, если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедности. Мой любезный племянник изволит жениться на нищей — тем хуже для него! Пусть остается нищим. Но полмиллиона Козетты понравились тетке и изменили ее позицию по отношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франков бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она не может не оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались.
Было решено, что юная чета поселится у деда. Г-н Жильнорман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. «Я стану от этого моложе, — заявил он. — Это мое давнишнее намерение. Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моей комнате». Он убрал эту спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которой давно хранил у себя и считал утрехтской, с бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. «Этой самой материей, — говорил он, — была задрапирована кровать герцогини Анвильской во дворце Ларош-Гийон». На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора — женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою наготу.
Библиотека г-на Жильнормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу; чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет.
Глава 7
Обрывки страшных снов вперемежку со счастливой явью
Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении г-на Фошлевана. «Где это видано, — ворчала девица Жильнорман, — чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание?» Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился окончательно еще и потому, что кресла в доме на улице Сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но друг с другом не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без г-на Фошлевана. Для Мариуса присутствие г-на Фошлевана являлось необходимым условием свиданий с Козеттой. И он мирился с ним. Рассуждая об улучшении жизни всего человечества и затрагивая в разговоре, слегка и в общих чертах, политические вопросы, им случалось перекинуться несколькими словами, помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнениях и почти разговорились. Мариус заметил при этом, что г-н Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже несколько высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то г-н Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше его.
В глубине души Мариус обращал множество немых вопросов к этому г-ну Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порою он сомневался в собственных воспоминаниях. В его памяти образовался провал, черное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Многое кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя, мог ли он действительно видеть г-на Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде.
Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Не следует думать, что он был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с печалью оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим горизонтам минувшего, не способен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеф, он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи, он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантэр, все его друзья вставали перед ним, как живые, и затем исчезали. Только ли сон все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические? Или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Грозные потрясения вызывают грозные сны. Он спрашивал себя, проверял себя; голова его кружилась от сознания, что эти жизни угасли бесследно. Где же они? Правда ли, что все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы. И бог переходит к следующему акту.
Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым; он, одинокий, обрел семью; он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, что он опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие же остались там, в глубине могилы. В иные минуты все эти тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его кругом и омрачали его дух; тогда он думал о Козетте и снова успокаивался; только это высочайшее счастье и могло изгладить следы катастрофы.
Господин Фошлеван занимал какое-то место в ряду этих погибших. Мариус не решался верить, что Фошлеван с баррикады был тем же Фошлеваном из плоти и крови, который так спокойно сидел рядом с Козеттой. Тот был, вероятно, одним из кошмарных образов, возникавших и таявших в часы бреда. Помимо всего оба они были необщительны по природе; поэтому Мариус не мог и подумать обратиться к г-ну Фошлевану с каким-нибудь вопросом. Ему и в голову это не приходило. Мы уже отмечали раньше эту черту его характера.
Два человека, связанные общей тайной, которые, как бы по молчаливому соглашению, не перемолвятся о ней ни словом, совсем не такая редкость, как может показаться.
Только однажды Мариус решился сделать попытку. Он навел разговор на улицу Шанврери и, повернувшись к г-ну Фошлевану, спросил его:
— Ведь вы хорошо знаете эту улицу?
— Какую?
— Улицу Шанврери.
— Не имею понятия о таком названии, — отвечал Фошлеван самым естественным тоном.
Ответ, который относился, собственно, к названию улицы, а не к самой улице, показался Мариусу более убедительным, чем был на самом деле.
«Положительно, мне это приснилось, — подумал он. — У меня была галлюцинация. Это просто кто-нибудь похожий на него. Господина Фошлевана там не было».
Глава 8
Два человека, которых невозможно разыскать
Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы.
Пока шли приготовления к свадьбе, он, в ожидании назначенного срока, предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому.
Он обязан был двойной признательностью: прежде всего — за отца, затем — за самого себя.
Был где-то Тенардье; был где-то незнакомец, который принес его, Мариуса, в дом г-на Жильнормана.
Мариусу во что бы то ни стало надо было найти этих двух людей. Он не допускал и мысли, что, наслаждаясь счастьем, может забыть о них, и боялся, как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни, отныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам и, прежде чем ступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим.
Пускай Тенардье был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардье мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса.
Не зная о том, что произошло в действительности на поле битвы при Ватерлоо, Мариус не знал, какие странные обстоятельства связывали с Тенардье его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью.
Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардье. С этой стороны, казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардье умерла в тюрьме во время следствия. Сам Тенардье и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули во тьму. Пучина социального Неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что можно опустить туда лот.
Жена Тенардье умерла, Башка был признан непричастным к делу, Звенигрош исчез, главные обвиняемые бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. Дело так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми: один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой — Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда; обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардье как зачинщику и вожаку был вынесен, также заочно, смертный приговор. Приговор — вот единственное, что оставалось от Тенардье и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба.
Однако это осуждение, заставляя Тенардье, из страха быть пойманным, отступать все дальше, на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека.
Розыски же второго незнакомца, того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером 6 июня на улицу Сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он «проторчал» с трех часов пополудни до темноты на набережной Елисейских полей, над отверстием Главного водостока; что часам к девяти вечера решетка клоаки, выходящая на берег реки, отворилась; что оттуда показался человек, неся на плечах другого, по всей видимости, мертвого; что полицейский, который караулил это место, арестовал живого и захватил мертвеца; что по приказу агента он, извозчик, погрузил «всю эту публику» в свой фиакр; что они направились сперва на улицу Сестер страстей господних и высадили там покойника; что этот покойник и есть господин Мариус и что он, извозчик, отлично узнает его, хотя «нынче, спору нет, барин живехонек»; что после этого седоки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше; что, немного не доезжая ворот Архива, они велели ему остановиться; что там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли и что полицейский увел с собой второго человека; а больше он, извозчик, ничего не знает, к тому же ночь была очень темная.
Сам Мариус, как мы уже говорили, ничего не мог восстановить в памяти. Он помнил только, что сильная рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде; после этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя только в доме г-на Жильнормана.
Он терялся в догадках.
Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве. Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то, очевидно, донес его от квартала Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование!
Кто это был? Кто же он?
Тот, кого разыскивал Мариус.
От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего — никакого следа, ни малейших примет.
Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих попытках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и повсюду, наведенные справки не привели ни к какому прояснению. Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки Главного водостока, сведений не поступало; не было никакого полицейского донесения об этом факте, который в префектуре склонны были считать за басню. Авторство такой басни приписывали извозчику. Чтобы получить на водку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве.
Все казалось необъяснимым в этой странной загадке.
Куда делся неизвестный, тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку Главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован караулившим его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика? И что сталось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее поразительным, чем его самоотверженность. Почему он не появлялся? Пусть он не нуждается в вознаграждении, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это был за человек? Каков он был с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил: «Ночь была темная». А перепуганные Баск и Николетта только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, чей фонарь освещал трагическое прибытие Мариуса, заметил выше означенного человека, и вот что он сказал: «Страшно было глядеть на него».
В надежде, что это поможет при поисках, Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска.
Однажды вечером, в присутствии Козетты и Жана Вальжана, Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках и о бесплодности своих усилий. Каменное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул:
— О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства! Знаете ли вы, сударь, что он сделал? Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу битвы, унести меня, открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе! Ему пришлось пройти более полутора лье по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора лье, сударь, с мертвецом на спине! И с какой целью? С единственной целью спасти мертвеца! А этим мертвецом был я. Он говорил себе: «Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни; я рискну своею собственной жизнью ради этой слабой искорки». И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз! И каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клоаки он был арестован. Знаете ли вы, милостивый государь, что тот человек действительно все это сделал? И притом, не ожидая никакого вознаграждения. Кем я был? Повстанцем. Кем я был? Побежденным. О, если бы шестьсот тысяч франков Козетты принадлежали мне…
— Они ваши, — перебил его Жан Вальжан.
— Так вот, — продолжал Мариус, — я отдал бы их все, чтобы разыскать этого человека!
Жан Вальжан не промолвил ни слова.
Книга VI Бессонная ночь
Глава 1
16 февраля 1833 года
Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты.
День прошел восхитительно.
Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка, не волшебная феерия, с херувимами и купидонами, порхающими вперемежку над головами новобрачных, не свадебный пир, достойный быть запечатленным в росписи над дверью, но все же это был радостный и пленительный день.
Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии в высшей степени утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви, прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами «Песни песней». В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным трясти свой рай по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни, вместе с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса.
Во второй половине девятнадцатого века, где мы обретаемся, нам уже недостаточно мэра с его шарфом, священника с его епитрахилью, закона и бога; нам необходимо дополнить их кучером из Лонжюмо, его синей курткой с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляхой на рукаве, кожаными зелеными штанами, его покрикиванием на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивыми галунами, лоснящейся шляпой, пыльными космами, огромным кнутом и ботфортами. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков, в память о Черчилле, впоследствии герцоге Мальборо, — Мальбруке тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не являются еще у нас непременным условием свадебного празднества; но наберитесь терпения, хороший тон продолжает распространяться, скоро мы дойдем и до этого.
В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом.
В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание — праздник семейный и общественный, что патриархальный пир нисколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастью никакого вреда, что, наконец, добропорядочно и достойно, чтобы слияние двух судеб, дающее начало семье, произошло под домашним кровом и чтобы супруги не имели отныне иных свидетелей своей жизни, кроме собственной спальни.
Словом, люди имели бесстыдство жениться дома.
Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме г-на Жильнормана.
Как ни естественно и обычно такое событие, как брак, все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим удалось управиться только к 16 февраля.
Между тем случилось так, — мы отмечаем это обстоятельство из чистого пристрастия к точности, — что 16-е число пришлось на последний день Масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом со стороны тетушки Жильнорман.
— Прощеный день, тем лучше! — воскликнул дед. — Ведь есть даже поговорка:
На масленице брак затей — Послушных народишь детей.Станем выше предрассудков. Назначим на шестнадцатое! Разве ты согласен ждать, скажи-ка, Мариус?
— Разумеется, нет, — отвечал влюбленный.
— Стало быть, повенчаемся! — заключил дед.
Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных, — он виден им одним даже тогда, когда все прочие смертные прячутся под зонтом.
Накануне Жан Вальжан, в присутствии г-на Жильнормана, передал Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.
Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей.
Тусен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив ее в наследство, возвела в ранг горничной.
Что касается Жана Вальжана, то в доме Жильнорманов была выделена и обставлена для него прекрасная комната; Козетта с такой очаровательной настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас», что он почти обещал переселиться туда.
Незадолго до дня свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность: он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного; он никому не позволил ухаживать за собой — ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Г-н Жильнорман в качестве второго опекуна исполнил за него эту обязанность.
Мы не поведем читателей ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко; обычно к любовной драме поворачиваются спиной, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, не замеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы Сестер страстей господних к церкви Сен-Поль.
В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от улицы Королевский парк, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви Сен-Поль прямым путем. Приходилось изменить маршрут, и проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, несомненно, будет большое скопление экипажей. «Почему?» — спросил г-н Жильнорман. «Из-за масок». — «Чудесно, — заявил дед, — поедем по бульвару! Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад».
Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели: Козетта с тетушкой Жильнорман и г-н Жильнорман с Жаном Вальжаном. Мариус, согласно обычаю еще разлученный со своей невестой, ехал в следующей. Свадебный поезд, свернув с улицы Сестер страстей господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен.
Ряженые наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, арлекины и шуты не унывали. В эту зиму 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. В наши дни уже не увидишь такой Масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому-то и нет больше настоящего карнавала.
Боковые аллеи были переполнены прохожими, а окна — любопытными. На площадках, венчавших колоннады театров, теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день бегов в Лоншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке, гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, — одновременно и зритель, и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, движущиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремящихся одни вверх, другие вниз, — одни к Шоссе д’Антен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности Масленичного Быка, пользовались тем же преимуществом. Среди всенародного парижского веселья проследовала, пощелкивая кнутом, и Англия: с оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осыпаемая язвительными насмешками толпы.
В двойной цепи экипажей, вдоль которой, точно овчарки, скакали конные стражники, из дверец солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высовывались свежие личики ряженых детей, семилетних Пьерро, шестилетних Пьеретт, очаровательных малышей, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании, преисполненных сознания важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники.
Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался; достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось.
Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив улицы Капустный мост произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направляющийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как раз напротив коляски с ряжеными.
Такие коляски, или, лучше сказать, телеги с масками, хорошо знакомы парижанам. Если бы во вторник на масленой или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки: «Тут что-то нечисто. Верно, ожидается смена министерства». Целая орава Кассандр, Арлекинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с Геркулесами, рыночные торговки, которые заставили бы заткнуть уши самого Рабле, как некогда менады заставляли опускать глаза Аристофана, парики из пакли, розовые трико, франтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах, с кучером в цветочном венке, — вот что такое телега с ряжеными.
Греции нужна была повозка Феспида. Франции нужен фургон Вадэ.
Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, эта озорная гримаса античной красоты, все более искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье; а вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полунаготе, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов карнавальной харей.
Обычай возить ряженых по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходо-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено «двадцать су турской чеканки на три машкерадных рыдвана для простонародья». В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые даже сидят верхом на экипажных фонарях. Едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчеи, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панара и Пирона, обогащенные уличным жаргоном. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади — дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота; там грохочет веселье, искрятся насмешки, пышет румянцем благодушие; две клячи тащат этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз; это триумфальная колесница Смеха.
Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него есть своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся.
Эти разудалые коляски, в глубине которых чудятся бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками.
Разумеется, очень прискорбно, что мерзость, выставляемая напоказ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестья и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу, оскорбляя ее, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел, в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех — соучастник всеобщего падения нравов. Иные нездоровые увеселения разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть Роклор, а у народа Паяц. Париж — город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей — когда у него есть властители — только одного: «Размалюйте мне грязь». Рим отличался тем же нравом. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох.
Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных колясок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, остановилась по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженые в коляске увидели на той стороне бульвара, как раз напротив, коляску с невестой.
— Гляди-ка, — воскликнула одна из масок, — свадьба!
— Похороны, а не свадьба, — возразила другая маска. — Вот у нас так настоящая свадьба.
И, лишенные удовольствия на таком далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись в другую сторону.
Впрочем, через минуту у всех ряженых, набившихся в коляску, оказалось дела по горло, так как толпа принялась задирать их и зубоскалить, выражая этим, как принято на карнавале, свое одобрение; обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами.
Тем временем двое других ряженых из той же коляски — старообразного вида испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске — тоже заметили свадебный поезд и, пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу.
Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вся вымокла под дождем; февральский ветер неласков; сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла.
Вот их диалог:
— Слушай-ка!
— Что, папаша?
— Видишь того старика?
— Какого старика?
— Вон там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны.
— У которого рука болтается на черной тряпке?
— Да.
— Вижу, ну и что?
— Мне сдается, я его знаю.
— Ну и что ж?
— Пускай мне наденут на шею удавку, пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна.
— Нынче весь Париж плясун.
— Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься?
— Нет.
— А жениха?
— В этой тарахтелке нет жениха.
— Да ну?
— Разве только второй старикан.
— Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту.
— Не могу.
— Ладно, все равно, а этого старика с обмотанной клешней я знаю, разрази меня гром!
— А на кой тебе его знать?
— Мало ли что! Иной раз пригодится.
— Ну, а мне наплевать на стариков.
— Я его знаю!
— Ну и знай себе на здоровье.
— Какого дьявола он попал на свадьбу?
— Да мы-то ведь попали?
— Откуда едет эта свадьба?
— А я почем знаю?
— Слушай-ка.
— Чего еще?
— Тебе бы надо обделать одно дельце.
— Чего еще?
— Соскочи на мостовую да последи за этой свадьбой.
— Это зачем?
— Чтобы узнать, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая.
— Я не могу сойти с коляски.
— Почему?
— Меня наняли.
— Тьфу, пропасть!
— Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде.
— Что правда, то правда!
— Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. Сам знаешь.
— Как не знать!
— На сегодня меня сторговали фараоны.
— Мне все равно, кто тебя сторговал. Мне надоел этот старик.
— Тебе надоели старики? Полно, ты же не девчонка!
— Он едет в первой коляске.
— Ну и что же?
— В тарахтелке невесты.
— А дальше?
— Стало быть, это отец.
— А мне какое дело?
— Говорят тебе, это отец.
— Отец так отец, эка невидаль!
— Слушай.
— Ну что?
— Я могу выходить только в маске. Так я хорошо укрыт, никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна.
— Не так, чтобы очень.
— Все же больше, чем я.
— Ладно, ну а дальше?
— Постарайся узнать, куда поехала эта свадьба.
— Куда она поехала?
— Да.
— Я и так знаю.
— Куда же она едет?
— На улицу Синий циферблат.
— Во-первых, она вовсе не в той стороне.
— Ну тогда к Винной пристани.
— А может, и еще куда?
— Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят.
— Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут.
— Как бы не так! Вот потеха! Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на Масленой. Ищи иголку в сене. Да разве это возможно?
— Мало ли что, надо постараться. Слышишь, Азельма?
В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду «тарахтелку» с новобрачной.
Глава 2
У Жана Вальжана рука все еще на перевязи
Осуществить свою мечту! Кому дано такое счастье? Должно быть, в небесах намечают и избирают достойных; мы все, без нашего ведома, являемся кандидатами; ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранников.
В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Тусен с помощью Николетты.
Поверх чехла из белой тафты на ней было надето платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев, жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов; все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. Ее тонкая прелесть, излучаясь, преображалась в сияние; чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню.
Прекрасные волосы Мариуса были напомажены и надушены; кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы — это были рубцы от ран, полученных на баррикаде.
Дед, более чем когда-либо воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой, вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную.
Жан Вальжан, весь в черном, следовал за ними и улыбался.
— Ах, господин Фошлеван, — говорил дед, — не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми! Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Главный центр управления всех людских бедствий находится в преисподней, иными словами, в тюильрийской резиденции самого сатаны. Скажите на милость, я заговорил, как заправский демагог! Что ж, у меня нет больше политических убеждений; пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни — вот и все, чего я хочу.
Когда по выполнении всех церемоний, — произнеся перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного дыма, — новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть, меж двумя рядами умиленных зрителей, к церковным дверям, распахнутым настежь, и направились к карете, даже тогда Козетта не поверила, что все уже кончено. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо; она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей какое-то особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету, Мариус рядом с Козеттой; г-н Жильнорман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете. «Ну вот, дети мои, — говорил дед, — теперь вы господин барон и госпожа баронесса и у вас тридцать тысяч франков ренты». Близко наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском: «Значит, это правда? Я ношу твое имя. Я — госпожа Ты».
Эти юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратимое мгновение: они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как говорилось в стихах Жана Прувера, обоим вместе им не было и сорока лет. То был чистейший союз: эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус являлся Козетте в нимбе; Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале, и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты — в неясной дымке, для Мариуса — в блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания грезы и поцелуя — брачное ложе.
Они с умилением вспоминали о своих муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько — как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса.
Эти юные души были в одинаковом упоении, с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом: «Мы снова навестим наш садик на улице Плюме». Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса.
Этот день — неизъяснимое сплетение мечты и уверенности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство — в сиянии полдня мечтать о полуночи. Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало в прохожих радостное чувство.
Люди останавливались на Сент-Антуанской улице, против церкви Сен-Поль, чтобы сквозь стекла экипажа полюбоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты.
Наконец они вернулись к себе, на улицу Сестер страстей господних. Рука об руку с Козеттой, торжествующий и счастливый, Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Бедняки, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь; после ладана — аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, в их сердцах пребывал бог, будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд, они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружева корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос.
На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман; все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями; каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой.
Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчании кузена Понмерси. Козетта не узнала его.
Да и он, избалованный успехом у женщин, запомнил Козетту не больше, чем любую другую.
— Как я был прав, что не поверил этой сплетне про улана, — сказал себе старый Жильнорман.
Никогда еще Козетта не была так нежна с Жаном Вальжаном. Она вторила дедушке Жильнорману: в то время как тот изливал свою радость в афоризмах и изречениях, она источала любовь и ласку, как благоухание. Счастливый желает счастья всему миру.
В ее голосе звучали для Жана Вальжана давние детские интонации. Ее улыбка ласкала его.
Свадебный стол был накрыт в столовой.
Яркое освещение — необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по сердцу счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма — никогда. Если нет солнца, надо создать его.
Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым белой ослепительной скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей; на столе — жирандоли, по стенам — трехсвечные и пятисвечные бра; стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро — все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами, — там, где не было огней, пестрели цветы.
Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна.
Жан Вальжан сидел на стуле в гостиной, у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему и, с глубоким реверансом расправляя обеими руками подвенечное платье, спросила с шаловливой нежностью:
— Отец, вы рады?
— Да, — отвечал Жан Вальжан, — я рад.
— Если так, то улыбнитесь.
Жан Вальжан улыбнулся.
Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан.
Вслед за г-ном Жильнорманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку.
По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла: одно — для г-на Жильнормана, другое — для Жана Вальжана. Г-н Жильнорман занял свое место. Второе кресло осталось пустым.
Все искали глазами «господина Фошлевана».
Его не было.
Господин Жильнорман обратился к Баску:
— Ты знаешь, где господин Фошлеван?
— Так точно, сударь, — отвечал Баск. — Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, что у него разболелась рука и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он только сию минуту вышел.
Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало г-на Фошлевана, зато г-н Жильнорман был налицо, и дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, г-ну Фошлевану нездоровится и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Все были успокоены таким объяснением. Да и что значил один темный уголек в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же г-на Жильнормана осенила блестящая мысль. «Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит тебе это, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливицей». Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана, рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная было уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о самом господе боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса.
Лишь только кресло было занято, все позабыли о г-не Фошлеване; его отсутствия уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и смеялся, позабыв обо всем.
За десертом г-н Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых.
— Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! — воскликнул он. — Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет: обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели — будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: «Будьте умеренны в удовольствиях». А я говорю: «Дайте себе волю, бросьте поводья!» Влюбляйтесь, как черти. Будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им обратно в глотку всю их философию. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна; берегись, Неморин, ты слишком красив! Что за чепуха! Разве можно знать меру восторгам, очарованиям, ласкам? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? «Будьте умеренны в удовольствиях». Благодарю покорно! Долой философов! Ликовать — вот в чем мудрость. Ликуйте же, возликуем же! Счастливы ли мы оттого, что добры, или добры оттого, что счастливы? Почему знаменитый брильянт называется Санси — потому ли, что принадлежал Арле де Санси, или потому, что весит сто шесть каратов?[629] Почем я знаю? Жизнь полным-полна таких проблем; самое важное — это владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем же слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», говорит «женщина». Ага, вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте — это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты. И ведь по собственной охоте, трус эдакий! О женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восемьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого; и революция всех их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку; с ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями! Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка попытайтесь. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века? Ну что ж, а мы из восемнадцатого! И мы были не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре — качучей. Что бы там ни было, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас — ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй — это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться и вам; что касается меня, я охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядясь в волны, подобно женщине, подымается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны, Селимена океана? Океан — это суровый Альцест. Ну что же, пусть он брюзжит, сколько хочет, — когда восходит Венера, ему приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, буря, гром и молнии, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти — падайте ниц! Полгода назад Мариус сражался; теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да, Козетта, вы правы. Смело живите друг для друга, целуйтесь, милуйтесь, пускай все мы лопнем от зависти, глядя на вас, боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым — ей-ей, это не диво, когда вы молоды! Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал; и мою душу заливал лунный свет. Любовь — это младенец, которому от роду шесть тысяч лет. Любовь вполне имеет право на длинную седую бороду. Мафусаил молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков, как мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека; человек еще лукавее — он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая. Друзья мои, это старая выдумка, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею. Будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филемоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта, пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем; Мариус, пусть ненастьем для тебя станут слезы жены. И пускай никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет — любовь, увенчанную браком; вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока, заприте его на ключ, не транжирьте его, обожайте друг друга и — пошлите к черту все остальное! Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить бога — это любить свою жену! Я люблю тебя — вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих Четвертый сочетает святость с кутежом и пьянством. «Свято-пьяное-брюхо!» Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха Четвертого я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям; но вот что удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что бог сотворил нас для чего-нибудь другого; обожать, наряжаться, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост — вот цель жизни. Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину, сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, право, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна; ну, а что до меня, то я просил бы всемогущего бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит: и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика.
Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему празднику; каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись; это была благонравная свадьба. На нее смело можно было пригласить Доброе старое время. Впрочем, оно и так присутствовало здесь в лице г-на Жильнормана.
После шума наступила тишина.
Новобрачные скрылись.
Вскоре после полуночи дом Жильнормана обратился в храм.
Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел, он улыбается, приложив палец к губам.
Душа предается размышлениям перед святилищем, где свершается торжественное таинство любви.
Над такими домами должно появляться сияние. Сокрытое в них счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь — это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины; единое, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство выходит из этого горна. Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник — это жрец; непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме — как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, вероятно, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым домом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сближаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах.
Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь — вот единственное счастье на земле. Все остальное — юдоль слез.
Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте ничего больше. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение.
Глава 3
Неразлучный
Куда исчез Жан Вальжан?
Вскоре после того, как он, по ласковому настоянию Козетты, заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, в которой он появился восемь месяцев тому назад, весь черный от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов; на диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный Баск, во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках, украшал каждое блюдо, перед тем как нести к столу, венками из роз. Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом.
Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушивался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и среди всего этого веселого гула — нежный, радостный голосок Козетты.
Покинув улицу Сестер страстей господних, он вернулся к себе, на улицу Вооруженного человека.
Он шел туда окольным путем, через улицы Сен-Луи Нива св. Екатерины и Белых мантий; ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную Старую Тампльскую улицу, он провожал Козетту с улицы Вооруженного человека на улицу Сестер страстей господних.
Этой дорогой ходила Козетта, другого пути он не хотел для себя.
Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Там даже не было Тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка, без наволочки и кружев, лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены; оставались лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то: кровать Жана Вальжана.
Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты.
Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол.
Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она вовсе не болела.
Он подошел к кровати, и глаза его, случайно или намеренно, остановились на «неразлучном», давно вызывавшем ревность Козетты, на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу Вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Приблизившись к нему с какой-то странной поспешностью, он нащупал в кармане ключ и отпер сундучок.
Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых десять лет тому назад она уходила из Монфермейля: сначала черное платьице, потом черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлись бы впору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, затем вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранящие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу; она озябла и вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмаках покраснели от холода. Он, Жан Вальжан, заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур и, главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес; они прошли по нему вместе, Козетта и он; он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца — все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды, косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их по очереди. Она была тогда вот такого роста, она прижимала к груди свою большую куклу, она спрятала дареную золотую монету в карман этого самого фартучка, она смеялась; они шли вдвоем, держась за руки, кроме него, у нее не было никого на свете.
И вдруг его седая голова склонилась на постель, старое мужественнее сердце дрогнуло, он зарылся лицом в платьице Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы ужасные рыдания.
Глава 4
Immortale jecur[630]
Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на различных этапах, возобновилась.
Иаков сражался с ангелом одну только ночь. Увы, сколько раз видели мы Жана Вальжана во мраке, один на один против своей совести, изнемогающего в отчаянной борьбе!
Неслыханное единоборство! В иные минуты у него скользила нога, в иные — под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь! Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде! Сколько раз этот неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым! Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влачился во прахе, сам поверженный ею наземь! Сколько раз, после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над ухом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга! То было сопротивление богу! То был предсмертный пот! Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило! Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни! Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И, побежденный, он сознавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром!»
Но увы! Какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы!
Жан Вальжан чувствовал, однако, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой.
Перед ним вставал мучительный вопрос.
Предопределения судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой; они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены; там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из этих перекрестков.
Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье. И вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги: одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать?
На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое.
Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой.
Значит, это правда: исцелить душу можно, изменить судьбу — никогда. Ужасная вещь — неотвратимость судьбы!
Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем:
Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился; он сам добровольно пронзил себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его, еще дымящимся кровью, из своей груди.
У Козетты был Мариус, Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним.
Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому; но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор? Или он спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда как имеющий на это право и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их яркого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня в мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом, не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть к их счастливой доле, свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливцев зловещую, немую роль судьбы?
Надо привыкнуть к злому року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком? «Как ты поступишь?» — спрашивает сфинкс.
Такой привычкой к испытаниям Жан Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза.
Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку.
Козетта, это прелестное существо, была спасательным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук?
Ухватившись, он избежал бы гибели, он всплыл бы из пучины наверх, к солнцу, с его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жить.
Выпустить из рук?
Тогда — бездна.
Так, в страданиях и муках, держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся сам с собой; он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения.
Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это, быть может, прояснило его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря, гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Аррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое; он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий.
Он чувствовал, что дошел до предела.
Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, с бешенством сдавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, — какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена!
Чувствовать, что вам отрезала отступление священная тень!
Нечто невидимое, но неумолимое — какое наваждение!
Итак, совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она — бог. Мы бросаем в этот колодезь труды целой жизни, бросаем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу или родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье. Еще, еще, еще! Выливайте сосуд! Наклоняйте урну! В конце концов мы кидаем туда свое сердце.
Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка.
Разве не простительно отказаться, наконец, от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять права? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут: «Довольно!»
Покорность материи ограничена трением; неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения?
Сделать первый шаг ничего не стоит: лишь последний шаг труден. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней — уйти в небытие?
О первая ступень, ведущая вниз, — какая серая мгла! О вторая ступень — какой черный мрак! Как не отпрянуть назад?
Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту; он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию, — и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть и он не отречется от мученического венца?
Наконец Жан Вальжан обрел покой крайнего изнеможения.
Он взвесил, обсудил, обдумал все возможности равновесия на таинственных весах света и тени.
Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель? В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом — самого себя.
На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть за ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из этих бездн склонил голову?
Его мучительное раздумье продолжалось всю ночь.
Он оставался так до утра, в том же положении, на коленях, упав ничком на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, — увы, раздавленный, быть может! — судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был недвижим, словно труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это неподвижное тело, можно было принять его за мертвого; но вдруг по нему пробегала дрожь, и, припав к платьицам Козетты, он начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив.
Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было?
Тот, кто не дремлет во мраке.
Книга VII Последний глоток из чаши страданий
Глава 1
Седьмой круг и восьмое небо
День, следующий за свадьбой, овеян тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливцев так же, как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже за полдень, когда Баск, в утро 17 февраля, с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что «убирался в своей прихожей», вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел г-на Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок и все было вверх дном; она казалась полем битвы вчерашних радостей и веселья.
— Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно, — заметил Баск.
— Ваш хозяин уже встал? — спросил Жан Вальжан.
— Как ваша рука, сударь? — вместо ответа спросил Баск.
— Лучше. Ваш хозяин встал?
— Который? Старый или молодой?
— Господин Понмерси.
— Господин барон? — переспросил Баск, приосанившись.
Титул барона имеет особенный вес в глазах его слуг. От него словно что-то перепадает и им; философ сказал бы: «брызги его величия», и это им лестно. Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республиканец, как он это доказал на деле, теперь против своей воли стал бароном. Этот титул послужил причиной небольшой революции в доме. Именно г-н Жильнорман настаивал теперь на титуле, и не кто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Понмерси написал: «Мой сын наследует мой титул». И Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой.
— Господин барон? — повторил Баск. — Я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его.
— Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что кто-то хочет поговорить с ним с глазу на глаз, но не называйте имени.
— А! — протянул Баск.
— Я хочу сделать ему сюрприз.
— А! — повторил Баск, произнеся это второе «а!» так, словно объявил самому себе первое.
И он вышел.
Жан Вальжан остался один.
В гостиной, как мы только что упомянули, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного празднества. На паркете валялись всевозможные цветы, выпавшие из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, три-четыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике еще сохраняется какое-то очарование. Здесь гостило счастье. На этих стульях, разбросанных как попало, среди увядающих цветов, среди угасших огней думали только о радости. Солнце заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом.
Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезали в орбитах. Складки измятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног рисунок окна, отброшенный солнцем.
У дверей послышался шум; он поднял глаза.
Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь.
— Ах, это вы, отец! — воскликнул он, увидев Жана Вальжана. — А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого. Козетта спит.
Слово «отец», обращенное Мариусом к г-ну Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность; этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и г-н Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетте.
Он снова заговорил; слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости.
— Как я рад вас видеть! Если бы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли?
И, удовлетворившись своим благоприятным ответом на свой же вопрос, он продолжал:
— Как много мы с Козеттой о вас говорили. Козетта так любит вас! Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице Вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице, она такая неприветливая, некрасивая, холодная, вредная для здоровья, вся загороженная, туда и не пройдешь. Переезжайте к нам. И сегодня же. Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату, она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад; дверной замок там починили, постель приготовили, вам остается только перебраться. Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу: «Раскрой ему объятия». В чащу акаций, против ваших окон, каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше — направо. Ночью будет петь соловей, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит прямо на юг. Козетта расставит в ней ваши книги, путешествия капитана Кука и путешествия Ванкувера, все ваши вещи. Есть у вас, кажется, маленький сундучок, которым вы особенно дорожите, я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда, вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Если умеете, вы доставите моему деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в былое время в Люксембургском саду, помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми. И вы тоже, отец, будете счастливы нашим счастьем. Да, ведь вы завтракаете с нами сегодня?
— Сударь, — сказал Жан Вальжан, — мне надо сообщить вам кое-что. Я — бывший каторжник.
Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова: «Я — бывший каторжник», слетевшие с губ г-на Фошлевана и коснувшиеся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно, он не знал. Он был в сильнейшем недоумении.
Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности.
Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу.
— С моей рукой ничего не случилось, — сказал он.
Мариус взглянул на его палец.
— И никогда не случалось, — добавил Жан Вальжан. Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины.
Жан Вальжан продолжал:
— Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я, как сумел, постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не быть вынужденным совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт, чтобы его не подписывать.
Мариус спросил запинаясь:
— Что это значит?
— Это значит, — ответил Жан Вальжан, — что я был на каторге.
— Вы сводите меня с ума! — в испуге вскричал Мариус.
— Господин Понмерси, — сказал Жан Вальжан, — я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно. За повторное воровство. В настоящее время я укрываюсь от полиции.
Напрасно Мариус пытался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности, — он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и, как всегда бывает в подобных случаях, он понял и то, чего сказано не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки; его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь.
— Говорите все! Говорите все! — крикнул он. — Вы отец Козетты?
И, полный невыразимого ужаса, он отшатнулся.
Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову.
— Необходимо, чтобы вы мне поверили, сударь; и хотя нашу клятву, — клятву таких, как я, — правосудие не признает…
Он помолчал, потом добавил медленно, с какою-то властной мрачной силой, подчеркивая каждый слог:
— …Вы мне поверите. Я не отец Козетты! Видит бог, нет! Господин Понмерси, я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь подрезкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты — никто. Успокойтесь.
Мариус пробормотал:
— Кто мне докажет?
— Я. Мое слово.
Мариус взглянул на этого человека. Тот был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие не совместимо ни с какой ложью. То, что обратилось в лед, — правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина.
— Я вам верю, — сказал Мариус.
Жан Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал:
— Что я для Козетты? Прохожий. Десять лет тому назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком? Когда стар, чувствуешь себя дедушкой всех малышей. Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой. Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Они так беспомощны, маленькие дети, что первый встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность в отношении Козетты. Не думаю, чтобы такую малость можно было всерьез назвать добрым делом, но если это действительно доброе дело, так и быть, считайте, что я его совершил. Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни; наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она — баронесса Понмерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков, — хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос, — были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы? Не все ли равно? Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. А больше не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца, открыв вам мое настоящее имя. Но это уже касается лишь меня одного. Мне очень важно, чтобы вы знали, кто я такой.
И Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Мариусу. Чувства, испытываемые Мариусом, были смутны и беспорядочны.
Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, порождают в нашей душе бурное волнение.
У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность; мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека и одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус настолько был ошеломлен, что стал говорить с Жаном Вальжаном так, будто был раздосадован его признанием.
— Не понимаю, — воскликнул он, — зачем вы мне говорите все это? Кто вас принуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну. Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите до конца. Здесь кроется что-то другое. С какой целью вы разоблачаете себя? По какой причине?
— По какой причине? — проговорил Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу. — В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать: «Я каторжник»? Так и быть, отвечу. Да, причина есть, и странная. Я сделал это из честности. Послушайте, вот в чем несчастье: я на прочном поводу у своего сердца. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не поддаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен, мне оставалось бы только уехать, — в любом дилижансе с улицы Блуа; вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы, я тянул как только мог; они держались крепко, они не поддавались, вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе: «Я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь». Вы правы, конечно. Да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме, госпожа Понмерси очень меня любит, она даже сказала тому креслу: «Раскрой ему объятия», ваш дед охотно примет меня, мое общество подходит ему, мы будем жить все вместе, обедать вместе, я буду водить под руку Козетту… госпожу Понмерси, — простите, я оговорился по привычке, — мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой, греться у одного камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье, выше всего! Мы жили бы семьей. Одной семьей!
При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырыть у своих ног бездну; голос его стал вдруг громовым.
— Одной семьей! — вскричал он. — Нет! У меня нет никакой семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие меж собой, я лишний. Есть на свете семьи, но не для меня. Я несчастливец, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать? Я почти сомневаюсь в этом. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все было кончено. Я видел, что она счастлива, что она с человеком, которого любит, что есть при них добрый дед, есть дом, полный радости, приют двух ангелов, что все хорошо. И я сказал себе: «Не смей входить туда». Я мог солгать, это верно, я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал; но сейчас, ради самого себя, я не должен этого делать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить? Сущая безделица — моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто. Я всю ночь старался убедить себя в этом; вы требуете от меня исповеди, и вы имеете на это право, настолько необычно то, что я сказал вам сейчас; ну да, я всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы; поистине я сделал все, что было в моих силах. Но вот чего я преодолеть не мог: я не сумел разорвать ту нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным к этому месту, и я не мог заставить молчать того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается лишь одного меня, говорить не стоит: это я оставляю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Ах, вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанматье, что теперь, скрывая свое имя, я никому не приношу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу, и я вполне мог бы оставить его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду жить в своем уголке и что, хотя Козетта и принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с нею. У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном — и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном, стало быть, скрыл истинное свое лицо, стало быть, рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в себе тьму; стало быть, не предупреждая вас, я просто-напросто привел бы каторгу к вашему очагу и уселся за ваш стол с мыслью, что, знай вы, кто я такой, вы прогнали бы меня прочь; я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, знай они все, вскрикнули бы: «Какой ужас!» Мне случалось бы коснуться вас локтем, что по праву должно вызвать в вас брезгливость, я воровал бы ваши рукопожатия! В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными сединами и сединами опозоренными; в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо, ваш дед, вы, Козетта и я, — здесь бы присутствовал неизвестный! И единственной моей заботой в этой жизни бок о бок с вами было бы не давать никогда сдвинуться крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам, живым. А ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника! И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы всякий день! И эту ложь я повторял бы всякий день! И этой черной маской скрывал бы мое лицо всякий день! И я делал бы вас участниками моего позора всякий день! Всякий день! Вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов! Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, и мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление я испил бы каплю за каплей, я выплюнул бы их и снова пил, кончал бы в полночь и вновь начинал в полдень, и я лгал бы, говоря: «С добрым утром», и говоря: «Спокойной ночи», и этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать, и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы улыбкой дьявола на улыбку ангела, — я был бы низким негодяем! И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть счастливым! Разве имею я право на это? Я выброшен из жизни, сударь!
Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан Вальжан снова понизил голос, но он звучал теперь уже не глухо, а зловеще.
— Вы спрашиваете, зачем я говорю? Меня никто не выдает, не преследует, не травит, сказали вы. Напротив! Меня выдают, меня преследуют, меня травят! Кто? Я сам. Я сам преграждаю себе дорогу, я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню; а когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться.
И, крепко схватив себя за воротник, он продолжал, обернувшись к Мариусу:
— Поглядите-ка на этот кулак. Не находите ли вы, что он держит воротник так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот, у совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собой бога. Пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой.
И с мучительным, скорбным выражением он добавил:
— Господин Понмерси, хотя это и противоречит здравому смыслу, но я — честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мною однажды, но тогда мне не было так больно; тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать; теперь же, когда вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рок: я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит, а для того чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие презирали меня. Тогда я держу голову высоко. Я — каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется мало правдоподобным. Но что поделать, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполняю его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни.
Жан Вальжан снова помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус его слов, продолжал:
— Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их ведома, он не вправе заражать их чумой, он не вправе незаметно увлекать их в пропасть, куда упал сам, он не вправе накидывать на них свою арестантскую куртку, он не вправе омрачать счастье ближнего своим несчастьем. Приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой — это гнусно. Пусть Фошлеван ссудил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться; он мог мне его дать, но я не смею носить его. Имя — это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я кое о чем размышлял, кое-что читал; как видите, я умею приличным образом выражать свои мысли. Я отдаю себе отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним — бесчестно. Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы. Быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя подлецом, нет, нет, нет, нет! Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями, по ночам не находить себе места в смертельной тоске, терзать свое тело и душу! Вот почему я рассказал вам все это. Добровольно, как выразились вы.
Он тяжело вздохнул и закончил:
— Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб; теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя.
— Чтобы жить? — прервал Мариус. — Вам не нужно это имя, чтобы жить.
— Ах, я знаю, что говорю! — ответил Жан Вальжан, медленно покачивая головой.
Наступила тишина. Оба молчали, погрузившись каждый в глубокое, тяжкое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан Вальжан ходил по комнате. Задержавшись перед зеркалом, он постоял неподвижно, затем, как бы отвечая на собственное безмолвное возражение, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд:
— Зато теперь я облегчил свое сердце!
Он снова стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом. Тогда он произнес с каким-то особенным выражением:
— Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно почему.
И, обернувшись лицом к Мариусу, продолжал:
— А теперь, сударь, вообразите себе вот что: я ничего не сказал, я остался господином Фошлеваном, я занял место среди вас, стал своим, я живу в моей комнате, выхожу к завтраку в домашних туфлях, вечером мы втроем идем в театр, я провожаю госпожу Понмерси в Тюильри или в сквер на Королевской площади, мы постоянно вместе, вы считаете меня человеком вашего круга; и в один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся, я здесь, вы — вон там, и вдруг вы слышите голос, громко произносящий: «Жан Вальжан!» И вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, и внезапно срывает с меня маску.
Он снова замолчал. Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил:
— Что вы на это скажете?
Молчание Мариуса было ответом. Жан Вальжан продолжал:
— Вы отлично видите, что я прав, не пожелав молчать. Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в солнечном сиянии и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник вскрывает себе грудь, чтобы выполнить свой долг; пред вами несчастный человек, сударь.
Мариус медленно пересек гостиную и, очутившись возле Жана Вальжана, протянул ему руку.
Но Мариусу пришлось самому взять его руку — она не поднялась ему навстречу. Жан Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную десницу.
— У моего деда есть друзья, — сказал Мариус, — я добьюсь для вас помилования.
— Поздно, — возразил Жан Вальжан. — Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть — это то же, что помилование.
И, высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством:
— К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я прибегаю, — это выполнение долга; и лишь в одном помиловании я нуждаюсь, — в том, какое может даровать мне моя совесть.
В это время на другом конце гостиной тихонько приотворилась дверь, и между ее полуоткрытых створок показалась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо; волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая головку из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жана Вальжана и крикнула, смеясь, — казалось, роза расцвела улыбкой:
— Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того чтобы быть со мной!
Жан Вальжан вздрогнул.
— Козетта!.. — пролепетал Мариус. И замолк.
Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты. Козетта, сияя от удовольствия, продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отсветы рая.
— Я поймала вас на месте преступления, — заявила Козетта. — Я только что слышала за дверью, как отец мой Фошлеван говорил: «Совесть… Выполнить свой долг», — это о политике, ведь так? Я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу, на другой же день. Это несправедливо.
— Ты ошибаешься, Козетта, — возразил Мариус. — У нас деловой разговор. Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков…
— Не в этом дело, — перебила его Козетта. — Я пришла. Хотят меня здесь видеть?
И, решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадающий множеством складок от шеи до пят. На золотых небесах старинных средневековых картин можно увидеть эти восхитительные хламиды, окутывающие ангелов.
Она оглядела себя с головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга:
— Жили на свете король и королева! О, как я рада! — Вслед за тем она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану.
— Ну вот, — сказала она, — теперь я пристроюсь возле вас в кресле, завтрак через полчаса, вы будете разговаривать о чем хотите; я ведь знаю, мужчинам надо поговорить, и я буду сидеть смирно.
Мариус взял ее за руку и сказал влюбленным голосом:
— У нас деловой разговор.
— Знаете, — заметила Козетта, — я растворила окно, сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня уже покаянная среда, а у них все еще Масленица.
— Говорю тебе, малютка моя, Козетта, что мы беседуем о делах, оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит.
— Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне это не наскучит.
— Уверяю тебя, что ты соскучишься.
— Нет. Потому что это вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь, с вами — мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все.
— Козетта, любимая моя, это невозможно.
— Невозможно?
— Да.
— Ну что ж, — сказала Козетта. — А я было хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обедне, что в комнате отца моего, Фошлевана, дымит камин, что Николетта позвала трубочиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмехается над заиканием Тусен. Так и быть, вы ничего не узнаете. Ага, это невозможно? Ну погодите, придет и мой черед, вот увидите, сударь, я тоже скажу: «Это невозможно». Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами.
— Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних.
— Ну, а разве я посторонняя?
Жан Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему:
— А вы, отец? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже — не говорить ни слова, вместо того чтобы вступиться за меня? Кто ж это наградил меня таким отцом? Вы отлично видите, как я несчастна в семейной жизни. Мой муж меня бьет. Говорят вам, поцелуйте меня сию же минуту.
Жан Вальжан приблизился к ней.
Козетта обернулась к Мариусу:
— А вам гримаса, — вот получайте.
Потом подставила лоб Жану Вальжану. Он сделал шаг ей навстречу. Козетта отшатнулась:
— Как вы бледны, отец. У вас так сильно болит рука?
— Она прошла, — сказал Жан Вальжан.
— Вы плохо спали?
— Нет.
— Вам грустно?
— Нет.
— Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бранить.
И она снова подставила ему лоб.
Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе.
— Улыбнитесь.
Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака.
— А теперь защитите меня от моего мужа.
— Козетта!.. — начал Мариус.
— Выбраните его, отец. Скажите ему, что мне необходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видно, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж удивительно? Дела, поместить деньги в банке, — подумаешь, какая важность! Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус.
Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнула между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения.
— Люблю тебя! — сказал Мариус.
— Обожаю тебя! — сказала Козетта.
И, повинуясь неодолимой силе, они упали друг к другу в объятия.
— А теперь, — снова заговорила Козетта, с забавным, торжествующим видом оправляя складки своего пеньюара, — я остаюсь.
— Нет, нельзя, — сказал Мариус умоляющим тоном. — Нам надо кое-что закончить.
— Опять нет?
Мариус постарался придать голосу строгое выражение:
— Уверяю тебя, Козетта, что это невозможно.
— А, вы заговорили голосом властелина, сударь! Хорошо же. Мы уйдем. А вы, отец, так и не заступились за меня. Господин супруг мой, господин отец мой, вы — тираны. Сейчас я все расскажу дедушке. Если вы думаете, что я вернусь и стану просить, унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу, так вам и надо.
И она вышла из комнаты.
Через секунду дверь снова отворилась, снова меж двух створок показалось ее свежее, румяное личико, и она крикнула:
— Я очень сердита!
Дверь затворилась, и вновь наступил мрак.
Словно заблудившийся солнечный луч, неведомо для себя, неожиданно прорезал тьму и скрылся. Мариус проверил, плотно ли затворена дверь.
— Бедная Козетта! — прошептал он. — Когда она узнает…
При этих словах Жан Вальжан весь задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил:
— Козетта! Да, правда, вы все скажете Козетте. Это справедливо. Ах, я не подумал об этом. На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь, заклинаю вас, молю вас, сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве не достаточно того, что вы сами знаете все? Я мог бы, никем не принуждаемый, по собственной воле сказать об этом кому угодно, целой вселенной, мне это все равно. Но она, она не должна знать, что это такое. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте! Пришлось бы объяснить ей, сказать: «Это человек, который был на галерах». Она видела однажды, как проходила партия каторжников. Боже мой, боже!
Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолвные слезы — страшные слезы.
Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога, он откинулся назад, на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание, руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что казалось, он исходил из бездонной глубины: «О, если б умереть».
— Успокойтесь, — сказал Мариус, — я буду свято хранить вашу тайну.
Мариус, возможно, был менее растроган, чем следовало. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него г-на Фошлевана, и наконец прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил:
— Я должен сказать хотя бы несколько слов по поводу вверенного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидетельствует о высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой.
— Благодарю вас, сударь, — кротко ответил Жан Вальжан.
Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем, повысив голос, произнес:
— Все почти сказано. Остается последнее…
— Что именно?
Жаном Вальжаном, казалось, овладела величайшая нерешительность, и беззвучно, почти не дыша, он сказал, вернее, пролепетал:
— Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь, — вы, муж Козетты, — что я больше не должен ее видеть?
— Я считаю, что так было бы лучше, — холодно ответил Мариус.
— Я не увижу ее больше, — прошептал Жан Вальжан.
И он направился к выходу.
Он тронул дверную ручку, она повернулась, дверь полуоткрылась. Жан Вальжан распахнул ее шире, чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу.
Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокоен:
— Послушайте, сударь, если вы позволите, я буду навещать ее. Уверяю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали, я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта, хотел ее видеть, вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это ведь так понятно. Видите ли, уже девять лет, как она со мною. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада. Там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал Инвалидов, на улицу Плюме, у нас был сад за решеткой. Я жил на заднем дворике, откуда мне слышно было ее фортепьяно. Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца, она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего — это было бы слишком тяжко. Если вы не найдете в том ничего дурного, я буду приходить иногда к Козетте. Я не приходил бы часто. Не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале. В первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя, быть может, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видеться с Козеттой. Так редко, как только вы пожелаете. Вообразите себя на моем месте, кроме нее, у меня ничего нет в жизни. А потом, надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что: я мог бы, например, приходить по вечерам, когда совсем стемнеет.
— Вы будете приходить каждый вечер, — сказал Мариус, — и Козетта будет вас ждать.
— Вы очень добры, сударь, — проговорил Жан Вальжан.
Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливец проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались.
Глава 2
Какие неясности могут таиться в разоблачении
Мариус был потрясен.
Странное чувство отчуждения, всегда испытываемое им к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка эта оказалась последней ступенью позора — каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.
Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья — все равно что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы.
Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать?
Неужели Мариус связал свою жизнь с каторжником?
Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливца, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни — разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в ореоле его славы.
Как всегда бывает с тем, у кого на глазах происходят подобные превращения, Мариус стал раздумывать — не следует ли ему упрекнуть в этом себя самого? Не изменило ли ему внутреннее чутье? Не проявил ли он невольного легкомыслия? До некоторой степени, пожалуй. Не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных? Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши же поступки, жизнь мало-помалу исправляет нас. Он видел теперь склонную к мечтательности и фантазиям сторону своего характера, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур, при пароксизмах страсти и боли, меняет температуру души, сгущается и, заполняя человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плюме, в течение упоительных шести или семи недель, опьяненный любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в лачуге Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. Как случилось, что он ничего не рассказал Козетте? Это ведь произошло так недавно и было так ужасно! Как случилось, что он даже не упомянул о семье Тенардье, в особенности в тот день, когда встретил Эпонину? Сейчас он лишь с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь — это вознесение влюбленных на высоты идеала; и быть может, как неприметную крупицу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную и затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться, где не желал играть никакой роли, от которого бежал и где не мог быть ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули, словно молния; не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже, все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетте о засаде в лачуге Горбо, если бы и назвал Тенардье, — какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан — каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в ней, в Козетте? Разве он отступился бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что совершилось? Нет. Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было хорошо. Есть еще бог в небесах и для этих пьяниц, которые зовутся влюбленными. Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы повести его — куда? В рай.
Но этот рай отныне омрачало соседство с адом.
Давнее нерасположение Мариуса к этому человеку, к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом.
Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости и даже некоторого восхищения.
Этот вор, вор неисправимый, вернул отданную ему на хранение сумму. И какую! Шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе и, однако, все возвратил.
Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к тому не принуждало. Если и открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению, — оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска — это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него — безопасность; он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед таким искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью истины. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно — в нем пробуждалась совесть. В нем чувствовалось начало некоего таинственного возрождения; по всей видимости, душевное беспокойство уже с давних лет владело этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости несвойственно натурам заурядным. Пробуждение совести — признак величия души.
Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Положение дел для Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие.
Мысленно оценивая поступки Жана Вальжана, Мариус устанавливал актив и пассив и старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то вновь обретал его в каком-то роковом тумане.
Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания — все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом туча снова становилась черной.
Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне.
Что же, собственно, происходило на чердаке Жондрета? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Здесь ответ стал ясен для Мариуса. Потому, что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции.
Другой вопрос: почему этот человек появился на баррикаде? Ибо сейчас перед Мариусом, в его взволнованной душе, вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде. Но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него: то был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал зловещее появление Жана Вальжана, увлекающего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из-за угла переулка Мондетур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить. И пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слои общества, стала там законом; она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру; эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о воровстве, но не мысль о мести. Жан Вальжан убил Жавера. По крайней мере это казалось Мариусу бесспорным.
Наконец последний вопрос. Но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит, и там, наверху, существуют оковы, значит, и богу бывает угодно сковать одной цепью ангела с демоном? Значит, грех и невинность могут оказаться товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этом шествии осужденных, что зовется судьбой человеческой, могут очутиться рядом два чела — одно ясное и чистое, другое страшное, одно озаренное сиянием утра, другое навеки опаленное молнией божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и — нечто еще более непостижимое — привязать волка к ягненку? Ибо волк любил ягненка, ибо свирепое существо боготворило существо слабое, ибо целых девять лет исчадие ада служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет — этот порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадались на бесчисленные загадки, в глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек-бездна?
Древние символы Книги Бытия вечны: человеческое общество, такое, как оно есть, пока не преобразит его более высокое откровение, всегда порождало и будет порождать два типа людей: человека возвышенного и человека низкого; того, кто исповедует добро, — Авеля, и того, кто исповедует зло, — Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Кто же был этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, сам порочный, окружал ее ореолом непорочности? Что же это за грешник, который благоговел перед невинностью и не запятнал ее ничем? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный одной-единственной заботой — предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды?
Это было тайной Жана Вальжана; это было и божьей тайной.
Маркус отступал перед двойной этой тайной. Одна из них до известной степени успокаивала его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан Вальжан, присутствовал бог. У бога свои орудия. Он пользуется тем средством, каким пожелает. Он не обязан давать отчет человеку. Ведомо ли нам, как господь вершит свои деяния? Жану Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа его оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе такого странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу?
Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой, Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких разъяснениях нуждался он еще? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все; чего еще мог он желать? Все — разве этого не достаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана! И, наклоняясь мысленно над роковой тенью, он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным: «Я — никто для Козетты. Десять лет тому назад я не знал о ее существовании».
Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам это сказал. Ну вот, он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место провидения Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного, мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку — Жана Вальжана.
Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, он снова и снова испытывал некий ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный, быть может, ибо, как мы только что отметили, он чувствовал quid divinum в этом человеке. Но что бы он ни делал, какие бы смягчающие обстоятельства ни отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одному: это был каторжник, иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, опустившись ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник, собственно говоря, уже не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого — всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, он тем не менее в вопросах, касающихся судебных наказаний, все еще стоял за систему беспощадной кары и всех тех, кого карал закон, рассматривал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал и не взвесил присвоенного себе человеком права распоряжаться тем, что невозвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово vindicte[631]. Он считал справедливым, чтобы некоторые посягательства на писаный закон имели последствием пожизненное наказание, и признавал социальное проклятие как способ воздействия, найденный цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса.
В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный. Это был каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным гласом правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него. Vade retro[632].
Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана, — тот даже сказал ему: «Вы исповедуете меня», — Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имеющих решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним, — он боялся их. Чердак Жондрета? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения? Жан Вальжан не казался человеком, способным отступить, и, кто знает, не пожелал ли бы Мариус, толкнув его на признание, сам остановить его? Не случалось ли нам всем, мучаясь страшными подозрениями, задать вопрос и тут же затыкать уши, чтобы не слышать ответа? Особенно тем, кто любит, свойственно подобное малодушие. Неблагоразумно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от собственной нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на всё безрассудные признания Жана Вальжана, кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе этого ангела мерцающий отсвет адского пламени? И самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля рока такова, что даже сама невинность обречена нести на себе клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Справедливо или нет, но Мариус боялся этого. Он и так слишком много узнал. Ему скорее хотелось все забыть, нежели все понять. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая глаза от Жана Вальжана.
Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее? Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит? Заря могла быть омраченной навеки.
В таком душевном состоянии Мариус не мог думать без мучительного беспокойства, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетте. Он почти упрекал себя за то, что отступил, что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое, бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой; следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Он досадовал на себя, он негодовал против внезапно налетевшего бурного вихря, который оглушил, ослепил и увлек его против его желания. Он был недоволен собой.
Что делать теперь? Мысль о том, что Жан Вальжан будет навещать Козетту, вызывала в нем глубочайшее отвращение. Зачем ему этот человек? Что делать? Здесь он становился в тупик, он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал, — он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание; и Жан Вальжан это обещание получил; а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее он обязан был прежде всего подумать о Козетте. Словом, сильнейшее отвращение вытесняло в нем все другие чувства.
Мариус перебирал в уме этот клубок путаных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь — великий талант, и Мариус справился с собой.
Впрочем, не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной, как белая голубка; слушая ее рассказы о детстве ее и юности, он все больше убеждался, что отношение этого каторжника к Козетте было исполнено такой доброты, отеческой заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Этот зловещий чертополох любил и оберегал эту лилию.
Книга VIII Сумерки сгущаются
Глава 1
Комната в нижнем этаже
На другой день, с наступлением сумерек, Жан Вальжан постучался в ворота дома Жильнормана. Его встретил Баск. Баск находился во дворе в назначенное время, словно выполняя чье-то распоряжение. Бывает иногда, что слуге говорят: «Посторожи, когда придет господин такой-то».
Не дожидаясь, чтобы Жан Вальжан подошел ближе, Баск обратился к нему первый:
— Господин барон поручил мне спросить у вашей милости, угодно ли вам подняться наверх или остаться внизу.
— Я останусь внизу, — отвечал Жан Вальжан.
Баск, храня свой безукоризненно почтительный вид, растворил двери залы в нижнем этаже и сказал:
— Пойду доложить молодой хозяйке.
Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сводчатая и сырая, с красным кафельным полом, служившая по мере надобности кладовой; она выходила на улицу и слабо освещалась единственным окном с железной решеткой.
Это помещение было не из тех, куда часто заглядывают метелка, веник и щетка. Пыль лежала здесь нетронутой. Борьбы с пауками здесь не вели. Пышная, черная, украшенная мертвыми мухами паутина огромным веером раскинулась по одной из створок окна. Единственным убранством этой небольшой низкой комнаты служили пустые бутылки, наваленные грудой в углу. Окрашенная желтой охрой штукатурка облупилась со стен широкими пластами. В глубине был камин с узенькой каминной доской, крашенный под черное дерево. В камине горел огонь; это означало, что тут заранее рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Я останусь внизу».
У камина стояли два кресла. Между креслами был постелен вместо ковра потертый половик, в котором осталось больше веревок, чем шерсти.
Комната освещалась лишь огнем камина и тусклым светом из окна.
Жан Вальжан был утомлен. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он тяжело опустился в кресло.
Баск вернулся, поставил на камин зажженную свечу и вышел. Жан Вальжан забылся, склонив голову на грудь, и не заметил ни Баска, ни свечи.
Вдруг он выпрямился, как будто его внезапно разбудили. За его спиной стояла Козетта.
Он не видел, но почувствовал, как она вошла.
Он обернулся, посмотрел на нее. Она была обворожительно хороша. Но его глубокий взгляд искал в ней не красоту ее, а душу.
— Ну, отец, — вскричала Козетта, — я знала, что вы странный человек, но такой причуды уж никак не ожидала! Что за дикая фантазия! Мариус сказал, будто вы сами захотели, чтобы я принимала вас здесь.
— Да, я сам.
— Я так и знала. Ну, теперь держитесь! Предупреждаю, что сейчас устрою вам сцену. Начнем с самого начала. Поцелуйте меня, отец.
И она подставила ему щеку.
Жан Вальжан хранил неподвижность.
— Вы даже не шевельнулись. Отметим это. Вы ведете себя как виноватый. Но все равно, я прощаю вам. Иисус Христос сказал: «Подставьте другую щеку». Вот она.
И она подставила другую.
Жан Вальжан не тронулся с места. Казалось, ноги его были пригвождены к полу.
— Дело становится серьезным, — сказала Козетта. — В чем я провинилась? Объявляю, что я с вами в ссоре. Вы должны заслужить прощение. Вы пообедаете с нами.
— Я уже обедал.
— Это неправда. Я попрошу господина Жильнормана пожурить вас хорошенько. Деды созданы для того, чтобы допекать отцов. Ну! Идемте со мной в гостиную. Сию же минуту.
— Это невозможно.
Тут Козетта немного растерялась. Она перестала приказывать и перешла к расспросам.
— Но почему же? И зачем вы выбрали для нашей встречи самую ужасную комнату во всем доме? Здесь отвратительно.
— Ты ведь знаешь…
Жан Вальжан поправился:
— Вы ведь знаете, баронесса, что я чудак, у меня свои прихоти.
Козетта всплеснула маленькими ручками:
— Баронесса?.. Вы?.. Вот новости! Что все это значит?
Жан Вальжан посмотрел на нее с той раздирающей душу вымученной улыбкой, которая иногда появлялась у него на губах.
— Вы сами пожелали быть баронессой. И стали ею.
— Но не для вас же, отец.
— Не называйте меня больше отцом.
— Что?
— Зовите меня господин Жан. Просто Жан, если хотите.
— Вы мне больше не отец? Я больше не Козетта? Господин Жан? Да что же это такое? Но ведь это настоящий переворот! Что случилось? Посмотрите-ка мне в лицо. И вы не хотите с нами жить! И вы отказываетесь от своей комнаты! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Значит, что-нибудь произошло?
— Ничего.
— Тогда в чем же дело?
— Все осталось по-прежнему.
— Почему вы меняете имя?
— Вы ведь тоже переменили свое.
Он снова улыбнулся той же улыбкой и прибавил:
— Раз вы стали госпожой Понмерси, почему бы мне не стать господином Жаном?
— Я решительно ничего не понимаю. Все это нелепо. Погодите, я еще спрошу у мужа разрешения называть вас господином Жаном. Надеюсь, что он не согласится. Вы меня страшно огорчаете. Можно иметь причуды, но нельзя так обижать свою маленькую Козетту. Это очень нехорошо. Вы не смеете быть злым, ведь вы такой добрый.
Он не отвечал.
Она живо схватила его за обе руки и, подняв их к своему лицу, в неудержимом порыве прижала их к шее под подбородком, с выражением глубочайшей нежности.
— О, — проговорила она, — будьте добрым, как прежде!
И продолжала:
— Вот что я называю быть добрым: быть милым, переехать к нам — здесь тоже есть птички, как на улице Плюме, — жить с нами вместе, бросить эту ужасную дыру на улице Вооруженного человека; не загадывать нам головоломок, быть как все, обедать с нами, завтракать с нами, словом, быть моим дорогим отцом.
Он высвободил свои руки.
— Вам не нужен отец, у вас теперь есть муж.
Козетта вспылила:
— Мне не нужен отец? Когда слышишь такую бессмыслицу, право, не знаешь, что и сказать.
— Если бы тут была Тусен, — продолжал Жан Вальжан, как человек, ищущий опоры в авторитетах и цепляющийся за любую веточку, — она первая подтвердила бы, что такой уж у меня нрав. В этом нет ничего нового. Я всегда любил свой темный угол.
— Но здесь же холодно. Здесь плохо видно. И что за гадкая выдумка называться господином Жаном. Я не желаю, чтобы вы говорили мне «вы»!
— Нынче, по дороге сюда, — перевел разговор Жан Вальжан, — я видел на улице Сен-Луи одну вещицу. У столяра-краснодеревщика. Будь я хорошенькой женщиной, я приобрел бы это. Очень милый туалет в современном вкусе. У вас это называется, кажется, розовым деревом. С инкрустацией. С довольно большим зеркалом. И с ящичками. Очень красивая вещица.
— У! Противный медведь! — отвечала Козетта. И с очаровательной гримаской она фыркнула на Жана Вальжана сквозь сжатые зубки. То была сама Грация, изображавшая сердитую кошечку.
— Я просто в бешенстве, — заявила она. — Со вчерашнего дня все вы меня изводите. Я очень сердита. Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не хочет поддержать меня против вас. Я совсем одна. Я так славно убрала вашу комнату. Если бы я могла достать луну с неба, я бы там ее повесила. И что же? Что теперь прикажете делать с этой комнатой? Мой жилец оставляет меня с носом. Я заказываю Николетте превкусный обед. «Ваш обед никому не нужен, сударыня!» И мой отец Фошлеван требует ни с того ни с сего, чтобы я называла его господином Жаном и принимала бы его в старом, дрянном, безобразном, затхлом погребе, где стены обросли бородой, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок — паутина! Вы человек с причудами, согласна, все это в вашем духе, но надо же дать передышку людям, которые женятся. Вы не имели права сразу же браться за прежние причуды. Неужели вам так хорошо на этой отвратительной улице Вооруженного человека? А я была там очень несчастна. Что я вам сделала? Вы ужасно меня огорчаете! Фи!
И вдруг, пристально взглянув на Жана Вальжана, она добавила серьезным тоном:
— Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива?
Наивность, сама того не зная, бывает порою очень проницательна. Этот вопрос, такой простой для Козетты, имел для Жана Вальжана глубокий смысл, Козетта хотела царапнуть его, а ранила до крови.
Жан Вальжан побледнел. С минуту он ничего не отвечал, потом с неизъяснимым выражением, словно обращаясь к самому себе, прошептал:
— Ее счастье — вот что было целью моей жизни. Теперь господь может отпустить меня с миром. Козетта, ты счастлива; мое время истекло.
— Ах! Вы сказали мне «ты»! — воскликнула Козетта. И кинулась ему на шею.
Жан Вальжан, забывшись, порывисто прижал ее к груди. Он почти поверил, что снова вернул ее себе.
— Спасибо, отец! — шепнула ему Козетта.
Поддавшись этому порыву, Жан Вальжан испытывал мучительное чувство. Он тихонько высвободился из объятий Козетты и взялся за шляпу.
— Что такое? — спросила Козетта.
Жан Вальжан отвечал:
— Я ухожу, сударыня, вас ждут.
И, стоя уже в дверях, прибавил:
— Я назвал вас на «ты». Скажите вашему мужу, что больше этого не случится. Простите меня.
И Жан Вальжан вышел, оставив Козетту ошеломленной этим загадочным прощанием.
Глава 2
Еще несколько шагов назад
Жан Вальжан пришел на следующий день, в тот же час.
Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную; она равно избегала называть его отцом и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы». Позволяла называть себя сударыней. В ней только несколько убавилось веселости. Ее можно было бы счесть грустной, если б она способна была грустить.
Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви.
Нижнюю залу несколько привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину.
Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел г-н Фошлеван. Тусен помогла этому. «Хозяин всегда был таким», — твердила она. Дед вынес следующий приговор: «Он просто оригинал». Этим все было сказано. По правде говоря, в девяносто лет уже тяжелы новые связи; все кажется лишним бременем, новый знакомец только стесняет, для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ли он Фошлеваном или Шпаклеваном, — для старика Жильнормана было облегчением избавиться от «этого господина». Он пояснил: «Нет ничего обыкновеннее подобных оригиналов. Они выкидывают всевозможные чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канапль был еще хуже. Он купил дворец, а жил там на чердаке. Напускают же на себя люди этакую блажь».
Никто не подозревал мрачной подоплеки этой «блажи». Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота: вода в них кажется необычной, непонятной; вдруг она всколыхнется без ветра, вдруг забурлит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности беспричинную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну.
Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которым исполнены их ночи. Такой человек на вид не отличается от других, он ходит, двигается. Никто не знает, что он носит в себе страшный разрушительный недуг, который живет в этом несчастном и как червь гложет его, причиняя тысячи мук. Никто не знает, что такой человек — омут. Стоячий, но глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается какое-то волнение, ни для кого не понятное. Пробегает загадочная рябь, потом исчезает, потом появляется снова: всплывает пузырь и лопается. Это почти что ничего, и вместе с тем это ужасно. То дыхание неведомого зверя.
Иные странные привычки — являться в часы, когда другие уходят, держаться в тени, когда другие выставляют себя напоказ, надевать во всех случаях, так сказать, плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор, избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить, при всем своем богатстве, в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить через заднее крыльцо, подниматься по черной лестнице, — все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетная рябь на поверхности, исходят нередко из ужасающих глубин.
Так протекло несколько недель. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь: новые отношения, создаваемые замужеством, визиты, домашние заботы, развлечения — все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого: они заключались в одном — быть с Мариусом. Выходить вместе с ним, сидеть с ним дома, — в этом заключалось главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди бела дня, по людной улице, не прячась, перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения: Тусен не поладила с Николеттой, и, так как обе старые девы не могли ужиться вместе, ей пришлось уйти. Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде; тетка Жильнорман продолжала мирно влачить свое унылое существование бок о бок с молодой четой, что ее вполне удовлетворяло. Жан Вальжан приходил каждый день.
Замена обращения на «ты» официальным «вы», «сударыня», «господин Жан» — все это изменило его в глазах Козетты. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала: «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец; были мне дядей, и больше уже не дядя; были господином Фошлеваном и стали просто Жаном. Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас».
Он по-прежнему оставался на улице Вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когда-то жила Козетта.
На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил.
Но постепенно он принял обыкновение затягивать свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее; он являлся раньше и уходил позже.
Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему: «отец». Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее: «Говорите Жан». — «Да, правда, — отвечала она, рассмеявшись, — господин Жан». — «Вот так», — сказал он. И отвернулся, чтобы она не заметила, как он вытирает слезы.
Глава 3
Они вспоминают сад на улице Плюме
Больше этого не случалось. То был последний луч света; все угасло окончательно. Не было прежней близости, не было поцелуя при встрече, никогда уж не звучало больше полное нежности слово «отец!». По собственному настоянию и при собственном содействии Жан Вальжан был последовательно лишен всех своих радостей; его постигло то несчастье, что, потеряв Козетту сразу в один день, ему пришлось сызнова терять ее постепенно.
Глаза привыкают в конце концов к тусклому свету подземелья. В сущности, видеть Козетту, хотя бы раз в день, казалось ему уже достаточным. Вся его жизнь сосредоточилась на этих часах. Он садился возле нее, глядел на нее молча или же говорил с ней о былых годах, о ее детстве, о монастыре, о ее прежних подружках.
Однажды после полудня — это был один из первых апрельских дней, уже весенний, но еще прохладный, в час, когда солнце весело сияло, когда сады, видневшиеся из окон Мариуса и Козетты, трепетали, пробуждаясь ото сна, когда вот-вот должен был распуститься боярышник, когда желтофиоли раскидывались нарядным узором по старым стенам, цветочки львиного зева розовели в расщелинах камней, в траве пробивались прелестные лютики и маргаритки, в небе начинали порхать первенцы весны — белые бабочки, а ветер, бессменный музыкант на свадебном торжестве природы, запевал в ветвях дерев первые ноты великой утренней симфонии, которую древние поэты называли возрождением весны, — Мариус сказал Козетте: «Помнишь, мы условились, что сходим навестить наш сад на улице Плюме. Пойдем туда. Не надо быть неблагодарными». И они умчались, точно две ласточки, навстречу весне. Сад на улице Плюме казался им утренней зарей. В их жизни уже было какое-то прошлое, нечто вроде ранней весны их любви. Дом на улице Плюме, взятый в аренду, все еще принадлежал Козетте. Они посетили этот сад и этот дом. Они отдались минувшему, они забыли о настоящем. Вечером в урочный час Жан Вальжан явился на улицу Сестер страстей господних. «Госпожа баронесса вышли с господином бароном и еще не возвращались», — сказал ему Баск. Он молча уселся и прождал целый час. Козетта так и не вернулась. Он поник головой и ушел.
Козетта была в таком упоении от прогулки по «их саду» и так была рада «прожить целый день в минувшем», что на следующий вечер ни о чем другом не говорила. Она даже не вспомнила, что не видала накануне Жана Вальжана.
— Как вы добрались туда? — спросил ее Жан Вальжан.
— Пешком.
— А как вернулись?
— В наемной карете.
С некоторых пор Жан Вальжан замечал, что юная чета ведет очень скромный образ жизни. Это огорчало его. Мариус соблюдал строгую экономию, и Жан Вальжан видел в этом особый скрытый смысл. Он осмелился задать вопрос:
— Почему у вас нет собственного экипажа? Красивая двухместная карета стоила бы вам всего-навсего пятьсот франков в месяц. Ведь вы богаты.
— Не знаю, — отвечала Козетта.
— Вот и Тусен тоже, — продолжал Жан Вальжан. — Она ушла. А на ее место никого не наняли. Отчего?
— Нам достаточно и Николетты.
— Но вам, баронесса, нужна камеристка.
— А разве у меня нет Мариуса?
— Вам бы следовало иметь собственный дом, завести отдельную прислугу, иметь карету, ложу в театре. Нет ничего, что было бы слишком хорошо для вас. Почему вы не пользуетесь своим богатством? Богатство многое прибавляет к счастью.
Козетта ничего не ответила.
Посещения Жана Вальжана отнюдь не становились короче. Совсем напротив. Когда сердце скользит вниз, трудно остановиться на склоне.
Если Жану Вальжану хотелось затянуть свидание и заставить Козетту забыть о времени, он принимался расточать похвалы Мариусу: он находил его красивым, благородным, смелым, умным, красноречивым, добрым. Козетта поддакивала ему. Жан Вальжан начинал сызнова. Оба они были неистощимы. Тема «Мариус» казалась неисчерпаемой; в шести буквах его имени заключались целые томы. Таким способом Жану Вальжану удавалось задержаться подольше. Видеть Козетту, забывать обо всем возле нее — было так сладостно! Это словно врачевало его рану. Нередко случалось, что Баск раза по два являлся доложить: «Господин Жильнорман велел напомнить баронессе, что кушать подано».
В такие дни Жан Вальжан возвращался домой в глубокой задумчивости.
Была ли доля правды в том сравнении с куколкой бабочки, какое пришло в голову Мариусу? Не был ли действительно Жан Вальжан коконом, который упрямо продолжал навещать вылетевшую из него бабочку?
Однажды он задержался еще дольше обыкновенного. На следующий день он заметил, что в камине не развели огня. «Вот как! — подумал он. — Огня нет». И успокоил сам себя таким объяснением: «Вполне понятно. На дворе апрель месяц. Холода кончились».
— Бог ты мой, как здесь холодно! — воскликнула Козетта входя.
— Да нет, нисколько, — возразил Жан Вальжан.
— Значит, это вы запретили Баску развести огонь?
— Да. Ведь уж месяц май.
— Но печи топят до июня месяца. А этот погреб надо отапливать круглый год.
— Я подумал, что не к чему разжигать камин.
— Это опять одна из ваших выдумок! — возмутилась Козетта.
На другой день камин затопили. Но оба кресла были переставлены на другой конец залы, к самым дверям.
«Что это означает?» — подумал Жан Вальжан.
Он пошел за креслами и передвинул их на обычное место у камина.
Но зажженный огонь успокоил его. Он затянул беседу еще дольше обыкновенного. Когда он поднялся, собираясь уходить, Козетта проговорила:
— Вчера мой муж сказал мне одну странную вещь.
— Что же такое?
— Он сказал: «Козетта, у нас тридцать тысяч ренты. Двадцать семь принадлежит тебе, и три я получаю от деда». Я ответила: «Это составляет тридцать». А он говорит: «Хватило бы у тебя мужества жить только на три тысячи?» — «Конечно, — сказала я, — пускай и вовсе без ренты, лишь бы с тобой». И потом спросила его: «Зачем ты мне это говоришь?» А он ответил: «На всякий случай».
Жан Вальжан не проронил ни слова. Козетта, вероятно, ждала от него каких-нибудь объяснений; но он выслушал ее в угрюмом молчании. Он возвратился на улицу Вооруженного человека в такой глубокой задумчивости, что ошибся дверью, и вместо того чтобы взойти к себе, попал в соседний дом. Только поднявшись почти до третьего этажа, он обнаружил свою ошибку и спустился вниз.
Его обуревали мучительные мысли. Было очевидно, что Мариус сомневался в происхождении шестисот тысяч франков, опасаясь, не исходят ли они из какого-нибудь нечистого источника. Как знать, может быть, он даже открыл, что деньги принадлежат самому Жану Вальжану, и колебался принять это подозрительное состояние, брезговал вступить во владение им, предпочитая жить с Козеттой в бедности, чем пользоваться этим темным наследством.
Кроме того, Жан Вальжан начинал смутно чувствовать, что его выживают из дому.
На следующий день, при входе в залу нижнего этажа, он вздрогнул от неожиданности. Кресла исчезли. В комнате не было даже стула.
— Вот как! — вскричала Козетта входя. — Кресел нет! Куда же девались кресла?
— Их больше нет, — отвечал Жан Вальжан.
— Ну, это уж чересчур!
Жан Вальжан пробормотал:
— Это я велел Баску убрать их.
— Но почему же?
— Сегодня я останусь всего на несколько минут.
— Прийти на время — не значит все время стоять.
— Баску как будто понадобились кресла для гостиной.
— Зачем?
— Вероятно, вы ждете гостей нынче вечером.
— Мы никого не ждем.
Жан Вальжан не мог вымолвить больше ни слова.
Козетта пожала плечами.
— Велеть вынести кресла! Прошлый раз вы велели погасить огонь. До чего же вы странный!
— Прощайте! — прошептал Жан Вальжан.
Он не сказал: «Прощай, Козетта», но и не в силах был сказать: «Прощайте, сударыня».
Он вышел подавленный.
На этот раз он понял.
На другой день он не явился. Козетта вспомнила о нем только вечером.
— Что это? — сказала она. — Господин Жан не пришел сегодня?
Сердце у нее сжалось, но это было мимолетно, так как Мариус отвлек ее поцелуем.
Жан Вальжан не пришел и назавтра.
Козетта не обратила на это внимания, провела вечер как обычно, спала хорошо и подумала о нем, только проснувшись. Она была так счастлива! Она тотчас послала Николетту к г-ну Жану справиться, не заболел ли он и почему не приходил накануне. Николетта принесла ответ от г-на Жана. Он не болен. Он просто был занят. Он скоро придет. При первой же возможности. Впрочем, он собирается совершить небольшое путешествие. Г-жа Понмерси, вероятно, помнит, что он уезжал ненадолго время от времени. Пусть о нем не беспокоятся. Пусть о нем не думают.
Явившись к г-ну Жану, Николетта в точности передала ему слова своей госпожи: «Барыня посылает узнать, почему господин Жан не пришел накануне». — «Я не приходил целых два дня», — кротко поправил ее Жан Вальжан.
Но Николетта пропустила мимо ушей это замечание и ничего не сказала Козетте.
Глава 4
Притяжение и отталкивание
В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Марэ, лавочники и ротозеи, слоняющиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который день за днем, неизменно в тот же час, с наступлением сумерек выходил с улицы Вооруженного человека, со стороны Сент-Круа-де-ла-Бретонри, миновав улицу Белых мантий, пересекал Ниву св. Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево, на улицу Сен-Луи.
Там он замедлял шаги и брел, вытянув голову вперед, ничего не видя и не слыша, упорно устремив взгляд всегда в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была не чем иным, как поворотом на улицу Сестер страстей господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд; зрачки его загорались радостью, будто озаренные внутренним светом, лицо становилось восхищенным и растроганным, губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым; он улыбался какой-то бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Можно было подумать, что он стремился к некоей цели и вместе с тем боялся минуты, когда окажется слишком близко от нее. Когда до улицы, которая чем-то влекла его, оставалось всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что порою могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся его голова и пристальный взгляд вызывали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как ни медлил он и как ни оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее: он доходил до улицы Сестер страстей господних; там он останавливался, весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на эту улицу; и было в его трагическом взгляде что-то похожее на благоговение перед недостижимым и на отсвет потерянного рая. И тут крупные слезы, постепенно скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал тогда их горький вкус. Он стоял так несколько минут, словно окаменев; затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и по мере того как он удалялся, взор его угасал.
Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер страстей господних; он останавливался на полдороге, на улице Сен-Луи; иногда немного дальше, иногда чуть-чуть поближе. Как-то раз он остался на углу улицы Нива св. Екатерины и смотрел только издали на перекресток улицы Сестер страстей господних. Потом, молча покачав головой справа налево, как бы отказываясь от чего-то, он повернул обратно.
Вскоре он перестал доходить даже и до улицы Сен-Луи. Он достигал поворота на Мощеную улицу, качал головой и возвращался; некоторое время спустя он не шел дальше улицы Трех флагов; потом не выходил уже и за пределы улицы Белых мантий. Он напоминал маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче, перед тем как остановиться.
Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, отправлялся тем же путем, но не доходил уже до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну-единственную мысль: «К чему?» Зрачки потухли и никогда уже не загорались. Слезы иссякли, задумчивые глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед, подбородок по временам начинал дрожать; жалко было смотреть на его худую, морщинистую шею. Порою, в ненастную погоду, он держал под мышкой зонтик, но никогда не раскрывал его. Кумушки окрестных кварталов говорили: «Он не в своем уме». Ребятишки бежали следом и смеялись над ним.
Книга IX Непроглядный мрак, ослепительная заря
Глава 1
Будьте милосердны к несчастным, будьте снисходительны к счастливым!
Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья, — этой ложной жизненной цели, — о цели истинной — долге!
Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса.
Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов г-ну Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку его отчаянию. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетты. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше, чем исчезновение из памяти, — это было полное ее затмение.
Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что, без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжана; на это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них, и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим дома Лафит и получил от него некие таинственные сведения, хотя и не искал их. Говоря правду, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно: вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всею возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался.
Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн. Но и обвинять ее было бы жестоко.
Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно, поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к «господину Жану», она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетте: она испытывала смутное, но ощутимое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус, — в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускнело и в памяти Козетты.
Не будем все же преувеличивать: в отношении Жана Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону.
Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже, — успокаивал ее Мариус. — Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда, — думала Козетта. — У него всегда была привычка вдруг пропадать. Но не так надолго». Два или три раза она посылала Николетту на улицу Вооруженного человека узнать, не вернулся ли г-н Жан из поездки. Жан Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся.
Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не могла, был Мариус.
Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон. Мариус возил Козетту на могилу своего отца.
Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не противилась этому.
В конце концов то, что в известных случаях слишком сурово именуется неблагодарностью детей, не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы. Природа, как говорили мы в другом месте, «смотрит вперед». Она делит живые существа на приходящие и уходящие. Уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие — к свету. Отсюда отчуждение, роковое для стариков и невольное для молодых. Это отчуждение, вначале неощутимое, медленно увеличивается, как при всяком росте ветвей. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви. Старость шествует к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики — равнодушием могилы. Не станем обвинять этих бедных детей.
Глава 2
Последние вспышки светильника, в котором иссякло масло
Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели.
Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак, — немного капусты или несколько картофелин, приправленных салом, — заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула:
— Да вы не ели вчера, голубчик!
— Я поел, — возразил Жан Вальжан.
— Тарелка-то ведь совсем полна!
— Взгляните на кружку с водой. Она пуста.
— Это значит, что вы пили, но не значит, что вы ели.
— Но что же делать, если мне хотелось только воды, — отвечал Жан Вальжан.
— Это называется жаждой, а если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой.
— Я поем завтра.
— А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»? Подумать только, оставить мою стряпню нетронутой! Такая вкусная лапша!
Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково:
— Обещаю вам ее отведать.
— Я вами недовольна, — отвечала привратница.
Кроме этой доброй женщины, Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов жил Жан Вальжан.
В то время когда он еще выходил из дому, он купил за несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой.
Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели.
— Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест, он долго не протянет, — говорила привратница своему мужу. — Верно, у него кручина какая-нибудь. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж.
Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства:
— Коли он богат, пускай позовет врача. Коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет.
— А если позовет?
— Тоже помрет, — изрек муж.
Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар».
— Экая жалость. Такой аккуратный старичок. Беленький, как цыпленок, — бормотала она, выдергивая траву.
В конце улицы она вдруг заметила врача, пользующего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному.
— Это на третьем этаже, — сказала она. — Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок больше не встает с постели.
Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним.
Когда он спустился вниз, привратница начала свой допрос:
— Ну как, доктор?
— Ваш больной очень плох.
— А что у него?
— Все и ничего. Этот человек, по всей видимости, потерял дорогое ему существо. От этого умирают.
— Что ж он вам сказал?
— Он сказал, что чувствует себя хорошо.
— Вы еще вернетесь, доктор?
— Да, — сказал врач, — но надо, чтобы к нему вернулся не я, а кто-то другой.
Глава 3
Перо кажется слишком тяжелым тому, кто поднимал телегу Фошлевана
Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он ощутил большую слабость, чем когда-либо раньше. Тогда, по-видимому, чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот.
С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах.
Он открыл чемодан и вынул из него детское приданое Козетты.
Он разложил его на постели.
На камине, на обычном месте, стояли подсвечники епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Такие зажженные среди бела дня огни можно иногда видеть в домах, где есть покойник.
Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в тягчайших усилиях, которым не дано возобновиться.
Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для Мариуса, — здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. Ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему едва давали пятьдесят; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела такой оттенок, словно ее уже покрывала земля, углы рта опустились, как на масках, высекаемых в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии — жертву несправедливого рока.
Он дошел до того состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния.
Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу.
После этого он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток.
Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платьице, на все эти бесценные сокровища.
Такое созерцание может длиться часами, которые кажутся минутами. Вдруг он вздрогнул, почувствовав, что его охватывает холод; тогда, облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо.
Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он останавливался и присаживался два или три раза, а писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он стирал со лба пот.
Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они:
«Козетта, благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно, он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси, всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта, здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготовлять искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным — для золотых, Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат…»
Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался.
«О! — вскричал он мысленно (и это была жалоба, услышанная одним только богом), — все кончено. Я больше не увижу ее. Она словно улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!»
В эту минуту в дверь постучались.
Глава 4
Ушат грязи, который мог лишь обелить
В этот самый день, точнее, в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела, Баск вручил ему письмо со словами: «Господин, который принес это письмо, ожидает в передней».
Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду.
Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода.
Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел: «Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке света. И одна из таких догадок осенила Мариуса.
Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживил в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное — это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета.
Итак — странный каприз судьбы! — один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в руки.
Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел:
«Господин барон,
Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом Института (академия наук), но я не барон. Я только его однафомилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я придоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого симейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может дольше сожительствовать с приступлением, иначе она падет.
Я ажидаю в пиредней приказаний господина барона.
С почтением».
Письмо было подписано: «Тенар».
Подпись не была вымышленной. Она просто была несколько укорочена.
Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография способствовали разоблачению. Авторство здесь устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло.
Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось чувством радости. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, — того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось бы желать.
Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь.
— Попросите войти, — сказал Мариус.
Баск доложил:
— Господин Тенар.
В комнату вошел человек.
Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком.
У этого человека, впрочем, тоже пожилого, были толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывающие лоб до самых бровей, подобно парику кучера из аристократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина.
Но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление.
В те времена в Париже, в старом, мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому негодяю вид порядочного человека; ненадолго, само собою разумеется, — в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать су в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший напрокат одежду, звался Менялой; этим именем окрестили его парижские жулики и никакого другого за ним не знали. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обряжал людей, было подобрано по возможности на все вкусы. Оно отражало различные профессии и социальные категории; на каждом гвозде его кладовой висело, поношенное и измятое, чье-нибудь общественное положение. Здесь мантия судьи, там ряса священника, тут сюртук банкира, в уголке — мундир отставного военного, дальше — костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик являлся костюмером нескончаемой драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братии. Его конура служила кулисами, откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громилой, а мирным буржуа. Наутро эти обноски честно приносились обратно, и Меняла, оказывая полное доверие ворам, никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство: они «плохо сидели», так как были сшиты не на тех, кто их носил. Они оказывались тесными для одних, болтались на других и никому не приходились впору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах Менялы. Они не годились ни для слишком толстых, ни для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь средних по росту и по объему людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца, ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспосабливаться, временами трудная, с которой клиенты Менялы справлялись, как умели. Тем хуже для исключений из нормы! Одеяние государственного деятеля, например, — черное снизу доверху и, следовательно, вполне пристойное, — было бы чересчур широко для Питта и чересчур узко для Кастельсикала. Костюм «государственного деятеля» описывался в каталоге Менялы нижеследующим образом; приводим это место: «Черный суконный сюртук, черные шерстяные панталоны, шелковый жилет, сапоги и белье». Сбоку, на полях каталога, имелась надпись: «Бывший посол» и заметка, которую мы также приводим: «В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиною в дюйм, обернутые ватой». Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, если можно так выразиться, держался на честном слове; швы побелели, на одном локте виднелось что-то вроде прорехи; вдобавок спереди на сюртуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее не имело особого значения, так как рука государственного мужа, которой полагается быть заложенной за борт сюртука, могла служить прикрытием недостающей пуговице.
Если б Мариус был знаком с тайными заведениями Парижа, он тотчас бы узнал на посетителе, которого впустил к нему Баск, платье «государственного деятеля», позаимствованное в притоне Менялы.
Разочарование Мариуса при виде человека, обманувшего его ожидания, перешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя, пока тот отвешивал ему преувеличенно низкий поклон, Мариус спросил коротко:
— Что вам угодно?
Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая улыбка крокодила:
— Мне кажется просто невероятным, чтобы я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад в доме княгини Багратион и в салоне виконта Дамбре, пэра Франции.
Притвориться, что узнаешь человека, которого вовсе не знаешь, — излюбленный прием мошенников.
Мариус внимательно прислушивался к речи этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Однако разочарование все возрастало: у посетителя был гнусавый голос, нисколько не похожий на тот резкий жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку.
— Я не знаком ни с госпожой Багратион, ни с господином Дамбре, — сказал он. — Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов.
Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном:
— В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатобриана. Я с ним близко знаком. Он очень мил и частенько говорит мне: «Тенар, дружище… не пропустить ли нам по стаканчику?»
Выражение лица Мариуса становилось все более суровым.
— Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу. Что вам угодно?
На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном.
— Господин барон, соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного-единственного дома. Большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам, каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания; в центре его — внутренний двор, где хранятся проводольствие и боевые припасы. Окон нет — только бойницы, дверей нет — только лестницы; для подъема на первую площадку — приставная лестница, то же и с первой на вторую и со второй на третью; чтобы спуститься во внутренний двор — лестницы; вместо дверей в комнатах — люки, вместо обыкновенных лестниц — приставные. Ночью люки запирают, лестницы убирают, в бойницах прилаживают пищали и мушкеты. Войти внутрь никакой возможности; днем это дом, ночью — крепость; а всего там восемьсот жителей; вот каково это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому что это опасное место: там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край: там много золота.
— К чему вы клоните? — прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением.
— Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат, я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину. Я хочу пожить среди дикарей.
— Дальше что?
— Господин барон, миром управляет эгоизм. Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, — не обернется. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода — вот конечная цель людей. Золото — вот магнит.
— Дальше что? Договаривайте.
— Я хотел бы обосноваться в Жуайе. Нас трое. При мне моя супруга и моя дщерь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег.
— Какое мне дело до этого? — спросил Мариус.
Незнакомец вытянул шею над галстуком, точно ястреб, и возразил с удвоенной любезностью:
— Разве господин барон не прочел моего письма?
Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мариуса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад в нем родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность: «моя супруга и моя дщерь». Он устремил на незнакомца проницательный взгляд, которому позавидовал бы сам судебный следователь. Он словно нащупывал этого человека. В ответ он сказал только:
— Говорите яснее.
Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины, и, тоже сверля Мариуса взглядом сквозь зеленые очки, сказал:
— Пусть так, господин барон. Я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну.
— Тайну?
— Да.
— Она касается меня?
— Да, отчасти.
— Что это за тайна?
Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался.
— Вступление я сделаю бесплатно, — сказал неизвестный. — Оно вас заинтересует, вот увидите.
— Говорите.
— Господин барон, у вас в доме живет вор и убийца.
Мариус вздрогнул.
— В моем доме? Нет, — сказал он.
Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо:
— Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед богом — раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя. И скажу совершенно бесплатно.
— Я слушаю.
— Его зовут Жан Вальжан.
— Я это знаю.
— Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой.
— Говорите.
— Он бывший каторжник.
— Я это знаю.
— Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить.
— Нет. Я знал об этом раньше.
Холодный тон Мариуса, дважды произнесенное «я это знаю», суровый лаконизм его ответов всколыхнули в незнакомце глухой гнев. Он украдкой метнул в Мариуса бешеный взгляд, тут же притушив его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса; такой взгляд, однажды увидев, невозможно забыть. Подобное пламя может разгореться лишь в низких душах; им вспыхивают зрачки — эти оконца мысли; за очками ничего не скроешь, — попробуйте загородить стеклом преисподнюю.
Неизвестный возразил, улыбаясь:
— Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно мне одному. Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому. Очень дешево. За двадцать тысяч франков.
— Мне известна эта тайна так же, как и другие, — сказал Мариус.
Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену.
— Господин барон, выложите десять тысяч франков, и я ее открою.
— Повторяю, что вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать.
В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал:
— Но мне необходимо пообедать нынче! Это жуткая тайна, уверяю вас. Господин барон, я скажу. Я уже говорю. Дайте мне двадцать франков.
Мариус пристально посмотрел на него.
— Я знаю вашу «жуткую» тайну так же, как знал имя Жана Вальжана, как знаю и ваше имя.
— Мое имя?
— Да.
— Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар.
— …дье.
— Как?
— Тенардье.
— Это кто такой?
В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук-скарабей притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре; а этот человек разразился смехом.
Вслед за тем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сюртука.
Мариус продолжал:
— Вы также и рабочий Жондрет, и комический актер Фабанту, поэт Жанфло, испанец дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар.
— Тетушка? Что такое?
— И у вас была харчевня в Монфермейле.
— Харчевня? Никогда.
— Говорю вам, что вы Тенардье.
— Я отрицаю это.
— И что вы негодяй. Берите!
И Мариус, вынув из кармана банковый билет, швырнул его в лицо незнакомцу.
— Благодарю! Извините! Пятьсот франков! Господин барон!
Пораженный, продолжая кланяться, человек подхватил билет и осмотрел его.
— Пятьсот франков! — повторил он, не веря своим глазам, и, заикаясь, пробормотал: — Солидный куш! Ладно, была не была, — воскликнул он внезапно. — Ну-ка, вздохнем посвободней!
С проворством обезьяны откинув волосы со лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав куда-то две трубочки из перьев, о которых мы упоминали, — читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги, — этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу.
Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв; снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника.
— Господин барон весьма проницателен, — сказал он резким без малейшего следа гнусавости голосом. — Я Тенардье.
И он выпрямил свою сгорбленную спину.
Тенардье, ибо, конечно, это был он, не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшило его растерянности.
Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, ведая имена людей, — даже все их клички, — вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля?
Читатель помнит, что хотя Тенардье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже; он только слышал краем уха, как дочери упоминали об очень бедном молодом человеке, по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардье не могло возникнуть никакой связи между тем Мариусом и г-ном бароном Понмерси.
Что же до имени Понмерси, то на поле битвы при Ватерлоо он расслышал лишь два его последних слога — «мерси», к которым всегда испытывал законное презрение, как к ничего не стоящей благодарности.
Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать; сам оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей. Благодаря своей ловкости он открыл, или, попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в Главном водостоке. От человека он без труда добрался и до имени. Он узнал, что баронесса Понмерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконнорожденная, — история Фантины всегда казалась ему подозрительной. Но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание? Он полагал, что мог продать кое-что и получше этого. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Понмерси, не имея доказательств, с разоблачением, вроде: «Ваша жена незаконнорожденная», значило бы лишь привести в тесное соприкосновение поясницу разоблачителя с сапогом мужа.
С точки зрения Тенардье, разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт; однако ничто существенное еще не было выдано, а пятьсот франков уже лежали в кармане. Кроме того, он собирался сообщить нечто совершенно бесспорное и чувствовал свою силу даже перед этим бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур, подобных Тенардье, всякий разговор — сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит. Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам и после слов: «Я Тенардье» выжидающе замолчал.
Мариус стоял в раздумье. Итак, он нашел наконец Тенардье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Тенардье ему представлялось также, что тем самым он отплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора; ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце.
Кроме этой обязанности, на нем лежала и другая: пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Тенардье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что таится у него в душе, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус.
Тенардье упрятал «солидный куш» в свой жилетный карман и вперил в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд.
— Тенардье, я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить. Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор потому, что он ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца потому, что убил полицейского агента Жавера.
— Что-то не пойму, господин барон, — сказал Тенардье.
— Сейчас поймете. Слушайте. В округе Па-де-Кале, около тысяча восемьсот двадцать второго года, жил человек, который в прошлом был не в ладах с правосудием и который, под именем господина Мадлена, исправился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова праведником. Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но во вторую очередь и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот; он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от ордена Почетного легиона; его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда и неискупленном преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в банкирском доме Лафита — я знаю это со слов кассира — по чеку с подложной подписью сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщите мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера; убил его выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал.
Тенардье бросил на Мариуса торжествующий взгляд побежденного, который вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать все потерянные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся; низшему надлежит сохранять смирение даже в победе, и Тенардье ограничился тем, что сказал Мариусу:
— Вы на ложном пути, господин барон.
И подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков.
— Как? — возразил Мариус. — Вы станете это оспаривать? Но это факты.
— Это чистая фантазия. Доверие, которым почтил меня господин барон, обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон, Жан Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена, и Жан Вальжан вовсе не убивал Жавера.
— Вот это сильно сказано! Как же так?
— На это есть две причины.
— Какие же? Говорите!
— Вот первая: он не обокрал господина Мадлена, потому что сам Жан Вальжан и есть господин Мадлен.
— Что за вздор вы мелете?
— А вот и вторая: он не убивал Жавера, потому что убил Жавера сам Жавер.
— Что вы хотите сказать?
— Что Жавер покончил самоубийством.
— Докажите! Докажите! — вскричал Мариус вне себя.
Тенардье, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал:
— Жавер-агент-полиции-найден-утонувшим-под баркой-у моста-Менял.
— Докажите же это!
Тенардье вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого различного формата.
— Вот мои документы, — сказал он спокойно.
И добавил:
— Господин барон, в ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен — одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит, имею доказательства. И доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать — мои доказательства напечатаны.
С этими словами Тенардье извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком.
Одна из этих газет, совершенно протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, казалась более старой, чем другая.
— Два дела, два доказательства, — заметил Тенардье и протянул Мариусу обе развернутые газеты.
Читателю знакомы эти газеты. Одна, более давняя, номер «Белого знамени» от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала тождество господина Мадлена и Жана Вальжана. Другая, «Монитер» от 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера, присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в плен на баррикаде на улице Шанврери, был обязан своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того чтобы пустить ему пулю в лоб.
Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые, неопровержимые доказательства; не могли же оба эти номера газеты быть напечатаны нарочно, для подтверждения россказней Тенардье; заметка, опубликованная в «Монитере», являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не оставалось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выходил из мрака. Мариус не мог сдержать радостного крика:
— Но, значит, этот несчастный — превосходный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежит ему! Это Мадлен — провидение целого края! Это Жан Вальжан — спаситель Жавера! Это герой! Это святой!
— Он не святой и не герой, — сказал Тенардье. — Он убийца и вор.
И тоном человека, который начинает чувствовать свой авторитет, прибавил:
— Спокойствие!
Мариус снова услыхал эти слова: «вор, убийца», с которыми, казалось, было уже покончено; его как будто окатили ледяной водой.
— Опять! — воскликнул он.
— Да, опять, — ответствовал Тенардье. — Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца.
— Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствует из ваших же газет, целой жизнью, полной раскаяния, самоотвержения и добродетели?
— Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И, повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще не известно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, которые Жан Вальжан ловко подсунул госпоже баронессе. Я говорю «ловко», потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство, утаить тем самым свое преступление, пользоваться плодами кражи, скрыть свое имя и приобрести себе родню — это, что ни говори, ловкая штука.
— Я мог бы прервать вас здесь, — заметил Мариус, — однако продолжайте.
— Господин барон, я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваше великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?» — спросите вы. Да по самой простой причине: я знаю, что он отказался от всего, и отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша, он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуайю, я предпочитаю обратиться к вам: у вас есть все, у него ничего нет. Я немного устал, разрешите мне сесть.
Мариус сел сам и подал ему знак сесть. Тенардье, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по «Белому знамени»: «Не так-то легко было заполучить эту бумажонку». Потом, заложив ногу за ногу и откинувшись на спинку стула — поза, свойственная людям, уверенным в себе, — он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова:
— Господин барон, шестого июня тысяча восемьсот тридцать второго года, примерно год тому назад, в самый день мятежа, один человек находился в Главном водостоке парижской клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену, между мостом Инвалидов и Иенским мостом.
Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Тенардье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как трепещет сердце противника под ударами его слов:
— Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждым политике, избрал клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю, это случилось шестого июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостоке. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это был шум шагов; кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело, в водостоке, кроме него, оказался еще человек. Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, если здесь имело место убийство. Что же до ограбления, оно само собой разумеется. Задаром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю клоаку, не мог миновать на пути ужасную трясину, куда, казалось бы, мог сбросить труп. Но чистильщики клоаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через топь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий; большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым.
Мариус придвинул стул еще ближе. Тенардье воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем он продолжал:
— Господин барон, клоака — не Марсово поле. Там всего в обрез, даже места. Если двое людей попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Старожил этих мест и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу: «Ты видишь, что у меня на спине, мне надо отсюда выйти; у тебя есть ключ, дай его мне». Этот каторжник — человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно затем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли, — средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан; хозяин ключа беседует с вами в эту минуту; а лоскут от платья…
Не закончив фразы, Тенардье достал из кармана и поднял до уровня глаз зажатый между большими и указательными пальцами изорванный, весь в темных пятнах, обрывок черного сукна.
Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, весь бледный, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене; протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку; его растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Тенардье.
Между тем Тенардье продолжал:
— Господин барон, у меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку.
— Этот молодой человек был я, а вот и сюртук! — вскричал Мариус, бросив на пол старый окровавленный черный сюртук.
Потом, выхватив из рук Тенардье лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука этот кусочек сукна. Он точно пришелся к месту, и теперь пола казалась целой.
Тенардье остолбенел от неожиданности. Он успел только подумать: «Эх, сорвалось!»
Мариус выпрямился, весь дрожа, охваченный и отчаянием, и радостью.
Он порылся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Тенардье и поднес к самому его лицу кулак с зажатыми в нем пятисотфранковым и тысячефранковым билетами.
— Вы подлец! Вы лгун, клеветник, злодей! Вы хотели обвинить этого человека, но вы его оправдали; хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор! И это вы убийца! Я вас видел, Тенардье-Жондрет, в том самом логове на Госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас на каторгу, а если бы пожелал, то и дальше. Нате, вот вам тысяча, мерзавец вы этакий!
И он швырнул Тенардье тысячефранковый билет.
— Ага, Жондрет-Тенардье, подлый плут, пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, исследователь потемок, презренный негодяй! Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает Ватерлоо.
— Ватерлоо? — проворчал пораженный Тенардье, распихивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков.
— Да, бандит! Вы спасли там жизнь полковнику…
— Генералу, — поправил Тенардье, вздернув голову.
— Полковнику! — с горячностью крикнул Мариус. — За генерала я не дал бы вам ни гроша. И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других! Говорю вам, что нет преступления, какого бы вы не совершили. Идите прочь! Скройтесь с моих глаз! И будьте счастливы — вот все, чего я вам желаю. А, изверг! Вот вам еще три тысячи франков. Держите. Завтра же вы уедете в Америку, вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, чудовищный враль! Я прослежу за вашим отъездом, разбойник, и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте!
— Господин барон, — отвечал Жондрет, поклонившись до земли, — век буду вам благодарен.
И вышел вон, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный сладостным грузом свалившегося на него богатства и этой нежданной грозой, разразившейся над его головой банковыми билетами.
Правда, он был повержен наземь, но вместе с тем ликовал; было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз.
Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он, с помощью Мариуса, выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Нравственная низость этого неудавшегося буржуа Тенардье была неизлечимой; в Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Достаточно дурному человеку иметь касательство к доброму делу, чтобы погубить его, обратив добро во зло. На деньги Мариуса Тенардье стал работорговцем.
Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта.
— Козетта! Козетта! — закричал он. — Идем, идем скорее! Едем. Баск, фиакр! Идем, Козетта. Ах, боже мой! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль.
Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась.
Он задыхался, он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, он обнимал Козетту. «Ах, Козетта! Какой я негодяй!» — твердил он.
Мариус совершенно потерял голову. Он начинал прозревать в Жане Вальжане человека возвышенной, неразгаданной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, высокой и кроткой, смиренной при всем ее величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в том, что увидел, — он знал только, что увидел нечто великое.
Через минуту фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро уселся сам.
— Живей, — сказал он кучеру, — улица Вооруженного человека, дом семь.
Фиакр покатился.
— Ах, какое счастье! — воскликнула Козетта. — Улица Вооруженного человека. Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану.
— К твоему отцу! Он теперь больше, чем всегда, твой отец, Козетта! Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки, Козетта, и он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание — быть ангелом-хранителем, поэтому он мимоходом спасал и других; он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе. Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта, он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в клоаке, была страшная яма, где можно было сто раз утонуть; слышишь, Козетта, утонуть в грязи! И он перенес меня через нее. Я был в обмороке, я ничего не видел, не слышал, ничего не знал о том, что приключилось со мною. Мы его сейчас увезем, заберем с собою, и, хочет не хочет, он не разлучится с нами больше. Только бы он был дома! Только бы нам застать его! Я буду молиться на него до конца дней моих. Да, Козетта, видишь ли, именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось. Понимаешь?
Козетта ничего не понимала.
— Ты прав, — сказала она.
Тем временем экипаж катился вперед.
Глава 5
Ночь, за которой брезжит день
Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся.
— Войдите, — сказал он слабым голосом.
Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и Мариус.
Козетта бросилась в комнату.
Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери.
— Козетта! — произнес Жан Вальжан и, протянув ей навстречу дрожащие руки, выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно-бледный, с выражением беспредельной радости во взоре.
Задыхаясь от волнения, Козетта припала к груди Жана Вальжана.
— Отец! — сказала она.
Жан Вальжан, потрясенный, повторял невнятным голосом:
— Козетта! Она! Вы, сударыня! Это ты! О господи! — И, ощутив объятия Козетты, вскричал: — Это ты! Ты здесь! Значит, ты меня прощаешь!
Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания:
— Отец мой!
— И вы, и вы тоже прощаете меня! — сказал Жан Вальжан.
Мариус не мог вымолвить ни слова, и Жан Вальжан добавил:
— Благодарю вас.
Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать свою шляпку.
— Мне это мешает, — сказала она.
Усевшись на колени к старику, она очаровательным движением откинула назад его седые волосы и поцеловала в лоб.
Жан Вальжан, совершенно растерянный, не противился.
Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта удвоила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса.
Жан Вальжан шептал:
— Как человек глуп! Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее детское платьице, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту». Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну не глупец ли я был? Вот как слепы люди! Они не принимают в расчет милосердия божьего. А милосердный господь говорит: «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга? Нет. Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек получает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту! Ах, как я был несчастен!
Он замолк на мгновение, будучи не в силах говорить, потом продолжал:
— Мне, право же, необходимо было видеть Козетту время от времени, хоть на один миг. Видите ли, сердцу тоже надо поглодать какую-нибудь косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя: «Ты им не нужен, оставайся в своем углу, ты не имеешь права надоедать им вечно». Ах, слава богу, я снова вижу ее. Ты знаешь, Козетта, какой у тебя красивый муж? Что за славный вышитый воротничок на тебе, носи его на здоровье! Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбирал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси, позвольте мне говорить ей «ты». Это ненадолго.
А Козетта журила его:
— Как дурно с вашей стороны покидать нас таким образом! Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех или четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали: «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас об этом? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец! Вы были больны, а мы и не знали об этом! Посмотри-ка, Мариус, тронь его руку, какая она холодная!
— И вы тоже здесь! Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси? — повторял Жан Вальжан.
При этих словах, сказанных Жаном Вальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось наружу, он вскричал:
— Слышишь, Козетта? Он опять о том же, все просит у меня прощения! А знаешь, какое зло он мне причинил, Козетта? Он спас мне жизнь. Он сделал больше: дал мне тебя. А после того как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне, неблагодарному, мне, забывчивому, мне, бессердечному, мне, виноватому, он говорит: «Благодарю вас». Козетта, провести всю мою жизнь у ног этого человека — и то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, эту огненную печь, эту клоаку, — через все он прошел ради меня, ради тебя, Козетта! Он пронес меня сквозь тысячу смертей, отстраняя их от меня и подставляя им собственную грудь. Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, — все в нем! Козетта, он ангел!
— Тише, тише! — прошептал Жан Вальжан. — К чему говорить все это?
— Ну, а вы! — вскричал Мариус и гневно и вместе с тем почтительно. — Почему вы сами ничего не говорили? В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, под предлогом разоблачения вы клевещете сами на себя. Это ужасно!
— Я сказал правду, — ответил Жан Вальжан.
— Нет, — возразил Мариус, — правда — это правда до конца, а вы всего не сказали. Вы были господином Мадленом, почему вы не сказали этого? Вы спасли Жавера, почему вы не сказали этого? Я вам обязан жизнью, почему вы не сказали этого?
— Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет клоаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех.
— Чем стеснило? Кого стеснило? — возмутился Мариус. — Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим. О боже! Подумать только, что обо всем я узнал случайно! Мы вас увозим. Вы и мы — одно целое, неразделимое. Вы ее отец, и мой также. Ни единого дня вы не останетесь больше в этом ужасном доме. И не думайте, будто завтра вы еще будете здесь.
— Завтра, — сказал Жан Вальжан, — меня не будет здесь, но меня не будет и у вас.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Мариус. — Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим.
— На этот раз уж мы не шутим, — добавила Козетта. — У нас внизу экипаж. Я вас похищаю. И если понадобится, применю силу.
И, смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика.
— Ваша комната все еще ожидает вас, — продолжала она. — Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут. Все аллеи посыпаны речным песком, и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники. Я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни «сударыни», ни «господина Жана», мы живем в Республике, все говорят друг другу «ты», правда, Мариус? Политическая программа изменилась. Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали! В трещине, на стене, свил себе гнездышко реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка, она высовывала головку из гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней. Я просто убила бы эту кошку! Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка! Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться.
Жан Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов; крупные слезы — таинственные жемчужины души — медленно навертывались на его глаза. Он прошептал:
— Вот оно, доказательство, что господь милосерд: она здесь.
— Отец! — сказала Козетта.
Жан Вальжан продолжал:
— Правда, как было бы прекрасно жить вместе. На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой. Так радостно принадлежать к числу живых, здороваться друг с другом, перекликаться в саду. Быть вместе с самого утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня своей клубникой, я давал бы ей срывать мои розы. Это было бы восхитительно. Только…
Он остановился и тихонько сказал:
— Как жаль.
Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся.
Козетта сжала руки старика в своих руках.
— Боже мой! — воскликнула она. — Ваши руки стали еще холоднее! Вы нездоровы? Вам больно?
— Я? Нет, — ответил Жан Вальжан, — мне очень хорошо. Только… — Он замолчал.
— Только что?
— Я сейчас умру.
Козетта и Мариус содрогнулись.
— Умрете? — вскричал Мариус.
— Да, но это ничего не значит, — сказал Жан Вальжан.
Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова:
— Козетта, ты мне рассказывала, продолжай, говори еще. Стало быть, маленькая птичка умерла, говори, я хочу слышать твой голос!
Мариус глядел на старика, словно окаменев. Козетта испустила душераздирающий вопль:
— Отец! Отец мой! Вы будете жить! Вы должны жить! Я хочу, чтобы вы жили, слышите?
Жан Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту.
— О да, запрети мне умирать. Кто знает? Я, быть может, послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю.
— Вы полны жизни и сил! — воскликнул Мариус. — Неужели вы думаете, что люди умирают вот так, сразу? У вас было горе, оно прошло, больше его не будет. Это я должен просить у вас прощения, прошу его на коленях! Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одно лишь помышление — о вашем счастье!
— Ну вот, вы видите сами, — сказала Козетта вся в слезах, — Мариус тоже говорит, что вы не умрете.
Жан Вальжан все улыбался.
— Если вы и возьмете меня к себе, господин Понмерси, разве я перестану быть тем, что я есть? Нет. Господь размыслил, как я и вы, и он не меняет решений; надо, чтобы я ушел. Смерть — прекрасный выход из положения. Бог лучше нас знает, что нам надобно. Пусть господин Понмерси будет счастлив с Козеттой, пусть молодость соединится с ясным утром, пусть радуют вас, дети мои, сирень и соловьи, пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий луг, пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души, а я ни на что больше не нужен, пусть я умру; так надо, и это хорошо. Поймите, будем благоразумны, ничего нельзя уже поделать, я чувствую, что все кончено. Час тому назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта! Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной.
У дверей послышался шум. Вошел доктор.
— Здравствуйте и прощайте, доктор, — сказал Жан Вальжан. — Вот мои бедные дети.
Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом: «Сударь…», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос.
На этот вопрос доктор ответил лишь выразительным взглядом.
— Если нам что-либо не по душе, — молвил Жан Вальжан, — это не дает еще права роптать на бога.
Наступило молчание. У всех сжалось сердце.
Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он стал смотреть на нее так сосредоточенно, словно хотел унести ее образ в вечность. На той глубине тьмы, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения при виде Козетты. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости.
Доктор пощупал ему пульс.
— А, так это по вас он тосковал! — проговорил он, глядя на Козетту и Мариуса. И, наклонившись к уху Мариуса, он добавил совсем тихо: — Слишком поздно.
Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно донеслось:
— Умереть — это ничего; ужасно — не жить.
Вдруг он встал. Такой прилив сил нередко является признаком начавшейся агонии. Уверенным шагом он подошел к стене, отстранил Мариуса и врача, желавших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек, снова сел в кресло, положил распятие на стол и внятным голосом произнес:
— Вот великий страдалец!
Потом плечи его поникли, голова склонилась, словно опьяненная смертным хмелем, и сложенные на коленях руки стали царапать ногтями по материи.
Козетта, поддерживая его за плечи, и плакала, и пыталась говорить с ним, но безуспешно. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова: «Отец! Не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять?»
Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой: вперед, назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью.
После этого полузабытья Жан Вальжан несколько оправился, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени, к нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Козетты, он поцеловал его.
— Он оживает! Доктор, он оживает! — вскричал Мариус.
— Вы оба так добры! — сказал Жан Вальжан. — Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они вправду принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои, именно потому я так рад вас видеть. Черный гагат привозят из Англии, белый гагат — из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованые застежки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны.
Поднявшаяся наверх привратница заглянула в приоткрытую дверь. Хотя врач и велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом:
— Не позвать ли священника?
— У меня он есть, — ответил Жан Вальжан.
И он поднял палец вверх, словно указывая на кого-то над своей головой, видимого только ему одному.
Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью.
Козетта осторожно подложила ему за спину подушку.
Жан Вальжан заговорил снова:
— Господин Понмерси, заклинаю вас, не тревожьтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них, вся моя жизнь пропала бы даром! Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми «берлинскими драгоценностями». Ну можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гросс нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка.
Когда умирает дорогое нам существо, мы смотрим на него, стараясь как бы приковать его, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием, не зная, как спорить со смертью.
Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным и изредка прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели; но по мере того как возрастали его слабость и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах.
Улыбающееся его лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь, но засветилось нечто другое. Дыхание все слабело, взгляд становился все глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья.
Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты последнего часа его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека, — казалось, с этих пор между ними воздвиглась стена.
— Подойди, подойдите оба. Я очень вас люблю. Как хорошо так умирать! Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая, положила мне за спину подушку! Ведь ты поплачешь обо мне немножко? Только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков можно было больше заработать, чем на всем остальном. Гросс, двенадцать дюжин пряжек, обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Ведь это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью быть богатыми. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр, тебе нужны красивые бальные наряды, моя Козетта, вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетте. Она найдет мое письмо. Ей я завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из брильянтов; простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто дал мне их. Я сделал все, что мог. Дети мои, не позабудьте, что я бедняк, похороните меня где-нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетте захочется иногда навестить меня, мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Понмерси. Должен признаться вам, что я не всегда вас любил; простите меня за это. Теперь же она и вы для меня — одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы дадите счастье Козетте. Если бы вы знали, господин Понмерси, как радовали меня ее милые румяные щечки; я огорчался, когда она хоть чуточку становилась бледнее. В ящике комода лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта, видишь свое платьице вон там, на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время! Мы были так счастливы. Кончено. Не плачьте, дети, я ухожу не так уж далеко, я вас увижу оттуда. А ночью, вы только вглядитесь в темноту, и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта, а ты помнишь Монфермейль? Ты была в лесу, и ты очень боялась; помнишь, как я поднял за дужку ведро с водой? Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная! Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда и какие беленькие теперь! А большая кукла, помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не могла взять ее с собой в монастырь. Как часто ты смешила меня, милый мой ангел! После дождя ты пускала по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и волан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это. Маленькой ты была такая резвушка! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И леса, где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех — все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем сказалась моя глупость. Тенардье были злые люди. Надо им простить. Козетта, пришло время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантина. Запомни это имя: Фантина. Опускайся на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо тебя любила. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил господь бог. Он там, в вышине, среди светил, он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети мои, я ухожу. Любите друг друга всегда. Любить друг друга — нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. О моя Козетта, полно, я не виноват, что все это время не видел тебя, это разбивало мне сердце; я доходил только до угла улицы, люди, должно быть, считали меня чудаком, я был похож на помешанного, один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои, я уже начинаю плохо видеть, мне надо было еще многое сказать вам, но все равно. Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение божие. Не знаю, что со мной, я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы.
Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустились на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки были уже недвижимы.
Он откинулся назад, его озарял свет двух подсвечников; бледное лицо глядело в небо, он не мешал Козетте и Мариусу покрывать его руки поцелуями; он был мертв.
Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, в этом мраке стоял некий ангел с широко распростертыми крыльями, готовый принять отлетевшую душу.
Глава 6
Трава скрывает, дождь смывает
На кладбище Пер-Лашез, неподалеку от общей могилы и в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставляющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти, в уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым вьюнком, среди сорных трав и мхов лежит камень. Камень этот не меньше других поражен проказой времени: он покрыт плесенью, лишаями и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки; в эту сторону заходить не любят, так как трава здесь высока и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда собираются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого овса. Весной на дереве распевают малиновки.
Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и лишь о том позаботились, чтобы он был достаточной длины и ширины и мог покрыть человека.
На нем не стоит никакого имени.
Только, вот уже много лет назад, чья-то рука написала на камне эти четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли и которые теперь, вероятно, уже стерлись:
Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним, Он жил. Но ангелом покинутый своим, Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед, Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.ТРУЖЕНИКИ МОРЯ
Пароход как член семьи
В юности Виктор Гюго записал в дневнике: «Хочу быть Шатобрианом или никем». Прошло почти два столетия. О Шатобриане мы помним в основном благодаря строке Пушкина «любви нас учит не природа, а Сталь или Шатобриан» и… этой записи в дневнике молодого Виктора Гюго. А «Собор Парижской Богоматери» Гюго до сих пор читает каждый культурный человек. Во Франции, скажем в повести «Все впереди» единственного дважды лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари, старик иммигрант забытой национальности на лавочке в арабском квартале не разлучается с книгой Гюго, иногда путая ее с Библией. Таким образом, мечта молодого Гюго не сбылась — Шатобриана он заметно превзошел, а никак не повторил.
Сын наполеоновского генерала, Виктор начинал как поэт и выигрывал престижные литературные премии (уже тогда были литературные премии, да). Продолжал как драматург. Его пьесы собирали аншлаги в Париже, некоторые из них цензура запрещала прямо в ходе первого представления, и это в свою очередь приводило к студенческим волнениям. Однако в историю мировой литературы он, несомненно, вошел как романист.
Эволюцию политического кредо усредненного европейца можно описать таким старым анекдотом: в двадцать лет — анархист, в тридцать — социалист, в сорок — демократ, в пятьдесят — монархист. Виктор Гюго эволюционировал вдоль этой оси в обратном направлении. Был убежденным монархистом в юности и стал в зрелости знаменем Французской республики, неудобным оппонентом императора Наполеона III в изгнании, которое продолжалось долгих девятнадцать лет и закончилось только с крахом монархии во Франко-прусской войне и Парижской коммуной.
О Гюго существует множество литературных анекдотов. Мои любимые: Гюго налысо остриг себе половину головы и выбросил ножницы в окно, когда ему нужно было срочно дописать какой-то роман; Гюго отказался от ордена Почетного легиона, чтобы не расстраивать друга — Дюма, которого такой честью обошли, и в результате правительство было вынуждено наградить орденами обоих.
Большую часть своего вынужденного изгнания он провел на английских островах Джерсей и Гернзей. Вроде как и в Англии, в убежище всех демократов типа Герцена и Березовского, но в то же время — не покинув Францию. Потому что эти английские острова расположены в Ламанше значительно ближе к берегам Нормандии, чем Британии. Более того, берега Франции окружают залив с островами с трех сторон. И, самое главное, — жители островов говорят скорее на французском, нежели на английском суржике. И вообще — всячески поддерживают многочисленные связи с близлежащими французскими, а не с отдаленными английскими портами. Вроде и в изгнании, а вроде как никуда и не уезжал. Кстати, не меньше, чем своими литературными премиями и наградами, Гюго гордился тем, что гернзейские рыбаки приняли в быту некоторые придуманные им названия местных скал и бухт, о чем не преминул изящно упомянуть в романе.
Почти все свои знаменитые романы Гюго написал именно на этих островах. Но если относительно других шедевров можно представить, что они могли бы быть написаны и в Брюсселе или Лондоне, где Гюго также некоторое время жил, то предлагаемые вашему вниманию «Труженики моря» полностью обязаны своим появлением пребыванию автора на Гернзее и Джерсее.
Более того, в неспешном вступлении «Тружеников моря», заставляющем современного читателя запаниковать — роман или все же путевые очерки он взял почитать в библиотеке? — Гюго описывает архипелаг с дотошностью первооткрывателя. Или даже еще дотошнее — с подробностями, которые сделают честь штатному ботанику или орнитологу экспедиции. Потому что острова в океане — это иной мир, открытый всем пенным валам и ветрам Атлантики, и другие люди, которые никуда не спешат и привыкли полагаться прежде всего на самих себя. Каждый остров кормит себя сам. Каждый рыбак всякий раз один на один борется с океаном.
Обитатели архипелага, островитяне, — все те рыбаки, моряки, контрабандисты, таможенные сторожа, рабочие верфей и судовладельцы, которыми переполнены страницы этого романа, словно созданы самой природой для нужд такого литературного стиля, как романтизм, ярчайшим представителем которого и был Виктор Гюго. Цельные, прямые, молчаливые, нелюдимые и в то же время неистовые, как рыбак Жиллиат. Только вот с необходимым по законам жанра сказочным злодеем, которому должен противостоять главный герой по канонам романтизма, вышло как-то неубедительно. Потому что Жиллиат противостоит значительно более могущественному противнику — самому Атлантическому океану. Гюго вроде как вспоминает о том, что в романтизме зло должно быть персонифицировано, и пытается слепить такого злодея из дотоле безупречного капитана местного парохода Дюранда, однако даже это можно посчитать намеком на то, что среди высокодостойных островитян мог жить только глубоко законспирированный негодяй. Если бы не романтизм, поступки капитана Клюбена могли бы иметь и совсем другое объяснение без потерь для сюжета. О том, что он поступил нечестно, другие герои романа и читатели узнают от автора. И вынуждены верить, потому что других свидетелей этому нет, а всеведущий автор — также одна из характерных черт романтизма.
Название парохода, кстати, Гюго пишет без кавычек, настаивая на этом. Дюранда. Потому что это новоизобретенное в те времена судно, обеспечивающее острову единственную надежную связь с материком, можно считать членом семьи местного удачливого судовладельца Летьерри. А мы можем считать «Тружеников моря» также первым романом, в котором одним из главных действующих лиц является пароход. А основной интригой — его спасение после кораблекрушения, на котором завязано все, даже свадьба племянницы судовладельца Дерюшетты, чье имя является уменьшительным от Дюранды.
Думаю, я сказал уже довольно, чтобы заинтриговать читателей и побудить их следить за интригой и сюжетными поворотами этого приключения далее самостоятельно. Отмечу только, что со времен Гюго наши знания о море несколько изменились, и благодаря изобретению другого француза, Жака-Ива Кусто, мы уже знаем, что спруты не бывают ни такими огромными, ни такими кровожадными — живут всего два года и на аквалангистов предпочитают не нападать. Но это не уменьшает достоинств романа. Колесные пароходы ведь тоже давно устарели. Но не изменилось ни море, ни его труженики.
Уже сверяя написание экзотических имен островитян для этого предисловия, я понял: если нашего Александра Грина перевести на французский, получится их Виктор Гюго.
Антон СанченкоАрхипелаг Ламанша Вековые превращения
Атлантический океан подтачивает наши берега. Полярное течение изменяет очертания береговых скал на западе. От Сен-Валери на Сомме до Ингувиля размыто основание возвышающейся над морем стены: огромные глыбы отрываются от берега, волны подхватывают и катят образовавшиеся валуны, песок и камни засоряют наши гавани, в устьях рек образуются пороги. Частицы нормандской земли ежедневно отделяются и исчезают в волнах. Эта титаническая работа, с течением времени замедлившая свой ход, прежде внушала ужас. Огромный мыс Финистер сумел сдержать ее стремительную силу. О разрушительной мощи полярного течения можно судить, взглянув на исполинские ямы, выдолбленные волнами между Шербургом и Брестом.
Образование Ламаншского пролива за счет французской земли относится к еще доисторическим временам. Но дата последнего набега океана на наш берег известна. В 709 году, за шестьдесят лет до восшествия на престол Карла Великого, во время сильнейшей бури, море откололо остров Джерсей от Франции. Кроме Джерсея, видны также части суши, отошедшие от материка. Их вершины, возвышающиеся над водой, образуют островки, которые мы и называем Нормандским архипелагом.
Здесь нашел убежище трудолюбивый человеческий муравейник.
Море сотворило развалины. Ему на смену пришел человек, сделавший их обитаемыми.
Глава 1
Гернзей
Гранит на юге, песок на севере; там крутые склоны, здесь — дюны. Неровные луга с волнистой грядой холмов и скалами; а вокруг этого зеленого ковра, собранного складками, — бахрома из пены океана. Вдоль побережья, на равном расстоянии друг от друга — орудия и башни с бойницами; вдоль всей низкой части берега — массивный парапет, изрезанный зубцами и лестницами. Его засыпает песок, и волны грозят ему неутомимой осадой; мельницы изломаны бурей — некоторые из них еще машут крыльями, под утесами — гавани, на дюнах — стада. Собаки пастухов и погонщиков быков зорко стерегут скот; маленькие тележки городских торговцев мчатся по узким дорогам; дома с западной стороны почернели от дождей; петухи, куры, навоз; повсюду развалины огромных стен — остатки разрушенной старой гавани.
Она была прекрасна — массивные каменные стены, могучие столбы, железные цепи! Ее ограды, сложенные из камня, образовывали на равнине подобие шахматной доски. Кое-где сохранились остатки гранитных казематов, поросших репейником; в самом заброшенном уголке приютилось маленькое новое строение, увенчанное колоколом, — это школа. В низинах долины — два-три ручейка, вязы и дубы; в траве — растущие только здесь гернзейские лилии, таких больше нигде не найти. В пору страды восьмерки лошадей запрягают в большие телеги; сено складывают перед домами в огромные стога на уложенных кругом камнях, повсюду кусты терновника; кое-где виднеются сады в старинном французском стиле, с подстриженной листвой, узорчатыми кустами самшита, каменными валами. Встречаются и фруктовые сады, и огороды; в крестьянских усадьбах рододендроны рассажены вперемежку с картофелем; по траве стелются водоросли цвета медвежьего уха; на кладбище не кресты, а изображения слез призраков из камня, освещенных луной; десяток готических колоколен на горизонте; старые церкви, в которых проповедуются новые догматы; протестантизм, проникший в католический храм. В песках и на мысах — мрачная тень кельтской эпохи; повсюду цветы — и летом и зимой, — таков Гернзей.
Глава 2
Гернзей Продолжение
Тучная, плодородная, богатая земля. Прекраснейшие пастбища. Известная во всем мире пшеница, породистые коровы. Телки, выросшие на лугах Сен-Пьер-дю-Буа, ни в чем не уступают премированным баранам Конфолантской долины. Сельскохозяйственные общества Франции и Англии награждают творения нив и лугов Гернзея. Сеть прекрасных дорог к услугам земледельцев, и движение на всем острове оживленное. Дороги очень хороши.
На разветвлении двух путей лежит плоский камень с изображением креста. Первый из гернзейских судей, Готье-де-ля-Сальто, был повешен в 1284 году за ложное судопроизводство. Этот крест на камне, носящий название судейского креста, обозначает то место, где он в последний раз, совершая молитву, преклонил колени.
Земля острова, удобренная пылью разрушенных утесов, очень плодородна. Ил и морские водоросли пропитали ее живительными соками. Магнолии, мирты, олеандры, голубые гортензии, исполинские фуксии, природные беседки из трехлистных вербен, герань, апельсиновые и лимонные деревья. Виноград, обычно нуждающийся в теплицах, здесь вызревает прекрасно; в садах можно увидеть огромные камелии и цветы алоэ, разросшиеся выше домов. Ничего не может быть прекраснее и пышнее этой растительности, украшающей и порой совсем закрывающей фасады нарядных вилл и маленьких скромных домиков.
Но не все побережье Гернзея так прекрасно, существует другая его часть — та, что внушает страх. Западный берег подвергнут жестокому дыханию ветров. Там вы увидите лишь валуны, мели, разбитые барки, пустыри, жалкие хижины, тощие стада, сухую, пропитанную солью траву — угрюмую картину жестокой нищеты.
Ли-Гу — это маленький островок, неподалеку от берега, пустынный, поросший кустарником, под которым притаились кроличьи норы. Кролики чувствуют движение моря и выходят из нор только в часы отлива. Они издеваются над людьми — друг кроликов, океан, оберегает их. Природа любит создавать странную и неравную дружбу.
Под вековыми наносами песка в бухтах можно найти сохранившиеся деревья.
Могучие песчаные валы скрывают целый дремлющий лес.
Рыбаки, которые живут на этом обветренном западном берегу, опытны в морском деле. Море вокруг Ламаншских островов капризно и своенравно. Находящаяся поблизости бухта Канкаль — это уголок земного шара, где приливы заметнее всего изменяют очертания морского дна.
Глава 3
Трава
Трава Гернзея немного сочнее обычной. В ней можно найти побеги всех тех растений, что встречаются на каждой лужайке. Но тут же вы обнаружите и такие сорта, которые растут только на островах Ламаншского архипелага. Им нужна гранитная подпочва и орошающий их океан.
Тысячи насекомых — отвратительных и прелестных — ползают и порхают в этой траве. На земле — жучки-долгоносики, муравьи, занятые доением своих коров, кузнечики, божьи коровки, навозные жуки; в воздухе, над травой — осы, стрекозы, бархатные шмели, разноцветные бабочки. Таков очаровательный вид гернзейской лужайки в июньский полдень, увиденный энтомологом, в душе остающимся мечтателем, и поэтом, склонным к естествознанию.
Внезапно вы замечаете под этим чудесным газоном маленькую квадратную плиту, на которой выгравированы две буквы: «W. D.», означающие «War Department», т. е. военный департамент. Это вполне объяснимо. Цивилизация должна была оставить здесь свои следы. Без них местность казалась бы дикой.
Поезжайте на берега Рейна, поищите там самые заброшенные уголки. Заберитесь в глубину уединенных гор и в спокойную чащу лесов; выберите, скажем, Андернах и его окрестности, посетите неисследованное темное Лаахское озеро. Вас поразит его величественное спокойствие. Кругом царит тишина. Ничто не нарушает стройного порядка великого хаоса природы. Вы будете гулять по этой пустыне в растроганных чувствах. Она нежна, как весна, и грустна, как осень. Пойдите наугад; миновав разрушенное аббатство, погрузитесь в мягкое спокойствие оврагов, пение птиц и шелест листвы, пейте воду источников, черпая ладонью, бродите, мечтайте, забывайте… Внезапно вам попадется избушка. Она является частью селения, скрытого среди деревьев. Она красива, утопает в благоуханных цветах, увита хмелем, в ней раздается детский смех. Подойдите ближе. И на одном из камней ее старой стены, залитой восхитительной игрой света и тени, над названием деревушки вы прочтете: «22-й батальон ландвера, 2-я рота».
Вы думали, что находитесь в селении, но очутились в полку! Таков человек.
Глава 4
Опасности моря
«Берегись!» — предупреждает человека западный берег Гернзея. Он размыт и изъеден волнами. По ночам на вершинах его утесов вспыхивают огни. Говорят, зачастую их зажигают морские бродяги, чтобы обманом заманить сюда моряков. Смелые бродяги умеют различать те места, где под водой находится опасная морская крапива, обжигающая всякого, кто к ней прикоснется. Жители относятся к здешней местности с суеверием. Некоторые местные названия, как, например Тентаже (от галльского Тен-Тагель), намекают на присутствие дьявола.
В старинных стихах Евстафия Васа[633] об этих местах говорится:
Он взволновал задремавшее море. Волны мятежно росли на просторе, Черная туча небо закрыла, Пена на гребне волны забурлила.В наши дни Ламанш так же непокорен, как и прежде. Океан таит в себе неизведанные опасности. Вот, к примеру, одни из самых частых его капризов: с юго-востока надвигается буря, вдруг наступает полное затишье, моряки успокаиваются; так проходит час; внезапно ураган, угомонившийся на юге, возвращается с севера; направление ветра изменилось. Если вы неопытный моряк, если вам незнакомы эти приказы океана и вы не воспользовались затишьем для того, чтобы переставить паруса, — все кончено. Ваше судно погибло.
До нас дошел листок из дневника Рибейроля[634], который, находясь на острове Гернзей, делал ежедневные заметки. Вот что там написано:
1 января. Буря. Затонул корабль, шедший из Портрие.
2 января. Погибло трехмачтовое судно, следовавшее из Америки. Семь человек утонуло. Двадцать один спасен.
3 января. Ожидавшееся почтовое судно не пришло.
4 января. Буря продолжается…
14 января. Дожди. Обломком скалы убило человека.
15 января. Ветер. Корабль не смог отплыть.
22 января. Сильнейшая буря. Пять кораблекрушений у западного берега.
24 января. Буря продолжается. Несчастья повсюду.
В этом уголке океана почти никогда не бывает отдыха.
Но самую большую опасность для судов, плывущих вдоль архипелага, представляют даже не бури — приближение шквала чувствуется задолго. Хороший моряк всегда может успеть войти в гавань, укрепиться, спустить паруса. Гибельные угрозы этих мест невидимы, и чем лучше погода, тем они коварнее.
Для борьбы с такими опасностями требуется особое уменье. Моряки с западного берега Гернзея достигли в этом высокого мастерства. Никто больше не изучил так, как они, три опасности в часы затишья: морские течения, водовороты и подводные скалы.
Глава 5
Порт Сен-Пьер
Столица Гернзея — порт Сен-Пьер — была построена полностью из дерева, привезенного из Сен-Мало. Доныне на главной улице города сохранился великолепный каменный дом XVI века.
Город раскинулся на живописных холмах и в долине, окружающей старую гавань. Он кажется зажатым в исполинский кулак великана. Лощины между холмами образуют улицы, лестницы дают возможность пересекать возвышенности наперерез. Лошади галопом несут повозки по улицам порта Сен-Пьер.
На базарной площади круглый год, не обращая внимания ни на дождь, ни на холод, сидят торговки. Тут же на площади стоит бронзовая статуя какой-то знатной особы. На Джерсее в год выпадает целый фут осадков, на Гернзее — десять с половиной дюймов. Лучшие лавки принадлежат торговцам, продающим рыбу: они торгуют своим товаром в просторных, удобных помещениях, раскладывая великолепный улов гернзейских рыболовов на мраморных столах.
В городе нет публичной библиотеки, но есть техническое и литературное общества, есть коллеж. Особенно охотно население строит церкви. Зачастую на улице можно встретить тележку, нагруженную стрельчатыми оконными рамами, сделанными каким-нибудь искусным плотником для вновь строящегося храма.
Есть также здание суда. Лиловая судейская мантия обладает большим весом. В минувшем столетии мясники не смели продавать населению ни одного фунта говядины, прежде чем члены суда не отбирали для себя мяса по вкусу.
С общественными церквами соперничают частные часовни. Войдите в какую-нибудь из них, и вы услышите, как один крестьянин объясняет другому, что Богородица и Дева Мария — это совсем не одно и то же, что Бог-Отец всемогущ, а Христос — всего лишь человек. При этих спорах часто присутствуют нетерпимые ирландские католики, поэтому теологические беседы нередко заканчиваются кулачным боем.
Здесь строго соблюдается воскресенье. В этот день можно делать все что угодно, только не пить. Если вы захотите утолить «субботнюю жажду» и потребуете стакан пива у почтенного Амоса Чика, торгующего элем и сидром, вы его кровно оскорбите. Таков воскресный закон: пойте, но не пейте. Кроме того, имя Божье можно употреблять лишь в молитве. Помимо молитвы, вместо слов «мой бог», нужно говорить «мой добрый». Одна молодая француженка, учительница, была отстранена от должности за богохульство, так как она, найдя свои потерянные ножницы, воскликнула: «Ах, боже мой!».
Есть и театр. Вход в него представляет собой простую калитку, ведущую в длинный коридор. По архитектурному стилю это здание напоминает сеновал. Театр — порождение дьявола, а так как последний не пользуется почетом, ему отведено плохое помещение. Напротив театра расположена тюрьма — другое обиталище дьявола.
На северном холме, в Кестль-Кэри, собрана ценная коллекция картин, принадлежащих преимущественно кисти испанских мастеров. Она могла бы стать музеем, если бы ее открыли для публики. В некоторых аристократических домах можно найти художественные изразцовые печи и прекрасные изделия из фаянса.
В порту Сен-Пьер столько же деревьев, сколько и крыш; птичьих гнезд там больше, чем домов, и щебетание пичуг заглушает грохот телег. Белый, чистый квартал Роге похож на аристократические кварталы Лондона.
Но если пересечь овраг, перейти через Миль-стрит, затем через узкий проход между двумя высокими зданиями и подняться по бесконечной расшатанной лестнице с неровными ступенями — взгляду откроется какой-то странный азиатский город: жалкие хижины, грязные мостовые, потрескавшиеся стены и крыши, заросшие травой подоконники и пороги, торчащие балки, кучи развалин и мусора вперемежку с лачугами, где ютятся голые ребятишки и бледные женщины.
Оборванные старухи ходят из дома в дом, перепродавая мелкий товар, купленный ими на базаре. Они с трудом зарабатывают несколько медяков в день. Вот слова одной из них: «Знаете ли, я скопила за эту неделю семь су». Когда-то какой-то путешественник дал такой женщине пять франков, и она воскликнула: «О, благодарю вас, сударь, теперь я смогу закупать товар оптом!»
В мае начинают приходить суда, и рейд наполняется увеселительными яхтами; большинство из них — парусные, но попадаются и пароходы. Некоторые яхты обходятся владельцам по сто тысяч франков в месяц.
Крикет пользуется успехом, а бокс понемногу исчезает. Общества трезвости приобретают все большее влияние. Они устраивают процессии и несут знамена с такой торжественностью, что приводят в восхищение даже содержателей питейных заведений. Бывает, трактирщица, прислуживая пьянице, говорит ему: «Выпейте стаканчик, но не напивайтесь до полусмерти».
Местные жители отличаются здоровьем, красотой и добродушием. Городская тюрьма зачастую пустует. Если в праздничные дни в темнице бывают арестанты, тюремщик устраивает для них маленький семейный банкет.
Архитектура города верна старине — королеве, Библии и выдвижным опускным окнам. Летом мужчины купаются голыми: купаться в белье считается неприличным, потому что оно подчеркивает наготу.
Матери прекрасно умеют одевать своих детей: невозможно представить себе ничего более прелестного, чем разнообразные кокетливые туалеты гернзейских малышей. Дети ходят по улицам совершенно одни — среди населения царит трогательное доверие друг к другу. Ребятишки постарше следят за самыми маленькими.
В отношении моды Гернзей подражает Парижу, хотя иногда резкие цвета нарядов указывают на близость Англии.
На Гернзее находятся известные судостроительные верфи. Многие корабли заходят сюда для починки. Поврежденные суда выволакиваются на берег под звуки музыки. Владельцы верфей говорят, что флейта при работе приносит больше пользы, чем руки трудяг.
Местные щеголи ни за что не покажутся на улице с папкой или портфелем под мышкой, но это не мешает им по субботам ходить на базар с корзиной для закупки продуктов. Посреди города возвышается башня; поводом к ее постройке явился приезд кого-то из членов королевского дома. По обе стороны одной из улиц тянется кладбище. Часть кладбищенской стены представляет собой могильный памятник с надписью: «Февраль 1610 года».
В городе есть чудесный сквер, где много зелени, он напоминает лучшие уголки Елисейских полей, но тут его прелесть еще и усиливается морским пейзажем.
В витринах элегантного магазина висят объявления: «Здесь продаются излюбленные духи шестого артиллерийского полка».
По городу всегда разъезжают телеги, нагруженные пивными бочками и мешками с углем. Гуляя по Сен-Пьеру, вы поминутно встречаете различные объявления: «Здесь по-прежнему дается напрокат замечательный племенной бык»; «Здесь платят дорого за железный лом, стекло, кости»; «Продается отборный молодой картофель»; «Продаются решетки для ползучих растений, несколько тонн кормовых отрубей, полный набор английских дверных принадлежностей для гостиной, а также откормленная свинья с фермы Монплезир»; «Продаются новые деревянные башмаки, морковь сотнями и новый французский клистир»; «Воспрещается чистить рыбу и сваливать мусор»; «Продается дойная ослица» и т. д. и т. п.
Глава 6
Джерсей, Ориньи, Серк
Острова Ламанша — частицы Франции, упавшие в море и подобранные Англией. Поэтому трудно точно установить национальность местного населения. Джерсейцы и гернзейцы хотят быть англичанами, но им это не удается. Сами того не сознавая, они являются французами. Если же и знают о своей национальной принадлежности, то стараются об этом не думать. Однако французский язык, на котором они говорят, выдает их.
Архипелаг состоит из четырех островов: двух больших — Джерсея и Гернзея и двух маленьких — Ориньи и Серка. Мелкие островки — не в счет.
Как мы уже говорили, бури в проливе Ламанш ужасны. Архипелаг — край ветров. Между островами образовались коридоры, способствующие сквозняку. Но то, что является бедствием на море, дает земле лишь пользу. Ветер порождает бури, однако уносит миазмы. Это общий закон всех архипелагов. На Гернзее никогда не было холеры. Впрочем, в средние века здесь однажды свирепствовала эпидемия чумы. Для того чтобы остановить ее, бальи[635] пришлось предать огню все судебные архивы.
Во Франции эти острова называют английскими, а в Англии — нормандскими. Островам предоставлено право чеканить свою монету, но только медную.
Как уже было сказано, океан оторвал Джерсей от Франции в 709 году. Море поглотило тогда двенадцать приходов. Некоторые из живущих в Нормандии семейств до сих пор считают себя владельцами этих участков; но их собственность дремлет на дне океана.
Глава 7
История, предания, религия
Первоначально все шесть приходов Гернзея принадлежали виконту Котантенскому Неелю, сраженному во время битвы в долине Дюн в 1047 году. Тогда, по преданию, на Ламаншских островах находился вулкан; Джерсей же был завоеван дважды — Цезарем и Роллоном. Благодаря последнему появился возглас «Haro» («Ha! Rollo!»). Восклицание это повторяется на островах трижды: обиженный становится на колени посреди большой дороги, и все вокруг обязаны прекратить работу до тех пор, пока не восстановится справедливость.
До Роллона, герцога Нормандского, архипелагом правил Соломон, царь Бретонский. Этим объясняется нормандский характер Джерсея и бретонский колорит Гернзея. К тому же и природа здесь как бы отражает историю: на Джерсее больше лугов, на Гернзее — скал; Джерсей весь покрыт зеленью, Гернзей одет в гранит.
Один из Пап в XV веке объявил острова Джерсей и Гернзей нейтральными. Война, по-видимому, занимала его больше, чем церковные раздоры.
Здесь очень много церквей. Эта подробность стоит внимания: церкви попадаются на каждом шагу. Католицизм воцарился тут прочно: каждый уголок островов пестрит часовнями больше, чем любое испанское или итальянское селение таких же размеров.
На островах немало самых различных религиозных сект. Есть даже мормоны. Их библии отличаются тем, что в них слово «сатана» пишется с маленькой буквы.
Кстати, о Сатане: здесь ненавидят Вольтера и отождествляют его с Сатаной. Когда речь заходит о Вольтере, все разногласия между отдельными сектами прекращаются и мормон объединяется с англиканцем в общей ненависти. Предание анафеме Вольтера — вот точка пересечения всех разновидностей протестантизма. Примечательно, что протестанты и католики одинаково ненавидят Вольтера. Прислушайтесь: здесь отказывают Вольтеру в гении, таланте, даже в уме! Когда он состарился, его подвергли изгнанию, после смерти Вольтера предают анафеме. Но о нем продолжают спорить. Это и есть настоящая слава. Разве можно говорить об этом человеке спокойно? Личность, господствовавшая над веком и воплотившая в себе прогресс человечества, неизбежно имеет дело не с беспристрастной критикой, а с ненавистью.
Глава 8
Местные особенности
Каждый из островов архипелага имеет свою денежную единицу, свое наречие, правительство, свои предрассудки. Джерсейцев больше всего беспокоит французский собственник: как бы он не купил весь остров. Вследствие этого на Джерсее иностранцам запрещается приобретать землю; на Гернзее, однако, разрешается. Зато религиозное ханжество на первом острове меньше, чем на втором: жители Джерсея могут совершать воскресные прогулки, в то время как гернзейцы этого не делают.
Различие в системах денежных единиц, мер и веса на островах порождает ряд затруднений. Английский шиллинг, который стоит у нас двадцать пять су, на Джерсее равен двадцати шести, а на Гернзее — двадцати четырем. Точно так же различны и меры веса, и меры длины. На Гернзее пользуются французскими деньгами, именуя их по-английски: франк здесь называют «десять пенсов».
Женщин на архипелаге больше, чем мужчин: на пять мужчин приходится шесть женщин.
Гернзей имеет несколько названий, в их числе есть археологические: ученые называют его Гранозией, англофилы — Малой Англией. Он и на самом деле напоминает своей формой Британский остров, а маленький островок Серк был бы его Ирландией, если бы не располагался к востоку от Гернзея.
В омывающих остров водах встречается около двухсот разновидностей раковин и до сорока сортов губок.
На Гернзее принят старый французский кодекс законов, относящийся к 1331 году, который называется «Заповеди Ассиза». Джерсей обладает тремя или четырьмя старыми нормандскими кодексами законов.
Гернзей вывозит уксус, скот, плоды, но больше всего занят распродажей частей самого острова — главным предметом торговли является гипс и гранит.
На острове много необитаемых домов. Почему? Ответ, по крайней мере, для некоторых найдется, быть может, в одной из глав этой книги.
В начале столетия Джерсей был занят русскими войсками. Они оставили на острове своих коней, и поэтому джерсейская лошадь представляет собой помесь нормандской и казацкой: это сильные, выносливые скакуны, достойные того, чтобы ходить под седлом Танкреда или Мазепы.
В XVII веке между Гернзеем и замком Корнэ велась гражданская война. Замок Корнэ держал сторону Стюартов, а Гернзей — Кромвеля. Это почти то же самое, как если бы остров Сен-Луи объявил войну Ормской набережной.
На Джерсее существуют две партии: «Розы» и «Лавра», другими словами — виги и тори[636]. Жители острова отдают предпочтение иерархии, кастам, раздорам и разногласиям. Кто-то очень удачно назвал этот архипелаг неисследованной Нормандией. Гернзейцы до такой степени проникнуты психологией островитян, что создали островки даже внутри населения. Верхушку общества составляют шестьдесят аристократических семейств, которые держатся особняком. Следующая прослойка состоит из сорока семейств, также изолированных; остальное население — простонародье. Власти — и местные, и английские — делятся так: десять приходов, десять ректоров, двадцать старшин, сто шестьдесят десятских, королевский суд с прокурором и контрольной палатой, парламент, именуемый «штатами», двенадцать судей и один верховный судья. Законами служат обычаи древней Нормандии. Прокурора можно сменить, но судья переизбранию не подлежит — сугубо английская особенность. Кроме судьи, гражданского правителя, есть еще духовный декан и военный губернатор.
Глава 9
Плоды цивилизации на архипелаге
Джерсей является седьмым по величине портом Англии. В 1845 году острова имели 440 судов вместимостью в общей сложности 42 тысячи тонн. Товарооборот достигал шестидесяти тонн ввоза и пятидесяти четырех тонн вывоза. Порт посещали ежегодно 1265 судов различных государств. За двадцать лет эти цифры увеличились более чем втрое.
Местные деньги находятся в широком обращении у населения, и это дает прекрасные результаты. На Джерсее каждый имеет право выпускать банковые билеты. В случае, когда такие билеты имеют достаточное обеспечение, открывается новый банк. Билеты неизменно выпускают достоинством в один фунт стерлингов. Если бы обитатели островов поняли значение процентных бумаг, они, без сомнения, ввели бы их в оборот, и тогда бы создалось любопытное положение: одна и та же операция являлась бы утопией в Европе и осуществленным фактом на архипелаге. В этом маленьком уголке мира совершился бы финансовый переворот.
Обитатели Джерсея отличаются умом, твердостью, живостью. При желании джерсейцы могли бы стать прекрасными французами. Гернзейцы же гораздо более рассудительны, им свойственны солидность и медлительность.
Вообще жители островов намного культурнее и выше развиты, чем мы себе представляем. Здесь выпускаются газеты на французском и английском языках: шесть на Джерсее и четыре на Гернзее. Это прекрасные большие издания. Таков уж могущественный дух Англии. Представьте себе необитаемый остров, куда прибыл Робинзон. На следующий же день он принялся бы за издание газеты, а Пятница стал бы ее подписчиком.
В завершение необходимо упомянуть объявления — море объявлений. Плакаты и афиши всех цветов и размеров, раскрашенные, с иллюстрациями в тексте.
На всех стенах гернзейских домов расклеено изображение огромного человека с колоколом в руке, рекламирующего какой-то товар. На Гернзее, пожалуй, больше афиш, чем во всей Франции.
И эта реклама дает совершенно неожиданные результаты, приучая местных жителей к чтению, делая их более культурными. Вам может выпасть возможность заговорить в пути с безукоризненно одетым прохожим: на нем черный сюртук, застегнутый на все пуговицы, с белоснежным воротничком. Разговорившись, он задаст вам вопрос о Джоне Броуне или о Гарибальди. Не принимайте его за духовное лицо: вы ошибетесь. Это простой пастух. Один из современных писателей, приехав на Джерсей, зашел в бакалейную лавку. Дверь в гостиную, прилегающая к магазину, была открыта, и он заметил там в книжном шкафу, на котором стоял бюст Гомера, в числе книг полное собрание своих сочинений.
Глава 10
Другие особенности
Острова Ламанша живут по-братски, а если их обитатели и задевают друг друга, то довольно миролюбиво. Ориньи, подчиненный Гернзею и недовольный этим, хотел бы захватить первенство в свои руки и подчинить Гернзей себе. Гернзей отвечает на это беззлобной народной песенкой:
Прочь, Пьер, прочь, Жан, Гернзейцы идут!Население всего архипелага представляет собой единую семью детей моря, в которой случаются разногласия, но никогда не бывает вражды. Тот, кто считает их грубыми, не прав. Весьма распространен рассказ о том, что островитяне приветствуют друг друга следующим образом: гернзейцы говорят: «Вы ослы!», а джерсейцы отвечают: «Вы гады!» Это сущая неправда. Таких выражений на Нормандском архипелаге не услышишь.
Ориньи отличается большим оживлением. На островах он подобен Лондону. Дочь смотрителя одного из маяков на острове Каско отправилась в Ориньи, когда ей исполнилось двадцать лет. Она была совершенно оглушена шумом и движением в Ориньи и поспешила возвратиться на свою уединенную скалу. Да и неудивительно: до того она ни разу не видела быков, а увидев лошадь, закричала: «Какая большая собака!»
На нормандских островах люди очень рано начинают считаться старыми. Вот, например, разговор двух прохожих: «А знаешь, ведь старик-то, который приходил сюда ежедневно, умер». — «А сколько лет ему было?» — «Да лет тридцать шесть, не меньше».
Женщины-островитянки — не знаю, хорошо это или плохо — с большой неохотой соглашаются идти в прислуги. Держать в доме двух служанок почти невозможно. Они ни в чем не соглашаются уступать друг другу. Поэтому прислуга постоянно ссорится и часто ее меняют. На хозяев слуги обращают очень мало внимания, хотя ничего против них не имеют. В 1852 году некое французское семейство, поселившись на Джерсее, наняло кухарку и горничную. Одним декабрьским утром, встав на рассвете, хозяин обнаружил, что входная дверь распахнута настежь. Обеих прислуг и след простыл. Оказалось, они, поссорившись, решили не оставаться больше ни минуты в этом доме, хотя не получили жалованье за свои услуги. Женщины собрали свои пожитки и разошлись, каждая в свою сторону, покинув спящих хозяев и оставив дверь открытой. На прощанье одна из них заявила: «Я не могу оставаться в одном доме с пьяницей», а другая ответила, что не намерена делить кров с воровкой.
«Гляди в оба на десять!» — такова излюбленная поговорка островитян. Она означает, что если у вас в услужении находится работник или работница, вы ни на минуту не должны спускать глаз с их десяти пальцев. Это совет опытного хозяина — извечное недоверие к извечной лени. Дидро где-то рассказывает, что когда ему в Голландии потребовалось вставить разбитое оконное стекло, к нему для этой цели явилось пятеро рабочих: один нес новое стекло, второй — замазку, третий — ведро с водой, четвертый — лопатку и пятый — губку. Впятером они вставили стекло за два дня.
Согласно нормандскому обычаю, если девушка забеременеет, она должна объявить публично, кто является отцом ребенка. Иногда это бывает не так легко, и ей приходится выбирать, на ком остановиться.
Жители островов говорят на исковерканном французском языке, но это не их вина. Как было сказано выше, лет пятнадцать назад на Джерсей переселилось несколько французов (отметим, кстати, что местные не могли понять, почему эти люди покинули свою родину, их называли «с жиру взбесившимися»). К одному из таких эмигрантов явился с визитом вместе со своей женой учитель французского языка, давно живущий на острове. Он был эльзасец. В разговоре мужчина принялся возмущаться по поводу того французского наречия, на котором говорят нормандцы. Когда жена обратилась к нему с каким-то замечанием, он попросил ее не устраивать ему здесь сцен. И все это произносилось на самом невозможном исковерканном жаргоне. Чего уж тут требовать от коренных жителей острова!
Глава 11
Законы, обычаи и нравы
Необходимо, однако, заметить, что в настоящее время на каждом острове есть коллеж и несколько школ, преподают в которых прекрасные учителя, среди них и французы, и коренные жители архипелага.
Что же касается местного наречия, над которым издевался учитель-эльзасец, то это настоящий язык, имеющий все права на существование. Наречие это очень богато и оригинально, хотя в основе его лежит французский.
Излюбленный цветок островов — лилия. Англия охотно перенимает то, что во Франции выходит из моды. Почти возле каждого домика можно полюбоваться изгородью из лилий.
На архипелаге весьма щепетильно относятся к неравным бракам. На одном из островов, кажется, Ориньи, сын крупного виноторговца женился на дочери простого шапочника. Такой поступок вызвал всеобщее возмущение, все порицали бедного юношу, а одна чопорная дама, услыхав об этом, воскликнула: «Бедные родители!»
На Гернзее подать руку женщине — значит сделать ей предложение. Новобрачная после свадьбы в течение восьми дней выходит из дому только для того, чтобы посетить церковь. Очевидно, тюремное заключение должно сделать для нее медовый месяц еще более сладким, а может быть, считается, что подчеркнутая стыдливость к лицу невесте. Зато бракосочетания здесь совершаются почти без всяких формальностей. Рассказывают о разговоре между старухой-матерью и сорокалетней дочерью, подслушанном на Джерсее:
— Почему ты не выходишь замуж за Стевенса?
— Вы что же, матушка, хотите, чтобы я выходила за него замуж дважды?
— То есть как это?
— Да ведь мы с ним поженились четыре месяца назад.
В октябре 1863 года одна девушка на Гернзее была приговорена к шести неделям тюремного заключения за то, что «надоедала своему отцу».
Глава 12
Продолжение перечня особенностей
На Ламаншских островах воздвигнуты две статуи. Одна из них находится на Гернзее. Это так называемый «Принц-супруг»; вторая стоит на Джерсее и называется «Позолоченный король». Такое название ей присвоили потому, что никто не знает, кого она должна изображать. Статуя стоит на главной площади столицы Джерсея — Сен-Гелье. Пусть эта фигура и анонимна, но она все же льстит самолюбию населения, словно олицетворение чьей-то славы. Статуи вырастают на земле редко, зато уж и достигают внушительных размеров.
На Джерсее имеется «Гора повешенных». Гернзею ее недостает. Шестьдесят лет назад здесь повесили человека, укравшего двенадцать су. В то же самое время в Англии повесили тринадцатилетнего ребенка за кражу пирожного, а во Франции отправили на гильотину невинного Лезюрка. Вот она какая, смертная казнь, во всей своей красе!
В настоящее время Джерсей оказался более передовым, чем Лондон: там уже не применяется виселица. Смертная казнь негласно отменена.
В тюрьме тщательно следят за тем, что читают заключенные. Им разрешена только Библия. В 1830 году одному французу, приговоренному к смерти, позволили в ожидании казни читать трагедии Вольтера. Теперь такое нарушение правил было бы недопустимым. Предпоследним повешенным на Гернзее был француз; Тапнер, надо надеяться, — последний.
До 1825 года гернзейский верховный судья получал триста ливров жалованья, как ему было назначено еще при Эдуарде III. Это составляло около пятидесяти франков. Теперь он получает триста фунтов стерлингов. Королевский суд в Джерсее называется «шумным собранием», женщина, выступающая на процессе, — «актрисой». На Гернзее до сих пор практикуется наказание кнутом; на Джерсее приговоренных сажают в железную клетку.
Население непочтительно относится к святым мощам, но с благоговением отправляется смотреть на старые сапоги Карла II, хранящиеся в замке Сент-Уэн.
Жителей до сих пор облагают податным сбором, взимаемым специальными сборщиками. Прежде такую подать следовало платить окороками, теперь — курами. Автор этих строк обязан ежегодно вносить двух куриц в фонд английской королевы.
Налоги здесь исчисляются довольно странным образом: в расчет принимают общее состояние плательщика, существующее или предполагаемое. Поэтому крупные собственники избегают этих островов. Если бы Ротшильд поселился на Гернзее в маленькой дачке, купленной за двадцать тысяч франков, он должен был бы платить сто пятьдесят тысяч франков налога в год. Нужно, однако, отметить, что если бы он жил здесь только пять месяцев в году, то не платил бы ничего. Решающим является шестой месяц.
Климат островов — вечная весна. Бывают, разумеется, и зима, и лето, но без резких переходов — здесь нет ни сенегальской жары, ни сибирских холодов. Для чахоточных англичан острова — место излечения. Некоторые уголки Гернзея, как, например Сен-Мартен, — это настоящая Ницца. Нигде не встретишь более зеленых, нежных и свежих склонов.
На островах есть и свой высший свет. В этом кругу ведутся великосветские разговоры на французском языке, такие же приятные, как везде, если не считать своеобразного произношения.
Глава 13
Как уживаются противоположности
Здесь существует право старшинства, подати, деление на приходы, землевладельцы, конфискация имущества, право выкупа наследственного имения, судьи, сенешали, сотники и пр.
Вы думаете, это настоящее средневековье? Нет, это настоящая свобода. Приезжайте, поживите, посмотрите. Отправляйтесь, куда хотите, делайте, что хотите, будьте, кем хотите. Никто не имеет права спрашивать у вас, кто вы такой. У вас есть бог? Поклоняйтесь ему. У вас есть флаг? Можете его вывесить. Где? На улице. Он у вас белый? Хорошо. Синий? Очень хорошо. Красный? Ну что ж, красный цвет — тоже цвет. Вам нравится громить правительство? Влезайте на тумбу и вещайте. Вы хотите собрать вокруг себя слушателей? Собирайте. Сколько? Сколько хотите. Какие на сей счет существуют ограничения? Никаких. Вы хотите устроить собрание? Устраивайте. Где? На любой площади. Вы желаете объявить поход против королевской власти? Это никого не касается. Вы хотите расклеивать афиши? Стены к вашим услугам. Думайте, говорите, пишите, издавайте, произносите речи — все это ваше личное дело.
Раз можно слушать и читать все что угодно, значит, с другой стороны, можно что угодно говорить и писать. Отсюда полная свобода слова и печати. Каждому разрешено быть издателем, апостолом, жрецом. Можете быть даже Папой: для этого вы должны лишь изобрести новую религию. Придумайте новую форму божества и становитесь его пророком. Это никого не удивит. Если понадобится, полицейские вам помогут, но мешать не станут ни в коем случае. Невиданное зрелище: полная свобода! Судебные процессы свободно обсуждаются: можно поучать проповедника и судить судью. Газеты пишут: «Вчера суд вынес неправильный приговор».
Эта свобода терпит только одно ограничение. О нем мы уже говорили. В Англии царит тиран. Имя ему — воскресенье. Английский народ создал поговорку: «Время — деньги». И несмотря на это, тиран-воскресенье сжимает рабочую неделю до шести дней, другими словами — отнимает у англичан седьмую часть их капитала. Всякое сопротивление бесполезно. Воскресенье царит над нравами, оно деспотичнее всех законов. Воскресенье — английский король, а роль принца Уэльского играет при нем сплин. Скука имеет свои права, она в этот день закрывает двери мастерских, лабораторий, библиотек, музеев, театров, чуть ли не садов и парков. Нужно, однако, оговориться: Гернзей больше находится во власти английского воскресенья, чем Джерсей. Если в Гернзее бедная трактирщица нальет в воскресный день прохожему кружку пива, она подвергается за это пятнадцати суткам тюремного заключения. Один сапожник, недавно приехавший на остров, хотел потрудиться в воскресенье с целью заработать несколько лишних грошей для жены и детей. Он вынужден был закрыть ставни, чтобы, заглушив стук молотка, избежать штрафа. Художник, только что приехавший из Парижа, остановился, желая изобразить дерево. Полисмен немедленно подошел к нему, предложил прекратить «это безобразие» и согласился отпустить его только из милости. Парикмахер, побривший в воскресенье прохожего, заплатил три фунта стерлингов штрафа. А как же иначе, ведь Бог-то в этот день отдыхал!
Но все же это счастливый народ: он свободен шесть дней в неделю. Если здесь воскресенье является синонимом рабства, то мы знаем народы, у которых неделя состоит из семи воскресных дней.
Рано или поздно и это последнее ограничение исчезнет. Наступает закат предрассудков так же, как и монархии. Такой час близится.
Цивилизация на Нормандском архипелаге вступила в свои права и теперь уже не остановится. Население сохранило первобытные черты, но это не мешает ему воспринимать новые веяния. В XVII веке до него донеслось эхо английской революции, в XIX — отголосок революции французской. Два раза над островами пронеслось дыхание независимости.
А впрочем, всякие острова проникнуты духом свободы. Близость моря и ветра делают свое дело.
Глава 14
Пристанище
Эти острова, когда-то столь суровые, теперь укротили свой нрав. Прежде они были неприступны, ныне служат убежищем. Места гибели превратились в места спасения. Сюда стремятся те, кому удается спастись от бури. Сюда приходят все, перенесшие шквал: морской ураган или ураган революции. Моряк и изгнанник, побывавшие в пучине, отогреваются рядом под лучами гостеприимного солнца. Когда-то на каменистом берегу Гернзея сидел молодой Шатобриан, нищий, одинокий, лишенный родины. Какая-то добрая женщина обратилась к нему: «Не нужно ли вам чего-нибудь, мой друг?» Какое счастье для француза, изгнанного из Франции, услышать здесь родной язык, провинциальное произношение, возгласы наших портов, припевы наших улиц и полей!
Для человека, только что потерпевшего кораблекрушение и впервые бродящего по этим неизвестным местам, одиночество порой бывает невыносимым. Кажется, весь воздух наполнен отчаянием. Но внезапно он чувствует какую-то ласку, чье-то нежное прикосновение. Что это такое? Звук, слово, вздох? Нет. Однако этого достаточно.
Лет десять-двенадцать назад один француз, незадолго до того попавший на Гернзей, бродил по скалам западного берега, одинокий, печальный, скорбно вспоминая покинутую родину. В Париже прогуливаются безо всякой цели, на Гернзее бродят. Остров показался ему неприветливым. Кругом все утопало в тумане, волны ударялись о берег, море обрушивало на прибрежные утесы пенистые валы, небо было черным и мрачным. Это случилось весной; но весна на море чаще приносит ураганы, чем нежный ветерок. Бывает, в майские дни злые порывы ветра доносят клочки морской пены до верхушки сигнальной мачты на крыше замка Корнэ. Французу чудилось, что он попал в Англию; он не знал ни слова по-английски; изорванный ветром британский флаг развевался на куполе полуразрушенной башни, стоявшей на краю пустынного мыса; вдали виднелись две-три хижины; кругом был один лишь песок да колючий терновник; на берегу торчали старые батареи с широкими амбразурами. Камни, обтесанные человеческой рукой, казались такими же мрачными, как утесы, отшлифованные морем. Француз чувствовал, что в душе его растет печаль, тоска по родине. Он осмотрелся, начал прислушиваться: нигде ни одного светлого проблеска; в небе — тяжелые тучи, над морем — хищные птицы; весь горизонт точно затянут свинцом; сверху словно спускается непроницаемая завеса: призрак сплина в саване бурь; ничто не сулит надежды, ничто не напоминает о родине. Думы изгнанника становились все более мрачными.
Внезапно он поднял голову. Из приоткрытой двери ближайшей хижины доносился звонкий, свежий, нежный детский голосок, распевавший:
Зной полей, зной лесов, Зной любовных утех!Глава 15
Фанатизм
Однако не все, что занесено на острова из Франции, хорошо. Однажды в воскресенье прохожий подслушал на острове Серке куплет старой гугенотской песенки, которую фанатично распевал во дворе фермы хор:
Все смердят как падаль, Только сладчайший Иисус благоухает.Грустно, тяжело подумать о том, что под эту песенку люди умирали. Этот куплет, вызывающий невольную улыбку, трагичен по существу. Над ним смеются, а следовало бы плакать. Под эти слова Боссюет, один из сорока бессмертных членов Французской академии, кричал: «Бей их!»
Но, в конце концов, форма песни не играет роли. Фанатизм ужасен, когда он преследует кого-нибудь. Когда же сам он подвергается преследованию, то становится величественным и трогательным. В душе каждого фанатика раздается великий мрачный гимн без слов. В этом гимне все смешное превращается в значительное.
Глава 16
Человек-разрушитель
Со временем очертания островов изменяются. Остров — это постройка океана. Материя вечна, но не ее внешняя форма. Все на земле подвержено разрушению, даже гранит, даже сверхчеловеческие гиганты. Все меняет свой образ, и безобразное тоже. Сооружения моря разрушаются так же, как и всякие иные.
Море воздвигает их и само же ниспровергает.
Человек помогает морю не в созидании, а в разрушении.
Из всех зубцов колеса времени самый разрушительный — кирка человека. Человек — грызун. Он должен изменять все, что его окружает, к лучшему или к худшему, но изменять. Его ничто не остановит. Сперва он застывает перед преградой, а потом преодолевает ее. Нельзя установить, где находится грань невозможного.
Геологическое строение природы, в основе которого лежит ил великого потопа, а на вершине — вечные снега, является для человека такой же стеной, как всякая другая; он рассекает ее и шествует дальше. Он роет каналы на перешейках, проводит туннели через горные массивы, врезается в недра земли, срезает вершины и раздробляет мысы. Прежде он трудился во имя богов. Теперь — для себя самого. Он поумнел, и это называется прогрессом. Человек работает над усовершенствованием своего дома, и этот дом — земной шар.
Быть может, настанет день, когда человеку захочется сравнять Альпы с лицом земли. Земля же позволяет муравью копошиться.
Ребенок, ломая игрушку, надеется увидеть внутри нее душу. Кажется, что и человек ищет душу земного шара.
Глава 17
Доброта островитян
Тот, кто видел Нормандский архипелаг, любит его; тот, кто жил там, уважает его население.
Местные жители островов благородны и великодушны. Это истые моряки. Люди с Ламаншских островов — совершенно особенные. Признавая в настоящее время первенство за «большой землей», они, однако, относятся свысока к англичанам. Те в свою очередь презирают эти «три-четыре цветочных горшка, погруженные в воду», как они называют архипелаг. Джерсей и Гернзей отвечают: «Мы — нормандцы, и мы в свое время победили Англию». Услышав эти слова, можно улыбнуться, но, право слово, можно искренно ими восхищаться.
Придет время, и Париж введет эти острова в моду, они расцветут; они этого заслуживают. Когда острова прославятся, их ожидает быстрый прогресс. Они обладают редким сочетанием: их климат располагает к лени, а население отличается исключительным трудолюбием.
От своих предков-контрабандистов островитяне сохранили любовь к риску и опасностям. Нет такого места, куда они не решились бы отправиться. В настоящее время Нормандский архипелаг приобретает колонии, как некогда Греческий. В этом залог его будущей славы. Есть уже джерсейцы и гернзейцы, переселившиеся в Австралию, в Калифорнию, на Цейлон. В Северной Америке уже появились Нью-Джерсей и Нью-Гернзей. Эти англо-норманны, застывшие в своем сектантстве, все же весьма восприимчивы к прогрессу. Они суеверны, но рассудительны. Однако разве Франция не занималась разбоем? Разве Англия не была когда-то страной людоедов? Будем скромны; вспомним о наших татуированных предках.
Там, где царил разбой, процветает торговля. Какое чудесное превращение! Оно создано временем, но и человек, без сомнения, принимал участие в этом деле. Прекрасным примером тому является крошечный архипелаг. Эти маленькие народцы — эталон цивилизованной нации. Они достойны любви и уважения. В них, как в капле воды, отражается весь ход развития человечества. Джерсей, Гернзей, Ориньи — прежде притоны, теперь — мастерские, прежде подводные камни, теперь — мирные порты.
Для наблюдателя ряда изменений, именуемого историей, это волнующее зрелище: на его глазах морской народец поднимается по лестнице цивилизации. Человек постепенно выступает из обволакивающей его тьмы и поворачиваются лицом к солнцу. Ничего не может быть величественнее и патетичнее. Бывший пират теперь рабочий, бывший дикарь — гражданин, бывший волк — человек. Стал ли он от этого менее смелым? Нет. Но его смелость нашла лучшее применение. Какая ослепительная разница между теперешней навигацией — морской, речной, торговой, честной, братской — и прежним бессистемным плаванием, девизом которого было: «человек человеку волк». Заграждения превратились в мосты, вражда — в помощь, пираты — в опытных лоцманов. А их предприимчивость и смелость только возросли. Этот край остался страной приключений, но стал также местом честного труда. И чем ужаснее было прошлое, тем поразительней превращение. Глядя на осколки яичной скорлупы, поражаешься мощному взлету вылупившегося из нее орла. Теперь уже можно спокойно говорить о морском разбое, которым прежде занимались жители Нормандского архипелага.
Наблюдая за белыми, веселыми парусами, торжествующими и спокойно проплывающими через лабиринты подводных рифов под надежной охраной электрических маяков, невольно с удовлетворением думаешь о том, как далеко зашел прогресс человечества. И тогда перед глазами встают старые суровые моряки, которые плывут по черным волнам в своих утлых челноках на свет разбросанных по берегу костров, задуваемых яростными порывами ветра.
Часть I ГОСПОДИН КЛЮБЕН
Книга I
Как создается дурная репутация. Слово, написанное на чистой странице
Рождество 182… года было на Гернзее исключительным. Выпал снег. На Ламаншских островах вода зимой почти никогда не замерзает, а снег здесь — настоящее событие.
В то утро дорога, ведущая вдоль берега порта Сен-Пьер к Валлю, совершенно побелела — снег валил от полуночи до зари. Около девяти часов, вскоре после восхода солнца, этот путь казался почти безлюдным. Англиканцам еще рано было отправляться в церковь Святого Сампсония, а кальвинистам — в Эльдадскую часовню.
На всем расстоянии между двумя башнями можно было встретить только трех прохожих: ребенка, мужчину и женщину. Все трое шли на некотором отдалении друг от друга и, казалось, ничем не были связаны между собой. Ребенок, восьмилетний мальчик, остановившись посреди дороги, с любопытством разглядывал снег. Мужчина шагал за женщиной на расстоянии добрых ста шагов. Оба они шли в одном направлении — от церкви Святого Сампсония. Мужчина был молод, по внешнему виду казался матросом или рабочим, в будничной одежде, и это давало понять, что, несмотря на праздник, он не собирается в церковь. На нем была куртка из грубого коричневого сукна и просмоленные штаны. Его башмаки из толстой кожи, подбитые большими гвоздями, оставляли на снегу след, напоминающий скорее тюремный замок, нежели человеческую ногу. Но зато женщина уж, конечно, была одета для церкви — в широкой теплой накидке, покрытой черным шелком, из-под которой виднелось нарядное платье из ирландского поплина, белого с розовым. Если бы не красные чулки, ее можно было принять за парижанку. Она шла вперед быстро и легко, той походкой, по которой всегда узнают молодую девушку, еще не задетую житейским горем. Во всех ее движениях сквозила грация неясного переходного периода, когда ребенок становится женщиной. Мужчина не обращал на нее внимания.
Внезапно девушка остановилась возле группы дубов, росших на повороте дороги. Она повернулась, и это движение заставило мужчину взглянуть на нее. Одно мгновение она, казалось, размышляла о чем-то, затем нагнулась, и мужчине показалось, будто она чертит что-то пальцем на снегу. Выпрямившись, быстро побежала вперед, затем еще раз обернулась и, засмеявшись, исчезла на боковой тропинке, заросшей живой изгородью и ведущей к Лиерскому замку. Когда она обернулась во второй раз, мужчина узнал в ней Дерюшетту, самую красивую девушку в окрестностях.
Но это не заставило его поторопиться. Через несколько минут он очутился возле группы дубов на повороте дороги. Он уже не думал о девушке, убежавшей по тропинке. Возможно, если бы в это время увидел морскую свинку на берегу или снегиря в кустах, то прошел бы мимо дубов, ничего не замечая. Но случайно в ту минуту его глаза были устремлены вниз, и взгляд невольно упал туда, где останавливалась молодая девушка. Он увидел отпечатки маленьких ножек, а рядом с ними слово, начертанное на снегу: «Жиллиат».
Это было его имя.
Его звали Жиллиат.
Он долго стоял неподвижно, разглядывая надпись, следы, снег, — потом задумчиво продолжил свой путь.
На задворках
Жиллиат жил в приходе церкви Святого Сампсония. Его там не любили. И на то имелись причины.
Прежде всего, он жил в доме, который считался «нечистым». На Джерсее и Гернзее попадаются в деревнях, а иногда даже и в городе на людных улицах, — дома, вход в которые заколочен. Окна нижнего этажа в них забиты досками, напоминающими отвратительный пластырь; окна верхних этажей одновременно открыты и закрыты, потому что все оконные рамы заперты на задвижки, а стекла выбиты. Если к такому жилищу прилегает двор, то он весь зарос травой, а забор развалился; если есть сад, то в нем растет лишь крапива, терновник и репей, и там можно найти самых редких насекомых. Дымоходы развалились, крыша потрескалась. Внутри дом пришел в полный упадок: дерево сгнило, камень заплесневел, обои отстали от стен. В таких постройках можно найти старинные обои различных эпох: времен Империи — с изображениями драконов, времен Директории — с изображением полумесяца, времен Людовика XVI — с балюстрадами и колоннами. Густая паутина, полная дохлых мух, свидетельствует о том, что пауков здесь никто не тревожит. На полу — осколки разбитой посуды. Таков дом, который считают «нечистым». По ночам его посещает дьявол.
Дом, так же как и человек, может превратиться в труп. Чтобы убить жилище, достаточно окружить его суеверием. Тогда оно становится страшным. Такие мертвые дома нередки на островах Ламанша.
Крестьяне и моряки вообще верят в нечистую силу. Обитатели Ламаншского архипелага могут сообщать вам самые точные сведения о привычках и характере дьявола, они убеждены, что он имеет своих наместников во всех странах света.
Нормандские рыбаки, пребывая в море, должны держать ухо востро, чтобы не поддаться на удочку дьявола. Вот, например, в течение долгого времени все думали, что на утесе Ортах между Ориньи и Каске живет Святой Маклу. Многие старые матросы не раз видели, как он сидел на скале, читая книгу. Поэтому, проезжая мимо того места, все матросы каждый раз становились на колени, пока наконец дьявольский обман не был обнаружен и не уступил место истине. Оказалось, что на скале жил не святой, а сам сатана, прикидывавшийся святым в течение нескольких веков! Даже церковь иногда совершает ошибки. Нужно тонко разбираться в дьяволах, чтобы не поддаться их обману.
Местные старожилы рассказывают — это относится, правда, к давно минувшим временам, — что католическое население Нормандского архипелага имело раньше, хотя и невольно, гораздо более тесные сношения с демоном, нежели протестанты. Чем это было вызвано — неизвестно, однако достоверно лишь то, что дьявол приносил им тогда очень много неприятностей. Избрав католиков, он придумывал тысячу поводов для того, чтобы досадить им. Он позволял себе совершенно недопустимые фамильярности. Одной из его излюбленных шалостей были ночные визиты в католические семьи в тот момент, когда муж уже крепко спал, а жена только начинала дремать. Это порождало массу недоразумений. Патулье[637] склонялся к мысли, что Вольтер был рожден подобным образом. В конце концов, тут нет ничего невероятного. Такие случаи известны и даже описаны в книгах заклинаний под рубрикой «De erroribus nocturnis et de semine diabolotum»[638]. Особенно свирепствовал дьявол в Сен-Гелье в конце прошлого столетия. Возможно, это было наказанием за грехи революции. Последствия революционных излишеств ведь неисчислимы. Достоверно лишь то, что этот таинственный пришелец — кто бы он там ни был: демон или нет, — обнимал по ночам в темноте не одну правоверную женщину. Что может быть приятнее, чем дать жизнь Вольтеру! Одна из этих особ, обеспокоенная происшедшим недоразумением, обратилась во время исповеди за разрешением собственных сомнений к своему духовному отцу. Тот ответил: «Если вы хотите убедиться, с кем имеете дело — с дьяволом или со своим мужем, пощупайте его лоб; ежели у него окажутся рога, вы будете уверены…» — «В чем?» — спросила женщина.
Дом, в котором жил Жиллиат, прежде считался нечистым. Но хотя привидения давно оставили жилище в покое, здание все же оставалось под подозрением. Каждый знает: если в доме, принадлежащем дьяволу, поселяется колдун, дьявол успокаивается и перестает туда являться, считая, что дом попал в надежные руки. Сатана относится к колдуну вежливо и приходит только тогда, кода тот его позовет как врача.
Дом назывался «Бю-де-ля-Рю». Он был построен на краю длинной косы или, вернее, утеса, возле которого находилась маленькая гавань Гуме-Паради. Вода в этом месте очень глубока. Дом стоял одиноко, почти оторванный от всего острова. К постройке прилегал маленький садик. Случалось, волны затопляли этот сад. Между Сен-Сампсоном и бухтой Гуме-Паради возвышался холм, на вершине которого было здание, увенчанное башнями и носившее название «Валльский замок». Благодаря этому холму Бю-де-ля-Рю не был виден из Сен-Сампсона.
Колдунов в Гернзее можно встретить весьма часто. Они занимаются своим делом, и XIX век против них бессилен. Их занятия зачастую преступны: они плавят золото, собирают травы по ночам, напускают порчу на скот. К ним обращаются за врачебной помощью; колдуны заставляют приносить им в бутылках «воду больных», смотрят на нее и зловеще заявляют, что «вода не предвещает ничего хорошего». Какой-то из них однажды, в марте 1856 года, обнаружил в «воде» больного семь чертенят.
Местные жители боятся колдунов. Один чародей недавно наслал порчу на булочника и на его печь; другой тщательно заклеивал и прятал пустые конверты; третий хранил на полке какие-то запечатанные бутылки. Некоторые колдуны настолько любезны, что соглашаются за две-три гинеи принять все болезни на себя. Они начинают с криками корчиться и кататься по кровати, а больной заявляет, что ему стало лучше. Многие из чародеев исцеляют страждущих, обвязывая их обыкновенным платком. Это средство так просто, что поразительно, как никто раньше не додумался до такого. В прошлом столетии колдунов в Гернзее сжигали живьем. Теперь их приговаривают к двум месяцам тюремного заключения: четыре недели на хлебе и воде и четыре недели в карцере.
«Твоей будущей жене»
Вернемся к Жиллиату.
Сохранился рассказ о женщине, которая после революции приехала на Гернзей с маленьким ребенком. Она, скорее всего, была англичанкой, во всяком случае — не француженкой. Точное ее имя неизвестно; гернзейское произношение превратило его в «Жиллиат». Женщина жила одна с ребенком, о котором говорили разное: он приходился ей не то племянником, не то внуком, не то сыном, не то вообще ей совершенно чужой. Денег у нее было мало, жила она бедно, купила клочок земли в Сержанте и маленькую усадьбу близ Рокена. Дом Бю-де-ля-Рю в то время являлся нечистым. Он был необитаемым уже в течение тридцати лет и почти развалился. Сад не приносил никаких плодов — море слишком часто заливало его. Кроме ночных шорохов и отблесков, от дома людей отпугивала еще и легенда о том, что, если там оставить вечером на камине моток шерсти, спицы и полную тарелку супа, наутро суп окажется съеденным, а из шерсти будет связана пара рукавиц. Дом продавался с дьяволом в придачу за несколько фунтов стерлингов. Женщина купила его. Ее прельстила дешевизна, а может быть, и сам дьявол.
Она не только приобрела дом, но и поселилась в нем со своим ребенком, и с этого момента в жилище стало тихо. Окрестные жители решили, что дьявол добился того, чего желал. Привидения больше не появлялись. Не слышно было и таинственных голосов, огонь загорался только тогда, когда его зажигала хозяйка дома. Подсвечник колдуньи стóит факела дьявола — таково было общее мнение.
Женщина старалась вести свое хозяйство как можно лучше. У нее была прекрасная корова, дававшая жирные сливки. Хозяйка разводила белую фасоль, кабачки и картофель. Собранные овощи продавала, но сама на базар не ездила, а весь свой урожай отдавала Джильберту Фаллиоту, крестьянину из прихода Святого Сампсония.
Дом кое-как привели в порядок, настолько, чтобы в нем можно было жить. Крыша протекала лишь при особенно сильных ливнях. Постройка состояла из одного этажа и чердака. Внизу располагалось три комнаты: в двух из них спали, одна служила столовой. В одной из комнат была лестница, ведущая на чердак.
Женщина занималась хозяйством и учила мальчика грамоте. Она не ходила ни в какую церковь; все вскоре решили, что она француженка. Но получить достоверную информацию об этих людях никто не мог. Возможно, она действительно была француженкой. Вулканы выбрасывают камни, а революция — людей. Члены одной и той же семьи оказываются отделенными друг от друга огромными расстояниями, теряют родину и близких. Судьба бросает кого-то из них в Германию, других в Англию, третьих в Америку. У жителей тех стран они вызывают изумление. Откуда взялись эти незнакомцы? Какая буря занесла их сюда? Таким аэролитам[639], заброшенным, изгнанным, местные жители дают разные названия: их зовут эмигрантами, беглецами, авантюристами. Если они остаются, — их терпят поневоле; если уходят — радуются. Зачастую это совершенно безобидные люди, особенно женщины, которых обстоятельства заставили отправиться на чужбину помимо их воли. Они ошеломлены всем тем, что с ними произошло, но не питают к кому-либо ненависти или злобы. Они пускают корни там, где это им удается. Не причинив никому ни малейшего зла, они не понимают того, что с ними произошло. Я видел как-то пучок травы, подброшенный в воздух взрывом гранаты. Французская революция мощнее, чем самый сильный взрыв, далеко расшвыряла свои осколки.
Быть может, женщина, которую на Гернзее называли Жиллиатшей, была одним из таких осколков.
Женщина старилась, ребенок рос. Они жили одиноко и замкнуто, не нуждаясь в людях: волчица и волчонок довольствовались обществом друг друга. Это было одной из причин того, что от них отстранились. Ребенок превратился в подростка, подросток — в мужчину. Жизнь шла своим чередом, и, наконец, мать умерла. Она оставила сыну луг в Сержанте, усадьбу, дом Бю-де-ля-Рю, а кроме того, как было сказано в официальной описи, «сто золотых гиней в чулке». В доме была необходимая мебель: два дубовых сундука, две кровати, шесть стульев, стол и домашняя утварь. На полке — несколько книг, а в углу — странный ящик, который открыли при составлении описи. Этот ящик был обит кожей с украшениями из медных гвоздей и оловянных звезд. В нем нашли полное женское приданое из хорошего тонкого полотна: рубашки, юбки, несколько кусков шелковой материи. Там же лежала записка, написанная рукой покойной: «Твоей будущей жене».
Эта смерть была для сына большим ударом. Раньше он казался нелюдимым, теперь стал мрачным. Пустыня сомкнулась вокруг него. Наступило не просто одиночество, а пустота. Вдвоем такая жизнь еще возможна. Будчи одиноким, вынести ее нельзя. Приходит полное отчаяние. Потом уж начинаешь понимать, что долг человека — примириться. Ты вынужден выбирать между жизнью и смертью. Выбор падает на первую, но он оставляет в душе глубокий след.
Жиллиат был молод, и это смягчало его печаль. В таком возрасте сердечные раны быстро заживают. Наполнявшая все его существо грусть мало-помалу перешла в любовь к природе, стала его утешением, превратилась в привязанность к вещам и нелюбовь к людям. Его душа привыкла к одиночеству.
Дурная слава
Мы уже говорили, что в приходе не любили Жиллиата. Это вполне понятно: причин было достаточно. Прежде всего, как сказано, к подобному отношению располагал дом, где он жил. Затем — его происхождение. Кем была эта женщина? И что это за ребенок? Жители той страны не любят иностранцев, окруженных тайной. Потом — его одежда простого рабочего. Ведь если он и не был богат, то, во всяком случае, мог жить безбедно, не ударяя пальцем о палец. А его сад, за которым он ухаживал, и огород, где, несмотря на холодные ветры, он выращивал отличный картофель; огромные фолианты, которые хранил на полке и часто читал.
Были еще и другие причины.
Почему он жил таким отшельником? Бю-де-ля-Рю словно объявили карантин, все чуждались Жиллиата и в то же время удивлялись его необщительности, перекладывая на него ответственность за одинокий образ жизни.
Мужчина никогда не посещал церковь, часто выходил из дому по ночам. Вероятно, он имел дело с духами. Однажды его видели сидящим на траве; взгляд у него был оторопелым. Говорили, будто он ходит к каким-то зачарованным камням, раскланивается с так называемой «Певучей скалой». Он покупал массу птиц и выпускал их на волю. Он был почтителен с видными особами города, но всегда старался сделать крюк, чтобы избежать встречи с ними. Он часто занимался рыбной ловлей и постоянно возвращался с хорошим уловом. По воскресеньям не прекращал работ в своем саду. У него была волынка, которую он купил у проходивших через Гернзей шотландских солдат. Вечерами Жиллиат уходил на берег моря, поднимался на утесы и там играл на ней. Рассказывают, что иногда он, следуя куда-нибудь, делал на ходу странные движения, словно сеятель на пашне. Можно ли было после всего этого относиться к нему доверчиво?
Книги, которые он унаследовал от матери и читал, тоже были небезопасны. Жакмен Герод, патер церкви Святого Сампсония, когда входил в дом перед погребением матери Жиллиата, прочел на корешках их заглавия; вот они: «Словарь» и «Кандид» Вольтера, «Советы народу о здоровьи» Тиссо. Один французский дворянин, эмигрант, живший в Сен-Сампсоне, сказал: «Это, должно быть, тот самый Тиссо, который нес по улицам голову мадам де Ламбаль».
На одной из книг патер прочел особенно опасное и подозрительное заглавие: «Рубарбаро».
Необходимо, впрочем, заметить, что книга была, как это видно по ее заглавию, написана по-латыни, так что Жиллиат, не знавший латинского языка, вряд ли мог читать ее.
Но ведь именно это и подозрительно — человек держит у себя книги, которые он не может читать. Инквизиция обсудила данный вопрос, и он не подлежит сомнению.
На самом деле то был трактат доктора Тилингуса о ревене, опубликованный в Германии в 1679 году.
Жиллиата подозревали также в том, что он приготовляет разные зелья, настойки и лекарства, на что указывало большое количество склянок. И почему он отправлялся на вечерние прогулки к береговым утесам, часто оставаясь там до полуночи? Очевидно, для того, чтобы беседовать с духами, слетающимися в эти часы к берегу моря. Однажды он помог колдунье из Тортеваля, старухе по имени Муттон Гаи, вытащить ее тележку из глины.
Когда во время переписи жителей острова Жиллиату задали вопрос о роде его занятий, он ответил: «Я рыбак, когда попадается рыба». Поставьте себя на место тех, кто его спрашивал, и вы поймете, что такой ответ не может понравиться.
Бедность и богатство — понятия относительные. У Жиллиата были земля и дом, и, по сравнению с теми, у кого нет ничего, он не являлся бедняком. Одна из местных девушек хотела его испытать, и, пытаясь закинуть удочку — ведь женщины готовы выйти замуж хоть за дьявола, если только он богат, — спросила Жиллиата: «Когда же вы женитесь?» Он ответил: «Тогда, когда «Певучая скала» выйдет замуж».
«Певучая скала» — большой камень, торчавший на участке господина Лемезюрье де Фри. Это был таинственный камень. На его вершине раздавалось пение петуха, но самой птицы увидеть никому не удавалось. Считали, будто на скале обитает нечистая сила.
Как видите, были основания для того, чтобы полагать, что Жиллиат водится с духами. Однажды в полночь, во время грозы, Жиллиат находился в лодке на море неподалеку от Сомельеза, и люди слышали, как он спрашивал кого-то:
— Здесь можно проехать?
С высоты скалы донесся какой-то голос:
— Гляди в оба! Смелей!
К кому же он обращался, как не к дьяволу, который ему ответил? Дело ясное.
В другой раз, в такой же ненастный вечер, когда стояла непроглядная тьма, близ Катьо-Рока, цепи утесов, на которых ведьмы, черти и козлы пляшут по пятницам, жители слышали голос Жиллиата, беседовавшего с ними. Разговор был такой:
— Как поживает Везен, Бровар? (Это каменщик, упавший с крыши.)
— Он поправляется.
— Правда? А ведь он полетел с большой высоты. Удивительно, как это он не переломал костей.
— Всю прошлую неделю стояла хорошая погода для рыбной ловли.
— Не то что сегодня.
— Еще бы! Ни рыбешки нет на рынке.
— Ветер-то какой!
— Они не смогут даже раскинуть сети.
— Как поживает Катерина?
— Прекрасно. (Катерина была, разумеется, ведьмой.)
Словом, скорее всего, Жиллиат орудовал по ночам. Никто в этом не сомневался.
На дороге, ведущей в Сен-Сампсон, уступами лежат три камня. На верхнем из них находился раньше не то крест, не то виселица. Эти камни считались подозрительными.
Почтенные люди, которые не станут зря болтать, видели, как Жиллиат, стоя возле этих камней, беседовал с жабой. Жаб вообще на Гернзее нет: там водятся исключительно ящерицы, а жабами славится Джерсей. Очевидно, жаба эта приплыла на Гернзей, чтобы побеседовать с Жиллиатом. Разговор носил дружеский характер.
Факты эти несомненны, а доказательством служит то, что камни до сих пор стоят на том же месте.
Кто этому не верит, может пойти и убедиться; там даже поблизости находится дом с вывеской: «Торговец скотом и битым мясом, воронками, железом, костями и табаком; точен в расчетах и внимателен к покупателям».
Никто не посмеет отрицать существования тех камней и того дома.
Все это говорило против Жиллиата.
Зачастую между крестьянами можно было услышать такой разговор:
— Не правда ли, сосед, у меня славный бык?
— Он что-то слишком ожирел.
— Да, пожалуй.
— Сплошное сало, в нем ведь совсем нет говядины. Ты уверен, что Жиллиат не мог его сглазить?
Иногда Жиллиат останавливался в поле около жнецов или у изгороди сада, в котором работали садовники, и обращался к ним со странными словами:
— Ясень зазеленел — заморозков больше не будет.
— Если не будет больше дождей, пшеница испортится.
— Черешня растет гроздьями, нужно за ней следить.
— Если на шестой день новолунья будет такая же погода, как на четвертый и на пятый, то она уж простоит десять дней из двенадцати в первой половине и одиннадцать дней из двенадцати во второй половине месяца.
— Следите за соседями, с которыми вы вступили в тяжбу. Как бы они не нанесли вам вреда.
— Если напоить свинью теплым молоком, она околеет. Если натереть корове зубы пыреем, она перестанет есть.
— Рыба мечет икру — остерегайтесь лихорадки.
— Лягушки выплывают на берег — пора сеять дыню.
— Трава цветет — сейте ячмень.
— Липа цветет — косите луга.
— Серебристый тополь цветет — открывайте парники.
— Табак зацвел — закрывайте теплицы.
Самое удивительное то, что все его советы были правильными.
В одну из июньских ночей он играл на волынке, сидя на дюне около Фонтенелля. И в ту ночь рыбаки, ловившие макрель, вытащили пустые сети.
Однажды вечером во время отлива, на берегу, неподалеку от дома Бю-де-ля-Рю, опрокинулась тележка с водорослями. Жиллиат, должно быть, испугался, как бы против него не возбудили дела, потому что старательно помогал поднять тележку и даже сам ее нагрузил.
У одной из соседских девочек, случилось, появились вши. Жиллиат отправился в порт Сен-Пьер, привез какую-то мазь и смазал ею ребенка: вши исчезли. Всем было совершенно ясно, что он сам наслал вшей на ребенка. Есть ведь такой заговор!
Жиллиат часто заглядывал в колодцы, а ведь это очень опасно, раз известно, что у человека дурной глаз; однажды в Аркюлоне, неподалеку от порта Сен-Пьер, вода в одном из колодцев испортилась. Хозяйка этого двора обратилась к Жиллиату, показав ему стакан воды. Жиллиат согласился, что жидкость мутная. Женщина, хотя и с недоверием, попросила его помочь ей. Жиллиат стал задавать ей вопросы: есть ли во дворе сток для нечистот, не проходит ли он близко от колодца. Женщина ответила утвердительно. Жиллиат отправился в хлев, принялся там возиться над стоком, отвел его в другую сторону, и вода в колодце стала хорошей. Это вызвало всяческие толки. Колодец не может испортиться, а потом исправиться без причины. Решили, будто Жиллиат сам испортил воду в колодце.
Однажды видели, как у Жиллиата шла из носу кровь. На это обратили внимание. Один судовладелец, много путешествовавший и объехавший весь свет, сообщил, что у всех тунгусских колдунов идет носом кровь. Если там видят человека с кровотечением из носа, с ним держатся настороже. Рассудительные люди заметили при этом: у тунгусских колдунов могут быть одни особенности, а у гернзейских — совершенно иные.
В Михайлов день видели, как Жиллиат остановился на лужайке у большой дороги, свистнул, и к нему тотчас же подлетел ворон, а вслед за ним сорока. В Гамеле некоторые старухи утверждали, будто слышали на рассвете, как ласточки называли Жиллиата по имени.
Ко всему этому он не отличался добротой.
Один несчастный человек колотил однажды своего осла. Упрямый осел не двигался с места. Бедняк ударил его несколько раз сапогом в живот, и осел упал. Жиллиат подбежал, чтобы поднять животное, однако оно оказалось мертвым. Тогда Жиллиат надавал бедному человеку пощечин.
В другой раз он увидел, что мальчик спускается с дерева с выводком неоперившихся птенцов. Жиллиат поступил с этим мальчуганом жестоко: он отнял у него птенцов и водворил их обратно в гнездо. Когда прохожие стали его упрекать, он ограничился лишь тем, что указал им на родителей птенцов, которые беспокойно кружились над деревом и сейчас же подлетели к своим детенышам. Он вообще питал слабость к птицам, а это свойственно колдунам.
Детям доставляло особое удовольствие разорять гнезда чаек и бакланов на прибрежных скалах. Они извлекали из них голубые, желтые и зеленые яйца, скорлупой которых украшали карнизы каминов. Так как эти скалы отвесные, ребятишки часто скользят, падают и разбиваются насмерть. Но ничто не может сравниться красотой с украшениями из яиц морских пичуг. А Жиллиат мешал детям и в этом. Рискуя собственной жизнью, он взбирался туда и сооружал там из старой одежды пугала, чтобы помешать птицам вить гнезда, а ребятишкам — их разорять.
Вот почему Жиллиата ненавидели все.
Другие недостатки Жиллиата
Мнения о Жиллиате расходились. Большинство местных жителей считали его оборотнем, некоторые утверждали, будто он сын женщины и дьявола.
Если женщина рожает семерых сыновей, седьмой из них обязательно оборотень. Но только в промежутках не должно родиться ни одной девочки.
У оборотня на теле непременно есть родимое пятно в виде лилии, т. е. герба короля Франции. В этой стране оборотней очень много, особенно в Орлеане. Там в каждой деревне живет оборотень. Для исцеления больного достаточно, чтобы оборотень подул на его раны или позволил ему прикоснуться к своей лилии. Особенно удачным такое лечение бывает в ночь на страстную субботу.
Оборотни есть также на островах Джерсей, Ориньи и Гернзей. Это, очевидно, потому, что Франция имеет все права на Нормандию. Иначе откуда бы взялось изображение лилии?
На Ламаншских островах много золотушных, которых оборотни умеют излечивать. Потому последние положительно необходимы.
Люди, видавшие, как Жиллиат купался в море, уверяли: у него на теле есть изображение лилии. Когда его спросили об этом, он расхохотался. Иногда Жиллиат смеялся, как все люди. С тех пор никто больше не видел его во время купания: он стал купаться в опасных и уединенных местах. Вероятно, делал это по ночам, при лунном свете, — еще одно подозрительное обстоятельство.
Те же, кто считал его сыном дьявола, по-видимому, ошибались. Им следовало знать, что дети сатаны водятся исключительно в Германии. Но ведь пятьдесят лет назад в той местности люди были так невежественны!
Верить в то, будто на острове Гернзее мог жить сын дьявола, — явное преувеличение!
Однако, несмотря на все это, к Жиллиату относились с почтением. Крестьяне, хотя и со страхом, задавали ему вопросы о своих болезнях. Но в этом страхе заключалось доверие. А в деревнях чем больше боятся врача, тем действеннее оказывается его средство. У Жиллиата были лекарства, оставленные ему покойной матерью. Он давал их всем, кто к нему обращался, и не хотел брать за них денег. Многие болезни он лечил травами; у него было также средство против лихорадки. Химик из прихода Святого Сампсония, по-нашему аптекарь, твердо верил, что это хинная настойка. Даже те, что были настроены по отношению к нему наименее доброжелательно, признавали: своими лекарствами он приносит пользу; но Жиллиат не хотел сознаваться в том, что он оборотень. Когда какой-нибудь золотушный просил у него разрешения дотронуться до его родимого пятна, он захлопывал дверь перед носом больного; он наотрез отказывался творить чудеса, а это не подобает колдуну. Не хотите — не будьте чародеем. Но если уж вы взялись за такое дело — исполняйте его как следует.
К Жиллиату питали антипатию все, но исключения были. Например, господин Ландуа, из Кло-Ландеса. Он работал секретарем в общине порта Сен-Пьер и вел запись рождений, смертей и браков. Он гордился своим происхождением — предком его был казначей Бретани Пьер Ландо, повешенный в 1485 году.
Однажды этот секретарь, купаясь в море, заплыл слишком далеко и чуть не утонул, Жиллиат бросился в воду, рискуя собственной жизнью, но спас Ландуа. С того дня Ландуа стал преданным другом Жиллиата. Тем, кто удивлялся этому, он отвечал: «Как могу я ненавидеть человека, который не только не сделал мне ничего плохого, но оказал мне услугу?» Не имея предрассудков, он даже полюбил Жиллиата.
В колдунов Ландуа не верил и смеялся над теми, кто испытывал боязнь к привидениям. У него была лодка, в свободные часы он развлекался рыбной ловлей, но никогда не видел ничего необычайного, если не считать призрака белой женщины, освещенной лунными лучами, она явилась ему однажды; да и в этом он не вполне был уверен.
Муттон Гаи, тортсвальская колдунья, дала ему ладанку, которая должна была охранять мужчину от нечистой силы; он смеялся над этим амулетом, не знал, что в нем внутри, но все-таки носил ладанку на шее, чувствуя себя более уверенно, когда она была при нем.
Нашлось несколько смельчаков, которые, следуя примеру господина Ландуа, признавали за Жиллиатом некоторые достоинства, отмечали его трезвость и воздержание. Иногда они отзывались о нем похвально, говоря, что он «не пьет, не курит, не нюхает и не жует табак».
Однако быть трезвым, не имея других достоинств, — этого еще мало.
Словом, Жиллиата чуждались, хотя и готовы были принимать его услуги. Однажды в полночь, под страстную субботу, в самый подходящий для того час, все золотушные со всего острова, сговорившись заранее или случайно, толпой явились к Бю-де-ля-Рю, жалуясь на свои страдания и прося Жиллиата вылечить их. Он отказался, подтвердив этим общее мнение о своем злом характере.
«Голландское брюхо»
Таков был Жиллиат.
Девушки считали его безобразным. Но это неправда. Возможно, он был даже красив. Он имел профиль древнего варвара. Когда Жиллиат сидел неподвижно, то напоминал одну из статуй Траяновой колонны. У него были маленькие нежные уши прекрасной формы. Между бровями его пролегла жесткая вертикальная морщина, отличающая смелых и решительных людей. Углы губ были опущены вниз, придавая рту выражение скорби. У него был благородный, выпуклый лоб, чистый, открытый взгляд, но он нередко моргал — эту привычку приобретают все рыбаки, которым приходится подолгу вглядываться в волны. Смеялся Жиллиат наивно и добродушно; его зубы при этом ослепительно блестели. Он загорел дочерна.
Нельзя безнаказанно проводить всю свою жизнь в обществе океана, ночи и бурь: Жиллиату исполнилось всего тридцать лет, а на вид ему можно было дать сорок пять. На лице мужчины лежал мрачный отпечаток ветра и моря.
Его прозвали Жиллиат-Хитрец.
В индийской сказке говорится: однажды Брама спросил у Силы: «Кто сильнее тебя?» Сила ответила: «Ловкость». Китайская поговорка гласит: «Чего бы только не смог совершить лев, если бы он был обезьяной». Жиллиат не был ни львом, ни обезьяной, но все, что он проделывал, подтверждало справедливость индийской сказки и китайской поговорки. Обладая средним ростом и силой, он ухитрялся, благодаря своей ловкости, поднимать огромные тяжести и творить чудеса, достойные атлета.
Он был прекрасным гимнастом и одинаково владел как правой, так и левой рукой.
Жиллиат не охотился, но увлекался рыбной ловлей. Птиц он жалел, однако к рыбам был беспощаден: горе немым! К тому же он замечательно плавал.
Одиночество создает или талантливых людей, или идиотов. В Жиллиате сочеталось и то другое. Временами у него бывал такой растерянный вид, что его можно было принять за дурачка. Но зато порой его взгляд становился необычайно значительным и глубоким.
Такие люди встречались в древней Халдее: внезапно простой пастух, озаряясь каким-то внутренним светом, превращался в кудесника.
В сущности Жиллиат был бедным человеком, умевшим лишь читать и писать. Возможно, он являлся чем-то средним между мечтателем и мыслителем. Мыслитель желает, мечтатель фантазирует. Одиночество превращает самые простые натуры в сложные: они проникаются священным трепетом. Тьма, в которую был погружен ум Жиллиата, состояла из двух различных элементов: внутри у него невежество и слабость, снаружи — таинственность и сила.
Взбираясь на утесы, крутые склоны, бродя в любую погоду по архипелагу, умея управлять каким угодно судном, пускаясь днем и ночью в самые опасные путешествия, не думая о выгоде, а лишь следуя голосу своей фантазии и собственных желаний, он превратился в прекрасного моряка.
Он был лоцманом от природы. Настоящий лоцман — это моряк, который знает морское дно лучше, чем морскую поверхность. Волна — лишь внешнее проявление тех подводных опасностей, которые таятся в глубине. Глядя на Жиллиата, лавирующего среди рифов и мелей Нормандского архипелага, можно было подумать, что в его мозгу хранится карта морского дна. Ему все было известно, и он на все отваживался.
Его исключительное знание моря блестяще проявилось во время устроенных как-то на Гернзее морских гонок. Нужно было одному на четырехпарусном ялике проплыть от Сен-Сампсона до острова Герм, находившегося на расстоянии одной мили, и вернуться от Герма к Сен-Сампсону. Проделать подобное нетрудно, каждый рыбак умеет это; но вот что усложняло дело: прежде всего, само судно, пузатый, старинный, широкий ялик, один из тех, которые моряки минувшего столетия называли «голландскими брюхами». Иногда еще и сейчас можно встретить на море такую старую роттердамскую лодку с двумя крыльями, поочередно поднимающимися на корме вместо руля. Во-вторых, с Герма нужно было возвратиться, нагрузив ялик камнями.
Победитель гонок получал лодку в собственность. До сих пор она была лоцманским судном; лоцман, управлявший ею на протяжении последних двадцати лет, был, пожалуй, самым лучшим моряком Ламанша. После смерти лоцмана не нашлось никого, кто мог бы его заменить, и решено было отдать ялик в виде приза победителю на гонках.
Барка эта, хотя и беспалубная, обладала несомненными достоинствами и могла соблазнить хорошего моряка. На носу ее стояла мачта, не уменьшавшая грузоподъемности лодки. Это было солидное, тяжелое, но выгодное судно. Из-за него стоило потягаться: состязание — не из легких, зато приз хорош.
Принять участие в гонках выразили желание семь или восемь самых смелых рыбаков. Они выезжали один за другим, но ни одному из них не удавалось добраться до Герма. Последний из состязавшихся славился тем, что переплыл на веслах во время бури пролив, отделявший Серк от Брек-Гу. Обливаясь потом, он вернулся с полдороги и заявил: «Нет, это невозможно». Тогда Жиллиат сел в лодку, ослабил паруса, схватился левой рукой за руль — и через три четверти часа добрался до Герма. Через три часа, несмотря на то что поднялся встречный южный ветер, Жиллиат возвратился в Сен-Сампсон с грузом камней. Из удальства и озорства он водрузил поверх камней небольшую бронзовую пушку, из которой жители острова Герм стреляли ежегодно 5 ноября в знак радости по поводу смерти Гюи Фарса. (Этот Фарс, между прочим, умер двести шестьдесят лет назад; радость, вызванная его смертью, необычайно продолжительна.)
Таким образом, барка Жиллиата была перегружена пушкой, южный ветер мешал ему, надувая паруса, но, несмотря на все, он привел, вернее притащил судно в Сен-Сампсон.
Увидев это, господин Летьерри воскликнул: «Вот настоящий моряк!» — и пожал Жиллиату руку. О господине Летьерри мы еще поговорим.
Барка была присуждена Жиллиату, что, однако, не избавило его от прозвища Хитрец.
Кое-кто уверял: во всем этом нет ничего удивительного, потому что Жиллиат якобы спрятал на дне судна кизиловую ветку. Но это ведь непроверенные слухи.
С того дня Жиллиат выходил в плаванье исключительно на этой лодке. В ней он отправлялся на рыбную ловлю. Он держал судно в прелестной маленькой бухте, находившейся под самой стеной Бю-де-ля-Рю. С наступлением темноты взваливал сети на плечи, пересекал сад, перелазил через каменный забор, прыгая с камня на камень, спускался в барку и выходил на ней в открытое море.
У него всегда бывал хороший улов, и это тоже приписывали тому, что на дне его лодки лежит кизиловая ветка. Той ветки никто не видел, но все верили в ее существование.
Излишки улова он не продавал, а раздавал бесплатно. Бедняки брали у него рыбу неохотно, все из-за той же ветки. Нельзя поступать с морем нечестно.
Жиллиат был не только моряком. Ради развлечения он изучил три или четыре ремесла. Был плотником, кузнецом, тележником, конопатчиком и даже механиком. Никто не умел починить колесо так, как он. Жиллиат собственными руками делал все рыболовные снасти. Возле дома он устроил маленькую кузницу с наковальней и сам выковал запасной якорь для своего ялика. Этот якорь был как раз нужного веса, и Жиллиат совершенно самостоятельно рассчитал его точную длину, необходимую для устойчивости якоря.
Все гвозди в бортах барки Жиллиат заменил винтами для того, чтобы в корпусе не было слишком больших отверстий. Постепенно он превратил свой ялик в прекрасное судно. Время от времени на месяц-другой отправлялся на какой-нибудь уединенный остров. Жители говорили: «Жиллиат-то опять исчез». Но это никого не тревожило.
Каков дом, таков и жилец
Жиллиат, имея собственные фантазии, был мечтателем. Отсюда все его странности.
Возможно, у него случались галлюцинации. Галлюцинациям подвержен и крестьянин, и король, как, например, Генрих IV. Неизвестное иногда преподносит неожиданности человеческому разуму. Завеса расступается, чтобы показать человеку невидимый мир и потом сомкнуться вновь. Иногда эти видения ведут людей к превращениям: погонщик верблюдов принимает облик Магомета, пастушка становится Жанной д’Арк. Лютер, беседовавший с бесами на чердаке в Виттемберге, Паскаль, закрывавший в своем кабинете вход в ад ширмами, негритянский колдун, споривший с белолицым богом, — все это различные формы одного и того же явления, зависимые от степени развития того или иного человеческого мозга. Лютер и Паскаль — великие люди; негр — ничтожество.
Жиллиат не являлся ни тем, ни другим: он был просто мечтателем, и больше ничего. Этот человек имел необычный взгляд на природу. Несколько раз он видел в морской воде странных, неизвестных ему животных из семейства медуз. Вынутые из воды, они напоминали мягкие бесцветные кристаллы. В море их почти нельзя было разглядеть, потому что они совершенно сливались с водяной массой. Он пришел к выводу, что если такие прозрачные существа живут в воде, то и в воздухе должны находиться подобные им прозрачные организмы. Птицы не жители воздуха; птицы — это амфибии. Жиллиат не верил в то, что воздух необитаем. Он рассуждал так: если море населено, то и атмосфера не может быть пуста. Создания, имеющие цвет воздуха, невидимы в световых лучах и скрываются от нашего взгляда. Но кто в состоянии убедить нас в том, что они не существуют? Аналогия подсказывает: в воздухе, как и в воде, должны жить какие-то существа; однако они, очевидно, прозрачны, потому что предусмотрительная природа должна была сотворить их такими ради них самих и ради нас. Они пропускают сквозь себя свет, не отбрасывают тени и не образуют силуэтов; они нам незнакомы, и мы не можем их поймать. Жиллиат воображал, что если была бы возможность высушить воздух или закинуть в него, как в пруд, невод, человек увидел бы массу удивительных существ. И тогда, думал он, много непонятных вещей разъяснилось бы.
Мечты — это неясная работа мысли, это почти сон. Воздух, населенный живыми созданиями, — начало неведомого. Дальше открывалась безграничная область возможного. В этой области другие существа, другие факты. Там нет ничего противоестественного; там лишь таинственное продолжение бесконечной природы. Будучи трудолюбивым, Жиллиат вел праздный образ жизни; он стал наблюдательным чудаком. Он проводил наблюдения даже над снами. Сон — это наша связь с возможным, которое мы также называем невероятным. Ночной мир — целая вселенная. Человеческий организм, находящийся под большим давлением атмосферы, устает к вечеру, человек падает от утомления, ложится, отдыхает, глаза его закрываются. И тогда у него, погруженного в сон, но далеко не бездейственного, открываются другие глаза, глядящие в неведомый мир. Расплывчатое чередование света и тени, смутные, туманные образы, носящиеся в темноте, — все это не что иное, как приближение к нам невидимой действительности. Сон — это аквариум ночи.
Так грезил Жиллиат.
Кресло Гильд-Гольм-Ур
Было бы бесполезно искать теперь в бухте Гуме-Паради домик Жиллиата, его сад и то место, куда он причаливал. Бю-де-ля-Рю больше не существует. Оконечность мыса, на которой стоял этот дом, была постепенно разрушена каменщиками, погружена на телеги и перевезена на корабли подрывателей скал и торговцев гранитом. Она превратилась в набережные, церкви и дворцы столицы. Каменные глыбы давно уже переправлены в Лондон.
Цепи невысоких скал, уходящих в море, увенчанные расселинами и зубцами, похожи на маленькие горные хребты; человек, смотрящий на них сверху, получает такое же впечатление, какое должен был бы получить великан, глядящий сверху на Кордильеры. Эти цепи имеют различную форму: некоторые из них похожи на спинной хребет, в котором каждый отдельный камень является позвонком; некоторые — на рыбью кость или на пьющего крокодила.
Цепь камней, отходившая от Бю-де-ля-Рю, оканчивалась большим утесом, прозванным гуметскими рыбаками Бычьим рогом. Он был пирамидальной формы; во время прилива вода покрывала камни и отделяла его от суши. А когда случался отлив, к нему можно было подойти, перескакивая с камня на камень.
Достопримечательность этого утеса — природное кресло, выдолбленное волнами и отполированное дождем. Оно было коварно. Красота вида привлекала путника; отсюда открывался широкий горизонт. Кресло как бы приглашало опуститься в него. Со стороны моря в скале образовалась удобная ниша; взобраться туда было легко: море размыло уступы вдоль склона утеса и образовало подобие лестницы из плоских камней.
Но бездна изменчива; ее любезности не следует доверять. Кресло манило вас, вы взбирались, усаживались. Сидеть было удобно. Сиденьем служил ровный, отполированный гранит, руки покоились на изогнутых каменных ручках, спинкой являлся высокий гранитный массив. Глядя на него снизу, нельзя поверить, что туда можно взобраться. В этом кресле легко забыться: перед глазами расстилается море, видны уходящие и приближающиеся корабли, можно следить взглядом за парусом, пока он не исчезнет на горизонте, наслаждаться, любоваться, глядеть, чувствовать ласку ветерка и слушать плеск волн. Но все это очарование усыпляло. Глаза, утомленные созерцанием красоты, смыкались. Внезапно сидящий просыпался. Однако было уже поздно. Прилив незаметно подкрался к креслу. Вода окружила утес. Это — гибель.
Осада моря ужасна.
Прилив начинается неожиданно, потом становится все сильнее. Добравшись до вершины утеса, волны бурлят, покрываются пеной. Плыть по ним невозможно. Лучшие пловцы тонули возле утеса Бычий рог.
Гернзейские старожилы называли эту нишу, созданную прибоем, кресло Гильд-Гольм-Ур.
Во время полного прилива кресла не было видно. Оно исчезало под водой.
Оно находилось очень близко от Бю-де-ля-Рю. Жиллиат хорошо его знал и часто сиживал там. Думал ли он в это время? Нет, он мечтал. Но не впадал в забытье, и море никогда не заставало его врасплох.
Книга II
Господин Летьерри. Бурная жизнь и спокойная совесть
Господин Летьерри, видная личность в Сен-Сампсоне, был отчаянным моряком. Он много плавал, сначала в качестве юнги, затем — матроса, парусного, рулевого, боцмана, штурмана, капитана и, наконец, хозяина судна. Никто не знал море так, как он, никто не был столь отважен при спасении погибающих.
В бурную погоду он расхаживал по берегу, всматриваясь в горизонт. Что это там такое? Кажется, кто-то попал в беду? Будь то лодка из Веймара, барка из Ориньи, яхта какого-нибудь лорда, будь то англичанин, француз, бедный, богатый, сам черт, — господин Летьерри прыгал в свою лодку, брал двух-трех надежных помощников, а иногда и совершенно один отвязывал суденышко, хватал весла и пускался в открытое море, взлетая на гребни волн, борясь с ураганом, презирая опасность. С берега можно было видеть, как он стоит в своей лодке, обливаемый потоками воды, освещенный вспышками молний, похожий на льва с гривой из морской пены. Иногда он проводил целые дни в море, рискуя жизнью, спасая под напором ветра гибнущие суда, людей, грузы, бросая вызов бушующей стихии. Вернувшись вечером к себе домой, он занимался вязанием чулок.
Такую жизнь господин Летьерри вел в течение пятидесяти лет — с десятилетнего до шестидесятилетнего возраста, пока силы ему не изменили. В шестьдесят он заметил, что уже не может поднять одной рукой кузнечный молот Варкленского кузнеца, весивший триста фунтов; кроме того, у него разыгрался ревматизм. Пришлось распрощаться с морем и перейти из возраста героя в возраст патриарха. Теперь он был стариком.
Одновременно с ревматизмом господин Летьерри нажил и материальные ценности. И одно и другое — плоды усердных трудов. Они дружны между собой. Человек добивается богатства, и в то же время его разбивает паралич. Таков венец жизни. Тогда человек говорит: «Теперь будем наслаждаться».
На таких островах, как Гернзей, население составляют люди, которые провели всю жизнь, трудясь над своим клочком земли, и те, что всю жизнь странствовали по свету. Это два вида тружеников — труженики земли и труженики моря. Господин Летьерри принадлежал ко вторым, но знал, однако, и землю. Он провел жизнь, полную трудов, ездил на континент, был корабельным плотником в Рошфоре и в Сетте. Он изучил Францию, будучи компаньоном владельца судостроительной верфи, работал на соляных копях в Франш-Конте. Его жизнь была полна приключений. Во Франции господин Летьерри научился читать, мыслить, желать. Он брался за все и все выполнял с величайшей честностью. Он был моряк по натуре, вода являлась его стихией. Он говорил: «Рыба живет у меня». В общем, вся его жизнь, за исключением двух-трех лет, была посвящена океану, «брошена в воду», как он выражался.
Господин Летьерри плавал по Атлантическому и Тихому океанам, но предпочитал Ламанш. «Вот это жестокое море!» — восклицал он с любовью. Здесь он родился и здесь хотел умереть. Совершив два или три кругосветных путешествия, изведав все, он возвратился на Гернзей и больше его не покидал. С тех пор самыми дальними из его путешествий стали поездки в Гранвиль и Сен-Мало.
Господин Летьерри был гернзеец, т. е. нормандец, англичанин и француз одновременно. Но его любовь к многоликой отчизне растворялась и как бы тонула в любви к его настоящей великой родине — океану. И все же, скитаясь по свету, он сохранил нравы нормандского рыбака.
Все это не мешало ему заглядывать иногда в книги, знать имена философов и поэтов и болтать кое-как на всех языках.
Его вкусы
Жиллиат был дикарем. Господин Летьерри тоже.
Но этот дикарь знал, что такое изящество.
Он очень строго относился к форме женских рук. Будучи совсем молодым, почти ребенком, не то юнгой, не то матросом, однажды услыхал, как адмирал Сюффрен воскликнул: «Прелестная девушка, но какие у нее огромные красные руки!» Слово адмирала — это команда. Это не просто изречение, а приказ. С тех пор Летьерри стал весьма разборчиво и требовательно относиться к маленьким белым женским ручкам. Его собственная рука, красная и широкая, как лопата, была увесиста, словно дубина, и цепка, будто клещи. Ударом кулака он мог разбить булыжник.
Господин Летьерри никогда не был женат. Он этого не хотел, а быть может, не нашел себе невесты по нраву. Возможно, это произошло потому, что он хотел найти себе жену с руками герцогини. Но среди портбайльских рыбачек не сыщешь ни одну с такими ручками.
Рассказывали, что когда-то в Рошфоре он нашел красотку — воплощение его идеала. Она была обворожительной девушкой с очень красивыми руками. Она любила сплетничать и царапаться. С ней нужно было быть начеку. Ее чистенькие, безукоризненные ноготки при надобности превращались в когти. Эти прелестные ноготки, очаровавшие Летьерри, затем стали его беспокоить: он не решился связать с девушкой свою жизнь и не повел ее к венцу.
В другой раз ему понравилась какая-то молодая особа из Ориньи. Он уже подумывал о женитьбе, но кто-то из крестьян сказал ему: «Поздравляю вас! Она прекрасно сушит навоз». Господин Летьерри не понял, что это значит. Ему объяснили. В Ориньи облепляют стены коровьим навозом. Это особое искусство. Когда навоз высыхает, он отваливается, и образовавшимися плитками топят печи. Если девушка хорошая навозница, ее охотно берут замуж. Это открытие обратило Летьерри в бегство.
В сущности, в вопросах любви он руководствовался не добродушной крестьянской философией, а рассудительностью матроса, который всегда кем-либо увлечен, но никогда не теряет голову. Он хвастался тем, что в молодости часто «бегал за женскими юбками».
У каждого человека есть свои слабости
Господин Летьерри был человек с душой нараспашку, щедрый и великодушный. Его главным недостатком являлось, собственно, достоинство: он был слишком доверчив. Обещания давал с особой торжественностью. Он говорил: «Я даю честное слово Господу Богу!» И такие клятвы выполнял во что бы то ни стало. В церковь господин Летьерри ходил из приличия. Пребывая в море, становился суеверным.
Буря никогда не могла заставить его отказаться от своих намерений; он не терпел, чтобы ему противоречили, будь то люди или океан. Он требовал, чтобы ему подчинились; если море сопротивлялось — тем хуже для него. Господин Летьерри не уступал и принуждал его смириться. Ни вздымающаяся волна, ни спорящий с ним сосед не могли остановить этого человека. Он делал то, что говорил, и выполнял то, что наметил. Он не склонялся ни перед доводами, ни перед бурей. Слово «нет» не существовало для него ни в устах человека, ни в вое урагана. Господин Летьерри добивался своего, он не принимал отказа. Поэтому был упрям в жизни и бесстрашен среди океана.
Он охотно варил себе сам уху, чудесно знал, сколько нужно положить в нее перцу, соли и кореньев. Он готовил ее и ел с удовольствием.
Представьте себе человека, прекрасного в матросской куртке, но безобразного в рединготе, похожего на Жана Барта[640], когда его волосы развеваются на ветру, и на шута, когда на нем круглая шляпа. Представьте человека неуклюжего на земле, но ловкого и бесстрашного в море; человека со спиной грузчика, который никогда не ругается, не сердится; человека с тихим, мягким голосом, способным становиться громовым. Представьте себе крестьянина, читающего «Энциклопедию», гернзейца — свидетеля революции, ученого-невежду; отнюдь не ханжу, но человека суеверного, верящего в приведения больше, чем в Богородицу. Представьте человека богатырского сложения, обладающего волей Христофора Колумба, в наружности которого есть что-то бычье и вместе с тем ребяческое: вздернутый нос, морщинистые щеки, рот со всеми зубами, лицо, на которое волны и ветер за сорок лет наложили неизгладимый отпечаток — следы пережитых бурь.
И при всем том добрый, ласковый взгляд.
Таков господин Летьерри.
У него были две привязанности: Дюранда и Дерюшетта.
Книга III
Дюранда и Дерюшетта. Болтовня и дым
Человеческое тело — это только оболочка, за которой скрывается действительность. Оболочка становится то более, то менее проницаемой. Действительность — это душа. Выражаясь точно: наше лицо — лишь маска. Истинный человек скрыт внутри. Если бы можно было увидеть настоящих людей, спрятанных под внешностью из крови и плоти, обнаружилось бы много удивительного. В мире совершается общая ошибка — внешний облик принимают за реальность. Есть, например, девушки, которые на самом деле, если их рассмотреть, оказались бы птицами.
А что может быть прелестнее птички, принявшей облик девушки? Такова была Дерюшетта. Восхитительное создание! Так и хотелось сказать ей: «Здравствуй, трясогузочка!». Крыльев не видать, но щебетание слышно. Временами она поет. Когда начинает болтать, она ниже мужчины, но когда поет — становится выше. В этом пении есть что-то загадочное: невинная девушка таит в себе ангела. Она становится женщиной, и ангел ее покидает, но потом возвращается, когда женщина превращается в мать. А пока жизнь не коснулась ее, та, которая когда-нибудь станет матерью, долго остается ребенком. Девушка продолжает быть маленькой девочкой, по-прежнему остается пташкой. Глядя на нее, невольно думаешь: «Как хорошо, что она не улетает!»
Это милое создание живет в доме, порхает с ветки на ветку, то есть из комнаты в комнату, прилетает, улетает, приближается, уходит, чистит свои перышки, расчесывает волосы, производя нелепый шорох и шум, лепечет вам на ухо. Оно задает вопросы, ему отвечают; его спрашивают, оно щебечет в ответ. С ним приятно болтать, а болтовня — отдых от разговора. Это неземное создание, солнечный блик на фоне ваших черных мыслей. Вы чувствуете благодарность за то, что сие легкое, воздушное, неуловимое создание не становится невидимым, ведь, казалось бы, подобное вполне для него доступно.
Красота необходима нам. Быть прелестным — одно из самых важных назначений на земле. Лес наполнился бы отчаянием, если бы в нем не было колибри. Сеять радость, излучать счастье, озарять своим светом мрачные стороны, служить позолотой, быть воплощенной гармонией, грацией, миловидностью — значит оказывать миру услугу. Красота дарит мне милость тем, что она прекрасна. Некоторые существа обладают способностью наполнять радостью все вокруг; иногда они сами того не подозревают, и это лишь усиливает их обаяние. Их присутствие озаряет, близость согревает; они проходят мимо — все им рады; они останавливаются — все счастливы. Смотреть на них — значит наслаждаться жизнью. Это сама заря в человеческом облике. Достаточно такому созданию присутствовать — дом превращается в рай. Оно распространяет радость на всех, а ему для этого делать ничего не нужно — только дышать одним воздухом с вами. Обладать улыбкой, которая, непонятно почему, облегчает тяжесть огромных цепей, влачимых всем человечеством, — это чудо.
У Дерюшетты была именно такая улыбка. Скажем больше: девушка сама являлась воплощенной улыбкой. Есть вещь, более характерная для нас, чем наше лицо. Это его выражение. Еще более, чем выражение лица, каждого человека раскрывает его улыбка. Дерюшетта с улыбкой на лице — такова была подлинная Дерюшетта.
Женщины и девушки островов Ламаншского архипелага известны своей цветущей, чистой красотой. В них сочетается саксонская белизна и нормандская свежесть; у них розовые щеки и голубые глаза. Этим глазам не хватает блеска: его убивает английское воспитание. Если бы их светлый взор обрел когда-нибудь глубокий блеск глаз парижских женщин, они стали бы неотразимы; но, к счастью, Париж не коснулся этих женщин. Дерюшетта не была парижанкой, однако и гернзейкой ее нельзя было назвать: она родилась в порту Сен-Пьер, но ее растил господин Летьерри. Он старался воспитать ее так, чтобы она была обворожительной; это ему удалось.
У Дерюшетты был холодный, однако в то же время бессознательно задорный взгляд. Она, быть может, даже не понимала значения слова «любовь», но между тем охотно кружила головы мужчинам. Правда, делала это без дурного умысла. Она не мечтала о замужестве. Один старик, эмигрант, поселившийся в Сен-Сампсоне, говорил о ней: «Эта малютка кокетничает вполне бескорыстно».
У Дерюшетты были самые маленькие, самые прелестные ручки на свете и такие же ножки. «Четыре мушиные лапки» — так называл их господин Летьерри. Все ее существо было проникнуто кротостью и добротой. Из родных у нее был только господин Летьерри, ее дядя. Таланты девушки заключались в умении петь несколько песенок, ее образование — в красоте, ум — в невинности, сердце — в неведении. Она отличалась ленивой грацией креолки, но иногда бывала живой и подвижной. Жизнерадостная как ребенок, она порой становилась меланхоличной; туалеты ее казались элегантными, но слегка вызывающими; круглый год девушка носила шляпы с цветами. У нее был чистый лоб, гибкая, нежная шея, каштановые волосы, белая, летом слегка веснушчатая кожа, полные, сочные губы, на которых играла обольстительная и опасная улыбка. Такова была Дерюшетта.
Порой, по вечерам, после захода солнца, в час, когда ночь окутывает море, а сумерки придают волнам зловещие очертания, можно было увидеть, как к Сен-Сампсону подходит, покачиваясь на пенящихся валах, какая-то бесформенная масса, гигантский силуэт некого свистящего и шипящего предмета, чудовище, ревущее словно зверь и дымящее будто вулкан. Чудовище вздымало пену, окутывалось туманом и приближалось к городу, грозно хлопая плавниками. Из его пасти вырывалось пламя.
Такова была Дюранда.
Судьба каждой утопии
Пароход в водах Ламанша в 182… — необычайное новшество. Все нормандское побережье в течение долгого времени было взволновано этим событием. Сейчас десять — двенадцать пароходов, курсирующих на горизонте, не привлекают уже ничьих взоров; разве только специалист бросит быстрый взгляд, оценивая, какого цвета дым валит из труб, для того чтобы определить, каким углем топят на судне котел — уэльским или ньюкэстльским. Никому нет до них дела. Пароход пришел — добро пожаловать, отчаливает — счастливого пути.
В первой четверти века к этим чудовищам относились не так спокойно. Жители Ламаншского архипелага весьма недружелюбно встречали шум колес и дым пароходных труб. На этих пуританских островах, где осуждали английскую королеву за то, что она нарушила библейскую заповедь, разрешившись от бремени под хлороформом («И будешь ты в муках рождать детей своих»), пароход сразу же окрестили «кораблем дьявола». Добродушным рыбакам, прежде католикам, а теперь — кальвинистам, но всегда одинаково набожным, пароход казался плавучим адом. Один из проповедников выступил с проповедью на тему о том, можно ли заставлять работать вместе огонь и воду, если Господь отделил их друг от друга. Разве это чудовище из огня и железа не напоминало Левиафана? Не означало ли это, что хаос воссоздан человеческими руками?
Безумная идея, грубое заблуждение, абсурд — таков был приговор Академии наук в начале века, когда Наполеон задумал построить судно, движимое паровой машиной. Простительно поэтому, что рыбаки из Сен-Сампсона в научном плане оказались не более передовыми, чем парижские ученые, а в отношении религиозных заблуждений маленький остров Гернзей не стал более просвещенным, чем такой огромный материк, как Америка.
В 1807 году был сооружен первый пароход Фультона. Его построили под наблюдением Ливингстона, на нем находилась паровая машина Уатта, присланная из Англии. 17 августа этот пароход совершил свой первый рейс из Нью-Йорка в Альбани; на нем, кроме экипажа, находились два француза — Андре Мишо и еще один. Во всех церквах в адрес этого изобретения раздавались проклятия проповедников; они доказывали, что цифра семнадцать является суммой двух цифр: десяти (десять слуг сатаны) и семи (семь голов апокалиптического зверя).
Ученые отвергали паровое судно как вещь невозможную; служители церкви восставали против него как против исчадия ада. Наука вынесла ему осуждение, религия — проклятие. Фультона считали посланником Люцифера. Простые жители побережий были встревожены этим новшеством. С точки зрения религии вода и огонь в природе разлучены. Так повелел Господь. Нельзя разделять то, что Бог слил воедино; нельзя соединять то, что он разделил. Точка зрения крестьян была проще: «Смотреть на этот корабль страшно».
Нужно было быть господином Летьерри для того, чтобы решиться в то время построить пароход на Гернзее. Лишь Летьерри мог задумать дело подобного рода, как свободный мыслитель, и выполнить его, как смелый моряк. Француз в нем породил эту идею; англичанин ее исполнил.
Каким образом — будет видно.
Рантен
Приблизительно за сорок лет до того, как происходили описываемые нами события, в одном из предместий Парижа, к городской стене прилепился подозрительный дом. Он стоял совершенно отдельно и мог, в случае надобности, служить местом любых преступлений. Там с женой и ребенком жил обыватель, превратившийся в преступника, бывший писец прокуратуры, ставший профессиональным вором и впоследствии оказавшийся на скамье подсудимых. Звали его Рантен. В их жилище, на комоде, стояли две расписные фарфоровые чашки. На одной из них золотыми буквами было написано: «В память о дружбе», на другой: «В знак уважения».
Ребенок рос в этой трущобе, с первых дней сталкиваясь с преступлением. Так как родители были выходцами из буржуазной среды, мальчик учился читать; его воспитывали как могли. Мать, бледная, одетая в лохмотья, по сохранившейся привычке старалась привить своему сыну «хорошие манеры», учила его читать по складам и зачастую прерывала это занятие для того, чтобы помочь мужу в каком-нибудь темном деле либо предложить прохожему свое тело. А ребенок в это время задумчиво сидел перед покинутой раскрытой Библией.
В один прекрасный день родители, арестованные где-то на месте преступления, исчезли. С ними исчез и мальчик.
Скитаясь по свету, Летьерри однажды встретил такого же искателя приключений, как он сам, спас его от какой-то беды, привязался к нему, взял с собой, привез на Гернзей, обнаружил в нем способности моряка и сделал своим компаньоном. Им оказался выросший сын Рантенов.
У Рантена, как и Летьерри, была крепкая шея, широкая, могучая спина, словно созданная для переноски тяжестей, и бедра Геркулеса. Их фигуры имели поразительную схожесть; только Рантен был немного выше ростом. Всякий, кто видел их спины, когда они разгуливали вместе в порту, говорил: «Смотрите, два брата». Но при взгляде на лица мужчин это впечатление рассеивалось. Лицо Летьерри — сама открытость, а Рантена — сама замкнутость. И действительно, Рантен был очень скрытным. Он прекрасно владел оружием, играл на гармонике, умел потушить свечу выстрелом на расстоянии двадцати шагов, обладал железным кулаком, знал наизусть стихи из «Генриады» и умел разгадывать сны. Он говорил, что был близко знаком с калькуттским султаном. В его записной книжке, которую молодой человек носил при себе, можно было среди прочих заметок прочесть записи такого рода: «В Лионе, в одной из щелей стены тюрьмы Святого Иосифа спрятан напильник». Рантен произносил слова медленно, с достоинством. Себя он называл сыном кавалера ордена Святого Людовика. Белье у него было самое разное, с чужими метками. Он проявлял чрезвычайную щепетильность в вопросах чести: когда ее затрагивали, вызывал обидчика на поединок и убивал. В его взгляде было что-то, напоминающее мать — актрису.
Словом, Рантен — воплощенная сила, скрывающаяся под оболочкой хитрости.
Когда-то на ярмарке он нанес ярмарочному шуту удар кулаком, и сила этого удара покорила сердце Летьерри.
На Гернзее обо всех похождениях Рантена не знал никто. А они были разнообразны. Если бы человеческие судьбы могли облекаться в различные одежды, судьба Рантена должна была бы нарядиться в костюм Арлекина. Он видел свет и хорошо знал жизнь. Он совершил кругосветное путешествие, изученные им ремесла составляли целую гамму. Он был поваром на Мадагаскаре, птицеловом на Суматре, генералом в Гонолулу, писал религиозные статьи на Галапагосских островах, был поэтом в Умравути, франкмасоном на Гаити. В качестве последнего он как-то произнес торжественную речь, из которой местные газеты привели такой отрывок: «Прощай, прекрасная душа! В небесной лазури, куда ты теперь направишься, ты встретишь, несомненно, аббата Леандра Крамо из Малого Гоава. Скажи ему, что в итоге десятилетних победных усилий ты закончил постройку церкви в Анс-а-Во. Прощай, великий гений, примерный масон!». Но эта франкмасонская маска не препятствовала тому, что он носил и другую — католическую. Первая давала ему расположение сторонников прогресса, вторая — сторонников рутины. Он любил подчеркивать свою принадлежность к белой расе и ненавидел чернокожих; но это не помешало ему полюбить Сулука. В 1815 году он подчеркивал свою приверженность к реализму тем, что носил на шляпе огромное белое перо.
Рантен всю жизнь провел, появляясь, исчезая и возникая вновь. Он носился повсюду, умел говорить даже по-турецки. Побывав невольником в Триполи, под палочными ударами изучил турецкий язык. Его обязанность тогда заключалась в том, чтобы, стоя по вечерам у входа в мечеть, читать правоверным вслух слова Корана, написанные на деревянных дощечках или на верблюжьих костях.
Он, несомненно, являлся ренегатом. Не было такого поступка, даже самого худшего, на который он бы не решился.
Рантен умел радоваться и печалиться одновременно. Он говорил: «В политике я уважаю только таких людей, которые не поддаются влиянию». Он заявлял, что высоко ценит нравственность. Но его все же можно было назвать веселым и сердечным, хотя линия рта часто противоречила словам, которые он произносил. У него были лошадиные ноздри, в уголках глаз — сеть морщин, в них, казалось, таились темные мысли; именно по этим морщинкам, скорее всего, можно было разгадать его истинную физиономию: их называют обычно «гусиными лапками», но у него они напоминали когти коршуна. Череп Рантена расширялся к вискам; бесформенные обросшие уши, казалось, говорили: «Не заводите разговора со зверем, который во мне скрывается».
В один прекрасный день Рантена не оказалось на Гернзее. Компаньон господина Летьерри исчез, очистив общую кассу. Правда, в кассе этой были деньги самого Рантена, однако и на долю Летьерри там приходилось ни больше ни меньше пятидесяти тысяч франков.
За сорок лет упорной и честной работы на судах и в корабельных верфях Летьерри скопил сто тысяч франков. Рантен забрал у него половину этих денег.
Полуразоренный Летьерри не отчаивался и немедленно стал искать способы вернуть потерянное. Людей с сильной волей можно лишить богатства, но не присутствия духа. Летьерри пришла в голову мысль испробовать машину Фультона и пароходными рейсами связать Нормандский архипелаг с Францией. Он употребил на эту затею всю свою энергию и остаток состояния.
Через шесть месяцев после исчезновения Рантена из порта Святого Сампсония неожиданно вышел корабль, извергающий клубы дыма, кажущийся с берега пожарищем, пылающим в море. Это был первый пароход, плывущий по водам Ламанша.
Судно, которое ненависть и всеобщее возмущение немедленно наградили презрительными названиями, начало регулярно курсировать между Гернзеем и Сен-Мало.
Продолжение рассказа об утопии
Вначале, разумеется, дело пошло плохо. Владельцы всех парусных судов, плававших между островами и французским побережьем, возопили. Они заявляли, что это покушение на Святое Писание и на их монополию. В дело вмешались даже некоторые церкви. Один патер, по имени Элигу, заявил: пароход — это вольнодумство. Парусные суда были провозглашены «угодными Богу». Некоторые стали явственно различать дьявольские рога на головах тех быков, которых перевозил пароход. Негодовали довольно долго. Но мало-помалу население стало замечать, что быки прибывают на пароходе менее измученные; что их легче продать, а их мясо лучше; что езда на пароходе безопаснее; переезды стоят дешевле и длятся меньше; пароход приходит и отходит в точно установленные часы; рыба, находясь в пути меньше, доставляется на место совершенно свежей. А еще то, что можно успевать перебрасывать на французские рынки обильные уловы гернзейских рыбаков; что масло прекрасных гернзейских коров переправляется в «чертовой лодке» быстрее, чем в старых парусных шлюпках, не теряет своих высоких качеств, и поэтому отовсюду посыпались заказы. Вообще благодаря «посудине Летьерри» дорога стала безопаснее, торговые сношения регулярнее, сообщение — более оживленным, торговля и сбыт продуктов увеличились. Короче говоря, нужно было примириться с «чертовой лодкой», которая нарушала запреты Библии, но зато обогащала остров.
Некоторые смелые умы решились даже высказаться в этом смысле. Секретарь Ландуа стал первым почтительно отзываться о пароходе. С его стороны это было выражением величайшего беспристрастия, потому что он не любил господина Летьерри. Последний являлся более значительной фигурой, чем Ландуа. Ландуа же, хотя и был секретарем общины в порту Сен-Пьер, происходил из прихода Святого Сампсония. Во всем приходе было всего два человека, чуждые предрассудков: Летьерри и он. Это являлось достаточной причиной для того, чтобы оба они недолюбливали друг друга. Сходство взглядов нередко приводит к отчуждению.
Тем не менее Ландуа честно заявил о том, что одобряет появление парохода. Другие последовали его примеру. Успех постепенно возрастал; он увеличивался, подобно приливу. С течением времени, так как польза, приносимая пароходом, была очевидной, благосостояние острова явно возрастало, наступил день, когда все, за исключением нескольких чудаков, стали приверженцами парохода господина Летьерри.
Случайно или нарочно, однако судно было спущено на воду 14 июля. Тогда Летьерри, стоя на палубе, смотрел на море и кричал: «Теперь твоя очередь! В этот день парижане взяли Бастилию; теперь твоя очередь!»
Пароход совершал один рейс в неделю — из Гернзея в Сен-Мало и обратно. Он отходил во вторник утром и возвращался в пятницу вечером, накануне базарного дня, который бывал по субботам. Корабль построили из более крепкого дерева, чем все остальные суда архипелага, вместимость судна соответствовала его величине; поэтому в смысле товарооборота один рейс парохода равнялся четырем рейсам обычного баркаса. Ясно, что он приносил бóльшую прибыль. Репутация судна зависит от вместимости его трюма. Летьерри всегда лично следил за погрузкой. Лишь когда он был уже не в состоянии работать сам, его заменял обученный им матрос. По прошествии двух лет пароход стал приносить прибыль в семьсот пятьдесят фунтов стерлингов, т. е. восемнадцать тысяч франков в год.
Слава господина Летьерри
Пароход процветал. Летьерри приближался к тому моменту, когда его стали называть господином Летьерри. На Гернзее ни за что ни про что не назовут человека господином. Между простым смертным и господином лежит целая лестница: сначала первая ступенька — человека называют просто Петром; потом он становится соседом Петром, еще шаг вверх — он уже отец Петр. Затем нужно добиться того, чтобы вас стали называть «сударь», и, наконец, последняя ступень — «господин».
Благодаря своей выдумке, пару и машине господин Летьерри сделался значительной особой. Ради постройки парохода он влез в долги, занял деньги и в Бремене и в Сен-Мало. Но с каждым годом погашал часть долга.
Он даже купил в кредит у самого входа в порт Святого Сампсония красивый каменный дом, совершенно новый, стоявший между берегом моря и садом; дом назывался «Смельчаки». Этот особняк находился рядом с гаванью, и окна его выходили в две противоположные стороны: в сад, наполненный цветами с северной стороны, и в открытый океан — с южной. Таким образом, дом имел два фасада: один — открытый дыханию бурь, другой — аромату роз.
Казалось, эти фасады созданы для двух обитателей дома: господина Летьерри и Дерюшетты.
«Смельчаки» были хорошо известны в Сен-Сампсоне, потому что, в конце концов, господин Летьерри стал знаменитостью. Известности Летьерри способствовали и его доброта, и его смелость, и количество спасенных им людей, и успех, и то, что он первый обогатил Сен-Сампсонский порт паровым судном. Наблюдая за тем, сколько выгоды приносит «чертова лодка», Сен-Гелье, столица Джерсея, хотела переманить пароход в свой порт, но Летьерри остался верен Сен-Сампсону. Это был его родной город. «Здесь я впервые пустился в море», — говорил он.
Так создалась его популярность. Наконец он был избран десятником. Этот бедный матрос уже поднялся на несколько ступеней общественной лестницы, его теперь называли господином. Кто знает, не появятся ли в один прекрасный день в альманахе острова Гернзея почетные и лестные слова: «Летьерри, эсквайр».
Но господин Летьерри был лишен всякого тщеславия. Он сознавал, что приносит пользу, и это доставляло ему радость. Для него приносить пользу было важнее, чем быть популярным. Как мы уже говорили, он имел только две привязанности, два предмета гордости: Дюранду и Дерюшетту.
Он сделал ставку в морской лотерее, и она выиграла.
Выигрышем стала Дюранда, плывущая по волнам.
Тот же крестный отец и та же заступница
Создав пароход, Летьерри должен был его окрестить. Он дал ему имя Дюранда. Впредь мы так и будем его называть. Мы даже позволим себе, вопреки типографским правилам, писать его без кавычек, основываясь на том, что для господина Летьерри Дюранда была живым существом.
Дюранда и Дерюшетта — это, собственно, одно и то же. Дерюшетта — уменьшительное имя, часто встречающееся в восточной Франции.
Будучи в Рошфоре, Летьерри услышал имя Святой Дюранды. Быть может, она явилась ему в образе красивой уроженки тех мест, хорошенькой гризетки с изящными пальчиками. Как бы там ни было, но имя это так глубоко врезалось в его память, что он назвал им два создания, которые любил: судно — Дюрандой, девочку — Дерюшеттой.
Он был отцом первой и дядей второй.
Дерюшетта — дочь его единственного брата. Ее родители умерли. Летьерри взял девочку к себе, заменив ей мать и отца.
Дерюшетта приходилась ему не только племянницей. Она была его крестницей. Он держал ее на руках при крестинах, он же вручил ее покровительству Святой Дюранды и придумал для нее это ласкательное имя.
Дерюшетта, как уже сказано, родилась в порту Сен-Пьер и была вписана в регистры уроженцев этого прихода. Поскольку племянница являлась ребенком, а дядя — бедняком, никто не обратил внимания на необычное имя — Дерюшетта. Но когда девочка стала барышней, а матрос — господином, имя начало шокировать и удивлять всех. Господина Летьерри спрашивали: «Что это за имя?» Он отвечал: «Имя как имя!» Кое-кто пытался изменить его, но Летьерри на это не соглашался.
Как-то одна из дам высшего общества Сен-Сампсона, жена разбогатевшего и оставившего свое ремесло кузнеца, сказала господину Летьерри: «Я буду называть вашу племянницу Нанси». «А почему не Лон-ле-Сонье?» — спросил он. Дама не успокоилась и назавтра опять обратилась к нему: «Имя Дерюшетта никому не нравится. Я придумала прехорошенькое имя для вашей девочки — Марианна». «Имя действительно хорошенькое, — ответил господин Летьерри, — однако оно состоит из названий двух противных животных: мужа (mari) и осла (ane)». И Дерюшетта осталась Дерюшеттой.
Из слов господина Летьерри вовсе не следует делать вывод, что он не хотел выдавать свою племянницу замуж. Выдать-то ее он собирался, но желал поступить по-своему. Он хотел, чтобы у нее был муж, похожий на него самого, который работал бы много и при том так, чтобы ей не приходилось ничего делать. Он любил черные руки у мужчин и беленькие ручки у женщин. И для того, чтобы Дерюшетта не портила своих рук, воспитывал ее как барышню. Летьерри пригласил к ней учителя музыки, купил фортепьяно, небольшую библиотеку и рабочую корзинку для рукоделья. Она понемногу занималась чтением, шитьем и музыкой. Только этого господин Летьерри и хотел. Единственное, чего он от нее требовал, — чтобы она была прелестной. Он воспитывал ее не как женщину, а как цветок. Тому, кто знает моряков, это будет понятно. Суровые натуры любят все нежное. Для того чтобы племянница могла осуществлять идеал своего дяди, ее следовало окружить богатством. Это было по силам господину Летьерри. Ради такой цели работала на море его верная машина. На Дюранду он возложил обязанность окружать комфортом Дерюшетту.
Песенка «Бонни-Денди»
Дерюшетта жила в одной из самых красивых комнат в доме. Комната была в два окна, обставленная мебелью из красного дерева, с кроватью, над которой висел полог — зеленый с белым. Окна выходили в сад, оттуда открывался вид на высокий холм, а на его вершине был замок. По ту сторону холма находился Бю-де-ля-Рю.
В этой комнате стояло и фортепьяно Дерюшетты. Она умела сама себе аккомпанировать и часто пела свою любимую печальную шотландскую песенку «Бонни-Денди». В ней звучала вечерняя грусть, но голос Дерюшетты напоминал утреннюю зарю. Такой контраст был обворожительным. Прохожие говорили: «Дерюшетта поет!» и останавливались у подножья холма перед оградой сада, чтобы послушать этот свежий голосок и печальную мелодию.
Дерюшетта оживляла весь дом. Благодаря ей здесь царила вечная весна. Девушка была красива, миловидна, обаятельна. Старым морякам, друзьям господина Летьерри, она напоминала принцессу из старинной матросской песенки, в которой поется: она была так прекрасна, что «весь полк считал ее красавицей». Летьерри с восторгом говорил: «Ее коса напоминает корабельный канат».
В детстве Дерюшетта отличалась особым очарованием. Форма ее носа, правда, вначале внушала опасения; но она, очевидно, твердо решив стать красивой, исполнила это; рост не доставил ей никаких неприятностей; ее нос оказался не слишком длинным и не слишком коротким; повзрослев, она осталась очаровательной.
Дерюшетта называла своего дядю отцом. Он позволял ей немного работать в саду и даже заниматься стряпней. Она сама поливала кусты роз, флоксов и вербен; разводила разные цветы, пользуясь гернзейским климатом, столь благосклонным к растениям. У нее, как и в остальных садах острова, алоэ рос под открытым небом, а кроме того, ей удалось вырастить лапчатник, что оказалось гораздо сложнее. В маленьком огороде Дерюшетты грядки были засеяны с большим знанием дела: там росли редиска, горошек, шпинат; кроме того, она сажала цветную и брюссельскую капусту; в августе у нее созревала репа, в сентябре — цикорий, осенью — пастернак.
Господин Летьерри позволял девушке делать все это, лишь бы она не слишком много возилась с киркой и граблями и сама не удобряла грядок. Он предоставил в ее распоряжение двух служанок, одну из которых звали Грация, а другую — Любовь. Эти имена популярны на Гернзее. Девушки выполняли всю черную работу по дому и саду, им не возбранялось иметь красные руки.
Сам Летьерри жил в небольшой каморке, окно которой выходило в гавань, помещение примыкало к большой зале нижнего этажа, где находилась входная дверь и куда вели лестницы со всего дома. В комнате была его койка, хронометр и трубка. Кроме того, там стоял еще столик и стул. Потолок и стены здесь выбелили известкой; направо от двери была прибита прекрасная карта Ламаншского архипелага с надписью: «В. Федей, 5, Черинг-Кросс, географ его величества»; по другую сторону двери висел на гвозде большой полотняный платок, на котором были изображены разноцветные сигнальные вымпелы различных флотов земного шара: по углам — знамена Франции, России, Испании и Соединенных Штатов Америки, а в центре — английский флаг.
Любовь и Грация были двумя безобидными созданиями, в самом лучшем смысле этого слова. Любовь не проявляла зла, Грация не отличалась уродством. Опасные имена не подложили девушкам свиньи. Любовь не была замужем, но имела «дружка». На Ламаншских островах это не редкость. Обе прислуживали чисто по-креольски, с какой-то особой медлительностью, свойственной прислугам-нормандкам.
Грация, кокетливая и хорошенькая, постоянно всматривалась в горизонт, имея при этом вид испуганной кошечки. Это происходило оттого, что, хотя она, как и Любовь, имела дружка, у нее, говорят, был еще и муж — матрос. Очевидно, она боялась его неожиданного возвращения. Впрочем, такие вещи нас не касаются.
Разница между Грацией и Любовью заключалась в том, что в менее строгом и нравственном доме Любовь оставалась бы служанкой, а Грация стала бы субреткой[641]. Но в присутствии такой невинной девушки, как Дерюшетта, скрытые таланты Грации пропадали даром. Впрочем, амурные похождения служанок оставались тайной. О них ничего не знали ни Летьерри, ни Дерюшетта.
Зала нижнего этажа, в которой находился камин, окруженный столами и скамьями, в конце прошлого века служила местом собраний протестантов, эмигрировавших из Франции. На голой каменной стене висело единственное украшение — черная деревянная рама, в которую был вставлен лист пергамента с описанием подвигов Бенина Боссюета, епископа Мо.
В глубине залы, около двери в комнату господина Летьерри, стоял дощатый помост из гугенотской церкви, превращенный хозяином в контору парохода, т. е. в контору Дюранды. Летьерри сам вел там все дела. На старом дубовом пюпитре вместо Библии лежала приходно-расходная книга.
Человек, разгадавший Рантена
До тех пор, пока Летьерри мог самостоятельно путешествовать по морю, он командовал Дюрандой и сам исполнял обязанности лоцмана и капитана; но настал наконец день, когда он вынужден был подыскать себе заместителя. Летьерри выбрал для этого положительного человека, господина Клюбена из Тортеваля. Клюбен славился по всему побережью своей суровой честностью. Для Летьерри он стал незаменимым.
Хотя Клюбен своим внешним видом смахивал скорее на нотариуса, чем на матроса, он был исключительно способным моряком. Этот господин обладал всеми талантами человека, который повседневно сталкивается с опасностями. Он был ловким грузчиком, зорким рулевым, старательным и опытным боцманом, знающим свое дело штурманом и смелым капитаном. Он был осторожен, и эта осторожность подчас толкала его на смелость, что является большим достоинством моряка. Клюбен умел сочетать страх перед вероятным с инстинктом возможного. Он являлся одним из тех моряков, которые точно знают, до какого предела можно идти навстречу опасности, и умеют всякое приключение завершить успешно. Клюбен держался на море так уверенно, как только может держаться человек. Кроме того, был известным пловцом, одним из тех мастеров этого дела, которые способны оставаться в воде сколько им угодно.
Одно обстоятельство заставило господина Летьерри относиться к Клюбену с особенным уважением. Клюбен хорошо знал Рантена и предупреждал Летьерри на его счет, сказав ему как-то: «Этот человек вас ограбит». И его предсказание в точности сбылось. Неоднократно Летьерри при самых различных обстоятельствах убеждался в необыкновенной честности Клюбена, доходящей до щепетильности. В конце концов, Летьерри стал полагаться на него во всем. Он часто говорил: «Честность требует к себе доверия».
Рассказы о дальних странствиях
Господин Летьерри лучше всего чувствовал себя в простом костюме моряка, причем матросскую куртку он любил больше, чем форму лоцмана. Дерюшетта морщила свой носик. Ее гримаски, когда она сердилась, были очаровательны. Хмурясь и смеясь одновременно, девушка кричала, ударяя его по плечу: «Фу, отец, от тебя несет дегтем!»
Старый морской волк привез из своих странствий удивительные рассказы. Он видел на Мадагаскаре птичьи перья такой величины, что трех было бы достаточно, чтобы покрыть крышу дома. Он видел в Индии стебли кислицы в восемь футов вышиной. Он встречал в Новой Голландии стада индюков и гусей, которых вместо овчарок стерегли необыкновенные птицы — агами. Он видел кладбища слонов. В Африке наблюдал за гориллами в семь футов ростом. Он знал повадки всех обезьян. В Чили наблюдал, как обезьяна, для того чтобы разжалобить охотников, показывала им своего детеныша. В Калифорнии лицезрел ствол свалившегося на землю дерева, в дупле которого всадник мог проехать сто пятьдесят шагов. Он видел, как в Марокко мозабиты и бискры сражались из-за того, что одно племя обозвало другое собаками. В Китае наблюдал за тем, как резали на мелкие кусочки известного пирата Чанг-Тонг-Куан-Лар-Куа из-за того, что он убил животное, которому поклонялась целая деревня. В Тудан-Мо Летьерри видел, как лев средь бела дня унес с базарной площади старуху. Он присутствовал при том, как из Кантона в Сайгун привезли огромную змею, которая должна была быть водворена в пагоду в честь богини Куан-Нам, покровительницы моряков. В Рио-де-Жанейро любовался бразильянками, украшавшими по вечерам свои головы прозрачными париками, в которых таились светящиеся мушки, отчего казалось, будто волосы красавиц усеяны звездами. Он убивал в Парагвае огромных муравьев и в Уругвае пауков, которые занимаются ловлей птиц, мохнатых насекомых, величиной с детскую голову, обхватывающих своими лапами диаметр в три вершка. Эти пауки нападают и на людей, впиваются в кожу как клещи, отчего на ней появляются волдыри. На реке Аринос, притоке Тоскантина, в чаще девственного леса он встретил страшное человеческое племя. У этих людей были белые волосы и красные глаза. Они спали днем, а с наступлением темноты выходили на охоту и рыбную ловлю, причем лучше всего видели в безлунные ночи. Как-то, недалеко от Бейрута, когда экспедиция, в которой Летьерри принимал участие, раскинула стоянку, из одной палатки исчез дождемер. Тогда местный колдун, всю одежду которого составляли два-три кожаных ремня, стал так неистово звонить в колокольчик, прикрепленный к рогу, что на звон явилась гиена и принесла пропавший дождемер. Та гиена его и украла. Эти правдивые истории, столь похожие на сказки, забавляли Дерюшетту.
Между Дюрандой и Дерюшеттой существовала связь — это была кукла, изображавшую Дерюшетту. Куклой на Нормандских островах называют фигуру, вырезанную на носу судна. Поэтому, вместо того чтобы говорить «плыть на судне», там говорят «находиться между куклой и кормой».
Кукла на Дюранде была очень дорога господину Летьерри. Заказывая ее корабельному плотнику, он велел сделать ее похожей на Дерюшетту. Получился просто чурбан с претензией на изображение молодой девушки. Но господину Летьерри этот безобразный обрубок нравился. Он был от него в восторге. Ему казалось, что кукла очень похожа на Дерюшетту. Точно так же в представлении некоторых людей догмат походит на истину, а идол — на бога.
У господина Летьерри было два светлых дня в неделю: вторник и пятница. По вторникам он испытывал радость, видя, как Дюранда отплывает от берега; по пятницам она возвращалась. Он облокачивался на подоконник, созерцал свое творение и был счастлив.
По пятницам его появление у окна являлось сигналом. Когда люди видели, что он раскуривает трубку, они говорили: «Ага! Пароход показался на горизонте!» Дым трубки возвещал дым пароходной трубы.
Входя в порт, Дюранда причаливала к самым окнам дома Летьерри, и ее привязывали к огромному железному кольцу, ввинченному под фундаментом «Смельчаков». В эти ночи Летьерри прекрасно спал на своей койке, зная, что, с одной стороны, спит Дерюшетта, а с другой — покачивается на волнах Дюранда.
Место, где причаливала Дюранда, находилось по соседству с портовым колоколом. Здесь была устроена крошечная набережная.
Набережная, дом, сад, обнесенные заборами переулки, большинство ближайших построек уже не существуют. Разработка гранита на Гернзее вынудила продать эти участки. Все вокруг в настоящее время занято каменоломнями.
Несколько слов о возможных мужьях
Дерюшетта росла, но не думала о замужестве.
Воспитывая ее белоручкой, господин Летьерри сделал для девушки выбор мужа нелегкой задачей. Подобное воспитание со временем приносит свои плоды.
Ему самому этот вопрос представлялся еще более сложным. Он хотел, чтобы у Дерюшетты был такой муж, который стал бы мужем и для Дюранды. Летьерри желал выдать замуж сразу обеих дочерей. Он хотел, чтобы защитник одной был бы и капитаном другой. Что такое муж? Капитан в плавании. Почему же не подыскать одного капитана для девушки и для судна?
Семейная жизнь имеет свои приливы и отливы. Кто умеет управлять кораблем, тот сумеет руководить и женой. И судно, и женщина подвержены дыханью ветров. Клюбен, который был всего на пятнадцать лет моложе самого Летьерри, мог стать лишь временным капитаном Дюранды; требовался молодой моряк, настоящий хозяин, достойный преемник того, кто создал судно. Постоянный кормчий парохода должен был стать одновременно зятем Летьерри. Так почему же не соединить двух зятьев в одном лице? Летьерри лелеял такую мысль. Он видел во сне этого жениха. Сильный, крепкий моряк, смуглый и рыжий — таков был его идеал. Но Дерюшетта мечтала о другом. Ее грезы были нежнее.
Как бы там ни было, оба — дядя и племянница — не торопились. Когда Дерюшетта вошла в возраст невесты, претенденты на ее руку явились толпой. Но в их поспешных предложениях не было ничего заманчивого. Летьерри это чувствовал. Он ворчал: «Невеста золотая, а женихи-то медные!» и отказывал претендентам. Он ждал, Дерюшетта — тоже.
Как ни странно, Летьерри невысоко ценил аристократическое происхождение. В этом отношении он не был англичанином. Просто не верится, что он отказался выдать Дерюшетту замуж за Гендюеля с Джерсея или за Вюнье-Николена с острова Серк. Трудно принять на веру столь сомнительные слухи, но поговаривали даже о том, что он отклонил предложение одного аристократа из Ориньи, члена семейства Эду, ведущего свой род от Эдуарда Исповедника.
Недостатки Летьерри
У господина Летьерри был один большой недостаток: он ненавидел… попов. Однажды, прочтя у Вольтера слова: «Духовенство — это кошки», он захлопнул книгу и проворчал: «В таком случае я — собака».
Необходимо помнить, что лютеранское, кальвинистское и католическое духовенство настойчиво боролось и преследовало его, когда он строил свою «дьявольскую лодку». Быть революционером в мореплавании, пытаться приобщить Нормандский архипелаг к прогрессу, навязывать маленькому тихому островку Гернзей какие-то новшества — было, как мы уже говорили, неслыханной смелостью. Естественно, духовенство его осуждало. Нельзя забывать, что это прежнее духовенство, совсем не похожее на теперешних служителей церкви, которые зачастую выказывают склонность к прогрессу. Духовники старались помешать Летьерри самыми различными способами — произнося проповеди, распространяя клевету. Они ненавидели его, он отвечал им тем же. Их ненависть являлась оправданием его ненависти.
Нужно, однако, заметить, что неприязнь Летьерри к духовенству являлась органичной. Им не нужно было начать его ненавидеть, чтобы вызвать ненависть с его стороны. Весь образ мыслей этого человека, даже инстинкт восставал против них. Почувствовав их скрытые когти, он ощетинился. Его злость, правда, была не совсем справедлива, иногда даже проявлялась некстати. Нельзя не делать различий, нельзя питать чувство сильнейшей вражды ко всем без исключения. Для него не существовало честного викария, добродетельного священника. Он думал, что рассуждает философски, но делал это неразумно. Самые терпимые люди могут становиться нетерпимыми так же, как самые кроткие умеют иногда приходить в ярость. Однако господин Летьерри по натуре своей был настолько добрым, что не умел ненавидеть по-настоящему. Поэтому он не нападал на предмет своей ненависти, а просто отстранял его от себя. Он держал попов на почтительном расстоянии. Они причинили ему зло, он ограничился тем, что перестал желать им добра. Разница между чувствами, которые они питали друг к другу, заключалась в том, что их ненависть превратилась в злобу, а его — в антипатию.
На маленьком Гернзее нашлось место для двух религий — католичества и протестантизма. К тому же нигде на острове эти религии не сталкиваются в одном храме. Каждая из них имеет собственные церкви и часовни. В Германии, в Гейдельберге, например, бывает так: церковь делится пополам, половина отдается Святому Петру, половина — Кальвину. Посредине ставится перегородка, чтобы избежать потасовок. Обе части совершенно равноценны: три алтаря у католиков, три у гугенотов; а так как службы происходят одновременно, то молящиеся сходятся на звон одного и того же колокола, призывающего вместе детей Господа и детей Сатаны. Чрезвычайно просто!
Немецкая флегматичность может перенести такое соседство. Но на Гернзее каждая религия живет обособленно. Есть приходы правоверных и приходы еретиков — можете выбирать. Выбор господина Летьерри был совсем прост — ни то, ни другое.
Этот матрос, рабочий, философ, труженик, казавшийся простаком, вовсе не являлся таковым. У него были собственные взгляды и убеждения. В своем отношении к священникам он оставался непреклонен.
Летьерри позволял себе неуместные выражения, отпускал странные, порой меткие шутки. Ходить к исповеди означало для него «причесывать свою совесть».
Он был человеком малограмотным, кое-как читал и писал с орфографическими ошибками. Свой атеизм привез из Франции. Хотя был чистокровным гернзейцем, на острове за такой образ мыслей Летьерри называли «французом». Да он и сам не скрывал своего свободомыслия, что достаточно проявилось во время постройки парохода.
Однако иногда он делал уступки. Живя в маленькой стране, трудно сохранить последовательность. Он сторонился лиц духовного звания, но не мог окончательно закрыть для них двери своего дома. В официальных случаях, когда визит священника был необходим, Летьерри принимал достаточно любезно как патера, так и ксендза. Время от времени он даже провожал в англиканскую церковь Дерюшетту, которая бывала там четыре раза в год по большим праздникам.
Однако эти компромиссы нисколько не примиряли его с духовенством, а лишь увеличивали внутреннее раздражение. Он изливал его в насмешках. Будучи добродушным человеком, Летьерри становился язвительным, и в этом отношении ничто не могло повлиять на него. Таков уж был его темперамент.
Он презирал все духовенство, в чем проявлял себя настоящим революционером. Летьерри не отличал одну форму религии от другой. Он даже не осознавал, насколько его неверие было передовым. Не видя никакой разницы между епископом и аббатом, священником и простым монахом, он говорил: «Уэслей, Лойола — один черт!» Когда Летьерри видел какого-нибудь священника с женой, он, отворачиваясь, произносил: «Женатый поп!», и в словах его звучало то презрение, с каким тогда говорили об этом во Франции. Он любил рассказывать, что во время своего последнего путешествия в Лондон видел «лондонскую архиерейшу». В своем протесте против браков духовенства доходил до гнева. «Юбка не может жениться на юбке!» — кричал он. Человек в рясе казался ему бесполым существом. Летьерри часто повторял: «Ни мужчина, ни женщина — поп». Он отпускал одни и те же презрительные эпитеты в адрес англиканских и католических священников; но, желая их различать, одинаково грубо шутил насчет тех и других. «Выходи замуж за кого хочешь, но только не за одного из этих сумасбродов!» — заявлял Летьерри Дерюшетте.
Беззаботность — спутница грации
Летьерри всегда помнил каждое сказанное слово; Дерюшетта тотчас же забывала каждое сказанное слово. В этом была разница между дядей и племянницей.
Дерюшетта не имела понятия о том, что такое ответственность. В недостаточно серьезном воспитании таятся большие опасности. Неразумно стараться сделать своего ребенка счастливым слишком рано.
Дерюшетта думала: если она довольна, значит все хорошо. Она чувствовала, как ее дядя радуется, заметив, что она довольна. Девушка почти во всем усвоила образ мыслей Летьерри. Ее религиозное чувство вполне удовлетворялось посещением церкви четыре раза в год. Она могла показать здесь свое праздничное платье. Жизни Дерюшетта совершенно не знала. Она обладала всем, что нужно для того, чтобы в один прекрасный день полюбить. Она была весела и ждала.
Девушка пела, играла, резвилась, бросала то тут то там словечко, прибегала, делала что-нибудь, исчезала. Словом, она была прелестна. Прибавьте к этому английскую свободу. В Англии дети растут самостоятельно, девочки предоставлены сами себе. Позже эти свободные девушки становятся женщинами-рабынями. Мы употребляем оба слова в хорошем смысле: свобода в отношении роста, рабство в отношении долга.
Просыпаясь по утрам, Дерюшетта уже не помнила, что она делала накануне. Вы поставили бы ее в весьма затруднительное положение, если бы начали расспрашивать, что она делала на прошлой неделе. Однако это не мешало ей порой испытывать какое-то смутное чувство недовольства, ощущать, будто какая-то тень ложится на ее жизнь и омрачает радость. И на лазурные небеса набегают иногда облака. Но ветерок быстро их уносит. Дерюшетта разражалась веселым смехом, не думая ни о причинах своей грусти, ни о поводах для веселья. Она все превращала в игру: задевала прохожих, шалила с мальчишками. Если бы встретила черта, то не пощадила бы и его и выкинула бы с ним какую-нибудь каверзу. Она была красива и при этом настолько наивна, что злоупотребляла своей красотой. Дерюшетта дарила улыбку так, как котенок царапает всех своими коготками. Тем хуже для того, кто получил царапину, — она о том человеке больше уже не думала. «Вчера» для нее не существовало; девушка жила сегодняшним днем. Так бывает всегда, когда человек слишком счастлив. У Дерюшетты воспоминания улетучивались быстро, как тающий снег.
Книга IV
Волынка. Первые проблески зари или пожара
Жиллиат никогда не говорил с Дерюшеттой. Он знал ее только по внешнему виду, так, как знают утреннюю звезду.
Когда Дерюшетта, встретив Жиллиата по дороге из порта Сен-Пьер, весьма поразила молодого человека, написав на снегу его имя, ей было шестнадцать лет. Как раз накануне господин Летьерри сказал племяннице: «Тебе пора остепениться — ты уже взрослая девушка».
Слово «Жиллиат», начертанное резвушкой, запало в неизведанную глубину.
Как относился Жиллиат к женщинам? Он сам не мог бы ответить на этот вопрос. Когда он встречался с ними, они боялись его, а он их. Он заговаривал с женщинами только в случае крайней необходимости. Он никогда не был ничьим «дружком». Если шел один по дороге и навстречу ему приближалась женщина, то спешил побыстрее скрыться, перелезть через забор или спрятаться в кустах. Жиллиат избегал даже старух.
Однажды ему случилось увидать парижанку. Она случайно проезжала через остров. В те времена такая гостья была большой редкостью на Гернзее. Жиллиат слышал, как она рассказывала о своих неприятностях: «Я страшно огорчена — на мою шляпу попало несколько капель дождя, а шляпа у меня абрикосового цвета. Этот цвет ведь так нежен». Найдя как-то позже в одной из книг гравюру с изображением нарядной дамы в пышном платье, он повесил ее на стену в память этого чудесного виденья. В летние вечера он прятался на утесах и оттуда наблюдал, как крестьянки в сорочках купаются в море. Однажды он видел через забор, как тортевальская колдунья подтягивала подвязку. Видимо, он был еще девственником.
Вернувшись в Бю-де-ля-Рю тем рождественским утром, когда Дерюшетта, смеясь, начертила его имя, Жиллиат не помнил, зачем выходил из дому. Наступила ночь, но он не мог заснуть. Он думал о разных вещах: о том, что было бы хорошо развести у себя редиску; что погода хороша; что он не видел баркаса, пришедшего из Серка, — не случилось ли чего с этим баркасом; что он видел заячью капусту в цвету — большая редкость в это время года.
Он никогда не знал точно, кем приходилась ему покойница, воспитавшая его. Размышляя об этом, решил, будто она была его матерью, и стал думать о ней с удвоенной нежностью. Он вспомнил о женском приданом, спрятанном в кожаном сундуке. Потом подумал о том, что пастор Жакмен Герод будет рано или поздно назначен в порт Сен-Пьер помощником епископа, и таким образом место пастора в Сен-Сампсоне останется вакантным.
Затем мысли его перенеслись на то, что завтра, на второй день Рождества, будет двадцать седьмой день новолуния; следовательно, полный прилив наступит в три часа двадцать одну минуту, отлив начнется в четверть восьмого, полный отлив произойдет в девять часов тридцать три минуты, а в двенадцать часов тридцать девять минут снова начнется прилив. Потом он припомнил до мельчайших подробностей костюм шотландского солдата, у которого он купил волынку, его шапочку с воткнутым в нее репейником, палаш, куртку с короткими квадратными полами, юбочку, пояс с сумкой, роговую табакерку, булавку из шотландского камня, черный нож в ножнах, обнаженные колени, чулки, гетры в клетку и башмаки с пряжками. Этот костюм стал мелькать перед его глазами, преследовать Жиллиата, его начало лихорадить, и наконец он заснул. На следующее утро проснулся поздно, первая мысль его была о Дерюшетте.
В следующую ночь он спал хорошо, но ему все время снился шотландский солдат. Сквозь сон он опять думал о Жакмене Героде. Проснувшись, тотчас же вспомнил о Дерюшетте и почувствовал против нее жгучую злобу; он пожалел, что уже не мальчик, — тогда мог бы пойти к ее дому и начать швырять камни в ее окна.
Потом Жиллиату пришла в голову мысль, что, будь он маленьким, жива была бы его мать, и он заплакал.
Молодой человек решил уехать на три месяца на какой-нибудь островок. Но не сделал этого.
Жиллиат больше не ходил по дороге, ведущей из порта Сен-Пьер в Валль.
Ему казалось, что слово «Жиллиат» осталось навсегда начертанным на земле и что все прохожие всматриваются в него.
Шаг за шагом в неизвестное
Жиллиат ежедневно видел дом «Смельчаки». Он делал это не нарочно, но его невольно тянуло в ту сторону. Куда бы он ни шел, получалось так, что он попадал на тропинку, тянувшуюся вдоль ограды садика Дерюшетты.
Проходя однажды по этой тропинке, он слышал, как старая торговка, выходившая из дома Летьерри, сказала другой женщине: «Барышня очень любит цветную капусту».
Он тотчас же засадил в своем огороде грядку особым сортом капусты, имевшим вкус спаржи.
Изгородь сада Дерюшетты была очень низка; перепрыгнуть через нее ничего не стоило. Мысль об этом казалась ему невероятной. Но, проходя мимо, он так же, как и все прохожие, мог прислушиваться к голосам, раздававшимся в саду и в доме. Он не прислушивался, но все же слышал. Однажды услыхал разговор двух служанок: Любовь и Грация ссорились. Это были звуки, доносившиеся из заветного дома, и они показались ему музыкой.
В другой раз до него долетел голосок, не походивший на все остальные, и Жиллиат решил, что это голос Дерюшетты. Он убежал.
Слова, произнесенные этим голосом, навсегда остались в его памяти. Вот они: «Дайте мне, пожалуйста, веник!»
Понемногу Жиллиат осмелел. Он уже решался останавливаться. Однажды Дерюшетта, невидимая снаружи, хотя окно и было открыто, сидела за фортепиано и пела. Она исполняла свою любимую песенку «Бонни-Денди». Молодой человек побледнел, но упорно продолжал слушать.
Наступила весна. Глазам Жиллиата в один прекрасный день представилась чудесная картина: Дерюшетта поливала салат.
Вскоре Жиллиат уже не только останавливался у забора. Он изучал ее привычки, запоминал, как она распределяет свое время, и ждал ее появления, стараясь не попадаться ей на глаза.
И пока кусты зацветали розами, наполнялись бабочками, Жиллиат, никем не замеченный, сдерживая дыхание, привыкал все больше и больше часами стоять неподвижно за садовой изгородью и смотреть, как Дерюшетта расхаживает по садику. Человек привыкает к яду.
Спрятавшись, он часто слыхал, как Дерюшетта, сидя на скамье под густой тенью деревьев, беседует с господином Летьерри. Слова их разговора ясно доносились до Жиллиата.
Как низко он пал. Теперь уже подставлял ухо и прислушивался. Увы! Человеческое сердце — известный шпион.
В саду была одна скамья, расположенная совсем близко от изгороди, на краю аллеи. Иногда Дерюшетта садилась на эту скамью. Следя за тем, какие цветы она собирает и нюхает, он скоро изучил ее любимые запахи. Больше всего она любила левкои, затем гвоздику, жимолость и жасмин. Розы стояли у нее на пятом месте. Лилиями она любовалась, но никогда не нюхала их. По ее отношению к цветам Жиллиат составлял себе представление о ней самой. Запах каждого цветка он соединял с каким-либо ее качеством.
Но всякий раз, когда в голове молодого человека возникала мысль о том, чтобы заговорить с Дерюшеттой, его охватывала дрожь.
Старая ткачиха, часто проходившая по переулку, расположенному вдоль усадьбы «Смельчаки», заметила, что Жиллиат подолгу простаивает у садовой ограды в пустынном месте, где, казалось бы, ему нечего делать. Сообразила ли она, что присутствие этого человека указывает на то, что за стеной должна скрываться женщина; заметила ли невидимую нить, протянувшуюся от Жиллиата к Дерюшетте; сохранила ли в старости воспоминания о лучшей поре своей жизни, о том, что такое заря, — но только однажды, проходя мимо Жиллиата, занятого своим делом, она улыбнулась ему со всей лукавостью, на которую была еще способна, и прошамкала: «Ага, загорелось!»
Жиллиат был поражен, услыхав эти слова, и пробормотал с недоумением: «Загорелось?» Что она хотела этим сказать? Он машинально повторял слово весь день, но так его и не понял.
Как-то вечером он стоял у окна в Бю-де-ля-Рю и увидел несколько девушек, прибежавших к берегу моря, чтобы выкупаться. Они беззаботно стали плескаться в воде, в ста шагах от него. Тогда он с сердцем захлопнул окошко. Жиллиат почувствовал, что обнаженная женщина вызывает в нем трепет.
Песенка «Бонни-Денди» рождает эхо за холмом
Вблизи ограды сада Дерюшетты, в нише стены, густо заросшей пышной зеленью, Жиллиат провел почти все лето. Он сидел здесь, глубоко задумавшись. Ящерицы настолько привыкли к нему, что продолжали греться на солнце, застыв на камнях. Стояло роскошное лето. Лежа в траве, Жиллиат следил за бегущими облачками. Воздух был наполнен щебетанием птиц. Молодой человек сжимал голову обеими руками и спрашивал себя: «Почему она написала мое имя на снегу?» Изредка до него доносились порывы морского ветра. Время от времени из дальних каменоломен долетал звук трубы, возвещавший — прохожие должны держаться в стороне, потому что сейчас будет взорвана мина. Порт не был виден отсюда, но из-за деревьев проглядывались верхушки мачт. Над морем реяли чайки.
Жиллиат слышал как-то от своей матери, что женщины бывают влюблены в мужчин. В этом он нашел для себя ответ: «Ясно. Теперь я понял, Дерюшетта влюблена в меня!» Он чувствовал непонятную грусть и размышлял: «Но ведь она тоже думает обо мне, значит, все хорошо». Потом он вспоминал о том, что Дерюшетта богата, а он беден. Жиллиат находил, что пароход — гнусная выдумка. Он никогда не знал точно, какое сегодня число. Лежа, рассматривал черных жуков с желтыми брюшками и короткими крыльями, прячущихся с громким жужжаньем в расщелинах стены.
Как-то вечером Дерюшетта, собираясь лечь спать, подошла к окну, чтобы закрыть его. Ночь была темная. Внезапно девушка насторожилась. Из глубокой тьмы неслись звуки музыки. За холмом, где-то недалеко от Валльского замка, а может быть, и еще дальше, кто-то наигрывал мелодию на странном инструменте. Дерюшетта вслушалась и узнала свою любимую песенку «Бонни-Денди», исполняемую на волынке. Она не могла понять, в чем дело.
С тех пор музыка стала повторяться время от времени в те же часы, чаще всего в самые темные ночи. Дерюшетте это не нравилось.
«Я дядя-опекун, и нет мне в том отрады, чтоб под окном лились ночные серенады» (Из неизданной комедии)
Прошло четыре года.
Дерюшетте шел двадцать первый, но она все еще не была замужем.
Кто-то сказал: упорная мысль — это буран. С каждым годом он врезается все глубже. Если попробовать вырвать его в первый год — он вырвет вместе с собой волосы; на второй — изранит кожу; на третий — раздробятся кости; на четвертый его можно вырвать только вместе с мозгом.
Для Жиллиата наступил этот четвертый год.
Он все еще не обменялся с Дерюшеттой ни единым словом, а продолжал мечтать о девушке втайне — вот и все.
Как-то раз случилось, что он, возвращаясь из Сен-Сампсона, увидел Дерюшетту и господина Летьерри. Они стояли у калитки своей усадьбы и разговаривали. Жиллиат осмелился приблизиться к ним. Он был убежден в том, что в тот момент, когда проходил мимо, Дерюшетта улыбнулась. В этом не было ничего невозможного.
Дерюшетта все еще время от времени слышала звуки волынки.
Господин Летьерри тоже слышал их. Он заметил, что музыка раздается под окнами Дерюшетты. Звуки ее были нежны, но показались ему опасными. Ночной воздыхатель — это не то, что нужно Летьерри. Он хотел выдать Дерюшетту замуж, когда придет время, когда этого захочет и она и он сам, выдать просто и открыто, без романов и музыки. Раздраженный, начал следить, и ему показалось, что увидел Жиллиата. Он почесал себе бороду — явный признак гнева — и проворчал: «Чего он дудит, дурак? Он любит Дерюшетту, это ясно. Напрасно теряешь время, дружище! Если тебе нравится Дерюшетта, ты должен обратиться ко мне, а не играть на дудочке».
Событие, которого давно все ожидали, свершилось. Пастор Жакмен Герод получил повышение, был назначен в порт Сен-Пьер и собирался покинуть Сен-Сампсон, как только приедет его заместитель.
Нового пастора ожидали со дня на день. Это был нормандец, Иов Эбенезер Кодре, в английском произношении — Коудрей.
О будущем священнике ходило много слухов, как лестных, так и нелестных. Говорили, что он молод и беден, но, несмотря на молодость, обладает большой ученостью и у него самые блестящие виды на будущее. Для тех, кто ожидает наследства, смерть родственников называется «видами на будущее». Он был племянником и наследником старого настоятеля какого-то монастыря. После смерти этого настоятеля должен был разбогатеть. Кодре происходил из знатной семьи, и сам он имел право на высокий титул. О его религиозных убеждениях отзывались по-разному. Он был суровым англиканцем, ненавидел фарисейство и мечтал о первобытной церкви.
Заслуженный успех всегда порождает ненависть
Дела господина Летьерри находились в то время в следующем положении: Дюранда оправдала все возложенные на нее надежды; Летьерри устранил долги, оплатил все счета и в Бремене, и в Сен-Мало. Он выплатил ипотечный долг, числившийся за домом при его покупке. Летьерри являлся обладателем капитала, приносившего прибыль, — Дюранды. Пароход давал теперь чистый доход в тысячу фунтов стерлингов, и прибыль эта продолжала расти. Собственно говоря, все его состояние заключалось в Дюранде. Но она была в то же время и состоянием всего острова. Так как перевозка скота считалась основной доходной статьей судна, для того чтобы облегчить погрузку и выгрузку быков, пришлось снять с парохода перила и подвешенные по бокам спасательные шлюпки. Возможно, это было неразумно, ведь теперь Дюранда имела только одну шлюпку, правда великолепную.
Со времени бегства Рантена прошло десять лет.
Процветание Дюранды, однако, все еще продолжало вызывать недоверие; на него смотрели как на чистую случайность. Положение Летьерри рассматривали в качестве исключительного случая, полагая, что ему просто повезло. Кто-то на одном из соседних островов попытался последовать примеру этого господина, но добиться ничего не смог. Попытка разорила дельцов. Летьерри говорил, что их машина была плохо сделана, но с ним не соглашались и качали головой. Всякое новшество всегда вызывает всеобщее недовольство, поэтому малейшая ошибка влечет за собой злорадство. Один из коммерческих тузов Нормандского архипелага, банкир Жож, живущий в Париже, на предложение принять участие в постройке пароходов ответил: «Вы предлагаете мне бросить деньги на ветер. Не могу же я превращать золото в дым».
Зато парусные суда он строил охотно. Моряки упорно отдавали им предпочтение, не признавая паровой машины. Существование Дюранды на Гернзее было свершившимся фактом, но не служило поводом для признания пара. Такова сила противодействия всякому прогрессу. Многие говорили Летьерри: «Ну что ж, ваше дело хорошее, но никто не последует вашему примеру». Вместо того чтобы вдохновить, его пример отпугивал. Никто не рисковал создать вторую Дюранду.
Счастье путешественника, замеченного рыбаком
В течение нескольких дней над морем висел непроницаемый туман. После этого разыгралась сильная буря. Но, несмотря на шквал, почтовое судно «Кашмир» благополучно прибыло из Англии. Оно вошло в порт Сен-Пьер с первыми лучами солнца, в ту минуту, когда во дворе замка Корнэ раздался обычный пушечный выстрел. Небо прояснилось. Все знали, что на «Кашмире» должен был прибыть новый пастор Сен-Сампсона. Вскоре после прибытия «Кашмира» распространился слух, что корабль подобрал ночью шлюпку, в которой находился экипаж какого-то судна, потерпевшего крушение.
В эту ночь, когда улегся ветер, Жиллиат отправился на рыбную ловлю, не думая о том, что происходит в открытом море.
Возвращаясь часа в два дня, во время прилива, при ярком солнечном свете, и проезжая мимо утеса «Бычий Рог» по направлению к бухте, расположенной возле Бю-де-ля-Рю, он увидел на камнях какую-то тень. Ее не мог отбрасывать один из выступов утеса. Жиллиат подъехал ближе и увидал, что в кресле Гильд-Гольм-Ур сидит человек. Море уже порядочно поднялось, волны окружили скалу, и перебраться на берег теперь было невозможно. Жиллиат стал делать знаки — человек оставался неподвижным. Жиллиат приблизился. Человек спал.
Он был одет в черное. «Это, должно быть, священник», — подумал Жиллиат. Подплыв на лодке вплотную к утесу, молодой человек рассмотрел его лицо. Оно было юным и совершенно ему незнакомым.
К счастью, скала эта отвесная, и глубина позволяла судну Жиллиата пройти вдоль стены утеса. Прилив казался уже настолько велик, что молодой человек, стоя в барке, мог дотянуться до ног спящего. Подняв одну ногу на борт лодки, он вытянул вверх руки. Если бы в этот момент Жиллиат упал, ему вряд ли удалось бы выплыть. Прибой был силен, и молодого человека просто раздавило бы между лодкой и утесом.
Потянув спящего за ногу, он спросил:
— Эй, что вы здесь делаете?
Незнакомец проснулся.
— Я смотрю, — сказал он. Затем, окончательно очнувшись от сна, добавил: — Я только что сюда приехал и отправился погулять. Всю ночь провел на море. Мне здесь очень понравился вид, но я устал и поэтому заснул.
— Через десять минут вы бы утонули, — сказал Жиллиат.
— О!
— Прыгайте в мою лодку.
Удерживая суденышко ногами, Жиллиат одной рукой уперся в утес, а другую протянул незнакомцу в черном. Тот легко спрыгнул в лодку. Он был очень красив.
Жиллиат начал править, и через несколько минут лодка вошла в бухту Бю-де-ля-Рю.
На молодом человеке была круглая шапочка и белый галстук. Его длиннополый черный сюртук был наглухо застегнут. Пышные белокурые волосы, женственное, открытое лицо и чистые глаза — так выглядел незнакомец.
Лодка подошла к берегу. Жиллиат продел трос в кольцо причала, обернулся и увидал, что юноша протягивает ему золотую монету. Рука его поражала своей белизной. Жиллиат легонько отстранил ее.
С минуту оба молчали. Юноша заговорил первым:
— Вы спасли мне жизнь.
— Возможно, — ответил Жиллиат.
Они вышли из лодки.
— Я вам обязан жизнью, — снова сказал юноша.
— Ну так что же?
Ответ Жиллиата повлек за собой новую паузу.
— Вы принадлежите к здешнему приходу?
— Нет.
— А к какому?
Жиллиат поднял правую руку, указал на небо и ответил:
— Вот к этому.
Юноша кивнул головой и направился по тропинке. Пройдя несколько шагов, он остановился, вытащил из кармана книгу и, вернувшись, протянул ее Жиллиату.
— Разрешите мне предложить вам эту книгу.
Жиллиат взял ее. Это была Библия.
Несколько минут Жиллиат, облокотившись на забор, смотрел в сторону уходящего, пока тот не скрылся за поворотом тропинки, ведущей в Сен-Сампсон.
Затем он опустил голову и не думал уже ни о незнакомце, ни об утесе. Он думал о Дерюшетте.
Из задумчивости его вывел чей-то голос:
— Эй, Жиллиат!
Голос был ему знаком, и молодой человек поднял глаза.
— В чем дело, господин Ландуа? — спросил он.
Это был действительно Ландуа, проезжавший в ста шагах от Бю-де-ля-Рю в тележке, запряженной маленькой лошадкой. Он остановился, чтобы окликнуть Жиллиата, но, очевидно, очень спешил.
— Есть новости, Жиллиат.
— Где?
— В доме Летьерри.
— А что случилось?
— Об этом я не могу кричать отсюда во все горло.
Жиллиат вздрогнул.
— Дерюшетта выходит замуж?
— О нет! Хуже…
— Что вы хотите сказать?
— Отправляйтесь в «Смельчаки», там узнаете.
И господин Ландуа хлестнул лошадь.
Книга V
Револьвер. Разговоры в трактире
Господин Клюбен был человеком маленького роста, с желтой кожей. Он обладал силой быка. Море не смогло покрыть его лицо загаром. Оно казалось восковым. Глаза его были прозрачными. Он отличался необычайной памятью. Для него увидеть кого-то один раз означало то же самое, что для другого записать все сведения об этом человеке. Проницательный взгляд Клюбена ошеломлял всех. Он как бы снимал отпечаток с каждого лица и сохранял его; лицо могло состариться, но Клюбен все-таки его узнавал. Ничто не могло затуманить его память. Клюбен был холоден, сдержан, спокоен, никогда не делал лишних движений, однако честные глаза этого господина говорили в его пользу. Многие считали его простаком; и действительно во взгляде Клюбена читалась какая-то наивность. Мы уже говорили, что он был непревзойденным моряком. Никто не умел так, как он, управлять парусами, угадывать ветер и удерживать правильный курс судна. Его набожность и честность были известны всем. Всякий, кто высказал бы малейшее недоверие в отношении Клюбена, навлек бы этим лишь подозрение на самого себя. Он питал дружеские чувства к Ребюше, владельцу меняльной лавки в Сен-Мало, и тот часто говаривал: «Клюбену я мог бы доверить свою лавку».
Клюбен был вдов. Его жена отличалась такой же честностью, как и он сам. Она до смерти сохранила самую прекрасную репутацию. Если бы судья вздумал начать ухаживать за ней, она пожаловалась бы на него королю; а если бы сам Господь Бог влюбился в нее, она сказала бы о том своему кюре.
Эта пара являлась в Тортевале образцом того, что в Англии называют «почтенные люди». Госпожа Клюбен была чиста как лебедь; сам Клюбен — бел, как горностай. Он не вынес бы ни малейшего пятнышка на своей репутации. Если бы нашел булавку, то не успокоился бы, пока не отыскал ее владельца. Он способен был бить в барабан о том, что обнаружил коробку спичек. Однажды Клюбен пошел в ресторан в Сен-Серване и обратился к хозяину: «Я завтракал у вас три года назад, и вы ошиблись в счете». И тут же возвратил ему шестьдесят пять сантимов. До подобной щепетильности его часто доводила чрезмерная честность.
Он был всегда настороже, не вынося чужого плутовства.
Каждый вторник отправлялся на Дюранде в Сен-Мало. Приезжая туда, в течение двух дней производил разгрузку и погрузку, а в пятницу утром возвращался на Гернзей.
В порту Сен-Мало имелась маленькая гостиница с трактиром. В настоящее время ее уже не существует. Она была разрушена при постройке набережной. В то время море омывало ворота Сен-Венсена; когда случался отлив, между портами Сен-Мало и Сен-Сервал можно было разъезжать на тележках по морскому дну, лавируя между обсохшими судами, рискуя наткнуться на якорь, канат или рею. В промежутках между двумя приливами возницы гоняли лошадей по тому самому месту, где шестью часами раньше или позже ветер подхлестывал морские валы. Здесь же когда-то разгуливали двадцать четыре огромные собаки, охранявшие порт Сен-Мало. Но в 1770 году они растерзали одного морского офицера, поэтому их убрали. Теперь уж больше в гавани не раздается их грозный лай.
Господин Клюбен останавливался в этой гостинице. Тут он и устроил контору Дюранды.
Таможенные служащие и береговая охрана приходили в этот трактир выпить и закусить. У них был здесь свой отдельный стол. Таможенные чиновники французской и английской сторон встречались тут, иногда даже заключали сделки.
Судовладельцы тоже бывали здесь, но трапезничали за другим столом.
Клюбен ел иногда за тем, иногда за другим. Он лично предпочитал стол таможенников. Но его встречали одинаково радушно везде.
Кормили в этом трактире хорошо. Там подавались прекрасные заморские напитки, причем хозяин старался угостить каждого каким-нибудь лакомым блюдом его родины.
Капитаны дальнего плавания и моряки-любители, встречаясь за общим столом, обменивались новостями. «Что слышно с сахаром?» — «Тихо. Хотя, вот мы привезли три тысячи мешков из Бомбея и пять тысяч из Сайгуна». — «Вот вы увидите, что правые в конце концов скинут Виллеля». — «А как индиго?» — «Да вот всего семь тюков пришло из Гватемалы». — «Сегодня прибыла «Нанина-Жули». Хорошенькое суденышко!» — «Опять два города дерутся!» — «Когда Монтевидео жиреет, Буэнос-Айрес тощает». — «Пришлось снять часть груза с «Регина-Чели»». — «Какао нынче в цене: каракакский — по двести тридцать четыре мешок, а трипидадский — по шестьдесят три». — «Говорят, на Марсовом поле кричали: «Долой министров!»» — «Дубленая кожа идет по шестьдесят франков штука». — «Что, перешли уже Балканы? Как Дибич[642]?» — «В Сан-Франциско большой спрос на анис». — «В Планьоле не хватает оливкового масла». — «Сыр твердо держится тридцать два франка». — «А что, Лев XII[643] все еще жив?» и т. д. и т. п.
Все это говорилось и обсуждалось при общем шуме. За столом таможенных чиновников и береговой охраны разговаривали тише.
Дела береговой и портовой полиции не терпят гласности.
За столом моряков председательствовал капитан дальнего плавания Жертре-Габуро. Это был не человек, а ходячий барометр. Многолетняя привязанность к морю одарила его способностью предсказывать погоду. Он с точностью определял, каков будет завтрашний день. Он выстукивал ветер, щупал пульс океана, говорил облакам: «Покажите-ка язык». Языком служила молния. Это был лекарь ветра, волн, шквала. Океан являлся его пациентом; Жертре-Габуро объехал весь мир так, как врач обходит клинику, изучал каждый климат в различных, образно говоря, состояниях здоровья. Ему была известна патология каждого времени года. Кроме того, он обладал массой полезных знаний. Его называли ходячим справочником. Жертре-Габуро знал наизусть все пограничные тарифы и пошлины, особенно английские: столько-то пенсов при проезде мимо такого-то маяка, столько-то в другом месте. Он знал, что какой-то маяк, нуждавшийся прежде в двухстах галлонах масла в год, теперь потребляет полторы тысячи.
Однажды, во время плавания, Жертре-Габуро опасно заболел, и думали, что он умрет. Весь экипаж собрался подле его койки. Прерываемый страшной икотой, он обратился к штурману и завел речь о том, какие починки нужно сделать на судне. Словом, это был необыкновенный человек.
Редко случалось, чтобы за обоими столами разговор велся на одну и ту же тему. Однако в начале февраля, когда происходили описываемые нами события, такой случай представился. Трехмачтовое судно «Тамолипас», пришедшее из Чили и возвращавшееся туда, и его капитан Зуэла привлекли внимание обоих столов. За капитанским говорили о его грузе, а за столом таможенников — о его отплытии.
Капитан Зуэла, чилиец с примесью колумбийской крови, принимал участие в освободительных войнах, причем переходил с одной стороны на другую в зависимости от того, какая из них казалась ему более выгодной. Он разбогател, всю жизнь без разбора оказывая услуги кому угодно. Был бонапартистом, абсолютистом, либералом, атеистом и католиком одновременно. По-настоящему Зуэла принадлежал лишь к одной партии — партии выгоды. Иногда занимался во Франции коммерческими операциями и, если верить слухам, охотно брал на борт любого — беглеца, банкрота, политического преступника, — лишь бы они ему хорошо платили. Он это проделывал просто: беглец прятался где-нибудь на пустынном берегу, и Зуэла, проходя мимо, спускал шлюпку, которая его подбирала. В прошлый свой рейс капитан таким образом увез участника процесса Бертона, а теперь ходили слухи, что он собирается взять на борт людей, замешанных в новом крупном процессе. Полиция была об этом предупреждена и следила за ним.
В те времена бегство преступников вообще случалось часто. Эпоха Реставрации была временем реакции; революции порождают эмиграцию, а Реставрация — изгнания. В течение первых семи-восьми лет со дня воцарения Бурбонов всеобщая паника царила в финансовом мире, в промышленности и торговле: почва уходила из-под ног, разорения свершались ежедневно. В политике тоже царила растерянность: Лаваллет, Лефевр-Денуетт, Делон — все бежали. Трибуналы свирепствовали. Быть в безопасности — вот основная мысль, захватившая людей. Быть опороченным — означало казнь. Дух инквизиции оказался долговечнее самой инквизиции. Смертные приговоры сыпались градом. Преследуемые спасались в Техасе, в горах, в Перу, в Мексике. Покинуть родину — таков был единственный выход.
Но бежать совсем не так просто. Тысячи препятствий возникают на пути беглеца. Чтобы поменять свой облик, беглецы старались изменить внешность. Всеми уважаемые люди вынуждены были использовать недостойные уловки. Но и это не всегда им удавалось. Полиция следила за политическими деятелями гораздо усерднее, чем за мошенниками. Представьте себе невинность, вынужденную гримироваться, достоинство, принужденное изменять свой голос, славу, прячущуюся под маской неизвестности. А за спинами честных людей пробирались плуты, мошенники и всякий сброд, который спасал собственную шкуру, совершив какое-нибудь темное дело.
И, как это ни странно, бесчестным людям спасение давалось легче. Налет цивилизации, привезенной каким-либо плутом из Парижа или Лондона, создавал ему в варварских, малокультурных странах репутацию, делал хозяином положения. Его похождения не мешали там, куда ему удавалось пробраться. Самые фантастические вещи происходили с людьми, исчезнувшими из своей родной страны. Эти люди порой достигали наиболее высокого положения. Случалось, какой-нибудь разорившийся делец, провалившись сквозь землю, через двадцать лет оказывался великим визирем или королем Тасмании.
Помогать таким беглецам стало профессией некоторых моряков, и занятие это было очень прибыльным. Тот, кто хотел скрыться в Англии, обращался к контрабандистам, тот, кто намеревался пробраться в Америку, — к капитанам дальнего плавания, таким, как Зуэла.
Наблюдения Клюбена
Зуэла иногда заходил в портовый трактир. Клюбен знал его по внешнему виду.
Не проявляя чрезмерной гордости, он не гнушался шапочным знакомством с жуликами. Иногда и вовсе поддерживал с такими людьми отношения, открыто подавал руку и здоровался с ними. Он старался говорить с каждым плутом на его родном языке. На сей счет имел собственные изречения: «Можно извлечь добро, познавая зло», «Лесничему не вредно поговорить с браконьером», «Моряк должен знать пирата; пират — это подводный камень», «Я испытываю плута так же, как врач испытывает яд».
Против всего этого нельзя было возразить. Все находили, что капитан Клюбен прав, он поступает верно, не обладая излишней щепетильностью. Кто бы посмел его осудить? Ведь все то, что он делал, преследовало благие цели. Ему все было дозволено, ничто не могло его скомпрометировать. На хрустале не остается пятен. Всеобщее доверие было вознаграждением за его бесконечную честность. Как бы ни поступал Клюбен, все истолковывалось в хорошем смысле. Его знакомства с подозрительными личностями создавали ему лишь репутацию человека, не лишенного хитрости. Таким образом, Клюбен слыл одновременно и простаком, и хитрецом; и никто этому не удивлялся. Бывают наивные хитрецы. Эта одна из разновидностей честности, и притом особенно ценная.
«Тамолипас», закончив погрузку, готовился к отплытию.
Во вторник под вечер Дюранда пришла в Сен-Мало. Было еще совершенно светло. Когда пароход подплывал к берегу, господин Клюбен, стоя на палубе, заметил на песчаной отмели между двумя утесами двух человек, разговаривавших между собой. Он посмотрел на них в подзорную трубу и узнал одного: это был капитан Зуэла. Возможно, Клюбен узнал и второго.
Второй — рослый человек, почти седой. На нем была высокая шляпа, костюм походил на квакерский. Он не поднимал смиренно опущенных глаз.
Придя в трактир, Клюбен узнал: «Тамолипас» намеревается отплыть через десять дней. Потом выяснилось, что Клюбен собирал еще и другие сведения.
Ночью он явился к оружейнику, жившему на улице Сен-Винсент, и спросил его:
— Знаете ли вы, что такое револьвер?
— О да, — отвечал оружейник, — это американская штучка.
— Это пистолет, который сам продолжает беседу.
— Ха-ха! Вот именно! Сам спрашивает и сам отвечает.
— Да, и сам же опять задает вопрос.
— Правильно, господин Клюбен! В нем заключен вертящийся барабан.
— Да, а в барабане пять шли шесть зарядов.
Оружейник вытянул губы и причмокнул языком, в знак восхищения тряся головой.
— Это великолепное оружие, господин Клюбен. Оно будет иметь большой успех.
— Так вот, мне нужен шестизарядный револьвер.
— У меня нет.
— Как это нет? Да ведь вы торгуете оружием!
— Револьверов у меня пока нет. Видите ли, это еще новинка. Во Франции до сих пор делают только пистолеты.
— Черт возьми!
Револьверов нигде еще нет в продаже.
— Обидно!
— Но у меня есть великолепные пистолеты.
— Мне необходим револьвер.
— Да, я понимаю, что это удобнее. Постойте.
— Что?
— Мне кажется, как раз сейчас в Сен-Мало можно достать то, что вам нужно.
— Револьвер?
— Да.
— И он продается?
— Да.
— Где?
— Это я для вас узнаю.
— Когда вы сможете дать мне ответ?
— При первом удобном случае.
— Когда мне зайти за ответом?
— Уж если я вам достану там револьвер, он будет отличный!
— Когда же я узнаю ответ?
— Придете в следующий раз и узнаете.
— Но не говорите, что это для меня, — сказал Клюбен.
Клюбен что-то уносит, но назад не возвращает
Клюбен нагрузил Дюранду, взял быков и несколько пассажиров и, как обычно, покинул Сен-Мало в пятницу утром.
Когда пароход вышел достаточно далеко в открытое море и Клюбен на несколько минут мог покинуть капитанский мостик, он спустился в свою каюту, заперся там, взял дорожный мешок, положил в него просмоленный костюм, бисквиты, несколько банок консервов, несколько фунтов шоколаду, хронометр и подзорную трубу, затянул мешок и запер его на замок. Затем спустился в трюм и вскоре вышел оттуда, неся одну из тех веревок с крючьями, которые используют в море конопатчики, а на суше — воры. С помощью таких веревок легко взбираться по стенам и отвесным склонам.
Прибыв на Гернзей, Клюбен отправился в Тортеваль. Там он провел тридцать шесть часов. Уходя, взял с собой саквояж и веревку, но вернулся с пустыми руками.
В те времена, которые теперь уже кажутся нам историческими и отдаленными, в Ламаншском проливе процветала контрабанда. У западного берега Гернзея часто показывались суда контрабандистов. Есть люди, до сих пор помнящие это время, до мельчайших деталей знающие все, что происходило там полвека назад, и они могут назвать крупнейшие суда, занимавшиеся подобным делом. Не проходило недели, чтобы одно-два таких судна не подплыли к берегу Гернзея. Это носило характер почти регулярного морского сообщения. Одна из бухт на острове Серк до сих пор еще называется «Лавкой», потому что в гроте возле этой бухты контрабандисты продавали свой товар. У них имелся даже свой жаргон, который теперь в Ламаншском архипелаге уже забыт. Этот жаргон был довольно близок к испанскому языку.
Во многих пунктах английского и французского побережья контрабанда находилась в тайной дружеской связи с легальной, патентованной торговлей. Не один крупный финансист впускал к себе контрабандистов, правда, через потайную дверь; скрытым образом контрабанда пронизывала всю торговую и промышленную систему. За спиной торговца стоял контрабандист — такова была история многих обогащений. Сеген говорил, что таким путем составил себе состояние Бурген; Бурген заявлял то же самое про Сегена. Ручаться за их слова нельзя; быть может, они клеветали друг на друга. Но как бы там ни было, закон преследовал контрабанду, а торговля ей покровительствовала. Контрабандисты имели связи даже с «высшим светом». В этом невинном по внешнему виду гроте некогда столкнулся Мандрен[644] с графом Шароле[645].
Все эти дела требовали самой строгой тайны. Каждому контрабандисту было известно многое, о чем он молчал. Для них это закон. Первое достоинство контрабандиста — уметь держать язык за зубами. Без молчаливости нет контрабанды. Тайна контрабандной торговли — своего рода тайна исповеди.
Тайны охранялись свято. Контрабандист, поклявшийся молчать, исполнял свою клятву. На каждого из них вполне можно было положиться. Однажды судья, допрашивавший контрабандиста, подверг его пыткам для того, чтобы заставить назвать то лицо, которое снабжало его деньгами для закупки контрабандного товара. Несмотря на мучения, контрабандист не выдал тайны, а между тем, этим лицом был допрашивавший его судья. Один из сообщников вынужден был на глазах у всех исполнить закон и подвергнуть своего товарища пыткам, а второй, несмотря на страдания, остался верен своей клятве.
В то время в Пленмонт наезжали два наиболее знаменитых контрабандиста — Бласко и Бласкито. Они были тезками, а у испанцев-католиков иметь одного и того же заступника на небесах считается не менее близким родством, чем являться сыновьями одного и того же отца.
Ничего не могло быть легче, но в то же время и труднее того, чтобы, зная, где собираются контрабандисты, повидать их и поговорить с ними. Для этого нужно, не имея никаких предрассудков, отправиться в Пленмонт и смело вторгнуться туда, где скрывалась тщательно оберегаемая тайна.
Пленмонт
Пленмонт, расположенный неподалеку от Тортеваля, — это одна из трех оконечностей Гернзея. Там, над морем, возвышается мыс, покрытый зеленью.
Мыс этот пустынен. Единственный стоящий на нем дом лишь подчеркивает такую пустынность и делает ее жуткой. Говорят, дом нечист. Верно это или нет, но во всяком случае у него очень странный вид.
Одноэтажное гранитное здание окружено зеленой лужайкой. Оно прекрасно сохранилось и кажется обитаемым. Его стены и крыша выглядят крепкими, камин и черепица целы, на крыше возвышается новенькая труба. Задней стороной дом обращен к морю. Со стороны берега его охраняет глухая стена. Если внимательно всмотреться в нее, то можно заметить замурованное окно. В боковых стенах дома тоже видны три окна, одно из них выходит на восток, остальные два — на запад. Все эти окна также замурованы. Лишь в фасаде, глядящем на остров, есть дверь и два окна. Однако и дверь и окна заложены камнями. Приблизившись к дому вплотную, замечаешь, что внизу есть еще два незамурованных окна. Но те, что заложены камнями, производят менее мрачное впечатление, чем эти открытые. Они похожи на черные, зияющие дыры, в них нет ни стекол, ни задвижек. Они напоминают темные пустые глазницы, и сквозь них видно, что внутри дом пуст, там нет ни карнизов, ни обоев, ни мебели — один голый камень. Внутри дом похож на пустой склеп.
Со стороны берега дожди размывают фундамент; крапива, волнуемая ветром, колышется у подножия стен. Кругом не видно ни одного человеческого жилья. Дом пуст и тих. Но если остановиться и приложить ухо к стене, можно иногда расслышать в нем звуки, напоминающие хлопанье крыльев. Над заложенной камнями входной дверью, на каменной перекладине высечены буквы «ELM-PBLIG» и дата — 1780.
По ночам дом освещен луной. Море окружает его с трех сторон. Местность, где расположено это жилище, красивая, но мрачная. Красота ее таит в себе какую-то загадку. Почему никто не живет в этом доме? Вокруг прекрасно, дом хорош. Почему такое запустение? В голове возникают недоуменные вопросы: земля вокруг плодородна, отчего же ее никто не возделывает? Хозяина нет, дверь завалена. Что это за место? Почему его покинули люди? Что здесь происходит? Если ничего, то почему никого нет? Если жилище спит, то отчего его никто не разбудит? В мозгу возникают образы бушующего шквала, ветра, птиц, животных и людей, населяющих этот покинутый дом. Каким прохожим служит он приютом?
Град и дождь стучатся в окна. Долетавшие во время бурь волны оставили следы на задней стене дома. По комнатам разгуливает ветер. Может быть, здесь совершено преступление. По ночам кажется, будто дом зовет на помощь. Возможно, из него доносятся голоса. О ком думает он в своем одиночестве? Какую тайну хранит? Он страшен даже днем, каким же тогда бывает по ночам? Что происходит здесь между вечерней и утренней зарей? В этих камнях заключена какая-то ужасная загадка. В этих комнатах живут не просто тени: в них спрятана сама неизвестность.
После захода солнца рыбачьи лодки возвратятся в гавань, птицы умолкнут, пастух за соседним утесом угонит своих коз, между камнями начнут скользить пресмыкающиеся, выходящие по ночам за добычей, в небе засверкают звезды, подует ночной ветерок, а эти два окна будут по-прежнему зиять черными впадинами. Вот почему у суеверных людей дом вызывает представление о привидениях, призраках, ночных ужасах и темных, таинственных духах.
Дом «нечист» — этим все сказано.
Легковерные дают всему собственное объяснение; у здравомыслящих на сей счет другое мнение, они говорят: «Ничего не может быть проще, чем этот дом — старый наблюдательный пост, возведенный в эпоху войн и революции. Он был построен для того, чтобы следить за контрабандистами. По окончании войны дом забросили; не разрушили его потому, что он еще может пригодиться. Дверь и окна фасада заложили камнями, чтобы люди не могли проникнуть внутрь; окна со стороны моря замуровали с целью уберечь дом от ветров. Вот и все».
Но суеверные люди стоят на своем. Прежде всего, здание построено вовсе не в эпоху войн и революций: на нем стоит дата — 1780 год. Значит, оно возведено до революции. Затем, это вовсе не наблюдательный пост: на нем высечены буквы «ELM-PBILC» — соединенные монограммы двух фамилий, и следовательно, дом был построен для жилья какой-то недавно поженившейся супружеской четы. Ясно, что здесь жили. Почему же в нем теперь никого нет? Если дверь и окна заложили для того, чтобы никто не мог туда войти, то почему же оставили два нижних окна открытыми? Нужно было закрывать все или не закрывать ничего. И почему нет стекол и задвижек? Если замуровали окна с трех сторон, то отчего не замуровали с четвертой? Дождь не может проникнуть в дом с юга, но ему открыт вход с севера.
Эти люди ошибаются, конечно, но и слишком здравомыслящие тоже не правы. Загадка остается загадкой. Несомненно лишь одно — для контрабандистов этот дом был теперь скорее полезен, чем опасен.
Страху свойственно преувеличивать истинное значение вещей. Конечно, многие таинственные ночные явления, приписываемые дому, могли быть объяснены тем, что в нем останавливались разные темные дельцы, подозрительные личности, прячущиеся там с недобрыми намерениями и умышленно создающие вокруг него ореол таинственности.
В те далекие времена такая дерзость была возможна. Полиция, особенно в маленьких государствах, отличалась от той, что существует в наши дни.
К тому же дом был особенно удобен для ночных встреч контрабандистов именно потому, что пользовался дурной славой. Они могли не опасаться облавы. Нельзя же пожаловаться таможенникам или полицейскому сержанту на привидения. Суеверные люди творили крестное знамение, но не доносили властям. Если они замечали что-нибудь, то молча удирали подальше. Существует невольное, но несомненное соглашение между теми, кто пугает, и тем, кто пугается. Испуганные испытывают ужас, им кажется, что они узнали часть какой-то тайны, и они боятся рассказывать о своем страхе, который представляется этим людям таинственным. Потому они и молчат. Кроме того, ими движет инстинкт: немота сопровождает испуг. Кажется, будто ужас говорит этим людям: «Тс-с-с…»
Нельзя забывать, что это происходило в те времена, когда гернзейские крестьяне верили — ежегодно в определенный день повторяется вифлеемское чудо; тогда в рождественскую ночь ни один крестьянин не осмеливался входить в хлев, потому что боялся увидеть там коленопреклоненных быков и ослов.
Что ни говори, дом пользовался дурной славой, и, за исключением редких случаев, никто к нему не приближался. Никому не хотелось натолкнуться на исчадие ада.
Страх охранял этот дом от любопытных, которые могли бы подсмотреть, а потом донести о том, что там происходит; поэтому не было ничего легче, чем проникнуть внутрь при помощи веревочной лестницы или даже обыкновенной деревянной, принесенной из ближайшего селения. Спрятанные в доме припасы давали возможность в полной безопасности выжидать здесь случая, когда представится оказия бежать на каком-нибудь судне. Сохранился рассказ о том, что лет сорок назад один беглец, не то политик, не то коммерсант, жил некоторое время, прячась в таинственном пленмонтском доме, откуда он на рыбачьем судне пробрался в Англию. А уж из Англии легко доехать до Америки.
Рассказывают также о том, что провизия, оставленная в этом доме, не пропадает; Люцифер охраняет ее, зная, что тот, кто ее оставил, должен рано или поздно вернуться.
С вершины, где расположен дом, на юго-востоке, в отдалении одной мили от берега, виден риф Гануа.
Хорошему пловцу проплыть расстояние между Пленмонтом и Гануа трудно, но сделать это возможно. Мы уже говорили, что Клюбену такое было под силу. Кроме того, тот, кому знакомо дно в этих местах, может дважды останавливаться и отдыхать: сначала на так называемом Круглом камне, а затем дальше, отплыв несколько влево, — на Красном камне.
Разорители гнезд
Как раз в это время, приблизительно в тот же субботний день, когда Клюбен ходил в Тортеваль, произошел необычайный случай, о нем сначала знали немногие, и слух об этом распространился гораздо позже. Мы только что говорили: многие явления остаются неизвестными именно благодаря тому ужасу, который они внушают очевидцам.
В ночь с субботы на воскресенье — мы точно указываем срок и настаиваем на нем — трое детей взобрались на Пленмонтский утес. Они возвращались в свою деревню с морского берега. Это были разорители гнезд. Везде, где есть береговые скалы с углублениями, удобными для птиц, мальцы разоряют гнезда. Мы уже говорили об этом. Вспомните, как поступал по отношению к таким детям Жиллиат.
Эти разорители гнезд — своего рода «уличные мальчишки» побережий. Они отличаются большой смелостью.
Ночь была темна, тучи затянули небо. На тортевальской колокольне, похожей на круглую магистерскую шапочку, пробило три часа.
Почему дети возвращались домой так поздно? Очень просто: они охотились за гнездами чаек. В этом году была прекрасная весна, и чайки начали нестись очень рано. Дети увлеклись наблюдением за возней птиц и забыли о времени. Между тем наступил прилив, мальчишек окружила вода; они не могли уже добраться до бухточки, где привязали свою лодку, и должны были ждать на утесе, пока не наступит отлив. Поэтому-то возвращались домой поздно ночью. В таких случаях матери ждут своих детей с лихорадочным беспокойством, а когда все кончается благополучно, их радость находит себе выход в гневе, а слезы — в тумаках. Поэтому мальчики торопились, заранее страшась того, что их ожидает. Они спешили, но в то же время охотно опоздали бы еще больше, да и вообще не испытывали никакого желания оказаться дома. Они знали, что вместе с поцелуями радости их ждут побои.
Лишь один из ребят мог ничего не опасаться — он был сирота. Маленький француз, у которого не было ни отца, ни матери, в тот момент чрезвычайно радовался такому обстоятельству. Никто его не ждет, и никто не станет бить. Остальные двое были гернзейцами, родом из Тортеваля.
Взобравшись на крутой склон, разорители гнезд очутились на лужайке, где стоял заброшенный дом.
Неудивительно, что их охватил страх: это случалось со всеми прохожими, а особенно с детьми, да еще в столь поздний час.
С одной стороны, они почувствовали желание бежать со всех ног; с другой, им хотелось остановиться и хорошенько рассмотреть таинственный дом. Они так и сделали.
Дом был черным и казался грозным. Посреди пустыря стояла темная, симметричная громада с прямыми углами, напоминающая алтарь мрака.
Первой мыслью детей было удрать; второй — подойти ближе. Они никогда не видели этот дом в столь поздний час. Ими завладело желание испытать страх. К тому же среди них ведь был маленький француз. И дети приблизились к дому. Известно, что французы ни во что не верят. А ведь на людях и смерть красна: каждого из них ободрило то, что его товарищи с ним.
Кроме того что они были охотниками за гнездами, детьми, общий возраст которых не больше тридцати лет, они приблизились к тайне: не останавливаться же на полпути! Раз они были так близко от дома, как можно не заглянуть внутрь? Тот, кто отправляется на охоту, незаметно для себя уходит все дальше и дальше; тот, кто ищет открытий, увлекается все больше и больше; они столько раз заглядывали в птичьи гнезда; почему же им не заглянуть в гнездо привидений, даже в сам ад? Ведь черти — желанная добыча. Сначала мальчишки охотились за чайками, теперь захотели перейти на чертенят. По крайней мере, они узнают, правду ли им рассказывают родители обо всех этих ночных ужасах. Что может быть заманчивее, чем проверить подлинность сказок, увидеть самим то, что видели старухи.
Все эти мысли быстро пронеслись в головах бесстрашных разорителей гнезд и придали им смелости. Они пошли по направлению к дому.
Между прочим, малец, который предводительствовал в этом отважном предприятии, был вполне достоин такой чести. Этот смелый, решительный мальчик, ученик конопатчика, рано стал взрослым, он спал в сарае на соломенной подстилке и самостоятельно пробивал себе дорогу в жизни. У него был звонкий голосок, мальчишка прекрасно взбирался на деревья, перелезал через ограды, без всяких ложных предрассудков обносил мимоходом фруктовые деревья, попадавшиеся ему на пути. Он уже работал на верфях по ремонту воинских судов. Это было дитя случая, веселый сирота, рожденный где-то во Франции, смелый, готовый отдать нищему последний грош, насмешливый, добрый, светлый блондин, почти рыжий, видавший настоящих парижан. В настоящее время он зарабатывал на кусок хлеба тем, что конопатил лодки рыбаков. Когда он был сыт, то позволял себе отдохнуть и отправлялся разорять птичьи гнезда. Таков был маленький француз.
Чем-то зловещим веяло от этого пустынного места. Все было угрюмо. Молчаливый утес совсем рядом оканчивался крутым обрывом. У подножия его расстилалось безмолвное море. Ветра не было, и даже трава не шевелилась.
Разорители гнезд медленным шагом приближались к дому. Впереди шел французик.
Один из них, рассказывая позже то, что сохранилось у него в памяти, добавлял: «А дом молчал».
Они подошли, затаив дыхание, как будто приблизились к зверю.
Ступая по неудобным камням, разорители гнезд подкрались к задней стороне дома; они были уже совсем близко, но видели только замурованный южный фасад; обойти слева и заглянуть внутрь с другой стороны, где были два черных окна, они не решались — сделать это слишком страшно.
Но мало-помалу мальчики набрались храбрости, и маленький конопатчик шепотом сказал:
— Давайте обойдем; с той стороны должно быть самое интересное. Нужно заглянуть в те черные окна.
Они обошли здание слева и очутились по ту сторону дома.
В окнах горел свет. Дети пустились наутек.
Когда они оказались достаточно далеко, маленький француз, обернувшись, сказал:
— Постойте! Глядите-ка, свет погас.
И в самом деле, окна почернели. Черный силуэт дома вырисовывался на фоне сумрачного неба.
Их страх еще не прошел, но любопытство взяло верх. Они опять приблизились. Внезапно в обоих окнах вновь вспыхнул свет.
Тортевальские мальчики тотчас же снова бросились бежать. Французский чертенок не осмелился идти вперед, но остался на месте. Он стоял неподвижно, лицом к дому, и пристально смотрел на него.
Огонь еще раз потух и зажегся вновь. Это было страшно. Отсветы окон бросали длинные полосы на покрытую ночной росой траву. И вдруг на внутренней стене ясно обозначились шевелящиеся профили и тени огромных голов.
В доме не было ни потолков, ни перегородок — четыре стены и крыша. Ясно поэтому, что свет появлялся одновременно в обоих окнах.
Видя, что французик стоит неподвижно, остальные мальчики шаг за шагом вернулись к нему, дрожа от страха и любопытства. Конопатчик шепнул им:
— В доме есть привидения. Я видел нос одного из них.
Маленькие тортевальцы, спрятавшись за спиной французика, выглядывали из-за его плеча, становясь на цыпочки, и чувствовали себя в безопасности, так как он словно щит отгораживал их от привидений.
Казалось, и дом смотрит на них. В непроглядной тьме зияли два красных отверстия — окна. Свет то появлялся, то исчезал, и мерещилось, что это моргают страшные глаза. Очевидно, там кто-то расхаживал с потайным фонарем.
Вдруг у одного из окон выросла черная человеческая фигура, вынырнувшая из окружающей ее тьмы, а затем исчезла внутри. Похоже было на то, что кто-то вошел в дом.
Входить через окна — обыкновение воров.
Свет вспыхнул на один миг ярче, затем погас и больше не появлялся. Дом опять стал черным, и тогда изнутри послышался шум. Он походил на человеческие голоса. Часто так бывает: когда видно, то ничего не слышно; когда ничего не видно — становится слышно.
Ночь на море особенно безмолвна, тишина и тьма чрезвычайно глубоки. Когда нет ветра и волны спокойны, в широком пространстве, где в другую погоду нельзя расслышать полета орла, слышно жужжание мухи. В тишине гулко раздавался малейший шорох, доносившийся из окон дома.
— Посмотрим, — сказал французик.
И он осторожно шагнул в направлении к дому.
Остальным мальчикам было так страшно, что они последовали за ним, ведь не решались убежать одни.
Дети прокрались мимо большой вязанки хвороста, которая почему-то подбодрила их, но в это время сова, дремавшая на одном из ближайших кустов, поднялась в воздух, шелестя крыльями. Полеты сов какие-то косые, неровные, эти птицы делают неожиданные повороты. Сова пролетела мимо мальчуганов, взглянув на них своими круглыми светящимися глазами.
Мальчики, следовавшие за маленьким французом, вздрогнули. Но французик пробормотал:
— Ты опоздала, старушка. Я хочу увидеть, что там такое.
И он пошел дальше.
Под его башмаками, подбитыми гвоздями, хрустел тростник, но это не мешало ему ясно различать все звуки, которые доносились из дома и становились то тише, то громче, как всегда бывает при разговоре.
Через минуту мальчик прошептал:
— Собственно говоря, одни только дураки верят в привидения.
Смелость одного в минуту опасности заражает остальных и толкает их вперед. Тортевальские мальчишки следовали за маленьким конопатчиком, не отставая от него ни на шаг.
Им казалось, таинственный дом растет у них на глазах. Но это был не только оптический обман, вызванный страхом: дом действительно увеличивался по мере того, как они к нему приближались.
Между тем звуки голосов внутри раздавались все более и более явственно. Дети прислушивались, они воспринимали все преувеличенно. Это был не шепот, не бормотание, но и не громкий гул. Временами можно было разобрать отдельные слова — странные, непонятные выражения. Мальчики остановились, напрягли слух, потом снова двинулись вперед.
— Это похоже на разговор привидений, — пробурчал маленький конопатчик, — но я в них не верю.
Тортевальские мальчуганы охотно спрятались бы за вязанкой хвороста, однако она была уже далеко, а конопатчик все продолжал идти вперед. Они боялись, что он их бросит, и не смели отойти от него ни на шаг.
Взволнованные, ребята следовали за своим проводником. Французик, обернувшись, сказал:
— Вы ведь знаете, что все это сказки. Привидений не существует.
Дом вырастал перед ними все выше, голоса становились все явственнее.
Приблизившись вплотную, разорители гнезд увидели, что в доме горит потайной фонарь, заслоненный чем-то со стороны окон. Ребята остановились.
Один из тортевальских мальчиков заявил:
— Никаких привидений здесь нет, одни ведьмы.
— Что это висит в окне? — спросил другой.
— Веревка.
— Не веревка, а змея.
— Это веревка повешенного, — с уверенностью заявил француз. — Говорят, она приносит счастье. Но я в такое не верю.
В три прыжка он очутился у самой стены дома. Его поспешность была лихорадочной.
Остальные двое, дрожа и прижимаясь к смельчаку, последовали за ним. Дети припали ухом к стене. В доме продолжали разговаривать. Вот о чем говорили привидения:
— Итак, решено?
— Решено.
— Сказано?
— Сказано.
— Человек будет ожидать здесь и сможет отправиться в Англию вместе с Бласкито?
— Если заплатит.
— Да, если заплатит.
— Бласкито возьмет его в свою лодку.
— Не спрашивая его, откуда он явился?
— Это нас не касается.
— Не допытываясь его имени?
— Незачем спрашивать имени, был бы кошелек.
— Хорошо. Человек будет ждать в этом доме.
— Пусть он захватит с собой еду.
— Будет сделано.
— Куда он ее денет?
— Я принесу с собой мешок.
— Прекрасно!
— Могу я оставить мешок здесь?
— Контрабандисты не воры.
— А вы все когда отплываете?
— Завтра утром. Если бы ваш человек сделал необходимые приготовления, он мог бы отправиться вместе с нами.
— Он еще не готов.
— Это его дело.
— Сколько дней ему придется ждать здесь?
— Дня три-четыре. Около того.
— А Бласкито точно приедет сюда?
— Точно.
— Сюда, в Пленмонт?
— В Пленмонт.
— Когда именно?
— На будущей неделе.
— В какой день?
— В пятницу, субботу или воскресенье.
— А он не обманет?
— Он мой тезка.
— Он всегда держит слово?
— Всегда. Он ничего не боится. Я — Бласко, он — Бласкито.
— Значит, он не может не явиться на Гернзей?
— Мы здесь бываем поочередно: в одном месяце я, в другом — он.
— Понимаю.
— Считая от сегодняшнего дня, не пройдет и пяти суток, как Бласкито будет здесь.
— А если море разыграется?
— Если случится буря?
— Да.
— Тогда Бласкито приедет позже, но будет точно.
— Откуда он плывет?
— Из Бильбао.
— Куда направится?
— В Портленд.
— Это хорошо.
— Или в Торбей.
— Это еще лучше.
— Ваш человек может быть спокоен.
— Бласкито не выдаст его?
— Предателями бывают трусы. Мы не трусы. Измена ведет в ад.
— Никто нас здесь не слышит?
— Ни услышать, ни увидеть нас невозможно. Сюда никто не решается подходить.
— Я знаю.
— Да и кто бы осмелился нас подслушивать!
— В самом деле.
— А если бы кто и услышал, то ничего бы не понял. Мы изъясняемся, используя наречие, которого никто не знает. Вы знаете его, потому что вы — наш.
— Я пришел только для того, чтобы условиться с вами.
— Прекрасно.
— Теперь я ухожу.
— Ладно.
— Скажите, а что если пассажир захочет, чтобы Бласкито отвез его не в Портленд и не в Торбей?
— Лишь бы у него были деньги.
— Бласкито сделает все, что он захочет?
— Бласкито сделает все, чего пожелают деньги.
— Сколько времени продолжается путь до Торбея?
— Это зависит от ветра.
— Часов восемь?
— Около того.
— Бласкито подчинится своему пассажиру?
— Если море подчинится Бласкито.
— Ему хорошо заплатят.
— Золото — это золото, но ветер — это ветер.
— Правильно.
— Человек, у которого есть деньги, делает все, что ему заблагорассудится. Однако ветрами управляет бог.
— Тот, кто поедет с Бласкито, будет здесь в пятницу.
— Хорошо.
— В какое время Бласкито явится сюда?
— Ночью. Ночью приезжают, ночью уезжают. Нашу жену зовут море, а нашу сестру — ночь. Жена иногда изменяет; сестра — никогда.
— Все ясно; прощайте.
— Прощайте. Хотите глоток водки?
— Благодарю!
— Лучше всякого сиропа.
— Итак, вы дали слово!
— Моему слову можно верить.
— Прощайте!
— Вы дворянин, а я рыцарь.
Было совершенно ясно, что так разговаривать могут только привидения. Дети побоялись слушать дальше и бросились наутек, но теперь уж маленький француз, окончательно убежденный в существовании нечистой силы, бежал быстрее остальных.
В ближайший вторник Клюбен прибыл на Дюранде в Сен-Мало. «Тамолипас» уже стоял на рейде.
Между двумя затяжками трубки Клюбен спросил хозяина трактира:
— Когда уходит «Тамолипас»?
— В четверг, послезавтра, — ответил трактирщик.
В этот вечер Клюбен, отужинав за столом береговой охраны, против обыкновения ушел из трактира. Он даже не уладил всех дел, касавшихся Дюранды, и не собрал сведений о том, какой у него будет обратный груз. Со стороны столь исполнительного человека это выглядело очень странно.
Кажется, он заходил на несколько минут к своему другу — меняле.
Клюбен вернулся через два часа после того, как прозвучал сигнал тушить огни. Сигнал дается в десять часов вечера. Следовательно, господин Клюбен возвратился в полночь.
Жакрессарда
Лет сорок назад в Сен-Мало был переулок под названием Кутанше. Теперь он уже не существует.
Деревянные дома двойным рядом стояли так тесно друг против друга, что между ними едва оставался узкий проход, по которому вдобавок протекал ручеек. Приходилось идти, широко расставив ноги по сторонам ручейка, задевая локтями стены домов. У этих дряхлых средневековых нормандских построек почти человеческий профиль. Каждая хижина как старая колдунья. Этажи, надстройки, навесы и перекладины напоминают губы, подбородки, носы и брови. Окошки похожи на косые глаза, стены, покрытые морщинами и пятнами, — на щеки. Домики эти почти сталкиваются лбами, как бы совещаясь о чем-то недобром. Всем своим внешним видом они говорят о том, что в них помещаются темные притоны.
Один из домов этого переулка, самый большой и наиболее известный, назывался Жакрессардой.
Жакрессарда была жилищем бездомных. Во всех городах, а особенно в морских портах, среди населения образуется своего рода осадок. Люди с неизвестным прошлым, которое не удается восстановить даже на суде, темные дельцы, искатели приключений, «химики», «изобретатели», личности, с достоинством носящие свои лохмотья, разорившиеся богачи, мелкие преступники (крупные вращаются в более высоких сферах), бродяги, типы с заплатами на совести и на локтях, плуты, мошенники, злодеи, потерпевшие неудачу в поединке с обществом, голодные обжоры, нищие — вот кто образует этот осадок. Здесь скопляются все, потерявшие человеческий облик. Это помойная яма бывших людских душ. Сюда сваливается весь человеческий мусор, время от времени выметаемый, словно метлой, полицейской облавой. В Сен-Мало таким местом являлась Жакрессарда.
В этих трущобах не встретишь крупных преступников, бандитов, убийц, настоящее порождение невежества и нищеты. Если здесь и попадется убийца, то это какой-нибудь опустившийся пьяница; если встретится вор, то карманный. Тут все, что общество отплевывает, а не изрыгает. Однако бывают исключения. Иногда сюда попадают крупные преступники, иногда — честные, но несчастные люди.
Жакрессарда представляла собой скорее двор, чем дом, посредине которого располагался колодец. Ни одно ее окно не выходило на улицу. Фасадом служила высокая стена с маленькой, низкой дверью. Для того чтобы проникнуть во двор, нужно было приподнять засов и толкнуть дверь.
Посредине двора находилась круглая дыра, окаймленная булыжником: это и есть колодец. Двор был мал, а колодец велик.
Квадратный двор застроили с трех сторон: со стороны улицы не было никаких построек; с остальных трех сторон располагались жилища.
Если бы вы, подвергая себя риску и опасности, вошли сюда, то могли бы услышать затаенный шум и шорох; когда луна светила достаточно ярко, можно было разглядеть следующее.
Двор. Колодец. Вокруг двора — подковообразный сарай, открытый, с потолком из бревен, поддерживаемый каменными столбами, расставленными с неравными промежутками. Вокруг колодца, на соломенной подстилке, круг из подошв дырявых стоптанных мужских, женских и детских башмаков. Ноги мужчин, ноги женщин, ноги детей, и все они спят.
Затем, вглядевшись в темную глубину сарая, глаз начинал различать очертания человеческих тел, голов, неподвижных туловищ, объятых сном, мужских и женских лохмотьев. Люди лежали рядом с навозными кучами. Это были общие спальни. За такой ночлег взималась плата по два су в неделю. Ноги спящих, не помещаясь под навесом, были вытянуты в направлении колодца. В осенние ночи их поливало дождем, зимой — засыпало снегом.
Что это были за люди? Неизвестно. Они приходили вечером, а утром исчезали. Эти тени — порождение общественного строя. Некоторые из них проводили здесь ночь и ускользали, не уплатив. Многие не ели с самого утра. Пороки, болезни и бедствия засыпáли здесь общим сном усталости на общем ложе из грязи. Во сне перед их затуманенным сознанием сливались воедино миазмы утомления, голода, пьянства, безрадостных скитаний в поисках куска хлеба. Под смеженными ресницами, под всклокоченными волосами на лицах, отмеченных печатью умирания, лежали тени грязных вожделений и нечистой совести. В этой лохани гнили отбросы человечества. Их закинула сюда судьба, скитания, прибывший корабль, тюрьма, неудачи, ночь. Каждый день жизнь опорожняла тут свое помойное ведро. Сюда входил всякий, кто хотел, засыпал каждый, кому это удавалось, говорил тот, кто осмеливался. Вообще же здесь общались шепотом. Всякий тут старался спрятаться, забыться поскорее во сне, если не удавалось притаиться в темноте, умереть хотя бы на время. Эти люди каждый вечер закрывали глаза в агонии. Откуда они являлись? Общество выбрасывало сюда несчастных, как морская волна пену.
Соломы на всех не хватало. Многие сваливались от усталости на голые камни и просыпались с затекшими членами.
Колодец без крышки был ничем не защищен, грязный, несмотря на то что глубина в нем достигала тридцати футов. В него свободно попадала и дождевая вода, и нечистоты со всего двора. Подле него стояло ведро. Томимые жаждой могли утолить ее; а кому надоела жизнь — утопиться. Не все ли равно, где спать — в навозе или на дне колодца. В 1819 году в колодце нашли труп четырнадцатилетнего мальчика.
Чтобы не подвергаться в этом доме опасности, нужно было быть «своим человеком». На посторонних смотрели косо.
Был ли знаком между собой этот люд? Нет. Но они чутьем узнавали друг друга.
Хозяйка дома, молодая, довольно красивая женщина, носила чепец с лентами, иногда она мылась водой из колодца. У нее была деревянная нога.
На рассвете двор пустел — обитатели расходились.
Во дворе жили петух и несколько кур, целыми днями клевавших навоз. Двор пересекала прямая перекладина на деревянных столбиках, напоминавшая виселицу. Часто после дождя на этом бревне сушилось измазанное мокрое шелковое платье, принадлежавшее женщине с деревянной ногой.
Над сараем возвышался такой же подковообразный этаж, а над ним — чердак. Наверх вела гнилая деревянная лестница, проходившая через отверстие в потолке сарая; когда хромая хозяйка поднималась по лестнице, она скрипела и шаталась.
Временные обитатели, останавливавшиеся здесь на день или неделю, жили во дворе; постоянные — наверху.
Окна без рам, наличники без дверей, дымоходы без печей. Из одной комнаты в другую можно было попасть через четырехугольное отверстие для двери или треугольное, пробитое когда-то для предполагавшейся перегородки, — безразлично. Осыпавшаяся штукатурка покрывала полы. Дом держался каким-то чудом. Ветер свободно разгуливал в нем. По лестнице приходилось взбираться с большим трудом — настолько она была расшатана. Зимний холод проникал в дом, как вода проникает в губку. Все заросло густой паутиной. Никакой мебели, по углам — тюфяки, через распоротые чехлы которых виднеется больше трухи, чем соломы. Повсюду разбросаны кружки и миски для всякой надобности. В доме всегда был отвратительный, спертый воздух.
Из окон виден двор, сверху напоминающий телегу мусорщика. Все, находившееся во дворе, включая людей, копошившихся там, гнило, ржавело и разлагалось. Обломки развалившихся стен и человеческих жизней дополняли друг друга.
Кроме кочующего состава ночлежников, в доме жило три постоянных обитателя: угольщик, тряпичник и человек, делавший золото. Угольщик и тряпичник занимали тюфяки в комнатах первого этажа. Добыватель золота, «химик», как его здесь звали, жил на чердаке. Никто не знал, где спит сама хозяйка.
Химик, кроме того, был поэтом. Его маленькая комнатка с узким оконцем и большим очагом из кирпичей, в котором гудел ветер, располагалась под самой черепичной крышей. В оконце не было рамы, и он заменил ее кусками расправленного железного обруча, найденного им среди обломков какого-то судна. Отверстие забил куском толя, пропускающим мало света и не защищающим от холода.
Угольщик время от времени платил хозяйке мешком угля, тряпичник каждую неделю приносил ей меру зерна для кур, а добыватель золота не платил ничего. Он понемногу уничтожал в своей комнате все деревянные части, отрывая то от стены, то от крыши деревянную планку для того, чтобы развести огонь под своим тиглем, в котором «варил» золото.
Стену над тюфяком, на котором спал тряпичник, украшали две колонки цифр, написанных мелом, тряпичник время от времени стирал их: в одной преобладала цифра 3, в другой — 5. Это означало, что иногда ему удавалось продавать мешок тряпья по три, иногда по пять сантимов. Химик пользовался для своих опытов старой, сломанной посудиной, в которой пытался соединить все элементы золота. Он был весь поглощен этим делом. Иногда во дворе разговаривал с босяками, смеявшимися над ним. Но он говорил: «Эти люди полны предрассудков». Он твердо решил перед смертью обогатить науку открытием философского камня. Его печурка пожирала много дров. Перила лестницы уже давно были сожжены, а он все продолжал сжигать дом на медленном огне. Хозяйка говорила ему: «Вы скоро оставите мне одни стены». Но он обезоруживал ее, слагая в честь этой дамы стихи.
Такова была Жакрессарда.
В доме имелся и слуга. Это был не то ребенок, не то карлик, в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет, с вечной метлой в руках.
Обитатели дома проникали в жилище через дверь в наружной стене, но посетители входили через лавку.
Что же это за лавка?
В высокой стене, выходившей на улицу, справа от входа во двор, было пробито отверстие, служившее одновременно и дверью, и окном со ставнями и задвижками. Это было единственное отверстие во всем доме, которое имело раму и стекла. За этим входом располагалась маленькая комната, отгороженная от общего сарая. На двери кто-то сделал надпись углем: «Здесь имеются редкости». На трех полках застекленной этажерки было расставлено несколько фаянсовых кувшинов, китайский зонтик, расписанный красками, изорванный и незакрывающийся, бесформенные железные обломки, мужские и дамские шляпы без дна, три-четыре раковины, костяные и медные пуговицы, табакерка с портретом Марии-Антуанетты и потрепанная «Алгебра» Буабертрана. Таковы были «редкости». Через заднюю дверь лавка сообщалась с двором. В ней стояли стол и скамья, а женщина с деревянной ногой была продавщицей.
Ночные покупатели и мрачный продавец
Во вторник Клюбен не появлялся в трактире весь вечер; его не было там и в среду.
В тот день, лишь стемнело, два человека вошли в переулок Кутанше; они остановились перед Жакрессардой. Один из них постучал в стекло. Дверь лавчонки открылась. Они вошли. Женщина с деревянной ногой улыбнулась им улыбкой, с какой она обращалась к знатным особам. На столе горела свеча.
Это и на самом деле были люди почтенные.
Стучавший в окно произнес:
— Здравствуйте, хозяюшка! Ну вот, я пришел!
Женщина опять улыбнулась и вышла через дверь, ведущую во двор с колодцем. Прошла минута, дверь открылась, и вошел человек в шапке и в блузе, под которой он что-то спрятал. К его одежде пристали соломинки, и видно было, что его только что разбудили.
Он подошел ближе, всматриваясь в пришедших. С ошеломленным и в то же время хитрым выражением на лице спросил:
— Вы оружейник?
Стучавший ответил:
— Да. А вы парижанин?
— Да. Моя кличка — Краснокожий.
— Показывайте.
— Вот, смотрите.
Он вытащил из-под блузы предмет, тогда большую редкость в Европе, — револьвер.
Револьвер был совершенно новый, блестящий. Посетители стали его рассматривать. Тот, кто, казалось, хорошо знает этот дом и кого человек в блузе назвал «оружейником», принялся изучать механизм. Затем он протянул револьвер второму, который менее походил на горожанина и старался все время стоять спиной к свету.
Оружейник спросил:
— Сколько?
Человек в блузе ответил:
— Я привез это из Америки. Многие тащат оттуда обезьян, попугаев, зверей, как будто французы — дикари. Ну а я привез вот такую вещичку. Полезная выдумка.
— Сколько? — снова спросил оружейник.
— В нем шесть зарядов.
— Хорошо, но все-таки сколько?
— Раз шесть зарядов, значит — шесть луидоров.
— Пять луидоров, хотите?
— Нет! За каждую пулю золотой. Это настоящая цена.
— Так мы не сойдемся.
— Я назвал настоящую цену. Вы рассмотри́те его как следует.
— Я уже смотрел.
— Барабан вертится словно флюгер, будто Талейран[646]. Это настоящая игрушка.
— Вижу.
— Ствол испанской работы.
— Это я заметил.
— Вы знаете, как их делают? Берется старое железо, гвозди, подковы…
— Да, и вообще всякий лом.
— Я это и говорю. Все расплавляется, и получают прекрасный сплав…
— Да, но в нем могут оказаться трещины, пузыри.
— Возможно. Но для того, чтобы их не было, железо потом подвергается сильнейшей ковке. Его бьют большим молотом, подогревая несколько раз, затем прокатывают, и вот, — смотрите, что получается.
— Вам знакомо это ремесло?
— Мне знакомы все ремесла.
— А почему у ствола какой-то голубоватый отлив?
— Для красоты. Его покрывают специальным составом.
— Ладно, значит, по рукам — пять луидоров.
— Я этого не говорил. Моя цена — шесть. — Оружейник понизил голос: — Послушайте, парижанин, не упускайте случая. Избавьтесь от этой вещи. Таким людям, как вы, подобное ни к чему. Вещица может лишь причинить вам неприятности.
— Это, пожалуй, верно. Такая вещь больше пристала господам.
— Хотите пять золотых?
— Нет, шесть. По одному за выстрел.
— Ну ладно, шесть наполеондоров.
— Нет, шесть луидоров.
— Значит, вы не бонапартист? Вы предпочитаете Людовика Наполеону?
Парижанин, прозванный Краснокожим, усмехнувшись, сказал:
— Наполеон-то лучше, да за Людовика дороже платят.
— Шесть наполеондоров.
— Шесть луидоров. Разница в двадцать четыре франка.
— Ну, я вижу, мы не договоримся.
— Ладно! Пускай игрушка остается у меня.
— Пускай!
— По крайней мере, я не буду жалеть, что отдал за бесценок такую прекрасную новинку.
— Ну что ж, прощайте.
— Разве можно сравнивать это с пистолетом!
— Подумайте! Пять луидоров чистоганом — деньги немалые.
— Многие еще даже не знают об этом изобретении.
— Хотите пять луидоров и экю в придачу?
— Шесть — и ни одного сантима меньше!
Человек, который стоял спиной к свету и за все это время не проронил ни слова, продолжая изучать механизм револьвера, наклонился к уху оружейника и прошептал:
— Револьвер хорош?
— Еще бы!
— Я даю шесть луидоров.
Через пять минут Краснокожий прятал на груди под блузой полученные им шесть луидоров, а оружейник и человек, у которого в кармане лежал купленный револьвер, вышли в темный переулок Кутанше.
Черный и красный шары играют в карамболь
На следующий день, в четверг, неподалеку от Сен-Мало, возле мыса Деколле, где скалы высоки, а вода глубока, случилось трагическое происшествие.
Длинный скалистый мыс в форме копья соединяется там с землей узким перешейком, выдается далеко в море и внезапно обрывается отвесной скалой. Такие картины часто встречаются в морской архитектуре. Для того чтобы попасть с берега на оконечность этого мыса, нужно взобраться на отвесный склон, что довольно трудно.
На площадке, венчавшей вершину утеса, около четырех часов дня стоял человек в военном плаще. Он был, по-видимому, вооружен; об этом свидетельствовали складки его плаща. Площадка, где он находился, была довольно широкой, усеянной большими бесформенными камнями, между которыми оставались узкие проходы. На ней росла невысокая трава, а со стороны моря площадка заканчивалась отвесным обрывом. Обрыв имел футов шестьдесят в вышину и казался срезанным под линейку. Его левый край, разрушенный морем и ветрами, напоминал лестницу с образовавшимися в граните естественными ступеньками, очень неудобными, приспособленными лишь для шагов великана или прыжков клоуна. Эта лестница тянулась до самого моря, исчезая в волнах. Сломать себе шею не представляло труда, но все же, при большой ловкости, можно было пробраться по лестнице в лодку, подведенную к самому подножию утеса.
Дул свежий ветер. Человек стоял, укутавшись в плащ и широко расставив ноги. Левой рукой он поддерживал свой правый локоть и, прищурившись, смотрел в подзорную трубу. Казалось, он был совершенно поглощен своим занятием. Приблизившись к самому краю обрыва, он застыл, впившись глазами в горизонт. Это был час прилива. Волны с шумом ударялись о подножие утеса.
Человек смотрел на видневшееся в море судно, с которым творилось что-то странное.
Этот трехмачтовый корабль, всего какой-то час назад покинув Сен-Мало, остановился у мыса Банкетье. Судно не бросило якоря, быть может, потому что дно в том месте не позволяло этого, и ограничилось тем, что легло в дрейф.
Человек, судя по форменной одежде, береговой сторож, следил за всем, что происходило на корабле, и, казалось, мысленно отмечал каждое его движение. На судне были приспущены все паруса. Теперь оно почти не двигалось, так как течение несло его со скоростью не большей, чем полмили в час.
В открытом море и на вершине утеса было еще совершенно светло, но берег уже тонул в сумерках.
Берегового сторожа настолько поглотило зрелище, происходящее в открытом море, что он не подумал о том, чтобы взглянуть на утес и вообще обернуться назад и поглядеть по сторонам. Он стоял почти спиной к неудобной лестнице, соединявшей площадку с подножием скалы. Сторож не замечал того, что там кто-то притаился. А между тем на одном из уступов этой лестницы спрятался какой-то человек, пробравшийся сюда, очевидно, до прихода караульного. Время от времени из-за камней показывалась голова следившего за наблюдателем. На голове человека была надета высокая американская шляпа, это был тот самый господин в костюме квакера, который десять дней назад беседовал на пустынном берегу с капитаном Зуэла.
Внезапно внимание сторожа удвоилось. Он протер рукавом стекло своей подзорной трубы и опять впился взглядом в трехмачтовое судно.
От корабля отделилась черная точка.
Похожая на ползущего по морю муравья, она оказалась шлюпкой. Лодка, очевидно, хотела пристать к берегу. Несколько матросов, сидевших в ней, гребли изо всех сил.
Медленно двигаясь, она приближалась к утесу Деколле.
Внимание берегового сторожа напряглось до предела. Он не упускал ни одного движения шлюпки и теперь стоял уже на самом краю обрыва.
В это время высокая фигура квакера выросла за его спиной. Сторож его не замечал. Квакер постоял немного, опустив руки с судорожно сжатыми кулаками, и взглядом целящегося охотника впился в спину караульного.
Их разделяло расстояние в четыре шага. Ступив вперед, он остановился, потом сделал еще один шаг. Шагая, этот человек, словно статуя, не делал ни одного лишнего движения. Ноги бесшумно скользили по траве. Третий шаг — и опять остановка. Теперь он стоял почти вплотную за сторожем, который продолжал, не шевелясь, смотреть в трубу. Человек медленно поднял сжатые руки и внезапно изо всех сил толкнул караульного кулаками в плечи. Удар был рассчитан безошибочно. Сторож, не успев даже вскрикнуть, полетел вниз головой в пучину. В воздухе мелькнули его подошвы, раздался всплеск, и тотчас же вода сомкнулась над ним.
Два-три больших круга медленно расплылись по поверхности моря. Подзорная труба, вылетевшая из рук караульного, лежала на траве.
Квакер подошел к краю обрыва, заглянул в воду, постоял так несколько минут, затем выпрямился и запел сквозь зубы:
Умер, умер полицейский, Жизни он лишился.Потом снова наклонился. Ничто не всплывало, только на том месте, где нырнул береговой сторож, появилось какое-то темное пятно, быстро расплывавшееся. Возможно, падая, он раскроил себе череп о подводный камень. Пена казалась окрашенной кровью. Рассматривая это красноватое пятно, квакер продолжал напевать:
За четверть часа до кончины Он еще…Тут он умолк.
За его спиной раздался тихий голос:
— Вот вы где, Рантен. Здравствуйте! Вы только что убили человека?
Квакер, повернувшись, увидел невысокого мужчину с револьвером в руке, стоявшего между двумя огромными камнями на расстоянии пятнадцати шагов от него.
Он ответил:
— Как видите. Привет, господин Клюбен!
Маленький человек вздрогнул:
— Вы меня узнали?
— Так же, как и вы меня, — ответил Рантен.
Со стороны моря раздался шум весел. Это приближалась лодка, которую так пристально рассматривал караульный.
Клюбен произнес вполголоса, как бы про себя:
— Это было сделано чисто.
— Чем могу вам служить? — спросил Рантен.
— О, ничем особенным! Я не видел вас десять лет. Вы за это время многое успели. Как поживаете?
— Прекрасно, — ответил Рантен. — А вы?
Он сделал шаг по направлению к Клюбену.
В это время послышалось сухое щелканье. Клюбен взвел курок револьвера.
— Рантен, между нами пятнадцать шагов. Револьвер бьет прекрасно. Оставайтесь на месте, — сказал он.
— Ах, вот оно что! Чего вы хотите от меня?
— Я хочу поговорить с вами.
Рантен не шевелился. Клюбен продолжал:
— Вы только что убили берегового сторожа.
Рантен, приподняв шляпу, ответил:
— Это я уже имел честь слышать от вас.
— В менее точных выражениях. Раньше я сказал: человека. Теперь говорю — берегового сторожа. Это караульный номер шестьсот девятнадцать. Он был отцом семейства. У него есть жена и пятеро детей.
— Возможно, — сказал Рантен.
Они помолчали недолго.
— Береговые сторожа — ребята отборные, почти все — старые моряки, — промолвил Клюбен.
— Насколько я заметил, — произнес Рантен, — они всегда оставляют после себя жену и пятерых детей.
Клюбен продолжал:
— Угадайте, сколько мне стоил этот револьвер?
— Славная игрушка, — ответил Рантен.
— Во сколько вы ее оцените?
— Довольно дорого.
— Я заплатил за него сто сорок четыре франка.
— Вы, должно быть, купили его в оружейной лавке на улице Кутанше? — спросил Рантен.
— Он не вскрикнул, — продолжал Клюбен. — От неожиданности перехватывает дыхание в горле.
— Клюбен, ночью будет ветрено.
— Я единственный, кто знает тайну.
— Вы все еще останавливаетесь в гостинице на берегу?
— Да, там недурно.
— Я вспоминаю, что ел там как-то отличную кислую капусту.
— Вы, должно быть, силач, Рантен? Какие у вас плечи! Не хотел бы я ввязаться в потасовку с вами. Когда я родился, у меня был такой жалкий вид, что родители сомневались, удастся ли им меня вырастить.
— К счастью, им это удалось.
— Да, я всегда останавливаюсь в береговой гостинице.
— А знаете, Клюбен, почему я вас узнал? Потому что вы меня узнали. Я сразу решил: это должен быть только Клюбен — и никто другой.
Он опять шагнул вперед.
— Оставайтесь на месте, Рантен.
Мужчина отступил, пробормотав:
— Такие игрушки превратят любого в ребенка.
Клюбен продолжал:
— Слушайте. Справа от нас, в трехстах шагах, стоит другой береговой сторож, номер шестьсот восемнадцать. Он жив. Слева находится таможенный пост. Там есть семь вооруженных человек, которые могут очутиться здесь через пять минут. Утес будет оцеплен, путь отрезан. Скрыться некуда. У подножия скалы в воде находится труп.
Рантен покосился на револьвер.
— Вы говорите, Рантен, что эта игрушка хороша. Возможно, она заряжена только порохом. Но это ничего не значит. Достаточно выстрелить один раз, чтобы стража прибежала сюда. А у меня здесь целых шесть зарядов.
Плеск весел раздавался уже совсем явственно. Лодка подплывала к берегу.
Высокий человек в замешательстве смотрел на маленького. Клюбен говорил все более спокойным и тихим голосом:
— Рантен, люди, находящиеся в лодке, узнав о вашем поступке, немедленно помогут вас арестовать. Вы должны заплатить капитану Зуэле десять тысяч франков. Между прочим, вы бы поступили умнее, если б имели дело не с ним, а с контрабандистами, которые останавливаются в Пленмонте. Но я понимаю, в чем дело. Во-первых, они могли бы отвезти вас только в Англию; а во-вторых, вам не стоило рисковать, показываясь на Гернзее, где вас знают. Итак, вы дали Зуэле пять тысяч франков задатка. Если я выстрелю, вас арестуют. Зуэла возьмет ваш задаток себе и уедет. Вот и все. Вы хорошо загримировались, Рантен. Эта шляпа, странный костюм и гетры меняют вас совершенно. Вы только забыли надеть очки. А то, что отпустили бакенбарды, — очень хорошо.
Рантен улыбнулся, но его улыбка была похожа на гримасу. Клюбен продолжал:
— Рантен, в одном из карманов ваших двойных американских штанов лежат часы. Оставьте их при себе.
— Благодарю вас, господин Клюбен.
— В другом кармане у вас маленькая железная коробочка, которая открывается и закрывается при помощи пружины. Выньте ее из кармана и бросьте мне.
— Это грабеж!
— Можете кричать и звать на помощь.
Клюбен смотрел на Рантена в упор.
— Постойте, господин Клюбен… — Рантен, сделав шаг, протянул руку вперед. Голос его звучал заискивающе.
— Не двигайтесь с места, Рантен.
— Господин Клюбен, договоримся. Я предлагаю вам половину.
Клюбен скрестил руки, выставив дуло револьвера вперед.
— Рантен, за кого вы меня принимаете? Я честный человек, — сказал он и после паузы добавил: — Мне принадлежит все.
Рантен проворчал сквозь зубы:
— Вот это крупный мошенник…
Глаза Клюбена заблестели, а голос стал четким и отрывистым. Он воскликнул:
— Вы ошибаетесь, Рантен. Вы занимались грабежом, а моя цель — восстановление справедливости. Послушайте, Рантен. Десять лет назад вы бежали ночью с Гернзея, захватив из общей кассы ваши пятьдесят тысяч франков и забыв оставить в ней остальные пятьдесят тысяч, принадлежавшие другому. Эти пятьдесят тысяч, украденные вами у почтенного и достойного господина Летьерри, составляют на сегодняшний день, учитывая сложные проценты за десять лет, восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть франков шестьдесят шесть сантимов. Вчера вы были у менялы. Я могу назвать вам его имя. Это Ребуше, живущий на улице Святого Винсента. Вы дали ему семьдесят шесть тысяч франков французскими банковыми билетами, а он выдал вам три английских билета по тысяче фунтов стерлингов и мелочь. Вы положили банкноты в железную табакерку, лежащую теперь в вашем левом кармане. Три тысячи фунтов стерлингов равняются семидесяти пяти тысячам франков. Я заявляю вам от имени господина Летьерри, что эта сумма меня удовлетворит. Завтра я возвращаюсь на Гернзей и вручу их ему. Рантен, трехмачтовое судно, остановившееся в море, — это «Тамолипас». Ночью вы погрузили на него ваши вещи вместе с багажом матросов. Вы хотите покинуть Францию. У вас на это есть причины. Лодка послана за вами. Вы ее ждете. Она подплывает. Она уже совсем близко. От меня зависит дать вам уехать или заставить остаться. Довольно слов! Бросьте мне железную табакерку!
Рантен вытащил из кармана маленькую коробочку и швырнул ее Клюбену. Это была железная табакерка. Она покатилась к самым ногам Клюбена.
Клюбен наклонился, не нагибая головы, и поднял табакерку, не сводя с Рантена глаз и револьверного дула.
Потом он крикнул:
— Повернитесь ко мне спиной!
Рантен повернулся.
Клюбен взял револьвер под мышку и нажал пружинку коробочки. Табакерка открылась.
В ней оказалось четыре банковых билета — три по тысяче фунтов и один в десять фунтов стерлингов.
Он сложил тысячефунтовые бумажки, вложил их обратно в табакерку, закрыл ее и положил в карман.
Затем поднял с земли камень, обернул вокруг него десятифунтовую бумажку и сказал:
— Можете повернуться.
Рантен повернулся.
Клюбен заговорил опять:
— Я сказал вам, что сумма в три тысячи фунтов меня удовлетворит. Возвращаю вам десять фунтов.
И он бросил Рантену камень с деньгами.
Рантен ударом сапога откинул камень вместе с кредиткой в море.
— Как хотите, — промолвил Клюбен, — очевидно, вы богаты. В таком случае, я спокоен.
Шум весел, усилившийся во время этого диалога, прекратился. Лодка остановилась у подножия скалы.
— Ваш экипаж подан. Можете отправляться, Рантен.
Рантен подошел к лестнице и начал спускаться по ней.
Клюбен осторожно приблизился к обрыву и, вытянув шею, стал смотреть, как он сходит вниз.
Лодка стояла у самого нижнего уступа, как раз в том месте, где упал в воду береговой сторож.
Глядя, как карабкается Рантен, Клюбен проворчал:
— Бедный номер шестьсот девятнадцать. Он думал, что, кроме него, здесь никого нет. Рантен считал, что их двое, и лишь я знал, что мы здесь втроем.
На траве у своих ног Клюбен заметил подзорную трубу, которую выронил караульный. Он поднял ее.
Плеск весел возобновился. Рантен прыгнул в суденышко, и оно отчалило.
Когда Рантен уселся в лодку и скала начала понемногу удаляться, он вскочил, лицо его исказилось; грозя кулаком, мужчина воскликнул:
— Ах, черт проклятый, негодяй!
Через несколько секунд Клюбен, стоя на вершине утеса и вглядываясь через подзорную трубу в удалявшуюся лодку, ясно расслышал среди шума волн произнесенные громким голосом слова:
— Клюбен, вы честный человек, но я все же напишу Летьерри об этом деле. А вот в лодке есть один гернзейский матрос из экипажа «Тамолипаса», который в следующий раз приедет сюда вместе с капитаном Зуэлой и сможет засвидетельствовать, что я вам вручил для передачи господину Летьерри сумму в три тысячи фунтов стерлингов.
Это был голос Рантена.
Клюбен всегда доводил все до конца. Он стоял неподвижно, как стоял до того береговой охранник, и не спускал подзорной трубы с лодки ни на одно мгновение. Он видел, как взлетали весла, как судно то исчезало, то вновь появилось в волнах, как оно приблизилось к ожидавшему его кораблю, и, наконец, разглядел высокую фигуру Рантена на борту «Тамолипаса».
Когда лодка была подвешена на место, «Тамолипас» стал отчаливать. Ветер вздул поднятые паруса. Клюбен через подзорную трубу продолжал следить за удаляющимся силуэтом. Через полчаса в том месте, где море сливается с горизонтом, виднелась лишь черная точка.
Полезные сведения для людей, ожидающих или опасающихся писем из-за моря
В этот вечер Клюбен тоже пришел поздно.
Одной из причин его запоздалого возвращения было то, что перед тем, как вернуться, он ходил к порту Динан, на берегу которого тоже стояли кабаки. В одной из таких таверен, где его никто не знал в лицо, он купил бутылку водки и тщательно спрятал ее в огромном кармане своей куртки. Потом поднялся на борт Дюранды, отплывавшей наутро, и осмотрел, все ли в порядке.
Когда Клюбен пришел в свой трактир, в нижней зале не было никого, за исключением капитана дальнего плавания Жертре-Габуро, пившего пиво и покуривавшего трубку.
Между глотком и затяжкой он поздоровался с Клюбеном.
— Добрый вечер, капитан Клюбен.
— Добрый вечер, капитан Жертре.
— «Тамолипас»-то ушел.
— Разве? — ответил Клюбен. — А я и не заметил.
Капитан Жертре, сплюнув, сказал:
— Удрал Зуэла.
— Когда же это произошло?
— Да вот сегодня вечером.
— Куда он направился?
— Ко всем чертям.
— Несомненно; однако все же, куда именно?
— В Арекипу.
— А я и не знал, — проговорил Клюбен и добавил: — Я иду спать.
Он зажег свечу, направился к двери, затем, вернувшись, сказал:
— Вы когда-нибудь были в Арекипе?
— Да, несколько лет назад.
— А какие остановки встречаются по пути?
— Останавливаться можно везде. Но «Танолипас» не будет делать остановок.
Жертре-Габуро, выколотив пепел из трубки на тарелку, продолжал:
— Вы помните шхуну «Троянский конь» и трехмачтовый корабль «Трантемузин», отправившиеся в Кардиф? Я не советовал им выходить из-за погоды. Ну и вид у них был, когда они вернулись! Шхуна, груженная скипидаром, набрала воды во время бури, а затем пришлось вместе с водой выкачать насосами весь груз. А у трехмачтовика пострадали верхние части: все мачты были поломаны. Вот что значит не слушать опытных людей.
Клюбен, поставив подсвечник на стол, начал вытаскивать и вкладывать булавки, оказавшиеся за отворотом его куртки. Потом спросил:
— Капитан Жертре, вы, кажется, сказали, что «Тамолипас» нигде не будет останавливаться?
— Не будет. Он идет прямо в Чили.
— В таком случае он, вероятно, не сможет передавать никаких сведений во время пути?
— Почему же, капитан Клюбен? Во-первых, он сможет передавать депеши через все встречные суда, идущие в Европу.
— Ну?
— Вы огибаете мыс Монмут…
— Дальше.
— Потом мыс Валентен, потом мыс Исидор…
— И что же?
— А затем мыс Святой Анны.
— Правильно. Но при чем тут морские почтовые ящики?
— А вот, видите ли, там с обеих сторон высокие горы, на которых обитают лишь пингвины и буревестники. Нигде не происходит столько крушений и несчастий, как в этом месте. Адский край! Так вот там есть так называемый Голодный мыс. Вы подъезжаете к нему и вдруг замечаете на камнях надпись, сделанную красными буквами: «Почтовое отделение».
— Что это значит, капитан Жертре?
— Это значит, капитан Клюбен, что как только вы обогнете мыс Святой Анны, то увидите каменный столб в шесть футов вышиной. На этом столбе подвешен за веревку бочонок. Это и есть почтовый ящик. Англичане прибили к столбу надпись: «Почтовое отделение». Они ведь повсюду суют свой нос… Но это океанская почта: она не состоит под ведомством почтенного английского короля. Этот почтовый ящик принадлежит всем странам. Надпись по-английски «Почтовое отделение» столь неожиданна, что производит такое же впечатление, как если бы дьявол вдруг предложил вам чашку чая. Обмен почтой происходит следующим образом: все проходящие мимо суда опускают в бочонок депеши и забирают из него почту, адресованную туда, куда они направляются. Бочонок прикован снизу к столбу железной цепью, закрывается крышкой, но без замка. А кругом снег, дождь, буря. «Тамолипас» будет там проходить. Вы увидите, что таким способом можно переписываться с друзьями. Письма прекрасно доходят.
— Это очень интересно, — задумчиво пробормотал Клюбен.
Капитан Жертре-Габуро взялся за свою кружку.
— Вот, предположим, этот мошенник Зуэла вздумает написать мне, когда будет проходить через Магелланов пролив, и месяца через четыре я получу его плутовские каракули. Да, капитан Клюбен, вы, значит, завтра отплываете?
Клюбен задумался так глубоко, что капитану Жертре пришлось повторить свой вопрос. Клюбен, очнувшись, сказал:
— Да, да, конечно, капитан Жертре. Это ведь мой обычный день. Завтра утром я должен выйти в море.
— Я бы на вашем месте не выходил. Капитан Клюбен, собаки сегодня пахнут мокрой псиной, морские птицы вот уже в продолжение двух ночей летают вокруг маяка. Плохие приметы. У меня ведь свой барометр. Сейчас вторая лунная фаза, когда особенно сыро. Я видел сегодня клевер на поле — стебли его совсем выпрямились. Дождевые черви выползли, мухи кусаются, пчелы не отлетают далеко от ульев, воробьи чирикают без умолку. Звон самых дальних колоколов доносится явственно. Я слышал сегодня звон колокольни Сен-Люнер. И солнце нынче садилось в тумане. Завтра будет очень туманно. Я не советую вам выходить в море. Всегда боюсь тумана больше, чем сильного ветра. Туман — это предатель.
Книга VI
Пьяный рулевой и трезвый капитан. Дуврские скалы
В пяти милях к югу от Гернзея, в открытом море, против мыса Пленмонт, между Ламаншскими островами и Сен-Мало, тянутся скалистые рифы, имеющие название Дуврские. Это опасное место.
Ближайшим французским пунктом является мыс Бреган. Дуврские скалы расположены немного ближе к Нормандским островам, чем к французскому берегу. Расстояние от рифов до Джерсея приблизительно равно длине джерсейского острова по диагонали — четырем милям.
Эти скалы пустынны. На них живут лишь морские птицы. Море вокруг них очень глубокое. К таким уединенным утесам всегда стремятся подводные морские обитатели, которые ищут уединения и спасаются от людского глаза. Здесь таится настоящий подводный лабиринт: пещеры, углубления, ворота, целая сеть переходов и коридоров. В них копошатся морские чудовища, пожирающие друг друга. Крабы поглощают мелкую рыбешку, а затем сами попадают в пасть более сильных. В темноте, скрытая от человеческого глаза, бьет ключом жизнь необычайных существ. В волнах проносятся очертания пастей, щупальцев, плавников, чешуи, разинутых челюстей, клещей, клешней; они дрожат, шевелятся, растут, изменяют форму и расплываются в темной глубине. Страшные чудища снуют взад и вперед, творя свою неутомимую работу. Это царство гидр, страшилищ, муравейник морского населения.
Лет сорок назад две скалы необычной формы издалека предупреждали мореплавателей о приближении к Дуврским рифам. Это были два вертикальных острия изогнутой формы, почти соприкасавшиеся верхушками. Казалось, из воды торчат бивни затонувшего слона. Но то были бивни величиной с башню под стать слону размером с гору. Между этими двумя естественными башнями невидимого города оставался лишь узкий проход, в котором кипели гребни волн. Он был всего в несколько футов длиной и походил на извилистый переулок между двумя стенами, носившими название двух Дувров — Большого и Малого. Большой имел около шестидесяти, Малый — около сорока футов в вышину. Морской прибой настолько подточил основание этих утесов, что во время шквала 26 октября 1859 года один из них рухнул. Остался лишь меньший, стертый и полуразвалившийся.
Одна из самых примечательных скал носит название «Человек». Она сохранилась до сих пор. В конце прошлого столетия рыбаки, занесенные сюда во время урагана, нашли на вершине этого утеса труп, а рядом с ним кучу пустых раковин. Какой-то человек, потерпевший кораблекрушение, был выброшен на скалу, жил здесь некоторое время, питаясь моллюсками, и, наконец, умер. Отсюда и пошло название утеса.
Это место напоминает унылую водную пустыню. Здесь царят одновременно вечный шум и вечная тишина. Человек сюда не добрался. Все происходящее тут для него — неизвестно и бесполезно. Скалы одиноко возвышаются над морем, а вокруг, насколько хватает глаз, волнуется водная пустошь.
Найденная водка
В пятницу утром, на следующий день после ухода «Тамолипаса», Дюранда взяла курс на Гернзей.
Она вышла из Сен-Мало в девять часов.
Погода стояла ясная, тумана не было. Старый капитан Жертре-Габуро, казалось, ошибся.
Приключения последних дней на сей раз отвлекли Клюбена от хлопот, связанных с погрузкой парохода. Весь груз состоял лишь из небольшого количества товара для лавок в порту Сен-Пьер да трех ящиков для гернзейской больницы; в одном лежало желтое мыло, в другом — свечи, а в третьем — французская кожа для подошв. Кроме того, от прежнего груза в трюме остались мешок колотого сахара и три ящика чая, которые не пропустила французская таможня. Скота на сей раз Клюбен тоже погрузил мало: на борту было лишь несколько быков. Их привязали довольно небрежно.
На пароходе плыли шесть пассажиров: гернзеец, два скототорговца, «турист», как уже говорили в то время, парижанин, человек среднего достатка, разъезжавший, очевидно, по торговым делам, и американец-миссионер.
Не считая капитана Клюбена, экипаж Дюранды состоял из семи человек: рулевого, плотника, кочегара, повара, при надобности становившегося боцманом, двух матросов и одного юнги. Один из матросов в то же время исполнял функции механика. Это был бравый и смышленый негр из голландской колонии, бежавший с сахарных плантаций. Его звали Имбранкам. Он прекрасно знал машину и умел управлять ею. В первое время черная физиономия матроса весьма способствовала созданию той дурной репутации, которой пользовалась Дюранда.
Рулевого, уроженца Джерсея, бывшего, однако, сыном родителей-эмигрантов, звали Тангруй. Он имел довольно знатное происхождение и принадлежал к старинному роду Тангровиллей. Но на Нормандских островах потеря богатства означает одновременно и потерю знатности. Даже имя разорившегося дворянина начинают произносить по-другому. Так случилось и с рулевым Дюранды. Тангровилль превратился в Тангруя.
Тангруй сохранил одну из дворянских привычек: он любил выпить. Для рулевого это большой недостаток. Но Клюбен настаивал на том, чтобы он оставался на пароходе и взял на себя перед Летьерри ответственность за него.
Тангруй никогда не покидал борта парохода; здесь он и ночевал.
Накануне отплытия, когда Клюбен пришел поздно вечером, чтобы осмотреть судно, Тангруй лежал на своей койке и спал.
Ночью он проснулся. Такая уж была у него еженощная привычка. Каждый пьяница, находящийся в подчинении, всегда имеет свой потайной уголок. У Тангруя такое место располагалось за баком с пресной водой. Там его никто не мог заметить, и он был уверен, что никто, кроме него, никогда туда не проникнет. Капитан Клюбен, никогда не пивший, был в этом отношении очень строг. Здесь рулевой прятал от глаз капитана небольшой запас рома и джина и каждую ночь отправлялся сюда как на любовное свидание. Надзор был строг, запас алкоголя скромен, и ночные оргии Тангруя ограничивались обычно двумя-тремя поспешными глотками. Иногда же его запасы и вовсе иссякали.
Но в эту ночь Тангруй неожиданно обнаружил в своем хранилище целую бутылку водки. Радость его, конечно, была велика, но удивление — еще больше. С неба она свалилась, что ли? Он никак не мог припомнить, когда и как принес ее на судно. Однако немедленно выпил всю водку, сделав это отчасти из осторожности: как бы ее не обнаружили и не отобрали. Пустую бутылку он бросил в море.
Когда он встал на следующее утро к рулю, его здорово покачивало. Но все же он правил почти как обычно.
Клюбен, как нам известно, накануне вернулся ночевать в гостиницу.
Под рубашкой он постоянно носил дорожный кожаный пояс, который не снимал даже ночью. В этом поясе капитан хранил около двадцати золотых гиней. На внутренней стороне его несмывающимися литографскими чернилами было написано имя «Клюбен».
Поднявшись на следующее утро, он, перед тем как отправляться в путь, вложил в свой пояс железную табакерку, в которой лежало семьдесят пять тысяч франков, и надел его, как обычно, на голое тело под рубашкой.
Прерванная беседа
Дюранда вышла в море. Пассажиры, разместив свои вещи под лавками, начали осматривать пароход, как это делают всегда и везде все морские путешественники. Двое из них — турист и парижанин — никогда не видели парохода и при первых оборотах колеса принялись любоваться вздымаемой им пеной. Потом они начали восхищаться дымом, валившим из трубы, затем принялись тщательно осматривать палубу, борта, каждый крюк, каждый болт, казавшиеся им драгоценностями, позолоченными ржавчиной. Они обошли вокруг маленькой пушки, стоявшей на палубе. Турист заметил, что она сидит на цепи, словно собака, а парижанин прибавил, что она завернута в просмоленный парус как бы для того, чтобы не простудиться. Когда пароход отплыл немного от берега, пассажиры начали рассматривать удаляющуюся землю, и один из них изрек ту общеизвестную истину, что вид с моря обманчив и на расстоянии одной мили все прибрежные города кажутся одинаковыми.
Сен-Мало все уменьшался и, наконец, совсем исчез. Пароход оставлял за собой длинный пенящийся след, терявшийся вдалеке.
Никогда Дюранда не шла так хорошо, как в этот день. Она вела себя прекрасно.
Часам к одиннадцати пароход достиг Минкье. Ветер дул с северо-запада, судно взяло курс на запад, почти не используя пар и подняв паруса. Погода все еще стояла ясная, но рыбачьи лодки возвращались к берегу, и постепенно море совершенно очистилось от судов.
Дюранда шла не совсем обычным путем, однако экипажу не было до этого никакого дела: все доверяли капитану. Но пароход несколько уклонялся в сторону; возможно, это была вина рулевого. Казалось, Дюранда скорее держит курс на Джерсей, чем на Гернзей.
В начале двенадцатого капитан проверил курс и отдал распоряжение, выровнявшись, идти на Гернзей. Это вызвало некоторую потерю во времени. При коротком дне подобные вещи имеют большое значение. Февральское солнце светило вовсю.
Тангруй нетвердо стоял на ногах, и руки его неуверенно двигались. Вследствие этого он часто поворачивал руль, что замедляло ход судна. Ветер почти совершенно улегся.
Пассажир-гернзеец, державший подзорную трубу, часто поднимал ее и вглядывался в горизонт, на западной стороне которого виднелось маленькое облачко тумана. Оно напоминало клочок пыльной ваты.
Капитан Клюбен, как всегда, был серьезен, но казался особенно внимательным. На борту Дюранды царил покой и даже веселье. Пассажиры болтали между собой. Если закрыть глаза во время плаванья, по типу разговоров на корабле всегда можно определить, в каком состоянии находится море. Непринужденная болтовня свидетельствует о том, что море спокойно.
Вот, например, беседа, происходившая на пароходе, которая могла вестись только при морском затишье:
— Посмотрите, сударь, какая прелестная мушка — красная с зеленым.
— Море ее утомило, и она присела отдохнуть.
— О, мухи не скоро устают!
— Это потому, что в них почти нет веса — их носит ветер.
— Да, я слышал, что кто-то взвесил унцию мух, а затем пересчитал их. Насекомых оказалось шесть тысяч двести шестьдесят восемь.
Гернзеец с подзорной трубой подсел к скототорговцам, и между ними начался такой разговор:
— Обракские быки тяжеловесны, коротконоги, шерсть у них чаще всего рыжая. Они очень медлительны из-за того, что у них такие короткие ноги.
— Да, в этом отношении салерские быки лучше.
— Ах, сударь, я видел однажды двух замечательных быков. У одного из них были короткие ноги, сильная грудь, мощный круп и бедра, такие же мускулы; кожа легко оттягивалась. У второго, к сожалению, наблюдались все признаки ожирения: грузное туловище, толстая шея, слишком тонкие ноги, отвислый зад. Он был пестрый.
— Это смешанная порода.
— Да, с примесью суффолькской крови.
— Поверите ли, сударь, на юге устраивают конкурсы ослов.
— Ослов?
— Честное слово! И самых безобразных признают самыми лучшими.
— Точно так же, как с мулами. Чем отвратительнее мул на вид, тем он считается лучше.
— Да, да. Большой живот, толстые ноги.
— Самым лучшим признают мула, напоминающего бочонок на четырех ногах.
— Красота животных это не то, что красота человека.
— И особенно женщин.
— Правильно!
— Ах, люблю, когда женщина красива!
— А я люблю, чтобы она была хорошо одета.
— Да, знаете, чисто, аккуратно, тщательно.
— И во всем новом. Молодая девушка должна иметь всегда такой вид, как будто она только вышла из рук ювелира.
— Да, так вот мы говорили о быках. Я видел, как тех двух продавали на рынке в Туаре.
— А, как же, знаю этот рынок.
Турист и парижанин беседовали с миссионером. Их разговор тоже свидетельствовал о том, что море спокойно.
— Грузоподъемность флота цивилизованных государств такова, — говорил турист: — французский флот — семьсот шестнадцать тысяч тонн, германский — миллион, американский — пять миллионов, английский — пять с половиной миллиона. Прибавьте еще маленькие страны. В общем, вокруг земного шара плавает сто сорок пять тысяч судов, общей грузоподъемностью в двенадцать миллионов девятьсот четыре тысячи тонн.
Американец перебил его:
— Сударь, Соединенные Штаты обладают флотом вместимостью в пять с половиной миллионов тонн.
— Возможно, — ответил турист. — Вы американец?
— Да, сударь.
— В таком случае, вы, очевидно, правы.
Они замолчали. Миссионер раздумывал о том, удобно ли сейчас предложить собеседникам по экземпляру Библии.
— Сударь, — снова заговорил турист, — правильно ли то, что в Америке так любят давать прозвища, что придумывают их для всех мало-мальски знаменитых людей? Верно ли то, будто известного миссурийского банкира Томаса Бентона зовут у вас старым слитком?
— Совершенно верно, а Захария Тейлора — старым Захаркой.
— А генерала Гаррисона — старым типом, не правда ли? А генерала Джексона — цикорием?
— Правильно.
Видневшееся вдалеке облачко тумана стало расти. Казалось, оно упало на воду из-за того, что нет ветра, и ползет по ней. Море выглядело совершенно гладким. Было около полудня: солнце светило вовсю, но не грело.
— Мне кажется, — заметил турист, — погода изменится.
— Возможно, будет дождь, — сказал парижанин.
— Или туман, — возразил американец.
В двенадцать, согласно обычаю, прозвонил колокол к обеду. Некоторые из пассажиров развязали свои припасы и принялись есть тут же, на палубе. Клюбен не обедал.
За едой разговоры продолжались.
Гернзеец подсел к американцу. Американец спросил:
— Вы хорошо знаете это море?
— Еще бы, я ведь здешний.
— Я тоже, — отозвался один из торговцев скотом.
Гернзеец поклонился в его сторону и продолжал:
— Теперь-то мы уже в открытом море, но если бы туман захватил нас раньше, у Менкье, в этом не было бы ничего приятного.
— А что такое Менкье? — спросил турист.
— О, это весьма коварные подводные камни.
— А мы уже их миновали?
— Да, мы их обогнули с юго-востока. Теперь они позади.
Разговор завязался между скототорговцем, оказавшимся родом из Сен-Мало, и гернзейцем. Они стали перечислять утесы, попадающиеся на пути от Сен-Мало к островам.
— Я вижу, — сказал гернзеец, — вы, береговые жители, так же любите плавать в этих местах, как мы — островитяне.
— О да, — ответил уроженец Сен-Мало, — но разница между нами в том, что вы называете свое отношение к морю любовью, а мы — привычкой.
— Да, вы все — хорошие моряки.
— Я — торговец скотом.
— Как звали известного моряка из Сен-Мало?
— Сюркуф?
— Нет, иначе…
— Дюге-Труен?
Парижанин вмешался в разговор:
— Дюге-Труен? Это тот, который был взят в плен англичанами? О, он был храбрым и в то же время любезнейшим человеком. Одна молодая англичанка влюбилась в него и помогла ему бежать.
В этот момент раздался громовой голос:
— Ты пьян!
Глава, в которой вскрываются все качества капитана Клюбена
Все обернулись.
Это был голос капитана, обращавшегося к рулевому.
Клюбен никогда не называл никого на «ты». И если капитан так набросился на Тангруя, значит, либо был страшно рассержен, либо хотел казаться рассерженным. Стоя на капитанском мостике, он пристально смотрел на рулевого. Он несколько раз повторил сквозь зубы: «Пропойца!»
Бедняга рулевой опустил голову. Туман рос. Теперь он охватывал уже половину горизонта, быстро растекаясь. Туман иногда напоминает масло. Ветер медленно и бесшумно разносил его, постепенно окутывая морскую поверхность. Туман двигался с северо-запада, прямо навстречу пароходу. Он походил на стену. У подножия этой стены обрывалась поверхность воды.
Сейчас туман находился уже на расстоянии полумили от парохода. Если бы ветер переменился, можно было еще избежать его, но для этого ветру нужно было перемениться немедля. Расстояние уменьшалось с каждым мгновеньем. Дюранда и туман двигались навстречу друг другу.
Клюбен скомандовал прибавить пару и повернуть на восток. Туман продолжал надвигаться, но немного медленнее. Пароход все еще освещало солнце.
На эти маневры, между тем, уходило время. В феврале ночь наступает рано.
Гернзеец, вглядывавшийся в туман, обратился к спутникам:
— Проклятый туман!
— Как он портит море, — отозвался один из торговцев.
Второй добавил:
— Какая неприятность!
Гернзеец подошел к Клюбену:
— Капитан Клюбен, я боюсь, туман помешает нам добраться.
Клюбен ответил:
— Я хотел остаться в Сен-Мало, но мне посоветовали ехать.
— Кто?
— Старые моряки.
— Ну что ж, — возразил гернзеец, — может быть, оно и правильно. Кто знает, не будет ли завтра бури. В это время года всегда нужно ждать самого худшего.
Через несколько минут Дюранда врезалась в туман.
Те, кто стоял на носу, сразу исчезли из глаз застывших на корме. Пароход оказался перерезанным на две части влажной серой перегородкой, затем все судно погрузилось в пелену. Солнце стало напоминать скрытую облаками луну. Все почувствовали холод. Пассажиры закутались в плащи, матросы надели теплые куртки. Море было по-прежнему спокойным и гладким. Оно казалось зловещим, все выглядело немощным и бледным, и лишь клубы черного дыма врезались в молочную пелену, окутавшую Дюранду.
Держать курс на восток было уже бесполезно. Капитан повернул на Гернзей и велел усилить ход.
Пассажир-гернзеец, бродя по судну, услыхал разговор негра Имбранкама с кочегаром. Он начал прислушиваться. Негр говорил:
— Утром, при солнечной погоде, мы шли медленно; а теперь, несмотря на туман, мчимся изо всех сил.
Гернзеец подошел к Клюбену и спросил:
— Капитан Клюбен, это ничего, что мы идем так быстро?
— У нас нет другого выхода, сударь. Я должен наверстать время, потерянное из-за этого пьяницы-рулевого.
— Вы правы, капитан Клюбен.
Клюбен добавил:
— Я спешу добраться до берега. Довольно и тумана, а тут еще надвигается ночь.
Гернзеец, приблизившись к торговцам, сказал:
— У нас прекрасный капитан.
Дюранда прошла мимо рыбачьего судна, из осторожности бросившего якорь. Находившиеся на судне рыбаки заметили, что Дюранда несется с большой скоростью и движется неправильным курсом. Она слишком уклонялась на запад. Пароход, летящий на всех парах среди тумана, поразил их.
К двум часам туман настолько сгустился, что капитан вынужден был покинуть свое место и подойти к рулевому. Белая тьма окружала Дюранду, ни море, ни небо не проглядывались.
Ветра не было. Бидон со скипидаром, подвешенный под капитанским мостиком, даже не колыхался. Пассажиры притихли.
Парижанин начал насвистывать сквозь зубы песенку Беранже.
Один из торговцев обратился к нему:
— Вы едете из Парижа?
— Да, сударь. — Он продолжал свистеть.
— Что там слышно?
— Все по-прежнему. Вкривь и вкось.
— Значит, на суше происходит то же, что и на море?
— Да, мы вот и на море попали в переделку.
— И можем угодить в большую беду?
Парижанин воскликнул:
— В какую беду? Что вы называете бедой? Вот, например, пожар в Одеоне — беда. Сколько людей он разорил! А справедливо ли это? Я не знаю, сударь, как вы, но мне такое вовсе не нравится.
— Мне тоже, — ответил торговец.
— Все, что творится на белом свете, производит впечатление испортившегося механизма. Я думаю, Господь Бог здесь ни при чем.
Торговец почесал затылок, как бы силясь понять его слова. Парижанин продолжал:
— Господь Бог отсутствует. Нужно было бы издать приказ о том, чтобы он занялся своими делами. Он залег отдыхать и не интересуется нами. Нет, право, сударь, все идет из рук вон плохо, и это потому, что Бог устроил себе каникулы, а делами заправляют его ангелы, кретины с воробьиными крылышками.
Капитан Клюбен, незаметно приблизившийся к ним, положил руку на плечо парижанина и сказал:
— Тсс… сударь, будьте осторожны в выражениях. Мы находимся в море.
Все промолчали.
Через несколько минут гернзеец, слыхавший весь разговор, прошептал на ухо торговцу:
— Какой набожный человек!
Дождя не было, но все промокли насквозь. Никто не знал точно, куда движется пароход, и всем было не по себе. Казалось, судно погрузилось в царство печали. Туман всегда создает тишину: он усыпляет волну и заглушает ветер. В этой тишине шум парохода представлялся беспокойным и жалобным.
Навстречу не попадалось ни одного корабля. Если даже где-нибудь со стороны Гернзея или Сен-Мало, вне полосы тумана, и были в море какие-нибудь суда, они не могли видеть Дюранду, и черная полоса ее дыма должна была им казаться лишь странной кометой в белесом небе.
Внезапно Клюбен закричал:
— Негодяй! Ты не так правишь! Ты нас погубишь. Убирайся в черту, пьяница!
И он сам взялся за руль.
Смущенный рулевой спрятался в рубке.
— Теперь мы спасены, — сказал гернзеец.
Пароход продолжал мчаться. К трем часам туман стал медленно подниматься и показалось море.
— Ох, мне это не нравится, — сказал гернзеец.
И в самом деле, туман может рассеяться лишь от солнца или от ветра. Если он рассеивается от солнца — хорошо. Но для солнца было уже слишком поздно. В феврале оно в три часа дня чересчур слабое. А ветер, разыгрывающийся в это время дня, опасен. Он зачастую предвещает бурю.
Однако если ветерок и был, то очень маленький.
Клюбен управлял пароходом, не отходя от руля, и слова, которые он бормотал, доносились до пассажиров:
— Нельзя терять ни минуты. Из-за этого пьяницы мы опоздали.
Его лицо было непроницаемым.
Море уже не выглядело таким спокойным. Кое-где на нем появились барашки. На поверхности воды там и сям дрожали пятна света. Такие пятна тревожат моряков: они указывают на прорывы, сделанные в пелене тумана ветром. Туман поднялся для того, чтобы затем сгуститься еще больше. Пароход попал теперь в самую его гущу. Временами круг разрывался, сверкал клочок неба, и затем завеса смыкалась снова.
Гернзеец, снова взяв подзорную трубу, обратился к Клюбену:
— Капитан Клюбен, мы идем на утес Гануа.
— Вы ошибаетесь, — холодно ответил Клюбен.
— Я уверен в этом!
— Это невозможно.
— Я только что видел скалу на горизонте.
— Нет. Здесь открытое море.
Клюбен продолжал вести судно в том же направлении. Гернзеец схватил трубу. Через мгновение он закричал:
— Капитан, поверните руль!
— Почему?
— Я четко вижу высокую скалу совсем близко. Это Гануа.
— Вы приняли густой туман за скалу.
— Это Гануа! Поверните руль во имя Неба!
Клюбен его не послушал.
Клюбен поражает всех
Раздался треск. Треск ломающейся обшивки корабля среди открытого моря — это самый ужасный звук в мире. Дюранда тут же остановилась.
Некоторые пассажиры от толчка упали на палубу.
Гернзеец поднял в отчаянии руки:
— Это Гануа. Я ведь говорил!
Громкие крики огласили пароход:
— Мы погибли!
Голос Клюбена, сухой и спокойный, заглушил все остальные:
— Никто не погиб! Молчать!
Из топки показалась черная обнаженная фигура Имбранкама. Он спокойно доложил:
— Капитан, в топке вода. Машина сейчас остановится.
Наступила страшная минута. Казалось, Дюранда нарочно бросилась на утес. Выступ скалы врезался в судно как гвоздь. Пробоина была величиной в квадратную сажень, обшивка сорвана, нос разбит. Вода широким потоком вливалась в трюм. Это была гибель. Удар оказался настолько силен, что даже на корме показались трещины. Вокруг судна ничего не было видно, кроме тумана, который становился все гуще и теперь был почти черным. Наступала ночь.
Дюранда носом погружалась в воду. Она напоминала лошадь, брюхо которой распорото ударом бычьих рогов. Она была мертва.
Тангруй протрезвел. Во время крушения хмель вышибается из головы. Он спустился в трюм, затем поднялся и сказал:
— Капитан, вода прибывает. Через десять минут она наполнит весь трюм.
Пассажиры метались по палубе, заламывая руки, перевешивались через борт, бросались в топку — словом, делали все те бесполезные движения, которые свойственны людям, объятым ужасом. Турист лишился чувств.
Клюбен поднял руку, и все умолкли. Он спросил у негра:
— Сколько времени еще может работать машина?
— Минут пять-десять.
Потом обратился к гернзейцу:
— Я стоял у руля. Вы рассматривали утес. Вы говорите, это Гануа. На какой именно камень мы наткнулись?
— На Мовский. Во время проблеска света я четко разглядел Мовский камень.
— Следовательно, — сказал Клюбен, — мы находимся между Большим и Малым Гануа, на расстоянии одной мили от берега.
Экипаж и пассажиры слушали, дрожа от ожидания и страха, не спуская глаз с капитана.
Облегчить судно было невозможно и бесполезно. Для этого требовалось поднять люки, таким образом открыв новые входы для притока воды. Бросать якорь также бесполезно: судно и так пригвождено к скале. Да и глубина здесь слишком велика. Можно было бы воспользоваться машиной, которая еще работала, дать обратный ход и оторваться от утеса. Но это мгновенная гибель. Камень, врезавшийся в отверстие, затыкал его и сдерживал приток воды. Ведь если вытащить кинжал из груди раненого, несчастный немедленно умирает. Сняться с утеса означало тотчас же пойти ко дну.
Быки в трюме, затопляемом водой, начали реветь. Клюбен скомандовал:
— Спускайте шлюпку!
Имбранкам и Тангруй начали поспешно отвязывать канаты. Остальные не двигались с места.
— Все за работу! — закричал Клюбен.
На сей раз его послушались. Клюбен продолжал командовать. Наконец шлюпка была спущена. В эту минуту машина перестала работать. Дым уже не валил. Вода залила топку.
Пассажиры, скользя по веревочной лестнице, скорее падали в шлюпку, чем спускались в нее. Имбранкам поднял бесчувственного туриста, отнес его в лодку и снова поднялся на пароход.
Матросы последовали за пассажирами. Юнга споткнулся и упал. Они продолжали двигаться к борту, топча его ногами. Имбранкам загородил им дорогу.
— Пропустите сначала мальчика, — сказал он.
Растолкав крепкими черными руками матросов, он поднял юнгу и передал его гернзейцу, стоявшему в шлюпке. После этого обратился к матросам:
— Проходите!
Клюбен тем временем пошел в свою каюту, собрал документы, инструменты, взял компас и вернулся на палубу. Он подал документы негру, компас протянул Тангрую и сказал им:
— Опускайтесь в шлюпку.
После того как они спустились, шлюпка наполнилась настолько, что борта ее почти погружались в воду.
— Отчаливайте! — закричал Клюбен.
Из баркаса кто-то крикнул:
— А вы, капитан?
— Я остаюсь.
У тех, кто терпит крушение, нет времени рассуждать или сентиментальничать. Но все же люди, сидевшие в шлюпке и чувствовавшие себя в относительной безопасности, оказались великодушны. Все в один голос закричали:
— Капитан, вы должны плыть с нами!
— Я остаюсь.
Гернзеец, хорошо знавший местность, крикнул:
— Послушайте, капитан. Мы находимся возле Гануа. Отсюда не больше мили до Пленмонта, но там нет причала для лодок. Поэтому нам придется плыть в Рокен, а это в двух милях отсюда. Сейчас туман, надвигается шторм. Шлюпка доберется до Рокена не раньше чем через два часа. Мы, конечно, хотим успеть вернуться сюда за вами. Но если погода разыграется, то не сможем этого сделать. Остаться вам здесь равносильно гибели. Поедем с нами.
— Шлюпка переполнена, вы правы, — вмешался парижанин. — Возможно даже, лишний человек ее погубит. Но нас здесь тринадцать, а это несчастливое число. Лучше перегрузить лодку, чем плыть в таком составе. Прыгайте, капитан!
Тангруй заявил:
— Это моя вина, а не ваша. Если вы останетесь, это будет несправедливо.
— Я остаюсь, — ответил Клюбен. — Ночью буря потопит судно. Я его не покину. Когда корабль гибнет, капитан должал умереть вместе с ним. Про меня скажут: он выполнил свой долг до конца. Тангруй, я вас прощаю. — Скрестив руки, Клюбен воскликнул: — Слушать мою команду! Отчаливай! На весла!
Шлюпка тронулась. Негр взялся за руль. Все, у кого были не заняты руки, протянули их к капитану, воскликнув:
— Да здравствует капитан Клюбен!
— Какой прекрасный человек, — сказал американец.
— Ах, сударь, — ответил гернзеец, — это самый честный человек в мире!
Тангруй плакал.
— Если бы у меня хватило сил, — шептал он вполголоса, — я бы остался вместо него.
Шлюпка погрузилась в туман и скрылась из глаз.
Шум вёсел отдалился и начал затихать.
Клюбен остался один.
Освещенная бездна
Оказавшись в одиночестве на утесе среди тумана, посреди бесконечного моря, покинутый людьми, которые будут считать его мертвым, оставшись наедине с волнами и надвигающейся ночью, Клюбен испытал глубокую радость.
Он достиг своего. Мечта осуществилась. Теперь он предъявит к оплате векселя, хранившиеся у него так долго.
Быть покинутым для Клюбена означало свободу. Он находился на утесах Гануа, на расстоянии одной мили от берега; у него было семьдесят пять тысяч франков. Никогда еще кораблекрушение не проводилось с таким искусством. Клюбен все предусмотрел заранее. Он с молодости лелеял одну мечту: поставить свою честность на рулетку жизни, прослыть добродетельным человеком, дождаться счастливого случая, угадать момент, не упустить его, одним махом приобрести богатство и одурачить всех. Он задумал сразу достигнуть того, чего другие достигают в несколько приемов; к тому же они рискуют попасть на виселицу, он же хотел играть наверняка. Встреча с Рантеном с самого начала показалась ему лучом света во тьме. Он тут же построил весь свой план. Схватить Рантена за горло; содрать с него все, что возможно; исчезнуть так, чтобы считаться мертвым; для этого — потопить Дюранду. Крушение было ему необходимо. Исчезая, он хотел оставить за собой свою честную репутацию, которая сопровождала его всю жизнь. Клюбен, стоящий на обломках судна, напоминал торжествующего демона.
Всю жизнь он ждал этой минуты.
Все его существо кричало: «Наконец-то!». Страшное сияние озарило мрачное лицо Клюбена. Свет блеснул в его глазах. Мошенник, таившийся в этом человеке, торжествовал. Клюбен вгляделся в окружающую его тьму и разразился низким, зловещим хохотом.
Он свободен! Он богат!
Его тайна больше не существовала. Он разрешил задачу всей своей жизни.
У него было еще достаточно времени. Начался прилив, удерживавший Дюранду на поверхности и даже приподнимавший ее. Судно крепко сидело на скале, и нечего было опасаться, что оно пойдет ко дну. К тому же следовало дать шлюпке отплыть как можно дальше, а быть может, затонуть. Клюбен надеялся на это.
Стоя на палубе разбитой Дюранды со скрещенными руками, Клюбен наслаждался темнотой и одиночеством. В течение тридцати лет лицемерие тяжелым камнем лежало на этом человеке. Будучи порочным, он всю жизнь изображал олицетворенную честность. Он ненавидел добродетель, но всегда носил ее личину. В глубине души Клюбен был преступником; за внешностью честного человека таилось сердце бандита. Он являлся пленником честности, был заключен в железную клетку добродетели. Крылья ангела, прикрепленные к его спине, давили его своей тяжестью. Уважение, которое окружало Клюбена, угнетало его. Трудно казаться честным, постоянно балансировать, думать одно и говорить другое. Ему приходилось всю жизнь притворяться, просчитывать каждое движение, улыбаться, когда хотелось оскалить зубы. Добродетель была для него тягостной ношей. Он провел всю жизнь, сдерживая желание укусить руку, зажимавшую его рот. Но вместо этого он ее целовал.
Клюбен был глубоко убежден, что судьба обидела его. Почему ему не досталось богатство? Он хотел бы получить от родителей в наследство сто тысяч фунтов ежегодной ренты. Почему он их не получил? Ведь это была не его вина. Судьба отказала ему во всех радостях жизни, заставив работать, лгать, обманывать, изворачиваться. За что она приговорила его к этой пытке — вечно льстить, заискивать, заставлять людей любить и уважать себя, день и ночь носить на лице маску? Лицемерие — тяжелая ноша. Человек всегда ненавидит тех, кому вынужден лгать.
Час наконец пробил. Клюбен мстил. Кому? Всем людям, всему миру.
Летьерри не сделал ему никакого зла. Тем хуже: он мстил за это Летьерри.
Он мстил всем тем, перед кем ему приходилось сдерживаться. Он жаждал возмездия. Всякого, кто думал о нем хорошо, Клюбен считал своим врагом, потому что до сих пор он находился в плену этих людей.
Клюбен получил свободу. Он достиг освобождения. Для людей теперь он был недосягаем. То, что они сочтут его смертью, явится для него началом жизни. Настоящий Клюбен вышел из оболочки ложного Клюбена. Одним ударом он получил все — смёл Рантена со своего пути, разорил Летьерри, надругался над человеческой справедливостью, обманул общественное мнение и поставил самого себя вне досягаемости людей, окружавших его прежде.
О Боге он не думал. Его считали набожным. Ну что ж! Лицемерный человек всегда ходит окольными путями; лицемерие — самый окольный путь.
Оставшись один, Клюбен дал волю всем темным силам, таившимся в нем. Раскрыв душу, он стал наслаждаться, начал вдыхать аромат преступления полной грудью. Печать порока появилась на его лице. В эту минуту взгляд Рантена по сравнению с выражением глаз Клюбена мог бы показаться невинным взором новорожденного младенца. Отсвет адского пламени заиграл на его лице.
Так простоял он довольно долго, в глубокой задумчивости, перебирая в памяти подробности своей честной жизни, как змея рассматривает скинутую с себя старую кожу. Весь мир верил в его честность, и даже он сам. Клюбен снова расхохотался.
Люди будут считать его погибшим, а он богат! Они будут думать, будто он умер, а он спасен! Какую ловкую игру сыграл он с человеческой глупостью. И в число всех этих дураков попал Рантен. Клюбен вспоминал о нем с чувством безграничного презрения. Это было презрение тигра к кунице. Он, Клюбен, достиг того, к чему Рантен стремился безрезультатно. Рантен, пораженный, отступил, а он торжествовал победу. Он заставил Рантена искупить преступление для того, чтобы совершить его самому.
Клюбен не имел твердых планов на будущее. В железной коробочке, спрятанной в его кожаном поясе, лежало три банковых билета. Этого было достаточно. Он сменит имя. Есть страны, где шестьдесят тысяч франков равняются шестистам тысячам. Ничто не может помешать ему отправиться в один из таких тихих уголков и жить там мирно на деньги, отнятые у этого вора Рантена. Можно начать спекулировать, войти в крупное дело, стать настоящим миллионером. Вот, например, в Коста-Рико можно заняться разведением кофе на плантациях и накапливать золото бочками. Там будет видно.
Обо всем этом предстоит подумать. Самое трудное уже сделано. Устранить Рантена, исчезнуть вместе с Дюрандой — все было нелегко. И это позади. Остальное уже просто. Нет больше непреодолимых препятствий. Бояться нечего, случиться ничего не может. Он доплывет до берега, ночью доберется до Пленмонта, взойдет на скалу, направится к таинственному дому, смело влезет в него, используя веревку, спрятанную для этой цели за камнем. Затем найдет там свой дорожный мешок, переоденется в сухую одежду и будет ждать момента, когда один из испанских контрабандистов, Бласкито, явится в Пленмонт и перевезет его за несколько гиней — не в Торбей, как он говорил Бласко, чтобы замести следы, а в Бильбао. Оттуда он проберется в Вера-Круц или в Нью-Орлеан.
Настало время прыгнуть в море: шлюпка была уже далеко, плыть в течение часа для Клюбена не представляло сложности. От берега его отделяла лишь одна миля — он ведь находился на утесах Гануа.
В этот момент молния прорезала тучи и ярким светом осветила грозные Дуврские скалы.
Страшная неожиданность
Клюбен в ужасе отшатнулся.
Зловещий утес виднелся совершенно отчетливо. Ошибиться было невозможно. Обе Дуврские скалы возвышались совсем близко от судна, а между ними, в узком проходе, шумел прибой. Это была ловушка океана. Туман, как верный сообщник, прятал их от взоров Клюбена.
Клюбен ошибся. Пассажир-гернзеец, принявший утесы за Гануа, заставил Клюбена решиться на то, чтобы бросить пароход на скалу. Дюранда, наскочившая на подводный камень, была всего в нескольких саженях от Дувров.
На расстоянии двухсот сажен виднелся огромный гранитный массив. На его отвесных склонах там и сям проглядывались выбоины и углубления, по которым, пожалуй, можно взобраться на вершину. Там, судя по форме гребня, очевидно, должна была находиться площадка.
Это был утес «Человек». Он возвышался над остроконечными вершинами Дувров. Его площадка со срезанными краями, довольно правильной формы, была мрачной и походила на гробницу. Волны бесконечной чередой подкатывались к ее огромному черному пьедесталу. Казалось, там, высоко, царят неведомые призраки моря и тьмы.
Кругом все словно застыло. Ветер был слаб, волны вяло копошились у подножия утесов. Чудилось, что в этой немой пучине можно увидеть таинственную жизнь подводных глубин.
Клюбен много раз издали разглядывал Дуврские скалы. Он их узнал. Сомнений не осталось.
Эта ошибка кошмарна. Дувр вместо Гануа! Вместо одной мили — пять. Пять миль! Проплыть их невозможно. Дуврские скалы для одинокого человека, потерпевшего кораблекрушение, — олицетворение смерти. Добраться до берега не способен никто.
Клюбен содрогнулся. Собственноручно он обрек себя на гибель. Единственным пристанищем для него может быть только утес «Человек». Возможно, ночью разыграется буря. Перегруженная шлюпка с Дюранды затонет. Весть о кораблекрушении не достигнет земли. Никто даже не будет знать, что Клюбен остался один на Дуврских скалах. От голодной и холодной смерти нет спасения. Семьдесят пять тысяч франков не заменят ему куска хлеба. Он сплел сети и сам запутался в них, сам вызвал катастрофу. Выхода нет. Победа превратилась в поражение. Вместо освобождения — смертельный плен. Вместо счастливого будущего — агония. Короткий, как вспышка молнии, миг разрушил все его замыслы. То, что он принял за истинный рай, оказалось адом.
Тем временем ветер усилился. Разорванный туман бесформенными клочьями потянулся к горизонту. Перед глазами Клюбена возникло море.
Быки, которых заливала вода, ревели все громче.
Надвигалась ночь; приближалась буря.
Дюранда, подмываемая прибоем, раскачивалась из стороны в сторону, постепенно поворачиваясь к скале бортом. Близилась минута, когда она должна была сорваться с острого края утеса и пойти ко дну.
Было не так темно, как в момент крушения. Несмотря на приближение вечера, тьма немного рассеялась. Туман унес с собой часть темноты. Западная сторона неба казалась совсем светлой, остальная тонула в сумерках. Бледный отсвет ложился на поверхность воды. Дюранда стояла наклонно, опустив нос в море. Клюбен взобрался на корму, возвышавшуюся над водой, и стал всматриваться в горизонт.
Положение было безнадежным, но он не отчаивался. Он знал, что во время тумана суда ложатся в дрейф или бросают якорь, и надеялся, что теперь, когда туман рассеялся, какой-нибудь корабль, продолжающий свой путь, может показаться на горизонте.
И Клюбен действительно заметил парус. Какое-то судно шло с востока на запад.
Вскоре очертания корабля стали яснее. На нем была всего одна мачта.
Через полчаса оно подошло довольно близко к Дуврским скалам. Клюбен решил, что он спасен.
В подобные минуты всякий человек, кто бы он ни был, думает только о жизни.
Судно казалось странным. Кто знает? Быть может, это корабль контрабандистов, идущий в Пленмонт. Возможно, на судне сам Бласкито. Если это так, то спасена не только жизнь, но и богатство. В таком случае встреча с ним здесь, возле Дувров, лишь ускорит развязку, избавит Клюбена от ожидания в пустом доме, завершит его дело в открытом море и явится поистине счастливой случайностью. Все это с быстротой молнии пронеслось в его мозгу.
Поразительно, с какой легкостью мошенники верят в собственную удачу.
Ему нужно было сделать лишь одно. Дюранда, пригвожденная к утесу, сливалась с ним своими очертаниями и в сгустившихся сумерках была незаметна для проходившего судна.
Но фигуру, стоящую во весь рост на вершине «Человека», вырисовывающуюся на фоне серого неба и делающую знаки, без сомнения, заметят. Для спасения потерпевшего будет спущена шлюпка.
«Человек» находился на расстоянии каких-нибудь двухсот сажен. Доплыть до утеса было просто, взобраться на него — легко. Нельзя терять ни минуты.
Так как нос Дюранды врезался в рифы, Клюбен должен был прыгнуть в воду с кормы. Он опустил лот, желая убедиться, что глубина в этом месте достаточная. Микроскопические раковины, приставшие к лоту, были целы, значит, вода здесь глубока и спокойна.
Он разделся и бросил одежду на палубу. Там, на паруснике, для него найдется другая. Клюбен оставил на себе лишь кожаный пояс. Раздевшись, ощупал его, подтянул покрепче, убедился, что табакерка на месте, внимательно вгляделся в волны, изучая направление, по которому следовало плыть, чтобы скорее добраться до утеса, затем прыгнул в воду вниз головой.
Он падал с большой высоты, поэтому сразу нырнул глубоко.
Достигнув дна, прикоснулся к нему, нащупал лежавшие на дне камни и взмахнул руками, собираясь выплыть на поверхность.
В это мгновение Клюбен почувствовал, что кто-то схватил его за ногу.
Книга VII
Нельзя обращаться к книге с вопросами. Жемчужина в пучине
Через несколько минут после отрывистой беседы с господином Ландуа Жиллиат оказался уже в Сен-Сампсоне.
Он чувствовал чрезвычайное волнение. Что случилось?
Весь Сен-Сампсон был охвачен переполохом. Все стояли у входов в свои дома. Женщины кричали, какие-то люди, жестикулируя, рассказывали о чем-то, и вокруг них собирались группы. Повсюду раздавались возгласы: «Какое несчастье!» Некоторые улыбались.
Жиллиат не стал никого ни о чем расспрашивать. Это не входило в его привычку. К тому же он был слишком взволнован, чтобы обращаться к посторонним. Молодой человек не хотел вслушиваться в обрывки рассказов, предпочитая узнать все сразу. Поэтому направился прямо к дому Летьерри.
Жиллиата так переполняла тревога, что он смог даже войти в дом без малейшего страха.
Входная дверь, ведущая в залу нижнего этажа, была распахнута настежь. На пороге столпились мужчины и женщины. Жиллиат вошел вместе с другими.
Войдя, он столкнулся с Ландуа, который тихо сказал ему:
— Теперь вы уже, конечно, знаете, в чем дело?
— Нет.
— Я не хотел кричать об этом на улице, чтобы не походить на каркающую ворону.
— Да что произошло?
— Дюранда погибла.
Зала была наполнена людьми. Все говорили тихо, как в комнате, где находится тяжелобольной.
Соседи, прохожие, зеваки с некоторым страхом теснились к двери. В глубине залы сидела заплаканная Дерюшетта, а возле нее стоял Летьерри.
Он прислонился к стене. Его матросская шапочка была надвинута на глаза, прядь седых волос свисала на щеку. Летьерри молчал. Руки старика не шевелились, грудь, казалось, не дышала. Он походил на истукана, прислоненного к стене.
Глядя на него, казалось, что жизнь в этом человеке угасла. Дюранда погибла, и ему незачем больше жить. Его душа парила в море и теперь утонула в волнах. Зачем после этого жить? Вставать по утрам, ложиться по вечерам, не дожидаться каждый раз Дюранды, не видеть, как она уходит и возвращается. Существование становились бесцельным. Есть, пить, а дальше что? Все труды этого человека были увенчаны одним творением, все его помыслы — прогрессом. Творение погибло, прогресс уничтожен. Можно прожить еще несколько пустых лет, но для чего? Жизнь бесцельна. В таком возрасте нельзя начинать сначала; к тому же Летьерри был разорен. Бедный старик.
Дерюшетта, плача, сидела на стуле и сжимала в своих руках его руку. Ее пальцы сплелись на его судорожно стиснутом кулаке. Оба были удручены, но по-разному. Сложенные руки говорят о надежде; сжатый кулак — свидетельство отчаяния.
Кулак Летьерри безвольно покоился в руках Дерюшетты. Старик походил на человека, пораженного молнией.
В толпе шептались и обсуждали все произошедшее. Вот что было известно: Дюранда разбилась возле Дуврских скал, во время тумана, перед заходом солнца. За исключением капитана, который не хотел покинуть судна, все спаслись на шлюпке. Юго-западный ветер, сменивший туман, опрокинул шлюпку недалеко от Гернзея. Проходившее мимо судно «Кашмир» подобрало людей и доставило их в порт Сен-Пьер. Во всем был виновен Тангруй, которого посадили в тюрьму. Капитан Клюбен выказал во время крушения необычайное великодушие.
Моряки, находившиеся в толпе, произносили название Дуврских скал со страхом.
— Беда тому, кто попал в эту западню, — говорили они.
На столе лежали компас и связки документов — вещи, переданные Клюбеном негру и Тангрую в момент расставания; поразительное доказательство мужества этого человека, спасавшего бумаги в тот момент, когда он сам себя обрекал на гибель, — пустяк, который говорил о величии и самопожертвовании.
Все восхищались Клюбеном, но в то же время надеялись на то, что ему удалось спастись. Через несколько часов вслед за «Кашмиром» прибыло еще одно судно, которое принесло последние известия. Оно провело сутки в тех же водах, что и Дюранда, стояло на месте при тумане и лавировало во время бури. Капитан судна теперь находился тут же, в комнате.
В тот момент, когда Жиллиат вошел в дом, этот капитан рассказывал господину Летьерри об увиденном. Его рассказ походил на подробный отчет. Утром, когда туман рассеялся и ветер переменился, капитан внезапно услышал мычание. Этот звук пастбища среди волн поразил его; он направился в ту сторону и увидел Дюранду на Дуврских скалах. Погода настолько утихла, что он смог приблизиться. Капитан закричал в рупор, но единственным ответом ему был лишь рев быков из трюма. Мужчина утверждал, что на борту Дюранды никого не оказалось. Пароход держался на воде прекрасно, и на нем можно было провести ночь. Клюбен, к тому же, не относился к числу тех, кто преждевременно приходит в отчаяние. Сомнений в том, что он спасся, не было. Несколько лодок и баркасов, идущих из Гранвилля в Сен-Мало, запоздали из-за тумана и точно должны были вечером проходить неподалеку от Дувров. Очевидно, кто-то из них спас капитана Клюбена. Нужно помнить, что, когда шлюпка покидала разбитый пароход, она была переполнена и лишний человек мог бы пустить ее ко дну. Это и заставило Клюбена остаться на борту парохода; но поскольку его долг был выполнен и поблизости оказалось спасение, Клюбен не мог им не воспользоваться. Можно быть героем, но не безумцем. Сознательная гибель была бы тем более нелепа, ведь Клюбен безупречен. И виновен во всем не он, а Тангруй. Все это выглядело убедительно, капитан точно прав, поэтому все с минуты на минуту ожидали появления Клюбена. Все надеялись на встречу с ним и готовились встретить его достойным образом. После рассказа капитана становились несомненными две вещи: Клюбен спасен, а Дюранда погибла.
С гибелью Дюранды приходилось примириться: катастрофа была непоправима. Капитан проходившего мимо судна присутствовал при последней стадии крушения. Утес не отпускал Дюранду всю ночь и даже оберегал ее от бури, как бы желая удержать судно на своей груди; но в тот момент, когда капитан проходившего парусника убедился, что на борту парохода нет никого, и начал удаляться, раздался последний сильнейший порыв ветра, огромный вал обрушился на Дюранду, сорвал ее с рифа и бросил, как щепку, в проход между Дуврскими скалами. Раздался страшный треск, Дюранда, подхваченная валом на большую высоту, застряла между утесами и снова оказалась пригвожденной, на этот раз еще крепче. Она так и повисла на камнях, открытая ветру и прибою.
По словам матросов парусника, Дюранда была уже на три четверти разрушена. Она бы, несомненно, давно пошла ко дну, если бы риф не удерживал ее. Капитан рассматривал пароход в подзорную трубу. Как опытный моряк, он подробно рассказывал о том, в каком состоянии находились различные части судна. Пароход весь расшатался, теперь вода разнесет его до основания, и через несколько дней от Дюранды ничего не останется.
Однако поразительно то, что машина почти не пострадала. Капитан готов был биться об заклад — «механика» получила лишь незначительные повреждения. Парусные мачты были сломаны, а дымовая труба оставалась невредимой. Железная ограда капитанского мостика погнулась, все остальные части пострадали, но лопасти колес сохранены. Капитан судна был уверен, что машина, в общем, цела. Кочегар Имбранкам, находившийся тут же, разделял такое убеждение. Этот негр, более умный и развитый, чем многие белые, обожал свой корабль. Протягивая к безмолвному Летьерри черные руки, он говорил:
— Хозяин, машина жива!
Все были уверены в спасении Клюбена, как и в том, что корпус Дюранды погиб, поэтому машина стала предметом всеобщего разговора. О ней говорили как о живом существе, ею восхищались.
— Вот что значит прочная работа! — воскликнул французский матрос.
— Здорово! — вскричал гернзейский рыбак.
Капитан судна заметил:
— Какова должна быть ее выносливость, если она отделалась только двумя-тремя царапинами.
Постепенно машина завладела вниманием всех. Присутствующие разделились на ее друзей и врагов. Лишь один владелец парусника, надеявшийся заполучить теперь клиентуру Летьерри, испытывал радость от того, что Дуврские скалы расправились с ненавистным пароходом. Шепот перешел в гул. Теперь уже все говорили почти громко. Но все же голоса продолжали звучать сдержанно из-за того, что сам Летьерри хранил упорное молчание.
В конце концов собравшиеся пришли к общему выводу: самое главное — машина. Восстановить все судно легко, но машину — невозможно. Для этого не хватит денег, и не найти мастеров, которые могли бы такое сделать. Мастер, построивший машину, давно умер. Она стоила сорок тысяч франков. Никто не рискнет вложить свои деньги в это сомнительное дело; к тому же оказалось, что пароход может потерпеть крушение, как всякое иное судно. Гибель Дюранды сразу свела на нет весь ее былой успех. Однако прискорбно было сознавать, что в настоящую минуту машина находится еще в хорошем состоянии, а через пять-шесть дней она будет, как и весь остальной пароход, превращена в обломки. Пока еще не произошло полное крушение. Но гибель машины станет невозместимой. Спасти машину — значит предотвратить разорение.
Легко сказать: спасти машину. Но кто пойдет на это? Возможно ли подобное? Задумать и сделать — вещи разные. Задумать легко — выполнить трудно. А спасти машину, застрявшую меж Дуврскими скалами, это было все равно что наяву осуществить сон. Отправить туда судно с экипажем невозможно; об этом нечего и думать. Сейчас именно то время года, когда бури особенно часты. При первом же шквале якорные цепи перетерлись бы о подводные рифы, и судно разбилось бы о скалу. Это могло бы лишь вызвать новое крушение. На площадке утеса «Человек», где когда-то спасся после кораблекрушения легендарный моряк, умерший там от голода, едва могло хватить места для одного.
Следовательно, для спасения машины нужно было, чтобы один храбрец отправился на Дуврские скалы, оказался в полном одиночестве в пустыне моря, на расстоянии пяти миль от берега, провел целые недели среди ожидаемых и неожиданных опасностей, постоянной тревоги. И при этом у него не было бы никакой надежды на помощь в случае несчастья, ни одного предшественника, за исключением выброшенного волнами на утес моряка, этот храбрец не имел бы товарищей, кроме того мертвеца. Да и как взяться за спасение машины! Для этого нужно быть не только матросом, но и механиком. И среди стольких опасностей! Человек, который решился бы на это, был бы не только героем. Он был бы безумцем. Ибо тогда, когда кто-то вступает в неравную борьбу со стихией, храбрость превращается в безумие. И наконец, разве не безумие рисковать своей жизнью из-за нескольких кусков старого железа? Нет, никто не отправится на Дуврские скалы. С машиной нужно распрощаться. Спаситель не явится. Такого человека не найти нигде.
Таков был смысл всех разговоров, звучавших в толпе.
Старый моряк, капитан шхуны, вслух высказал общую мысль:
— Нет! Конечно! В мире нет человека, который мог бы спасти машину и доставить ее сюда.
— Раз уж я не отправляюсь туда, — прибавил Имбранкам, — значит, это невозможно.
Капитан, махнув рукой, безнадежно проговорил:
— А если бы такой человек нашелся…
Дерюшетта, вскинув голову, произнесла:
— То я вышла бы за него замуж!
Все тут же умолкли.
Из толпы выступил очень бледный человек и спросил:
— Вы тогда вышли бы за него замуж, мисс Дерюшетта?
Это был Жиллиат.
Взгляды присутствующих обратились в его сторону. Господин Летьерри выпрямился. В глазах его появился странный свет.
Он сорвал с головы свою матросскую шапочку, бросил ее на пол и торжественно сказал, глядя вперед, но не замечая никого:
— Дерюшетта выйдет за него замуж. Клянусь в этом перед Господом Богом!
Всеобщее удивление на западном берегу
В ту ночь луна взошла в десять часов. Но, несмотря на то что было светло, море оставалось спокойным и в воздухе не витал малейший ветерок, ни один гернзейский рыбак вдоль всего побережья не вышел на ловлю. Дело в том, что в полдень прокричали петухи. Если же петух поет в неурочный час, улова все равно не будет.
И все же, возвращаясь в сумерки домой, один из местных рыбаков увидел удивительную вещь. С берега в этом месте были видны обычно два буйка, указывающие на мели. Теперь же он заметил между ними третий. Откуда он взялся? Кто его поставил? Какую мель он обозначает? Но буек сам ответил на эти вопросы: он зашевелился, и рыбак увидел, что это мачта. Его изумление удвоилось. Появление нового буйка было загадочным; появление мачты — и подавно. Рыбная ловля оказалась невозможной. Кто же и зачем выехал в море в тот час, когда все возвращались по домам?
Через десять минут мачта медленно приблизилась. Лодка была незнакома рыбаку. Он услыхал шум весел и ясно разобрал, что их всего одна пара. Очевидно, в лодке сидел только один человек. Дул северный ветер. Человек, по-видимому, направлялся к мысу Фонтенелль, чтобы там поднять парус и стать под ветер. Тогда он мог рассчитывать обогнуть мыс Апкресс и Кревельский утес. Что же все это означало?
Мачта скрылась из виду, и рыбак отправился домой.
В эту ночь на западном берегу Гернзея случайные наблюдатели видели в разное время и в разных местах удивительные вещи.
На расстоянии полумили от того места, где проходил рыбак, один из местных жителей, который, погоняя лошадей по пустынной дороге, вез собранные на берегу водоросли, увидел, как в открытом море, между Северным и Песчаным утесами, — обычно моряки их избегали — кто-то натягивал парус. Крестьянин не обратил на это внимания, потому что все его мысли занимала лишь собственная телега, но не лодки.
Прошло примерно полчаса с тех пор, как он заметил парус. Штукатур, возвращавшийся с работы в город и обходивший болото Пеле, увидел прямо перед собой барку, смело плывущую среди утесов. Море освещала луна, и ни одно судно не могло бы укрыться от глаз человека, стоящего на берегу. Но ни одной лодки на нем больше не было.
Немного позже человек, собиравший лангустов, расположившись на песчаной отмели между Порт-Суафом и Порт-Анфером, не мог взять в толк, куда плывет эта одинокая барка. Нужно было быть отчаянным моряком и очень спешить для того, чтобы рискнуть пуститься в такое плавание.
Когда пробило восемь часов, трактирщик в Кателе с изумлением увидел парус неподалеку от Бю-дю-Жарден. Там же, на уединенном берегу, двое влюбленных, прощаясь после свидания, никак не могли расстаться. Девушка говорила возлюбленному: «Я ухожу не потому, что не хочу оставаться с тобой, но я должна идти — работа не ждет». Их прощальный поцелуй был прерван появлением большой лодки, проплывшей совсем близко от них и направлявшейся в сторону Месселе.
В девять часов вечера господин Пейр-де-Норжио, живущий в Пипэ, рассматривал дыру, проломанную в заборе его палисадника жуликами. Несмотря на то что он был очень раздосадован, все же заметил лодку, поспешно огибавшую в столь поздний час мыс Кров. На следующий день после бури, когда море было еще не вполне надежным, такое путешествие оказалось небезопасным. Плыть в это время неосмотрительно, даже если моряк прекрасно знает местность.
В половине девятого рыбак в Экеррье, волочивший свои сети, остановился, чтобы хорошенько рассмотреть плывущий по морю предмет, оказавшийся лодкой, что проходила между утесами, один из которых назывался «Ветреный». Лодка подвергалась большой опасности: возле этих скал ветры очень коварны и часто опрокидывают рыбачьи суденышка. Отсюда и пошло название утеса.
Во время восхода луны, при полном приливе, когда вода в маленьком проливе Ли-Гу поднялась высоко, одинокий сторож на острове Ли-Гу был очень перепуган; внезапно какая-то длинная черная тень загородила от него луну. Этот высокий, узкий силуэт походил на человека, закутанного в саван. Тень медленно скользила на фоне белых скал. Сторожу показалось, что он узнает Черную даму.
У гернзейцев существует поверье: на различных утесах побережья живут четыре призрака — Белая дама, Серая дама, Красная дама и Черная дама. В лунные ночи они покидают свои скалы и встречаются в условленном месте.
Собственно говоря, тень эта напоминала парус. Камни, громоздившиеся у подножия скалы, по которой она двигалась, могли скрыть очертания лодки и сделать их невидимыми. Но сторожу не могло прийти в голову, чтобы судно осмелилось появиться в такой час между Ли-Гу и угрюмыми утесами. Да и с какой целью? И он решил, что это Черная дама.
Когда луна взошла над колокольней Сен-Пьер-дю-Буа, сержант замка Ровен, убиравший подъемный мост, заметил в просвете между скалами парусное судно, двигавшееся с севера на юг.
Около одиннадцати часов группа контрабандистов, быть может, те самые, на которых рассчитывал Клюбен, высадилась в бухте Ламуа. Взобравшись на высокую площадку, расположенную рядом, и зорко осматриваясь по сторонам, они были поражены, заметив парус, быстро двигавшийся вблизи темных очертаний мыса Пленмонт. Луна светила ярко. Контрабандисты поспешно свернули свой парус, опасаясь, что это может быть сторожевое судно, совершающее объезд. Но парусник миновал утесы Гануа, с северо-запада обогнул утес Блондель и вскоре исчез в открытом море, слившись с горизонтом.
«Какие черти его носят?» — подумали контрабандисты.
В тот же вечер, после захода солнца кто-то постучался в дверь Бю-де-ля-Рю. Это был молодой парень в коричневом платье и желтых чулках. По одежде в нем легко было узнать церковного причетника. Двери и ставни дома оказались наглухо закрытыми. Старуха с фонарем в руке, собиравшая на берегу раковины, окликнула юношу, и между ними произошел такой разговор:
— Что тебе здесь надо, парень?
— Мне нужен хозяин дома.
— Его нет.
— Где же он?
— Не знаю.
— А завтра он будет?
— Не знаю.
— Он что, уехал?
— Не знаю.
— Дело в том, видишь ли, что новый пастор, господин Эбенезер Кодре, хочет его навестить.
— Не знаю.
— Пастор послал меня выяснить, будет ли хозяин Бю-де-ля-Рю дома завтра утром.
— Не знаю.
Не искушайте Библию
В продолжение ближайших двадцати четырех часов Летьерри не ел, не пил, не спал, изредка целовал Дерюшетту в лоб, справлялся о том, нет ли известий о Клюбене, подписал заявление, что он не имеет ни к кому никаких претензий и просит освободить Тангруя.
Весь следующий день он провел стоя, облокотившись на конторку, за которой обычно занимался делами Дюранды, кротко отвечая, когда кто-нибудь к нему обращался. Любопытство, в конце концов, улеглось, и дом опустел. В той поспешности, с которой люди спешат выразить свое соболезнование, всегда есть значительная доля желания все разведать. Дверь дома закрылась; Летьерри и Дерюшетта остались наедине. Блеск, появившийся было в глазах Летьерри, исчез; его взгляд опять стал таким же тусклым, как в начале катастрофы.
Обеспокоенная Дерюшетта, посоветовавшись с Грацией и Любовью, не говоря ни слова, положила подле него чулок, который он вязал в ту минуту, когда было получено страшное известие.
Летьерри, горько усмехнувшись, сказал:
— Вы считаете меня дурачком. — Помолчав, он добавил: — Эти чудачества хороши тогда, когда человек счастлив.
Дерюшетта, убрав чулок, воспользовалась случаем, чтобы незаметно спрятать компас и судовые документы, в которые Летьерри заглядывал слишком часто.
После обеда дверь распахнулась и вошли два человека, с ног до головы одетые в черное, старый и молодой.
О молодом уже шла однажды речь в этом повествовании.
Оба они были серьезны, но серьезность их различалась: у старика она казалась внешней, у молодого — глубокой. Судя по одежде, оба являлись служителями церкви. Старший из них был прежним пастором Сен-Сампсона — Жакменом Геродом.
Летьерри настолько погрузился в собственные мысли, что, когда они вошли в комнату, лишь слегка пошевелил бровями. Жакмен Герод приблизился к нему, поздоровался, напомнил в скромных, но исполненных достоинства выражениях о своем новом назначении и сказал, что он хочет представить наиболее почтенным гражданам Сен-Сампсона, а господину Летьерри в особенности, своего преемника по приходу, нового пастора Эбенезера Кодре, который будет теперь духовным отцом господина Летьерри.
Дерюшетта встала. Молодой пастор поклонился.
Летьерри посмотрел на него и проворчал сквозь зубы: «Плохой моряк».
Грация подала стулья. Гости уселись у стола.
Жакмен Герод начал говорить. Он слышал о произошедшей катастрофе, о том, что Дюранда потерпела крушение. Он явился для того, чтобы произнести слова утешения и совета. Крушение является одновременно и горем и счастьем. Нужно заглянуть в свою душу. Не возгордился ли человек собственными успехами? Ведь удача нередко кружит голову. Не нужно озлобляться в горе. Пути Господни неисповедимы. Господин Летьерри разорен; но богатство — большая опасность. Богатый окружен мнимыми друзьями. Бедность их отдаляет. Человек остается один и может заняться совершенствованием своей души. Дюранда давала тысячу фунтов стерлингов дохода в год. Для мудрого это слишком много. Следует избегать искушений, презирать золото, нужно встречать разорение и одиночество с благодарностью. Одиночество приносит благотворные плоды, Господь одаряет одинокого своими милостями. Никому не известны замыслы провидения. Кто знает, быть может, гибель Дюранды еще будет возмещена. Вот, например, он сам, Жакмен Герод, вложил свой капитал в одно хорошее предприятие в Шеффильде; если бы господин Летьерри пожелал вложить в это же дело остаток своих средств, он мог бы с успехом поправить собственное положение. Речь идет о поставке оружия русскому царю, который занят сейчас подавлением мятежа в Польше. Можно заработать на этом деле втрое.
Слово «царь» заставило Летьерри поднять голову. Он перебил Герода:
— Мне не нужно царей.
— Господин Летьерри, цари — помазанники Божьи. В Священном Писании сказано: кесарю — кесарево. Царь — это кесарь.
Летьерри, снова погрузившись в задумчивость, пробормотал:
— Я не знаю, кто такой кесарь.
Жакмен Герод опять начал убеждать его. Он не настаивал на шеффильдском деле. Но признавать царя — значит быть республиканцем. Пастор готов примириться с тем, что можно быть республиканцем. В таком случае господин Летьерри должен обратиться в какое-нибудь республиканское государство. Поместить свои деньги где-нибудь в Соединенных Штатах еще выгоднее, чем в Англии. Если он хочет увеличить оставшееся у него состояние — есть возможность стать акционером крупных рабовладельческих плантаций в Техасе, на которых работает двадцать тысяч негров.
— Я против рабства, — ответил Летьерри.
— Рабство, — возразил Герод, — узаконено Господом Богом. В Писании сказано: хозяин, наказывающий раба своего, не понесет за это наказания, ибо раб — это его достояние.
Грация и Любовь, стоя на пороге, с благоговением прислушивались к словам пастора.
Он продолжал:
— Если господин Летьерри настолько разорен, что не может принять участия в каком-либо крупном русском или американском деле, то почему бы ему не занять какую-то государственную должность? Вот на Джерсее есть вакантная должность члена областного совета. Она требует лишь присутствия на публичных собраниях, участия в дебатах на суде и при исполнении судебных приговоров.
Летьерри пристально посмотрел на Герода.
— Я не любитель смертной казни, — сказал он.
До сих пор Герод говорил монотонно, не повышая голоса. Теперь его интонация приобрела строгость:
— Господин Летьерри, смертная казнь благословлена Небом. Сам Бог вложил меч в руку человека. В Писании сказано: око за око, зуб за зуб.
Молодой пастор Кодре незаметно придвинул свой стул ближе к стулу Жакмена Герода и сказал ему тихо, так что остальные не слышали:
— Все, что говорит этот человек, внушено ему.
— Каким образом? Кем внушено? — так же тихо спросил Герод.
— Его совестью, — шепотом ответил Кодре.
Жакмен Герод поспешно вытащил из кармана толстую книгу с застежками, положил ее на стол и громко сказал:
— Вот истинная совесть.
Это была Библия.
Но тут же Герод заговорил более мягким тоном. Он глубоко сочувствует господину Летьерри и хочет быть ему полезным. Его правом и обязанностью являлось дать господину Летьерри совет; однако господин Летьерри, конечно, волен в собственных поступках.
Летьерри, охваченный своими думами, больше не слушал его. Дерюшетта, сидевшая рядом с дядей, тоже задумалась, она не поднимала глаз и своей молчаливостью лишь усугубляла создавшееся неловкое положение. Некий свидетель всегда стесняет говорящего. Но Жакмен Герод, казалось, этого не чувствовал.
Летьерри молчал, и Герод дал волю своему красноречию. Внезапно Летьерри ударил кулаком по столу:
— Черт возьми, — вскричал он, — во всем виноват я!
— Что вы хотите сказать? — спросил Жакмен Герод.
— Я говорю, что во всем виноват я!
— Вы? Почему?
— Потому что я заставлял Дюранду возвращаться по пятницам.
Жакмен Герод прошептал на ухо Кодре:
— Он весьма суеверен. — Затем произнес громко, поучительным тоном: — Господин Летьерри, верить в несчастные дни — предрассудок. Нельзя же верить сказкам. Пятница такой же день, как и все остальные. Часто он оказывался счастливым.
Сказав это, Герод поднялся. Вслед за ним встал и Кодре.
Грация и Любовь, заметив, что они собираются уходить, широко распахнули дверь. Летьерри ничего не видел и не слышал. Жакмен Герод тихо сказал молодому пастору:
— Он нас даже не приветствует. Это уже не от огорчения, а просто от невежливости. Можно подумать, будто он ненормальный.
Герод взял со стола Библию и сжал ее обеими руками, как сжимают птицу, когда боятся, что она может улететь. Все присутствующие посмотрели на него выжидательно. Служанки склонили головы.
Голос Герода зазвучал торжественно:
— Господин Летьерри, мы не покинем ваш дом, пока не прочтем страницу из Библии. Книги освещают наш жизненный путь. Любая из них, раскрытая наудачу, зачастую может дать полезный совет. Библия же в подобном случае всегда дает откровение. Она особенно добра к тем, кто испытал горе: строки Священного Писания неизменно являются бальзамом для их ран. В присутствии таких людей нужно раскрывать Библию, не выбирая страниц, и с верой в Господа прочитывать то место, на которое падает взгляд. Господь делает выбор за человека, он знает, что ему нужно. Невидимый перст Божий указывает нам, что именно нужно прочесть. Какая бы это страница ни оказалась, она сумеет просветить наши умы. Мы так и сделаем. Так нам велено свыше. Господин Летьерри, вас постигло горе, но эта книга несет вам утешение.
Пастор Жакмен Герод отстегнул застежки переплета, разъединил ногтем две страницы наугад, положил руку на раскрытую книгу, поднял глаза, затем опустил их и начал читать громким голосом.
Вот что он прочел:
«Однажды Исаак пошел по дороге к колодцу, называющемуся колодцем всевидящего и всезнающего.
И Ревекка, увидав Исаака, сказала: «Кто этот человек, который идет мне навстречу?».
И тогда Исаак ввел ее в свою палатку и взял ее себе в жены, и любовь его к ней была велика».
Эбенезер и Дерюшетта переглянулись.
Часть II ПОДВИГ ЖИЛЛИАТА
Книга I
Подводный камень. Место, куда трудно добраться и откуда еще трудней возвратиться
Лодка, которую заметили вечером в разных местах вдоль западного побережья Гернзея, была, как нетрудно догадаться, баркой Жиллиата. Он избрал путь через утесы: это был самый опасный, но зато прямой курс. Единственное, чего он хотел, — добраться как можно скорей. Разбитое судно не ждет, море спешит закончить свое дело; один час опоздания может сделать все непоправимым. Жиллиат мчался на помощь гибнущей машине.
Покидая Гернзей, он старался никому не попадаться на глаза. Жиллиат уехал тайком, скрываясь от всех. Он пытался проехать так, чтобы его не могли заметить со стороны Сен-Сампсона и порта Сен-Пьер, плывя вдоль самой пустынной части берега. Ему пришлось грести против ветра, однако Жиллиат опускал и вынимал весла плавно, без толчков, и таким образом продвигался в темноте быстро, но бесшумно. Казалось, он замышляет недоброе.
Когда Жиллиат очертя голову бросился в такое почти неосуществимое путешествие, связанное с риском для жизни и почти не имевшее надежды на успех, он все же боялся соперничества.
На рассвете тот, кто очутился бы поблизости, мог разглядеть на поверхности моря, среди водной пустыни, два предмета, расстояние между которыми быстро уменьшалось. Одним из этих предметов, почти незаметным среди высоких валов, была парусная барка; в ней сидел человек; это был Жиллиат. Второй предмет, неподвижный, огромный, черный, представлял собой необычную картину. Два высоких столба поддерживали в воздухе в горизонтальном положении какую-то перекладину, повисшую между ними в виде моста. Издали эта перекладина казалась бесформенной, и невозможно было определить, что это такое. Она напоминала огромные ворота с двумя стропилами. Зачем могли понадобиться ворота среди открытого моря? Казалось, их могла создать здесь причудливая фантазия титана, который привык соразмерять свои постройки с необъятной бездной. Громадный силуэт этого сооружения вырисовывался на светлом фоне неба.
Утренняя заря ширилась на востоке. Светлеющее небо подчеркивало черноту моря. С другой стороны луна медленно погружалась в волны.
Черными столбами были Дуврские скалы; темная масса, повисшая между ними, — Дюранда. Рифы, заманившие свою добычу, выглядели жутко. Иногда кажется, что неодушевленные предметы смотрят на человека вызывающе и хвастливо. Можно было подумать, будто утесы ждут свою жертву и зовут ее на бой.
Трудно себе представить что-то более надменное и вызывающее, чем это сочетание: побежденное судно и торжествующая бездна. Утесы, с которых стекала вода, напоминали двоих воинов, обливающихся потом. Ветер был слаб, на поверхности моря, покрытого зыбью, плавно колыхались узоры из пены, в воздухе разносился тихий рокот, похожий на жужжание пчел. И лишь две Дуврские скалы гордо вздымались над бесконечной гладью словно огромные черные колонны. Их до половины покрывал бархатный налет водорослей, гладкие вершины утесов блестели, как бы закованные в латы. Казалось, они готовы снова вступить в бой. Под водой угадывались их широкие основания. Трагической мощью веяло от них.
Море обычно скрывает свои деяния. Непроглядная пучина охотно хранит его тайны. Следы катастрофы редко всплывают наружу. Обломки крушения идут на дно; бездна поглощает их, а коварная волна, совершив убийство, прячет следы и вновь улыбается. Вода бурлит и ревет, а через минуту уже покрыта невинными барашками.
Но здесь была иная картина. Дуврские скалы с триумфом вздымали над волнами мертвую Дюранду. Они напоминали гигантские руки, высунувшиеся из пучины и показывающие бурям труп судна. Они походили на преступника, хвалящегося своим злодеянием.
Ранний час усиливал внушительность картины. Утренняя заря, во время которой встречаются убегающий сон и зарождающаяся мысль, полна таинственного величия. На светлеющем горизонте вырисовывалась гигантская буква Н — утесы с зажатой между ними Дюрандой.
Жиллиат был одет в свой рыбачий костюм: шерстяную рубашку, шерстяные чулки, башмаки, подбитые гвоздями, вязаную куртку, штаны из просмоленного холста и красную шерстяную шапочку, какие носили тогда все моряки.
Узнав Дуврские скалы, он направился к ним.
Дюранда не была затонувшим кораблем. Наоборот, она представляла собой судно, взлетевшее на воздух. Спасение парохода казалось делом совершенно необычайным.
Когда Жиллиат подъехал к утесам, день уже вступил в свои права. Море не волновалось. Лишь вокруг скал заметно было легкое движение, которое никогда не прекращается в проливах. Между двумя частями суши вода пенится неустанно.
Прежде чем подойти к утесам, Жиллиат несколько раз измерил глубину. Выгружаться ему нужно было недолго. Он привык отлучаться с острова, и все необходимое всегда было наготове у него в лодке. Запасы молодого человека состояли из мешка сухарей, мешка ржаной муки, корзинки сушеной рыбы и копченой говядины, большой жестянки с пресной водой, норвежского расписного сундучка, в котором лежало несколько шерстяных рубах, куртка и гетры из просмоленного холста, а также баранья шкура, которую он накидывал ночью поверх куртки. Все это да еще кусок свежего хлеба Жиллиат бросил наспех в лодку, покидая Бю-де-ля-Рю. Второпях он захватил из инструментов только свой кузнечный молот, два топора — большой и маленький, пилу и веревку с узлами и крюком. Умея пользоваться такой лестницей, можно взбираться на самые непокоримые утесы; ловкие моряки везде сумеют пустить ее в ход. Стóит посмотреть, какие невероятные подъемы одолевают с помощью такой веревки рыбаки на острове Серк.
Сети, удочки и прочие принадлежности рыбной ловли тоже лежали на дне лодки. Он захватил их машинально, по привычке, ибо отправлялся на жестокую борьбу со стихией и рыболовные снасти были ему здесь ни к чему.
Жиллиат подплыл к утесам во время отлива. Это сыграло ему на руку.
Схлынувшая вода обнажила у подножия одной из скал несколько плоских и наклонных углублений, как бы приспособленных для того, чтобы по ним можно было взбираться. Эти углубления, то широкие, то узкие, были разбросаны по склону утеса до самой Дюранды, сжатой между рифами как в тисках.
Уступы оказались удобны для того, чтобы высадиться и выгрузить вещи. Но следовало торопиться, потому что они обнажились совсем ненадолго. Во время прилива эти ступени будут затоплены.
Жиллиат подвел свою барку к камням, отчасти плоским, отчасти покатым, и остановил ее. Влажный скользкий слой водорослей покрывал каменные уступы, поэтому взобраться на них было очень трудно. Жиллиат разулся, встал на камни босыми ногами и причалил лодку к одному из выступов скалы. Потом поднялся, карабкаясь по камням, по склону утеса, и, очутившись под остовом Дюранды, стал осматривать его. Дюранда была пригвождена к утесам на высоте двадцати футов от воды. Для того чтобы поднять ее на такую высоту, понадобился невероятно мощный вал.
Оказалось, что на утесах висит лишь половина Дюранды. Судно было вырвано ураганом из воды. Ветер рвал его кверху, напор воды удерживал, и пароход, схваченный двумя лапами бури, переломился, словно дощечка. Кормовая часть, с машиной и колесами, выхваченная из пены и брошенная свирепым ураганом в просвет между Дуврскими скалами, повисла. Порыв ветра случайно был направлен так удачно, что как клин вогнал эту часть парохода в пространство между утесами. Нос парохода, рухнувший в море, исчез в глубине. Трюм опустился на дно, и вместе с ним утонули быки. Большой обломок корпуса удержался в воздухе и будто лохмотья висел слева на нескольких досках. Достаточно было пары ударов топора, чтобы отсечь его.
Кругом, на выступах утесов, валялись обломки, доски, клочья парусов, обрывки цепей.
Жиллиат внимательно рассматривал Дюранду. Киль парохода находился прямо над его головой.
На горизонте спокойно расстилалась водная пустыня, и солнце величественно поднималось над мрачной синевой.
Время от времени с обломков судна стекала капля воды и падала в море.
Полное разрушение
Дуврские скалы различались и по форме, и по величине.
Малый Дувр, выгнутый и остроконечный, был во всю вышину изрезан каменной породой кирпичного цвета, проходившей через гранит. В ней образовались красноватые трещины, по которым можно было бы взобраться вверх. Одну из них, повыше корпуса Дюранды, настолько сильно размыла вода, что она походила на нишу, в каких обычно ставят статуи. Очертания Малого Дувра округлые и напоминают точильный камень. Вершина его похожа на изогнутый рог.
Большой Дувр гладко отполирован, он стоит совершенно отвесно и кажется выточенным из черной слоновой кости. На нем нет ни одного углубления, ни единой трещины. Склоны выглядят настолько негостеприимно, что даже преступник не мог бы воспользоваться ими для того, чтобы укрыться, а птица — чтобы свить гнездо. На вершине его, как и на утесе «Человек», была площадка. Только она неприступна.
На Малый Дувр можно взобраться, но там не удержишься; на Большом Дувре было где поместиться, но туда невозможно попасть.
Осмотрев все это беглым взглядом, Жиллиат вернулся в лодку, выгрузил из нее все свои припасы, связал их в большой узел, обернул его брезентом, затянул веревкой и засунул в расщелину скалы на такой высоте, куда не могла достать вода; затем, карабкаясь руками и ногами по склону Малого Дувра, стараясь использовать малейший выступ, он добрался до Дюранды, повисшей в воздухе, и запрыгнул на палубу.
Внутренность корабля была в ужасном состоянии. Буря яростно поработала над судном. Казалось, на пароходе хозяйничала шайка разбойников. Крушение напоминает нашествие пиратов. Тучи, гром, дождь, ветер, волны и рифы — коварные злоумышленники.
Все носило следы нападения злых сил моря. Измятые железные части говорили о страшной силе гулявшего здесь ветра. Палуба напоминала изломанную клетку, из которой вырвался буйно помешанный.
Ни один зверь не терзает так свою добычу, как море. Вода расправляет когти, ветер кусает жертву железными челюстями, волны ее пожирают. Море одновременно разрывает добычу на части и раздавливает ее. У него такой же удар, как у льва.
Дюранда походила на человека, перерезанного пополам: из ее распоротого брюха вываливались обнаженные внутренности. Свешивающиеся канаты колыхались в воздухе, цепи со звоном раскачивались. Все мускулы и нервы судна обнажились. То, что не превратилось в щепы, было изуродовано; листы металлической обшивки отстали и болтались в воздухе, утыканные гвоздями. Во всем судне не осталось живого места: все было разрушено с какой-то бесцельной яростью. Возле большой дыры, образовавшейся в килевой части, ветер нагромоздил кучу досок, планок, обломков железа, и казалось, при малейшем толчке все это рухнет в море. От сильной и славной когда-то Дюранды осталась лишь задняя часть корпуса с машинным отделением. Но и ее покрывали трещины, сквозь которые проглядывалась темная внутренность судна. Снизу до этих жалких обломков долетали брызги пены.
Невредима, но как спасти?
Жиллиат не ожидал, что найдет только половину судна. В рассказе капитана, проходившего мимо парохода, таком подробном, не было и намека на то, что Дюранда переломилась посредине. Очевидно, это произошло в тот момент, когда капитан, отплывая, услыхал «дьявольский треск». Он, должно быть, удалился до того, как на судно обрушился последний ужасный порыв ветра, и то, что капитан принял за большой вал, было смерчем. Когда он затем подплыл, чтобы осмотреть остатки парохода, перед его взором предстала лишь одна корма Дюранды; огромную трещину, отделившую нос от кормы, скрывало ущелье.
В остальном же капитан сказал правду. Судно было разбито, но машина цела.
Такие случайности происходят и при кораблекрушениях, и при пожарах. Логика бедствий непостижима.
Сломанные мачты рухнули, а труба даже не погнулась; толстая железная обшивка сохранила механизм целым и невредимым. Доски расползлись, но сквозь щели было видно, что колеса в прекрасном состоянии. Не хватало нескольких лопастей.
Кроме машины, уцелел также большой задний шкиль с цепью. Он был укреплен толстыми бревнами и мог еще служить, если бы только при вращении не проломилась палуба. А она расползлась по всем швам. Лишь та часть, которая застряла между Дуврскими скалами, была крепка и казалась надежной.
То, что машина уцелела, выглядело насмешкой и придавало всей катастрофе оттенок иронии. Мрачная злоба судьбы порой способна на такие издевательства. Машина уцелела, но в то же время была обречена на гибель. Море подкарауливало ее, чтобы постепенно растерзать. Игра кошки с мышью.
Машина пережидала агонию и должна была мало-помалу превратиться в обломки. Она стала игрушкой пенистых валов, обреченная на постепенное разрушение, таяние, если можно так выразиться. Что же оставалось делать? Безумием казалась мысль о том, что этот тяжелый и в то же время хрупкий механизм, из-за своей грузности осужденный на неподвижность, подверженный губительной стихии среди водной пустыни, пригвожденный ветром и волнами к утесу, может быть спасен от медленной смерти.
Дюранда стала пленницей Дуврских скал.
Как ее освободить? Как извлечь оттуда?
Бегство из плена — трудная задача для человека. Но как устроить побег машине?
Стойло для коня
Жиллиат достаточно хорошо знал скалы, чтобы отнестись с опаской к Дуврам. Прежде всего, он позаботился о том, чтобы найти стоянку для своей барки в безопасном месте.
Двойной ряд рифов, тянувшихся под водой позади Дуврских скал, там и сям сходился с камнями, отходившими от других утесов, и между ними образовались тихие заводи и тупики. Нижние части рифов покрывали водоросли, верхние — лишайник. Линия водорослей на камнях указывала высоту прилива. На верхушках тех из них, которые во время прилива не скрывались под водой, белый и желтый лишайник казался серебром и золотом. Поверхность утесов была во многих местах покрыта раковинами — сухой плесенью на граните.
Кое-где, в щелях, которые ветер и волны наполнили мелким песком, пробивался чертополох.
Вершины подводных камней, показывающихся на поверхности во время отлива, образовали у подножия утеса «Человек» подобие бухты, со всех сторон защищенной утесами. Здесь можно было причалить. Жиллиат осмотрел эту бухту. Она имела форму подковы, открытой лишь с востока, а восточный ветер в тех краях наименее опасен. Вода в бухте была почти совершенно неподвижна; это место казалось удобным, да, кроме того, Жиллиату не из чего было выбирать.
Для того чтобы воспользоваться часами отлива, нужно торопиться.
По-прежнему стояла прекрасная погода. Свирепое море пребывало в хорошем расположении духа.
Жиллиат слез с утеса, обулся, соскочил в барку, отвязал ее и оттолкнулся от скалы. Подойдя к утесу «Человек», он осмотрел вход в бухту. Легкая рябь на поверхности воды, незаметная для всякого, кроме моряка, указывала на подводное течение. С минуту Жиллиат внимательно изучал вход в бухту, затем отъехал немного, чтобы взять направление, и, наконец, одним взмахом весел очутился в бухте. Измерив глубину, он убедился, что стоянка прекрасна. Здесь барка была отлично защищена от всякой непогоды. В самых опасных местах можно найти такие мирные уголки. Бухточки, встречающиеся среди грозных утесов, своим гостеприимством напоминают бедуинов: они так же честны, и на них можно положиться.
Жиллиат подвел барку как можно ближе к утесу, но так, чтобы она не могла неожиданно разбиться об него, и спустил оба якоря. Затем он, скрестив руки, задумался.
Барка была пристроена; с этим покончено. Но оставалось разрешить другой вопрос: где расположиться ему самому.
Жиллиату предоставлялись две возможности: жить в самой барке — там было довольно удобно — или на площадке вершины утеса «Человек» — взобраться туда нетрудно. С обоих этих мест во время отлива можно было, перескакивая с камня на камень, почти не замочив ног, достигнуть ущелья между Дуврами, где находилась Дюранда. Но отлив продолжается недолго, а следовательно, все остальное время Жиллиат будет отделен или от стоянки, или от Дюранды расстоянием в двести сажен. Плыть среди рифов трудно, при малейшей непогоде — вовсе невозможно. Таким образом, от барки и утеса «Человек» нужно отказаться. На соседних скалах поместиться негде. Их вершины два раза в день покрывались водой. До самых высоких долетали брызги пены. В этом вынужденном купании нет ничего приятного.
Оставался лишь разбитый пароход. Можно ли устроиться там? Жиллиат надеялся на это.
Убежище для путника
Через полчаса Жиллиат, вернувшись на разрушенное судно, спускался с мостков на палубу, с палубы — в уцелевшую часть трюма, внимательно изучая все то, что раньше осмотрел лишь бегло.
С помощью шпиля он поднял на палубу Дюранды сверток вещей, выгруженных из барки. Шпиль работал хорошо, блок был в исправности. Жиллиат принялся выбирать из уцелевших на судне вещей все, что могло ему пригодиться. Среди обломков он нашел долото, очевидно, выпавшее из ящика с плотничьими инструментами, и пополнил им свой запас орудий. У него был с собой складной карманный нож. Жиллиат работал на пароходе весь день, раскапывая, приколачивая, расчищая.
К вечеру он уже знал следующее.
Все судно содрогалось от ветра. Обломки дрожали при каждом шаге Жиллиата. Прочной и устойчивой была только часть корпуса, зажатая между утесами, в которой и находилась машина. Бимсы[647] ее крепко упирались в гранит.
Поселиться на Дюранде было бы неосмотрительно. Это означало нагрузить ее лишней тяжестью, а ему нужно подумать о том, как ее облегчить. Располагаться на Дюранде нельзя ни в коем случае.
Обломки судна требовали самого внимательного ухода. Они напоминали тяжелобольного. Даже ветер обращался с ними грубо и неосторожно. То обстоятельство, что на обломках корабля предстояло проделать ряд работ, само по себе плохо. Все эти работы, несомненно, окончательно расшатают судно, а быть может, оно окажется не в силах вынести их. Кроме того, если бы ночью, когда он будет спать, с пароходом что-нибудь случилось, Жиллиат, находясь на нем, затонул бы вместе с обломками. Спасение в таком случае невозможно: все погибло бы. Для того чтобы в нужную минуту прийти на помощь судну, необходимо находиться вне его.
Нужно быть не на судне, но вблизи него; такова задача Жиллиата.
Трудности все возрастали. Где найти пристанище при таких условиях? Жиллиат начал размышлять.
Оставались только Дуврские скалы. Но поселиться на них трудно. На верхней площадке Большого Дувра виден какой-то странный нарост. Высокие утесы, как Дувр или «Человек», часто имеют срезанные вершины. Нарост на Дувре был, очевидно, обломком рухнувшего когда-то пика. Быть может, там есть какое-нибудь углубление, где можно поместиться. Лучшего Жиллиат и не желал бы.
Но как добраться до площадки? Как взобраться по гладкой отвесной поверхности, отполированной, покрытой скользкими стеблями и казавшейся намыленной? От палубы Дюранды до площадки не меньше тридцати футов.
Жиллиат достал из ящика для хранения инструментов веревку с узлами, обмотал ее вокруг пояса и стал взбираться на Малый Дувр. Чем выше он поднимался, тем труднее ему становилось продвигаться вперед. Наконец он с трудом достиг вершины. Очутившись наверху, выпрямился. Там едва хватало места для ступней его ног. Поселиться здесь невозможно. Отшельник мог бы на этом успокоиться, но Жиллиат был требовательнее и хотел большего.
Малый Дувр как бы кланялся Большому, и, казалось, он его приветствует; внизу расстояние между утесами равнялось двадцати футам; наверху оно было не больше восьми.
Стоя на вершине Малого Дувра, Жиллиат ясно видел каменную нишу на площадке Большого Дувра. Площадка эта находилась над его головой, между ним и ею лежала пропасть, а прямо под его ногами начинался отвесный склон Малого Дувра.
Жиллиат снял веревку с пояса, рассчитал на глаз расстояние и бросил крюк на площадку. Царапнув по камням, крюк сорвался. Узловатая веревка свесилась от ног Жиллиата по склону Малого Дувра. Жиллиат забросил ее еще раз, стараясь попасть в ту часть гранита, которая была покрыта трещинами и щелями. Он швырнул ее так ловко, что крюк засел в расщелине. Жиллиат потянул веревку, камень обломился, и веревочная лестница опять повисла в воздухе.
Жиллиат бросил крюк в третий раз. На этот раз крюк удержался. Жиллиат потянул веревку — она не поддалась. Крюк засел крепко. Жиллиату не было видно, где он зацепился. Теперь предстояло доверить свою жизнь этой неведомой опоре. Жиллиат не колебался. Он торопился. Приходилось выбирать кратчайший путь.
Кроме того, спуститься на палубу Дюранды и поискать иного пристанища не представлялось возможным. На скользком склоне легко сорваться, поэтому падение почти неизбежно. Можно влезть, но спуститься нельзя.
Движения Жиллиата, как всех хороших матросов, были точны. Он не терял сил даром и делал все с точным расчетом. Поэтому, обладая средней силой, умел совершать необычайные вещи; его бицепсы не отличались от тех, что имеет всякий нормальный мужчина, но Жиллиат мог похвалиться необычайно здоровым сердцем. Он обладал физической силой и душевной энергией.
Перед ним стояла трудная задача: повиснув на веревке, преодолеть расстояние между двумя Дуврами.
Жиллиат еще раз попробовал потянуть веревку: крюк держался крепко.
Жиллиат обернул левую руку платком, схватился правой за бечеву, накрыл ее левой рукой, затем, вытянув одну ногу вперед, второй изо всех сил оттолкнулся от утеса, стараясь не дать веревке закрутиться и намереваясь одним прыжком перескочить с вершины Малого Дувра на Большой.
Прыжок был силен, но, несмотря на предосторожности, бечева закрутилась; Жиллиат ударился плечом об утес и отскочил от него как мяч. Руки Жиллиата задели камень: платок разорвался, и кожа на ладонях содралась, но кости не повредились.
Жиллиат был оглушен и повис в воздухе, однако все же он настолько сохранил присутствие духа, что не выпускал веревки из рук. Несколько мгновений он никак не мог обхватить бечеву ногами; наконец ему удалось это. Тогда, цепко держась за веревку руками и ногами, он посмотрел вниз. Жиллиат не опасался, что веревка окажется слишком короткой: она уже не раз служила ему при более высоких подъемах. И действительно, нижний конец бечевы достигал палубы Дюранды. Убедившись, что он сможет по ней спуститься на пароход, Жиллиат начал взбираться вверх. Через несколько минут он достиг площадки.
Здесь, кроме пичуг, никогда не было ни одного живого существа. Площадку покрывали птичьи гнезда. Она имела форму несколько неправильной трапеции, завершая собой колоссальную гранитную призму — Большой Дуврский утес. В центре площадки дожди выбили углубление, похожее на миску.
Предположения Жиллиата оправдались. В одном из углов площадки были навалены каменные глыбы — остатки многолетних разрушений. Между ними сохранились проходы, достаточно широкие для того, чтобы мог проползти зверь, случайно заброшенный на эту вершину. Местами камни были навалены друг на друга; в них не было ни гротов, ни пещер, а лишь дыры, как в огромной губке. Жиллиат мог поместиться в одном из таких углублений. Дно его было выстлано травой и мхом. Жиллиат лежал бы там, как в футляре.
Вход в это отверстие имел вышину в два фута. В глубине оно суживалось. Иногда бывают каменные гробы точно такой формы. Камни защищали его с юго-западной стороны, проливной дождь не мог проникнуть туда. Отверстие было доступно лишь северному ветру.
Жиллиат остался доволен.
Два трудных вопроса были разрешены: для лодки найдена бухта, для него самого — ночлег. Главное удобство его пристанища заключалось в том, что ему легко было сообщаться с Дюрандой.
Крюк веревочной лестницы, попавший в расщелину утеса, держался крепко. Жиллиат укрепил его еще надежнее, привалив сверху большим камнем.
Затем он тотчас же занялся устройством правильного сообщения с Дюрандой. Он устроился хорошо; Большой Дувр был его домом, Дюранда — корабельной верфью. Уходить и приходить, спускаться и подниматься можно легко. Он быстро соскользнул по веревке на палубу.
Погода стояла прекрасная, все шло хорошо. Жиллиат был доволен. Вдруг он почувствовал, что проголодался.
Развязав корзину с провизией, достал ножик, отрезал кусок копченого мяса, хлеба, затем налил себе пресной воды, словом — поужинал прекрасно.
Хороший ужин после успешной работы — большое удовольствие. Полный желудок дополняет радость удовлетворенной совести.
Когда Жиллиат окончил ужин, еще не стемнело. Он воспользовался этим, чтобы облегчить, насколько возможно, судно от обломков. Уже раньше, днем, он начал разбирать их. Теперь принялся откладывать в безопасное место, возле машины, все то, что могло ему пригодиться: дерево, железо, веревки, парусину. Все ненужное он выбрасывал в море.
Груз из его собственной барки, поднятый на палубу, что ни говори, представлял собой значительную тяжесть. Стоя на палубе, Жиллиат мог достать рукой до отверстия в стене Малого Дувра. На утесах часто встречаются такие естественные шкафы, правда, незакрывающиеся. Жиллиат решил устроить там кладовую. На дно углубления он поставил два ящика — один с инструментами, другой с одеждой, затем два мешка — с мукой и сухарями, а спереди — быть может, слишком близко к краю, но другого места уже не было — корзину с провизией. Из ящика с одеждой предварительно достал свою овчину, плащ с капюшоном и просмоленные гетры.
Для того чтобы веревка с узлами не раскачивалась при ветре, Жиллиат привязал ее нижний конец к одной из перекладин Дюранды. Изогнутая перекладина держала веревку крепко, как сжатый кулак. Оставалось подумать о верхней части бечевы. Нижний ее конец был теперь в безопасности, но наверху, в том месте, где веревка касалась острого края площадки, она могла постепенно перетереться. Жиллиат стал рыться в отложенном им хламе, выбрал куски парусины, нашел среди обрывков каната несколько пучков пакли и набил всем этим карманы. Моряк сразу догадался бы, что он, стараясь предохранить веревку от трения, собирается обмотать ее в том месте, где она соприкасалась с утесом.
Запасшись всем необходимым, Жиллиат натянул на себя просмоленные гетры, надел плащ поверх куртки, поднял капюшон, накинул баранью шкуру и, взявшись за веревку, прочно прикрепленную к вершине Большого Дувра, начал взбираться на мрачную морскую башню.
Несмотря на то что ладони его были ободраны, он легко вскарабкался на площадку. Вершину еще освещали последние лучи солнца. На море была уже ночь. Жиллиат воспользовался светом заката для того, чтобы обмотать веревку. Он наложил на бечеву, в том месте, где она касалась камня, толстую повязку из парусины, обматывая каждый слой ткани паклей. Подобные наколенники делают актрисы, когда им приходится в последнем акте трагедии ползать на коленях и корчиться в агонии.
Наложив повязку, Жиллиат выпрямился. Уже в течение нескольких минут в воздухе раздавался странный звук. Он напоминал хлопанье крыльев гигантской летучей мыши. Жиллиат поднял глаза. Над его головой, на фоне сумрачного неба, быстро кружилось большое черное кольцо. На старых картинах такие круги изображают над головами святых. Но там они золотые на темном фоне. А это кольцо было черным на светлом фоне. Оно производило странное впечатление: казалось, ночь возлагает венец на Большой Дувр.
Круг то приближался к Жиллиату, то отдалялся, то суживался, то расширялся. Это были чайки, бакланы, рыболовы, птицы-фрегаты, целая стая испуганных морских пичуг. Очевидно, Большой Дувр являлся их гостиницей, куда они прилетали на ночлег. Жиллиат занял комнату в этой гостинице. Незваный постоялец тревожил их.
Они никогда не видели здесь человека. Птицы довольно долго с беспокойством кружились над скалой, как бы ожидая, что Жиллиат удалится. Он задумчиво следил за ними взглядом.
Наконец пичуги перестали кружиться, круг внезапно превратился в спираль, и вся стая направилась к вершине утеса «Человек».
Они опустились на него и, казалось, стали держать совет. Жиллиат улегся в своем логове, подложил под голову камень вместо подушки и долго еще слышал, как беспокойно кричали птицы.
Наконец они умолкли. Наступила тишина. Птицы заснули на своей вершине, Жиллиат — на своей.
Месть пернатых
Жиллиат спал довольно хорошо. Ему мешал лишь холод, несколько раз заставлявший его просыпаться. Он лег ногами вглубь отверстия, а головой — ко входу, забыв очистить свою постель от камешков, которые впивались в его тело, что не могло способствовать крепости сна. Время от времени Жиллиат открывал глаза.
Несколько раз до него доносились глухие раскаты: это волны во время прилива обрушивались в просвет между скалами. Все окружающее было настолько необычно, что казалось призрачным. Жиллиат думал, будто он грезит; ночью все кажется невероятным. Он твердил себе: это сон.
Засыпая, видел себя в Бю-де-ля-Рю, в Сен-Сампсоне, возле дома Летьерри; он слышал пение Дерюшетты, словом — возвращался к действительности. Когда он спал, ему казалось, что он живет и бодрствует; когда просыпался — думал, будто спит.
Среди ночи в небесах раздался какой-то гул. Жиллиат услышал его сквозь сон; очевидно, поднимался ветер. Один раз, проснувшись от холода, он широко раскрыл глаза и увидал тяжелые тучи над головой; луна, казалось, убегала от непогоды, и большая звезда гналась за ней.
Жиллиат еще не вполне проснулся, поэтому видения, носившиеся в его мозгу, слились с суровой картиной ночи.
На рассвете он крепко заснул, несмотря на холод. Его разбудили первые лучи солнца: он лежал головой к востоку. Жиллиат зевнул, потянулся и вылез из своей дыры. Сон его был так крепок, что в первую минуту мужчина не мог понять, что с ним происходит. Но понемногу он пришел в себя и наконец воскликнул: «Пора завтракать!»
Стояла тихая погода, было холодно, однако на небе — ни облачка: ночной ветер очистил горизонт, и восход солнца выглядел ослепительно. Начинался второй прекрасный день. Жиллиат почувствовал радость. Он снял плащ и гетры, завернул их в овчину, положив ее мехом внутрь, перевязал узел и засунул его глубоко в дыру на случай, если начнется дождь. Потом привел в порядок постель, очистив ее от камней. Сделав это, спустился по веревке на палубу Дюранды и направился к нише, куда поставил свою корзину с провизией.
Корзина исчезла. Ночью разыгрался сильный ветер, корзина стояла на самом краю, и ее, очевидно, сдуло в море. Стихия отказывалась сдаться без боя. Ветер, унесший корзину, вероятно, силен в своей злобе. Это уже настоящее объявление войны. Жиллиат так и понял. Находясь в открытом море, в полном одиночестве, трудно не видеть в ветре и скалах живых существ.
Теперь у Жиллиата оставались сухари, ржаная мука и, на худой конец, моллюски, которыми питался тот, кто умер от голода на утесе «Человек». О рыбной ловле не приходилось и думать. Рыба избегает подводных камней и прибоя; рыболовные снасти в этих местах бесполезны: закинутые сети лишь рвутся об острые рифы.
Жиллиат позавтракал несколькими раковинами, с трудом отделив их от утеса. Он чуть не сломал при этом свой нож. Во время скудного завтрака услышал странный шум над морем. Оглянулся.
Стая чаек с криком, шумом и хлопаньем крыльев опустилась на один из соседних утесов. Птицы все устремились в одно место, терзая клювами и когтями какой-то предмет.
Это была корзинка Жиллиата, занесенная порывом ветра на один из выступов скалы. Пернатые разлетелись в разные стороны, унося в клювах куски добычи. Жиллиат разглядел свое копченое мясо и треску.
Птицы тоже объявили ему войну. Они мстили ему. Жиллиат лишил их пристанища; они лишали его пищи.
Как можно пользоваться рифом
Прошла неделя.
Стоял сезон дождей, но, к великой радости Жиллиата, погода была сухая.
Собственно говоря, все, что он затеял, превышало человеческие силы. Успех казался до того невероятным, что далее попытка превращалась в безумие.
Препятствия и опасности возникают во время работы. Лишь задумав дело, человек начинает видеть, насколько трудным будет конец. Всякое начало непросто. Но вслед за первым шагом трудности ранят нас, как острые шипы.
Жиллиат сразу же столкнулся с препятствиями. Для того чтобы спасти от гибели то, что уже на три четверти погибло, для того чтобы успешно проделать этот подвиг в таких условиях и в такое время года, нужно очень много рабочей силы. Жиллиат был один. Следовало иметь в своем распоряжении все необходимые инструменты и механические приспособления. У Жиллиата была лишь пила, топор, долото и молоток. Требовалась мастерская и хорошее помещение для жилья. У Жиллиата не было даже крыши над головой; нужен был достаточный запас продовольствия — у Жиллиата не осталось даже хлеба.
Тот, кто мог бы наблюдать за Жиллиатом в течение этой недели, когда он копошился среди утесов, не понял бы, что он собирается делать. Казалось, он забыл о Дюранде и о Дуврах. Целые дни он проводил на нижних камнях, заливаемых во время прибоя, спасая застрявшие вокруг утесов обломки. Он пользовался часами отлива для того, чтобы тщательно обыскать все щели и найти в них остатки кораблекрушения. Жиллиат собирал все куски парусины, обрывки веревок, обломки железа, доски, реи, балки, цепи.
В то же время он изучал каждую извилину рифа. Ни одна из них, к великому разочарованию Жиллиата, не была пригодна для жилья. Он мерз по ночам в своей дыре на вершине Большого Дувра и очень хотел бы найти что-то более подходящее для ночлега. Два места, правда, оказались довольно удобны; хотя естественная каменная мостовая была в них косой и неровной, все же тут можно было стоять и даже ходить. Эти извилины были открыты ветрам и дождю, но самый сильный прилив сюда не достигал. Они находились рядом с Малым Дувром, и с утеса туда можно было пройти в любое время. Жиллиат решил в одной из них устроить склад, в другой — кузницу. Используя все обрывки веревок, он связал обломки деревянных частей и клочья парусов в тюки. По мере того как прилив поднимался, Жиллиат перекатил по воде все эти тюки в свой склад.
Он трудился с поразительной выдержкой и терпением. Все ему удавалось. Ничто не может устоять перед настойчивостью муравья.
К концу недели Жиллиат в образцовом порядке уложил в своем складе все то, что разбросала буря, Дюранда была очищена от всего лишнего груза. Все, что можно, Жиллиат разобрал. На разбитом судне оставалась только машина.
Часть носовой перегородки, оставшаяся там в тот момент, когда нос рухнул в море, не обременяла чересчур зависший между скалами остов. Она не висела и не оттягивала Дюранду вниз, так как всей тяжестью упиралась в выступ утеса. Она была широка и объемиста, ее трудно было переправить на склад, и, кроме того, она заняла бы там слишком много места.
Этот кусок перегородки напоминал плот. Жиллиат оставил его на месте.
Погрузившись в такую работу, он не переставал искать куклу, украшавшую нос Дюранды, но поиски его не увенчались успехом. Волны поглотили ее навсегда. Для того чтобы отыскать куклу, Жиллиат охотно отдал бы обе руки, если бы они не были ему так нужны.
Снаружи, у входа в склад, лежали две кучи обломков; одна состояла из железных, годных для ковки, другая — из деревянных, подходящих для топлива.
Жиллиат принимался за работу на рассвете. За исключением тех часов, когда спал, он не отдыхал ни минуты. Морские птицы, кружась над ним, следили за его работой.
Кузница
Покончив со складом, Жиллиат принялся за устройство кузницы.
Вторая извилина рифа, найденная им, представляла собой нечто вроде довольно глубокой траншеи. Сначала он думал поселиться там, но беспрерывный сквозняк заставил его отказаться от этой мысли. Однако именно сквозняк натолкнул Жиллиата на идею устроить в этой траншее кузницу. Раз она не могла быть его жильем, он решил превратить ее в свою мастерскую. Взять на службу само препятствие — важный шаг на пути к победе. Ветер был врагом Жиллиата, а Жиллиат задумал сделать его своим слугой.
О некоторых людях говорят: способен на все, не годен ни на что — это можно сказать об углублениях в скалах. Они кажутся удобными, но толку от них никакого. Вот, например, впадина, которая, казалось бы, может служить прекрасным бассейном для воды: но вода из нее уходит через трещину; другая напоминает комнату, но в ней нет потолка; в третьей — чудесное ложе из мха, но там слишком сыро; в четвертой — стоит удобное кресло, но оно из камня.
Кузница, которую Жиллиат хотел оборудовать, была уже наполовину устроена природой. Но для того чтобы до конца довести дело, начатое ею, требовалось преодолеть много препятствий. Несколько камней представляли собой подобие горна, однако тяга в нем была слишком велика, а регулировать ее оказалось невозможно. Ураган не соразмерял своих сил с потребностями человека.
Кроме ветра, пещеру пронизывала и вода. Прилив не достигал сюда, но по дну извилины беспрерывно журчали ручейки. Брызги пены, постоянно долетающие до вершины утеса, с течением времени наполнили морской водой естественный бассейн, находящийся на вершине. Когда этот резервуар переполнялся, вода, смешиваясь с дождевой, стекала по склону утеса небольшим водопадом. Иногда проносящаяся туча переполняла и без того неистощимый резервуар. Вода в нем была хоть и чистая, но солоноватая и неприятная на вкус. Капли водопада красиво сверкали на стеблях водорослей, похожих на распущенные волосы.
Жиллиат надеялся применить эту стекающую воду для того, чтобы использовать порывы ветра. Сложив из досок подобие воронки и два желоба для стока, устроив под нижним концом желобов широкий бак, Жиллиат — а как мы уже говорили, он знал немного и кузнечное дело, и механику — ухитрился заменить кузнечные меха, которых у него не было, подобием поддувала.
Из ржаной муки он сделал клей. Кроме того, у него была пакля. С помощью клея, пакли и кусков дерева Жиллиат заделал все трещины в скале, не тронув лишь одно небольшое отверстие для притока воздуха, в которое вставил фитильную трубку от сигнальной пушки, найденную им на Дюранде. Эта трубка была направлена горизонтально на большую каменную плиту, где Жиллиат устроил очаг. В случае необходимости трубку можно было затыкать куском трута.
Покончив со всем, Жиллиат свалил на плиту уголь и щепки, с помощью кремня высек огонь из скалы, подпалил клочок пакли и поджег им сложенное на плите топливо. Затем испробовал свое поддувало. Оно действовало превосходно. Жиллиат ощутил гордость циклопа, властителя воздуха, воды и огня.
Он был властителем воздуха — заставил ветер дышать через сделанное им легкое, устроил в граните дыхательный орган и превратил порыв ветра в кузнечный мех; Жиллиат был властителем воды: из водопада он сделал водопровод; он был и властителем огня: в глубине затопленной скалы развел пламя.
Над кузницей виднелись широкие трещины, через которые дым, покрывая копотью камни, мог свободно уноситься к небу. Утесы, знакомые лишь с пеной, впервые увидели сажу.
Жиллиат выбрал для наковальни гладкий валун, подходивший по размерам и форме. Но этот камень был не особенно надежен — он мог треснуть.
Жиллиат жалел о том, что не привез с собой собственной наковальни. Он не ожидал, что буря разломила Дюранду надвое, и надеялся найти все необходимые инструменты в носовой части судна. Но именно она затонула.
Оба углубления, выбранные Жиллиатом, располагались поблизости друг от друга. Склад и кузница были рядом.
Каждый вечер, окончив работу, Жиллиат съедал несколько сухарей, размоченных в воде, пару моллюсков или морских орехов — единственное, что ему удавалось найти возле рифа, и, дрожа, от холода, взбирался по веревочной лестнице в свое логово на вершине Большого Дувра.
Книга II
Труд. Чем располагает человек, лишенный всего
Жиллиат немедленно пустил свою кузницу в ход. У него не хватало инструментов, и он принялся за их изготовление.
Топливом служили обломки, двигателем — вода, кузнечными мехами — ветер, наковальней — камень, уменьем — инстинкт, могуществом — воля.
Жиллиат ревностно взялся за тяжелый труд.
Погода благоприятствовала ему, дождей не было, несмотря на равноденствие, которое обычно сопровождается ими. Незаметно наступил март; дни стали длиннее. Небо было синим, море спокойным, солнце ярким. Ничто не предвещало бури. Водная гладь сверкала под лучами солнца. Но ласки часто предвещают измену. Нельзя верить спокойному морю, как нельзя доверять улыбке женщины.
Ветер был слаб; устроенное Жиллиатом поддувало работало прекрасно. Более сильный ветер принес бы скорее вред, чем пользу.
У Жиллиата была пила, он сделал себе напильник. Пила требовалась для дерева, напильник — для металла. Затем Жиллиат изготовил два предмета, для кузнеца равноценные рукам: щипцы и клещи. Они заменяют кулак и пальцы. Набор инструментов представляет собой целый организм. У Жиллиата появлялись союзники: он делал для себя оружие. Из куска листового железа смастерил навес над очагом.
Одной из главных забот Жиллиата была починка блоков. Он привел их в порядок, затем выровнял обломанные края бревен. Мы уже говорили, что он собрал среди обломков все уцелевшие рамы и решетки и разложил их по сортам материала, по форме и величине: дубовые — в одном месте, сосновые — в другом, там — выгнутые, здесь — прямые. Эти запасы могли оказаться необходимыми в качестве точки опоры для рычага.
Тому, кто хочет изготовить блок, требуются бревна и балки; но этого мало — нужны канаты. Жиллиат надергал нитей из кусков парусины, свил из них бечевку и с ее помощью скрепил концы канатов. Но эти узлы были ненадежны — они могли быстро перегнить. Хорошо бы их осмолить, однако Жиллиату пришлось лишь обмазать узлы клеем — дегтя у него не было.
Покончив с канатами, он принялся за цепи.
Ему удалось выковать на камне, заменявшем наковальню, грубые, но крепкие кольца. С помощью этих колец он соединил обрывки найденных цепей, получив необходимую длину.
Проделывать кузнечные работы одному, без помощника, очень трудно. Но все же он их закончил. Правда, ему пришлось ковать не особенно большие куски железа. Жиллиат мог придерживать их одной рукой с помощью щипцов, держа в другой молоток.
Он разрéзал на куски круглые железные полосы, оставшиеся от перил капитанского мостика, и выковал концы этих кусков, сделав с одной стороны острие, с другой — широкую плоскую головку. Получились огромные гвозди, длиною около фута. Такие гвозди, используемые при постройке мостов, могли быть применены и для того, чтобы вбивать их в расщелины скал.
Зачем он сделал все это? Скоро узнаете.
Ему приходилось несколько раз оттачивать свой топор и пилу. Для этого он изготовил отдельный точильный камень. Для подъема тяжестей ему пришлось воспользоваться шпилем Дюранды. Крюк на цепи сломался — Жиллиат выковал новый.
С помощью клещей, щипцов и долота он сделал попытку разобрать колеса парохода. Это ему удалось. Колеса были особые — разборные. Их защищали деревянные кожухи. Жиллиат разобрал кожухи на доски и соорудил из них два ящика. В эти ящики он сложил все части колес, предварительно их перенумеровав. Ему пригодился кусок мела, найденный на пароходе в том месте, где помещалась разрушенная каморка Тангруя.
Ящики он поместил на самом крепком месте палубы Дюранды.
Закончив предварительные работы, Жиллиат столкнулся лицом к лицу с самой большой трудностью. Перед ним встал вопрос о машине.
Колеса можно было разобрать. Но машина не разбиралась.
К тому же Жиллиат плохо знал ее устройство. Он мог мимовольно нанести механизму какой-нибудь непоправимый ущерб. Помимо этого, для того чтобы попытаться развинтить машину на части, даже если бы Жиллиат и решился на такую неосторожность, требовались совсем другие инструменты, какие он был не в состоянии сделать в своей кузнице-пещере, с ветром вместо поддувала и камнем вместо наковальни. Попытавшись разобрать машину, Жиллиат рисковал бы ее уничтожить.
Казалось, теперь он столкнулся с невозможным.
Как быть?
Как Шекспир может встретиться с Эсхилом
У Жиллиата был свой план.
С тех пор как простой каменщик из Сальбриса в XVI веке, когда наука стояла еще на низкой ступени развития, гораздо раньше, чем Амонтон[648] Лагир[649] и Куломб[650] открыли законы трения, один, без руководителей и советов, с помощью своего малолетнего сына, используя самые несложные инструменты, спустил на блоке огромные часы с колокольни Шарите-на-Луаре, разрешив таким образом пять или шесть проблем статики и динамики, перепутанных между собой; с тех пор как он, проделав этот сложный и необычайный опыт, сумел, не повредив ни единого винтика, не поломав ни одного колесика, спустить тяжелый, массивный остов курантов, «величиной с будку ночного сторожа», со второго этажа колокольни на первый, остов, сделанный из железа и меди, вместе с колесами, цилиндром, барабанами, циферблатом, маятником, цепями, гирями, из которых каждая весила около 16 пудов, колоколами и украшениями; с тех пор как человек, имя которого неизвестно, совершил это чудо, не происходило ничего подобного тому, что собирался сделать Жиллиат.
Жиллиат хотел проделать еще более трудную, другими словами, более блестящую операцию.
По хрупкости, сложности и весу машина Дюранды не уступала часам колокольни Шарите-на-Луаре.
У каменщика был помощник — его сын. У Жиллиата не было никого.
Вокруг колокольни толпились люди, пришедшие из окрестных селений, готовые в случае надобности броситься каменщику на помощь и поощрявшие его возгласами одобрения; вокруг Жиллиата гудел ветер, и окружали его толпы волн.
С робостью невежды может сравниться лишь его смелость. Когда невежда решается действовать, внутреннее чутье руководит им. Это чутье — интуитивное понимание истины, и в примитивном уме оно часто глубже, чем в уме просвещенном.
Незнание толкает человека на попытку. Незнание — это мечта, а любознательная мечта — сила. Знание часто обескураживает человека. Если бы Васко да Гама знал, что его ждет, он отступил бы перед мысом Бурь. Если бы Христофор Колумб знал космографию, он не открыл бы Америку. Ученый, взобравшийся на Монблан, был вторым, первым достиг вершины простой пастух.
Впрочем, все это исключения, которые не умаляют значительности науки. Невежда может случайно набрести на истину, но лишь ученый приходит к ней безошибочным путем.
Барка Жиллиата продолжала стоять на якоре в бухте у подножия утеса «Человек». Море там по-прежнему оставалось спокойным. Жиллиат, как мы говорили, позаботился о том, чтобы ему легко было сообщаться с лодкой. Спустившись в барку, он тщательно измерил ее в разных направлениях. Затем возвратился на Дюранду и так же дотошно обмерил основание машины. Теперь, после того как он разобрал колеса, оно было на 14 вершков ýже шпангоута барки. Следовательно, машина могла поместиться в лодке.
Но как перенести ее туда?
Шедевр Жиллиата приходит на помощь шедевру Летьерри
Если бы какой-нибудь рыбак, отважившийся на безумный поступок, осмелился в такое время года выехать на ловлю в этой местности, он был бы вознагражден за свою смелость невиданным зрелищем.
Он увидел бы четыре толстых бревна, перекинутые от одного Дувра к другому, крепко втиснутые в утесы. Со стороны Малого Дувра концы их упирались в выступы камней; концы, обращенные к Большому Дувру, были вколочены в склон утеса сильными ударами молота, причем тот, кто их забивал, должен был стоять, очевидно, на самих бревнах. Эти бревна были немного длиннее расстояния между утесами; поэтому они держались очень крепко и, кроме того, висели несколько наклонно. Они подходили к Большому Дувру под острым углом, а к Малому — под тупым. Наклон их, хотя и незначительный, разнился, что являлось недостатком. Но если бы не этот недостаток, они представляли бы собой прекрасный настил для моста. Бревна были снабжены двухколесными блоками с одной стороны и простыми блоками — с другой. Все это сооружение, по-видимому, Жиллиат подготовил для предполагаемой трудной работы. Бревна были крепки, блоки — надежны. С бревен свисали канаты, издали напоминая нитки, и остов Дюранды, находившийся под этим воздушным сооружением, казался висящим на них.
На самом деле она еще на них не повисла. Перпендикулярно, под бревнами на палубе Дюранды было восемь отверстий (четыре справа и четыре слева от машины) и еще восемь под машиной, в нижней части остова. Канаты, спускаясь вертикально с четырех блоков, расположенных у одного конца висячего помоста, были пропущены через отверстия в палубе, затем через отверстия в нижней части судна с правой стороны проходили под килем и под машиной, потом через отверстия слева и опять через палубу, после чего поднимались вверх и были надеты на блоки, прикрепленные к другим концам бревен. Здесь они все сходились в один узел, оканчивающийся канатом. Таким образом, всем сооружением можно было управлять одной рукой. Конец каната проходил в отверстие, снабженное крюком. Все это вместе представляло собой примитивный тормоз. Все четыре блока действовали одновременно, и при этом сохранялось полное равновесие. Хитрое сооружение напоминало некоторыми качествами и современный ворот Уэстона, и древний полиспаст Витрувия[651]. Жиллиат додумался до всего этого сам: он не мог знать ни Витрувия, который уже давно умер, ни Уэстона, которого тогда еще не было и в помине. Длина канатов различалась, и тем самым устранялось неудобство от неодинакового наклона бревен. Канатам не стоило доверять, они могли лопнуть. Цепи были бы надежнее, однако они плохо вращались на блоках.
Во всем сооружении было много недостатков, но, сделанное руками одного человека, оно поражало.
Мы вынуждены сильно сократить описание, опустить множество подробностей, которые были бы понятны мастерам этого дела, но лишь затуманили бы картину для всех остальных.
Верхушка дымовой трубы проходила между двумя бревнами, находившимися посредине.
Жиллиат, сам того не подозревая, через три века повторил сооруженный каменщиком из Сальбриса механизм первобытный и несовершенный, представляющий ряд опасностей для того, кто решился бы прибегнуть к его помощи.
Однако самые крупные недостатки не могут помешать механизму выполнить свое назначение. Кое-как машина работает. Обелиск на площади Святого Петра в Риме был воздвигнут вопреки всем законам статики. Карету царя Петра сделали так, что, казалось, она должна опрокидываться при каждом движении; однако, она держалась на колесах. А какой вид имела машина Марли[652]! Все в ней было вкривь и вкось, и все-таки она доставляла воду во дворец Людовика XIV.
Как бы там ни было, но Жиллиат верил в успех настолько, что отправился к своей барке и ввинтил в ее борта две пары железных колец на таких же расстояниях, на каких были расположены на Дюранде кольца, к которым прикреплялись четыре цепи от дымовой трубы. Очевидно, он обдумал сложный план. Обстоятельства, казалось, были против него. Он, насколько мог, решил принять все предосторожности. Жиллиат делал вещи, представлявшиеся совершенно излишними — знак величайшей предусмотрительности. Его поведение, как мы уже говорили, показалось бы загадочным всякому наблюдателю, даже знатоку.
Свидетель его работ, например, увидев, как он, рискуя сломать себе шею, вбил в расщелины у подножия утесов, у самого входа в пролив между ними, восемь или десять огромных, выкованных им гвоздей, — точно не понял бы, зачем они нужны, и с удивлением подумал бы о том, к чему Жиллиат расточает бесплодные усилия.
Потом Жиллиат измерил часть носовой перегородки, повисшей, как уже говорилось, на обломках судна, затем обмотал ее веревками, обрубил до сих пор поддерживавшие ее доски, вытащил из ущелья и, воспользовавшись отливом, расположил горизонтально у подножия утесов, привязав веревками к гвоздям, вбитым в расщелины Малого Дувра; здесь наблюдатель понял бы еще меньше и подумал бы, что, если Жиллиату требовалось освободить проход между утесами от этого обломка, достаточно было бросить носовую перегородку в море и предоставить волнам унести ее.
Но у Жиллиата, очевидно, были свои соображения.
Чтобы вбить гвозди в утесы, он воспользовался всеми щелями. Если щели были недостаточно широки, вбивал в них сначала деревянные клинья, а затем уже гвозди. Подобные приготовления Жиллиат проделал и на другом конце ущелья, с восточной стороны: используя деревянные клинья, он расширил отверстия в скалах, как бы подготавливая их к тому, чтобы в нужный момент забить железные гвозди. Он сделал это, по-видимому, на всякий случай, потому что гвоздей туда забивать не стал. Понятно, что Жиллиат был строго ограничен количеством материалов и пускал их в ход лишь в случае крайней необходимости. Это увеличивало трудности.
Как только Жиллиат заканчивал одну работу, надвигалась другая. Он без колебаний брался за всякое новое дело, смело совершая гигантские шаги.
За работой
Внешность человека, проделывавшего все это, была страшна.
Трудясь непосильно, Жиллиат быстро терял силы. А восстанавливались они с трудом. Он исхудал от лишений и усталости. Борода и волосы отросли. У него оставалась лишь одна рубашка, но и она уже превращалась в лохмотья. Ноги его были босы: один башмак унес прибой, второй — ветер. От каменной наковальни Жиллиата отлетали осколки, оставлявшие болезненные раны на руках. Это были скорее неглубокие царапины, но ветер и соленая морская вода растравляли их.
Жиллиат испытывал голод, жажду и страдал от холода.
Его жестянка для пресной воды опустела. Ржаная мука отчасти была съедена, отчасти ушла на клей. У него оставалось лишь немного сухарей. Он грыз их сухими, не имея воды для размачивания.
С каждым днем силы его угасали. Утес высасывал из него жизнь.
Напиться, поесть, выспаться — все превращалось в сложную задачу.
Жиллиат ел тогда, когда ему удавалось поймать краба или другое морское животное; пил, когда замечал, что птица бьется крыльями об утес: он взбирался к тому месту и находил в углублении несколько капель пресной воды. Он пил после птиц, иногда вместе с ними — чайки привыкли к нему и не улетали при его приближении. Даже в минуты самого острого голода Жиллиат не причинял им зла. Он, если читатель помнит, питал слабость к птицам. Пернатые, в свою очередь, не боялись Жиллиата, несмотря на его спутанные волосы и всклокоченную бороду. Изменившийся облик Жиллиата успокаивал их: они перестали считать его человеком и принимали за зверя.
Птицы и Жиллиат были теперь добрыми друзьями. Они помогали друг другу. Пока у него была мука, он бросал им кусочки лепешек, которые готовил, а они, в свою очередь, указывали ему местá, где находилась пресная вода.
Он ел моллюсков сырыми, а крабов жарил. У него не было никакой посуды, и он готовил их прямо на раскаленных камнях, как дикарь.
Равноденствие все же дало себя знать: пошел дождь. Не проливной, а мелкий, пронизывающий, ливший холодными, тонкими, острыми струйками. Жиллиат промок до костей. Этот дождь принес лишь сырость и не дал воды для питья. Он был скуп на помощь и расточителен на мученье — злобная выходка неба. В течение целой недели, днем и ночью, Жиллиат дрожал под дождем.
По ночам, забившись в свою дыру, забывался от усталости. Его кусали морские комары; он просыпался, покрытый волдырями.
У него был лихорадочный жар, и это его подбадривало; лихорадка — помощь в работе, которая убивает. Движимый инстинктом, он жевал лишайник и сосал тощие побеги дикой травы, пробивавшейся сквозь щели в утесах. Впрочем, он почти не обращал внимания на свои муки. У него не хватало времени на то, чтобы отвлечься от работы и заняться собой. Машина Дюранды чувствовала себя хорошо — ему этого было достаточно.
Во время работы Жиллиату приходилось поминутно бросаться в воду, затем вновь вылезать на камни. Он переходил с суши в море и обратно, как мы переходим из одной комнаты дома в другую.
Его одежда не высыхала. Она была пропитана и дождевой, и морской водой. Жиллиат жил в сырости. К этому можно привыкнуть. Ирландские бедняки, старики, женщины, молодые девушки всю зиму проводят под открытым небом, под снегом и дождем, прижавшись друг к другу на лондонских улицах; они живут и умирают в мокрой одежде.
Быть промокшим и испытывать жажду! Жиллиат страдал от этой муки. Случалось, он сосал влажный рукав своей куртки.
Огонь, который он разводил, не согревал его. Огонь под открытым небом приносит мало пользы: человек отогревается с одной стороны, но продолжает мерзнуть с другой.
Жиллиат был весь в поту и дрожал от холода.
При всем том, он не чувствовал усталости, вернее, не соглашался признать ее. А отказ души признать слабость тела — это огромная сила.
Жиллиат видел, что работа подвигается вперед, — остальное его не интересовало. Он не сознавал того, что находится в ужасном положении. Цель, к которой стремился, все время была перед ним. Он переносил страдания, но в мозгу его жила лишь одна мысль: «Вперед!». Подвиг кружил ему голову. Желание опьяняет. А опьянение души называется героизмом.
Жиллиат напоминал океанского Иова, но это был Иов-сражающийся, Иов-победитель и, если такое прозвание не слишком громко для бедного матроса, который занимается ловлей морских раков и крабов, — Иов-Прометей.
Жиллиат подводит барку
Спасение машины, затеянное Жиллиатом, было, как мы уже говорили, настоящим побегом, а терпение людей, задумавших побег, известно. Известна также их изобретательность. Изобретательность доходит до чуда, терпение — до агонии. Некоторые узники, как, например, Томас в Мон-Сен-Мишеле, ухитрились спрятать половину стены в тюфяке. В Тюлле в 1820 году одному заключенному во время прогулки удалось срезать где-то кусок свинца (неизвестно, каким ножом), растопить этот свинец (непонятно, на каком огне), вылить этот свинец в форму, слепленную из хлебного мякиша, сделать ключ и отпереть им замок, устройства которого он не знал, а видел лишь его скважину. Жиллиат не уступал в изобретательности таким беглецам. А за ним наблюдал беспощадный тюремщик — море.
Дождь был мучителен и неприятен, однако Жиллиату удалось извлечь из него пользу. Он пополнил свои запасы пресной воды; впрочем, жажда его была настолько велика, что, стоило жестянке наполниться, он опорожнял ее.
Наконец, в один прекрасный день, тридцатого апреля или первого мая, все было готово.
Основание машины покоилось на восьми канатах — четыре с одной стороны, четыре — с другой. Шестнадцать отверстий, через которые он пропустил канаты, были соединены, как на палубе, так и в нижней части остова, прорезами, сделанными пилой. Деревянную обшивку Жиллиат распилил пилой, бревна обрубил топором, железные детали опилил напильником, медные обработал долотом. Ту часть днища, на которой покоилась машина, Жиллиат вырубил квадратом, чтобы спустить ее вместе с механизмом как опору. Все это огромное ложе держалось лишь на одной цепи, которая легко должна была поддаться напильнику. Приготовления закончены. Теперь нужно поспешить.
Момент был удобный — начался отлив.
Жиллиату удалось вытащить ось колес, торчащие концы которой могли стать препятствием при спуске. Он ухитрился поместить этот тяжелый предмет вертикально возле самой машины.
Пора было заканчивать. Мы говорили уже, что Жиллиат не был утомлен, потому что не допускал этого. Но все его оборудование выбилось из сил. Кузница отказывалась служить. Каменная наковальня треснула, поддувало работало уже плохо. Проток, устроенный им для воды, засорился осадком соли, и это затрудняло выход воды.
Жиллиат пробрался в бухту, расположенную под утесом «Человек», произвел осмотр барки, убедился, что все в порядке, осмотрел четыре кольца, ввинченные в борта справа и слева, поднял якорь, сел на весла и повел лодку к Дуврам.
В проливе между обоими скалами можно было поместить ее. Ширина и глубина для этого здесь достаточны. Жиллиат с первого дня установил, что барку удастся подвести под остов Дюранды.
Однако это было не так легко; требовалось рассчитать направление с ювелирной точностью. Дело осложнялось еще тем, что Жиллиату для его целей необходимо было ввести барку в пролив кормовой частью, рулем вперед. А мачту и такелаж оставить за линией остова Дюранды, у входа в пролив.
Все это делало задачу трудной даже для Жиллиата. Здесь нельзя было, как при входе в бухту утеса «Человек», ограничиться одним поворотом руля. Приходилось одновременно толкать, тащить, грести и измерять глубину. Прошло четверть часа, прежде чем Жиллиату это удалось.
Через пятнадцать или двадцать минут барка была установлена под остовом Дюранды. Жиллиат бросил оба якоря, и она стала неподвижно. Более крепкий якорь он выкинул с той стороны, с которой мог подняться сильный ветер, — западной. С помощью шпиля Жиллиат спустил в лодку ящики с разобранными колесами. Эти ящики составили балласт барки.
Покончив с ними, Жиллиат привязал к крюку кабестанной цепи регуляторы, которые должны были служить тормозами. Теперь недостатки его барки превращались в достоинства. Она была беспалубная, и поэтому груз можно было поместить на дне, в самой глубине судна; мачта в барке находилась спереди, слишком близко к носу, — для груза оставалось достаточно места. К тому же мачта не могла зацепиться за обломки Дюранды и помешать выходу лодки из пролива. Барка имела форму деревянного башмака, что придавало ей особенную устойчивость.
Внезапно Жиллиат заметил — начался прилив. Он стал изучать, с какой стороны дует ветер.
Опасность
Ветер был невелик, но дул он с запада. Во время равноденствия западный ветер коварен.
Возле Дуврских скал прилив бывает разным, в зависимости от ветра. Волны устремляются в пролив то с восточной, то с западной стороны. Прилив с востока спокоен; с запада он приходит бушуя. Случается это потому, что восточный ветер дует с материка, а западный достигает утесов, пронесшись над Атлантическим океаном. Даже самый слабый ветерок, прилетевший с западной стороны, несет морякам беспокойство. Он катит перед собой огромные валы и обрушивает в узкий проход чрезмерное количество воды.
Вода, устремляющаяся в одно место неравномерной массой, всегда опасна. Вода похожа на толпу: когда количество, желающее войти куда-нибудь, превышает то, которое может поместиться, в толпе происходит давка, а вода в подобный момент начинает бурлить. При западном ветре, хотя бы самом слабом, возле Дуврских скал два раза в день волнуется море. Прилив растет, волны набегают одна на другую, утес сопротивляется, пролив узкий, и валы с ревом начинают биться о стенки утесов. Поэтому при западном ветре Дуврские скалы представляют собой исключительное зрелище: море спокойно, а вокруг утесов ревет буря. Это не имеет ничего общего с настоящим штормом — это лишь игра волн, однако она ужасна. Северный и южный ветры дуют сбоку и почти не вызывают волнения в проливе. Необходимо напомнить, что восточный вход в пролив обращен к утесу «Человек»; западный же выходит в открытое море.
Жиллиат, барка и остов Дюранды находились как раз со стороны страшного западного входа.
Катастрофа казалась неизбежной. Для того чтобы она произошла, достаточно самого слабого западного ветра, а он был налицо.
Через несколько часов прибой должен со всей силой обрушиться в узкий проход между утесами. Первые волны уже начинали бурлить. Это был лишь авангард — за его спиной расстилался океан. Море казалось спокойным и не предвещало ничего ужасного. Но инерция его настолько велика, что волна, оттолкнувшаяся от берегов Америки, прокатившись две тысячи миль, ударяется о берег Европы. Натыкаясь в пути на риф, утесы, отбрасываемая камнями, гонимая ветром в узкий проход, взбешенная препятствием, волна неистово обрушивается и сметает все на своем пути. Казалось неизбежным, что, встретив обломки Дюранды и барку, волны разобьют их в щепы.
Против напора морских валов требуется защита. У Жиллиата она была.
Нужно помешать прибою обрушиться сразу со всей силой, сдержать его, однако в то же время не помешать уровню воды подниматься, загородить ему вход, но не наглухо, предупредить стремительный натиск волн, представлявший собой большую опасность, заменить бурный прибой постепенным приливом, укротить бешенство валов, заменить их злость кротостью. Следует вместо препятствия, которое их раздражало, предоставить такое, что смягчало бы их гнев.
С ловкостью, которая бывает могущественней силы, Жиллиат проделал маневр, достойный серны в горах или обезьяны в лесу. Перепрыгивая с камня на камень, ныряя в воду и выплывая на поверхность, с веревкой в зубах и молотком в руке он отвязал носовую перегородку Дюранды, привязанную им к подножию Малого Дувра, сделал петли и с помощью них прикрепил перегородку к большим гвоздям, вбитым в расщелины утеса. Затем повернул перегородку как ставень. Волна подхватила ее, и она, как бы сделав поворот руля, прислонилась другой стороной к Большому Дувру. Жиллиат крепко прибил перегородку большими гвоздями, используя заранее приготовленные отверстия, скрепил эту запруду для крепости цепью, и меньше чем через час прибою была поставлена преграда, а вход в ущелье между утесами оказался закрытым, словно дверью.
Это крепкое сооружение, тяжелая загородка из бревен и досок, в горизонтальном положении представлявшая собой плот, а в вертикальном — стену, была воздвигнута Жиллиатом волевым усилием, с ловкостью канатного плясуна. Все это он проделал, можно сказать, под самым носом у моря, прежде чем оно успело что-либо заметить.
Это был случай, подобный тому, когда Жан Барт[653], избежав кораблекрушения, обратился к морю, сказав знаменитую фразу: «Попался, англичанин!» Известно, что Жан Барт, желая оскорбить море, называл его «англичанином».
Загородив проход, Жиллиат занялся баркой. Он размотал якорные веревки для того, чтобы лодка могла подниматься вместе с приливом. Все происходящее не захватило Жиллиата врасплох: он это предвидел. Человек, знакомый с морем, догадался бы о том, увидев, что он заранее прикрепил к корме барки два блока, через которые продел веревки, соединенные с кольцами обоих якорей.
Прибой усиливался; прилив поднялся уже наполовину. Приближался момент, когда удары волн должны были стать разрушительными. Проделка Жиллиата удалась. Волны с силой налетали на перегородку, ударялись об нее, откатывались и проходили под ней. По ту сторону заграждения был прибой, но здесь — спокойный прилив. Море удалось победить.
Скорее неожиданность, чем развязка
Наступил решающий момент.
Предстояло спустить машину в барку.
Жиллиат простоял несколько минут в раздумье, поддерживая правой рукой левый локоть и положив левую руку на лоб.
Затем он взобрался на остов Дюранды, одна часть которого — машина — должна была отделиться, а другая — обломки корпуса — остаться в воздухе.
Жиллиат перерезал стропы, которыми крепились к бортам цепи от дымоходной трубы. Стропы были веревочные, и он смог проделать это с помощью ножа.
Освобожденные цепи повисли вдоль трубы.
С обломков парохода Жиллиат перебрался на свое сооружение из бревен, постучал ногой по балкам, осмотрел блоки, подергал канаты, убедился, что они не особенно промокли и все в порядке, ничто не забыто, затем опять соскочил на палубу и стал возле шкиля, на той части остова, который должен был остаться в воздухе. Тут и был боевой пост Жиллиата.
Бодрый, взволнованный, но решительный, он еще раз окинул взглядом все сооружение, затем, схватив напильник, стал перепиливать цепь, на которой держалась машина. Скрежет напильника слился с шумом прибоя. Цепь шкиля, тянувшаяся к талям, была как раз под рукой Жиллиата.
Внезапно раздался треск. Наполовину перепиленная цепь порвалась. Все дрогнуло. Жиллиат еле успел подскочить к рычагу.
Перепиленная цепь стала биться об утес. Все восемь канатов натянулись, подпиленный помост, на котором стояла машина, отделился от судна, чрево Дюранды раскрылось, и под килевой частью обломков показалась машина, висящая на канатах.
Если бы Жиллиат не успел вовремя ухватиться за рукоятку блока, все погибло бы. Но рука его не дрогнула; машина стала медленно спускаться вниз.
Когда брат Жана Барта, Питер Барт, силач и пьяница, бедный рыбак, обращавшийся на «ты» к великому адмиралу Франции, спас от гибели галеру «Ланжерон», когда он для того, чтобы извлечь из бушующих волн эту тяжелую массу, связал огромный скатанный парус морскими водорослями, рассчитав, что они, разрываясь постепенно, дадут ветру возможность надуть парус, его расчет был так же верен, как расчет Жиллиата, полагавшегося на постепенный разрыв цепей, и так же увенчался успехом.
Блок, схваченный Жиллиатом, работал превосходно. Жиллиат, держась за рукоятку шкиля, имел в руках пульс всего механизма.
Выдумка Жиллиата оказалась блестящей. Получилось необычайное соединение всех сил. В то время как машина, отделившись от остова судна, опускалась к барке, лодка, движимая приливом, поднималась навстречу машине. Обломки крушения и спасительное судно, как бы помогая один другому, сближались с каждым мгновеньем, избавляя друг друга от половины работы.
Укрощенный прилив, поднимаясь в проходе между утесами, нес барку навстречу Дюранде. Море было не просто побеждено, оно оказалось порабощенным. Оно составляло часть механизма.
Волны поднимали барку без толчков, мягко, осторожно, как если бы она была сделана из фарфора.
Жиллиат соразмерял работу моря с работой своего механизма. Застыв у шкиля словно статуя, он не упускал из виду все неожиданности, заставляя темп спуска машины соответствовать темпу подъема воды.
Вода поднималась равномерно, без толчков; так же равномерно действовали блоки. Это было дружное сотрудничество всех сил природы. С одной стороны действовали законы тяготения, с другой — прилив. Казалось, чтобы помочь Жиллиату, объединились закон притяжения небесных светил — причина прилива, тянувшего к себе барку, и закон притяжения земного шара, притягивающего машину. Они действовали без колебаний, без остановки и, подчинившись Жиллиату, стали его активными союзниками. Машина и барка с каждой минутой приближались друг к другу. Расстояние между ними незаметно таяло. Приближение свершалось в тишине. Похоже было на то, что присутствие человека наводит ужас на неодушевленные предметы. Стихии был отдан приказ, и она его выполняла.
Почти одновременно прилив перестал подниматься, а канаты разматываться. Блоки бесшумно остановились. Машина, как бы направленная чьей-то рукой, очутилась в барке. Она стояла на дне лодки прямо, неподвижно, грузно. Ее железная подставка всеми четырьмя углами упиралась в дно.
Дело было сделано.
Жиллиат смотрел, потрясенный. Бедняга не был избалован счастьем. Ощущение неслыханной радости переполнило его. Ноги подкосились; цель была достигнута, и теперь он, не дрожавший перед опасностями, впервые ощутил дрожь.
Он глядел на барку, стоящую под обломками, и на машину в ней. Жиллиат не верил своим глазам. Можно было подумать, он сам не может понять, как ему удалось совершить все это. Собственноручно он создал чудо и теперь изумленно созерцал его.
Но оцепенение продолжалось недолго.
Жиллиат очнулся, схватил пилу и перепилил канаты. Прилив был настолько высок, что от барки его отделяло расстояние в каких-нибудь десять футов. Он спрыгнул в лодку, взял кусок пакли, свил четыре бечевки, продел их в кольца, ввинченные в борта, и привязал к бортам барки четыре цепи, отходящие от дымовой трубы, еще час назад привязанные к бортам Дюранды.
Покончив с этим, Жиллиат занялся верхней частью машины. Квадратный кусок палубы, непосредственно примыкавший к машине, был спущен в барку вместе с ней. Жиллиат, обрубив его, выбросил доски и обломки за борт. Требовалось облегчить барку от всего лишнего.
Впрочем, лодка, как это можно было предвидеть, прекрасно выдержала тяжесть машины. Она погрузилась в воду не особенно глубоко. Машина Дюранды, хотя и была тяжела, все же оказалась легче камней и пушки, привезенных когда-то Жиллиатом с острова Герм.
Все было окончено. Оставалось только отправиться в путь.
Вслед за успехом — неудача
Однако это был не конец.
Дело, казалось, ясное: нужно открыть вход в пролив, загороженный висячим плотом, и вывести барку в открытое море. Каждая минута дорога. Ветер был слабым, море — спокойным: тихий вечер предвещал прекрасную ночь. Приближался отлив: момент — самый удобный. Можно было покинуть Дуврские скалы во время отлива и подойти к Гернзею в часы прилива. А к рассвету лодка доплывет до Сен-Сампсона.
Но на пути возникло неожиданное препятствие. В предусмотрительности Жиллиата оказалась прореха.
Машина была свободна, однако труба оказалась в плену.
Прилив, приблизивший барку к висящим в воздухе обломкам, уменьшил опасность спуска и облегчил спасение машины; но, благодаря тому, что расстояние уменьшилось, верхушка трубы застряла в квадратном отверстии, прорубленном в кузове Дюранды. Труба оказалась в клетке.
Услуга, оказанная морем, бесследно исчезла. Казалось, море, безропотно подчинившееся человеку, затаило злобную мысль.
Правда, беда, причиненная приливом, была поправима: ее должен исправить отлив.
Труба, имевшая три сажени в вышину, входила в остов Дюранды на восемь футов. Уровень воды при полном отливе понизится на двенадцать футов; таким образом, во время отлива между верхушкой трубы и Дюрандой образуется расстояние в четыре фута, вполне достаточное для того, чтобы беспрепятственно пройти.
Но сколько времени уйдет на освобождение? Шесть часов.
Через шесть часов будет почти полночь. Как можно решиться в такой час начать плавание по этим опасным местам, как пройти среди рифов, которые столь коварны даже днем, как рискнуть в глубокой тьме лавировать среди подводных ловушек, таящихся на каждом шагу?
Поневоле приходилось ожидать до утра. Потеря шести часов влекла за собой потерю еще двенадцати. Нечего было и думать о том, чтобы открыть вход в пролив. Загородка была необходима на время следующего прилива.
Жиллиат был вынужден отдыхать.
За все время, проведенное им на Дуврских скалах, ему ни разу не доводилось сидеть сложа руки.
Этот вынужденный отдых огорчал и раздражал Жиллиата, и ему казалось, что он кругом виноват. Жиллиат думал: «Что сказала бы обо мне Дерюшетта, если бы видела, как я сижу и бездельничаю?»
Впрочем, ему было вовсе не вредно пополнить силы.
Барка теперь в его распоряжении, и он решил провести в ней ночь. Жиллиат взобрался на Большой Дувр, чтобы взять свою овчину, спустился, поужинал несколькими раковинами и морскими орехами, выпил последнюю каплю пресной воды из жестянки, завернулся в овчину, лег, как сторожевая собака, подле машины, надвинул капюшон на глаза и заснул.
Он спал крепко. Так спят люди, завершившие трудное дело.
Предостережения моря
Посреди ночи он внезапно проснулся и открыл глаза.
Дуврские скалы над его головой были ярко освещены. На черных каменных массивах лежали отблески какого-то огня.
Откуда шел этот свет? От воды.
Море выглядело необычайно. Казалось, вся его поверхность охвачена пожаром. Повсюду, куда только хватало глаз, волны пылали. То не было красное пламя, оно нисколько не походило на живое полыхание, вырывающееся из горнов или кратеров вулканов. Ни жáра, ни треска, ни пурпурового цвета; синеватые полосы на волнах напоминали складки савана; бледный, мертвенный свет дрожал на поверхности воды: это был не пожар, а лишь призрак пожара.
Блуждающий огонь, свет, озаряющий по ночам гробницы, пламя, являющееся во сне. Как будто воспламенившаяся тьма. Ночь, беспредельная, мутная ночь, походила на топливо для этого холодного огня. То был странный свет, сотканный из темноты. Тень казалась неотъемлемой частью призрачного пламени.
Ламаншские моряки хорошо знают эти фосфорические явления, таящие опасности для мореплавателя.
При таком свете предметы утрачивают свои реальные очертания. Игра света делает их прозрачными. Утесы начинают казаться лишь контурами, канаты от якорей похожи на железные полосы, раскаленные добела. Рыбачьи сети словно сплетены из огненных нитей. Половина весла как будто сделана из черного дерева, другая, находящаяся под водой, — из серебра. Капли воды, падающие с весел, освещают морскую поверхность звездами. Плывущая лодка оставляет на поверхности моря огненный след наподобие кометы. Промокшие матросы кажутся таинственными светящимися существами. Погрузив руку в воду, вы извлекаете ее, покрытую жидким пламенем; но огонь этот мертв и не жжет. Рука превращается в горящую головешку. Все предметы, погруженные в море, горят. Пена мечет искры. Рыбы становятся огненными языками и молниями, извивающимися в бледной глубине.
Этот странный свет проник сквозь смеженные ресницы Жиллиата и разбудил его.
Он проснулся как раз вовремя.
Отлив закончился, и начинался новый прилив. Труба, высвободившаяся во время сна Жиллиата, вскоре опять должна была попасть в капкан, висящий над ней.
Она медленно поднималась. Между трубой и остовом парохода оставалось не больше фута.
Уровень воды увеличивается на один фут приблизительно за полчаса. Жиллиат, желавший воспользоваться тем, что труба освободилась, имел в распоряжении 30 минут.
Он вскочил. Хотя и очень торопился, все же не мог не остановиться на несколько мгновений, любуясь фосфорическим блеском воды.
Жиллиат прекрасно знал море. Несмотря на то что оно было коварно и часто обходилось с ним жестоко, море все же являлось его другом. Жиллиат умел угадывать все тайные мысли загадочного великана. Погруженный в одиночество, задумчивый и наблюдательный, он научился предсказывать погоду.
Отвязав канат, Жиллиат освободил барку. Он ухватился за багор и, отталкиваясь от утесов, отвел ее от остова Дюранды к самому выходу из пролива. Не прошло и десяти минут, как лодка находилась вне поля внешнего корпуса парохода. Теперь можно не опасаться, что труба окажется вновь заключенной в ловушку. Прилив был уже не страшен.
Однако Жиллиат, очевидно, пока не собирался в путь.
Он еще несколько минут рассматривал светящееся море, затем поднял якоря. Но не сложил их в барку, а вновь поставил прочно, правда, ближе к выходу из пролива.
До сих пор Жиллиат обходился своими двумя якорями и не прибегал к помощи маленького якоря Дюранды, найденного им среди обломков. Но на всякий случай он положил его на дно барки вместе с приготовленными канатом и блоком, причем на канате сделал ряд узлов. Теперь Жиллиат бросил и этот третий якорь, прикрепив его добавочным канатом, один конец которого продел через якорное кольцо, а другой — крепко привязал к носу лодки. Таким образом, якоря были теперь расположены в виде гусиной лапы и держали барку гораздо крепче. Это указывало на то, что предусмотрительность Жиллиата удвоилась. Моряк усмотрел бы в таких приготовлениях опасение перед надвигающимся ветром, что может застать судно врасплох.
Свечение моря, за которым Жиллиат постоянно наблюдал, беспокоило его, но в то же время приносило ему пользу. Не будь этого света, он продолжал бы спать и оказался бы пленником опасной ночи. Фосфорический блеск разбудил его и теперь помогал ему в работе.
Свет беспокоил Жиллиата, однако он указал ему на опасность и освещал все кругом. Благодаря ему лодка, на которой находилась машина, освободилась, и Жиллиат мог в любую минуту поднять на ней паруса.
Но, казалось, он все меньше и меньше думал об отъезде. Покончив с баркой, отправился в свой склад, разыскал там крепкую цепь, привязал ее к гвоздям, вбитым в Дуврские скалы, и прикрепил этой цепью загородку из балок и досок, уже и так укрепленную прежде толстой цепью. Он не только не собирался открыть выход, но, наоборот, закрывал его покрепче.
Море продолжало светиться, однако блеск понемногу ослабевал. Начинался рассвет.
Вдруг Жиллиат насторожился.
Имеющий уши да услышит
Ему показалось, что издалека доносится какой-то слабый, неясный звук.
Морская пучина порой глухо ворчит. Он прислушался. Шум повторился. Жиллиат с сомнением покачал головой: очевидно, он знал, что означают эти звуки.
Через несколько минут Жиллиат был уже между скалами, на другом конце пролива, открытом до сих пор, и вбивал в склоны, находящиеся напротив утеса «Человек», такие же большие гвозди, какие он вбил раньше в гранит с противоположной стороны пролива.
Расщелины были заранее подготовлены, в них торчали деревянные клинья, преимущественно дубовые. Здесь было очень много трещин в камнях, и Жиллиату удалось вбить гораздо больше гвоздей, чем по ту сторону ущелья.
Внезапно свечение моря совершенно прекратилось; его как бы сдул ветер. Оно сменилось сумерками, которые рассеивались с каждой минутой.
Покончив с гвоздями, Жиллиат принялся таскать бревна, канаты, цепи и, ни на минуту не покладая рук, не отрываясь от работы, начал сооружать решетчатую запруду со стороны утеса «Человек» с помощью бревен, связанных веревками и положенных горизонтально. Такие запруды теперь уже признаны наукой и носят название волнорезов.
В это время взошло яркое солнце. Небо было чистым, море гладким.
Жиллиат работал торопливо. Он казался совершенно спокойным, но в его поспешности сквозила тревога.
Перепрыгивая с камня на камень, Жиллиат передвигался от запруды к своему складу и от склада — к запруде. Он возвращался, таща каждый раз то бревно, то доску. Запасы, сделанные на всякий случай, пригодились. Жиллиат предвидел возникшую случайность.
Толстая полоса из железа служила ему рычагом для поднимания бревен.
Работа шла быстро. Сооружение не воздвигалось, а вырастало. Тот, кто никогда не видел, как строятся понтонные мосты, не имеет понятия о подобной быстроте.
Восточный вход в пролив ýже, чем западный. В нем всего пять или шесть футов в ширину. Это облегчало работу Жиллиата. Нужно было загородить узкий вход; поэтому запруда могла быть несложной и в то же время крепкой. Горизонтальных бревен хватало; незачем было ставить их накрест.
Укрепив нижние перекладины, Жиллиат забрался на них и прислушался.
Шум становился сильнее.
Жиллиат продолжал постройку. Он подпер сооружение кран-балками Дюранды, привязал их канатами, пропущенными через блоки, и связал все это цепями.
Сооружение представляло собой огромный плетень, в котором вместо кольев были бревна, а вместо прутьев — цепи. Жиллиат не построил все, а сплел.
Он укрепил канаты и добавил гвоздей в местах, казавшихся ему ненадежными. Среди обломков было много железа, и он смог изготовить большой запас гвоздей.
Не прекращая работы, он грыз сухарь. Жиллиата мучила жажда, но у него не осталось ни капли пресной воды. Накануне за ужином он осушил свою жестянку до дна.
Приколотив еще несколько досок, Жиллиат взобрался на запруду и снова прислушался.
Шум вдали прекратился. Кругом царила тишина.
Море было спокойным и кротким; в этот момент оно оправдывало все те ласковые прозвища, которыми любят награждать его люди, когда они им довольны: «зеркало», «озеро», «масляное», «ласковое», «барашек». Глубина синего неба гармонировала с зеленой глубью моря. Огромные сапфир и изумруд любовались друг другом. Они были безукоризненно чисты: ни единого облачка наверху, ни одного клочка пены внизу. Над всем этим великолепием сверкало апрельское солнце. Погода стояла восхитительная.
Далеко на горизонте виднелась черная вереница птиц. Они быстро летели по направлению к земле. Их полет казался бегством.
Жиллиат снова принялся достраивать волнорез.
Он постарался сделать его как можно выше, насколько позволяли изогнутые склоны утесов.
Около полудня ему показалось, что солнце греет сильнее, чем следовало бы. Полдень — переломная точка дня; стоя на верхнем бревне своего нового сооружения, Жиллиат начал вглядываться в даль.
Море было чрезмерно спокойным: оно казалось застывшим. Нигде не видно ни единого паруса. Небо все еще ясное, но теперь оно уже не синее, а белое. Эта белизна казалась странной. С западной стороны на горизонте появилось пятно. Оно не двигалось с места, но быстро росло. Волны мягко набегали на риф.
Жиллиат вовремя построил запруду.
Надвигалась буря.
Бездна решилась вступить в открытый бой.
Книга III
Борьба. Крайность сходится с крайностью, противоположность с противоположностью
Бури в конце равноденствия ужасны.
Есть на море страшная сила — бушующие ветры.
Во все времена года в дни новолуний и полнолуний внезапно, когда этого ожидаешь меньше всего, океаном овладевает странное спокойствие. Вечное движение затихает; море дремлет; оно становится гладким, как будто собираясь отдохнуть; оно кажется усталым. Морские флаги, от тряпиц, водруженных на рыбачьих лодках, до военных вымпелов, бессильно повисают вдоль мачт. Адмиральские, королевские и имперские знамена засыпают.
И вдруг они начинают слегка шевелиться. Если в такие минуты на небе есть облака, следует особенно внимательно вглядываться в них: если солнце садится, нужно обращать внимание на цвет заката; если это происходит в лунную ночь, то необходимо всмотреться в сияние луны.
В такие минуты капитан судна, в распоряжении которого имеется водяной барометр, внимательно изучает жидкость в трубке и, если видит осадок, напоминающий сахар, принимает предосторожности против южного ветра, а если жидкость наполняется кристаллами, похожими на листья папоротника или иглы сосны, — против северного. Бедный невежественный ирландский или бретонский рыбак спешит вытащить свою лодку на берег.
А между тем море и небо продолжают оставаться спокойными. Наступает сияющее утро, заря улыбается. Древние прорицатели испытали бы священный трепет, встретившись с подобным коварством. «Кто осмелится назвать солнце лживым!»
Неведомая мгла скрывает от человека то, что должно произойти. Маска, в которую рядится бездна, страшна. Есть выражение: змея притаилась под камнем. О подобных минутах на море нужно было бы говорить: буря притаилась под спокойствием.
Так может пройти несколько часов, даже несколько дней. Моряки не отрывают подзорных труб от глаз. На суровых лицах старых морских волков написаны гнев и ожидание.
Внезапно раздается глухой шум. Кажется, в воздухе рокочут какие-то голоса.
Не видно ничего. Кругом все продолжает дремать.
Шум нарастает, близится, ширится. Беседа переходит в спор.
За горизонтом таится кто-то страшный. Это ветер.
Это полчище титанов, которых мы называем ветрами.
Страшное исчадие тьмы.
Невидимые хищные птицы бездны. Они быстро несутся вперед.
Ветры водной пустыни
Откуда они несутся? Из неведомого. Для них нужен невероятный размах. Их огромные крылья могут развернуться над бесконечной пустыней. Им нужны громадные синие пространства Атлантического и Тихого океанов. Они покрывают их тенью. Они носятся стаями.
Капитан Педж однажды видел в открытом море семь смерчей одновременно. Свирепо летают они над водной поверхностью, предвещая несчастья. Они неутомимо вздымают, бросают и пенят волны. Их силы неизмеримы, их намерения загадочны. Они носятся над черной взволнованной бездной, и каждый, почувствовавший их приближение, сознает, что столкнулся с непреодолимой силой. Кажется, человеческая хитрость тревожит их, и они ополчаются против нее.
Ум человека непобедим, но стихия неприступна. Можно ли бороться с ней? Ветры налетают дружной стеной, а спасаются врассыпную. Плохо тому, кто встретится с ними. Их приемы неожиданны и разнообразны. Они умеют нападать и отступать, они неуловимы. Как справиться с ними? Нос корабля «Арго» был вырезан из священного Додонского дуба[654] — они издевались над ним. Христофор Колумб, видя приближение ветров, обращался к ним с первыми стихами Евангелия от Иоанна, Сюркуф[655] оскорблял их, Нэпир[656] стрелял по ним из пушек. Но они оставались властителями хаоса.
Они делают хаос неумолимым. Рев ветров ужаснее львиного рева. Сколько трупов похоронено в бездне! Ветры безжалостно вздымают водные громады. Их вой слышен постоянно, они же не внемлют ничему. Они совершают преступления. Они вздымают белую пену и мечут ее, но неизвестно, против кого направлен их гнев. Сколько свирепой жестокости в кораблекрушениях! Какой смелый вызов провидению! Иногда кажется, будто ветры задумали свергнуть бога. Ветры — тираны неизведанных пространств.
Пространство находится в их власти. То, что происходит в морских просторах, не поддается описанию. Воздух шумит, словно лес, в нем слышится конский топот, хотя ничего не видно. В полдень внезапно вокруг сгущается глубокая ночь — налетел вихрь. В полночь неожиданно вспыхивает яркий день — зажглось северное сияние. Вихри бешено пляшут в воздухе. Тяжелая туча рвется посредине, и клочки ее падают в море. Пурпурные облака вспыхивают ярким светом, слышится рокот, а затем тучи темнеют: облако, опустошенное промелькнувшей молнией, похоже на погасший уголь. Тучи, готовые пролиться дождем, расползаются в тумане; тут — горн, из которого струится дождь, там — волна, изрыгающая пламя. Море вспыхивает вдалеке белым светом; столбы пара принимают причудливые формы. Странные линии прорезывают тучи, пары крутятся колонной, волны пляшут, как опьяненные наяды; насколько хватает глаз, видно огромное разрыхленное море, которое беспрерывно движется, но не сдвигается с места. Все покрыто мертвенной бледностью, и крики отчаяния носятся над бездной.
В глубинах тьмы дрожат снопы теней. Иногда судороги охватывают все вокруг. Гул становится ревом, волны превращаются в валы. Заглушенный рокот несется с горизонта, небосклон прорезывают странные линии, доносятся звуки, похожие на чихание гидр. В воздухе веет то теплом, то холодом. Море трепещет, как бы ожидая чего-то ужасного. Беспокойство. Тоска. Вóды объяты ужасом. Внезапно налетает ураган, похожий на зверя, собирающегося выпить весь океан. Поверхность его вспухает, вздымается, тянется к невидимым устам. Это смерч. Вверху образуется сталактит, внизу — сталагмит, два конуса, соприкасающиеся вершинами, сохраняют равновесие. Это похоже на поцелуй двух гор: гора из пены вздымается кверху, опрокинутая гора облаков спускается вниз — страшное объятие волн и тьмы. Смерч, подобно ужасному библейскому столбу, темен днем и пылает ночью. Гром умолкает в страхе при виде торнадо.
Морская буря имеет свою гамму, страшное «crescendo»: туча, шквал, вихрь, гроза, буря, шторм, смерч — семь струн лиры океана, семь нот бездны. Небо — гладкая равнина, море — выпуклость. Но вот налетела буря, и все сливается в общем хаосе.
Таковы опасности моря.
Ветры мчатся, летят, машут крыльями, утихают, поднимаются снова, ревут, свистят, хохочут, неистово роют разъяренную волну. Великая гармония слышится в этом реве. Он охватывает все небо. Ветры ударяют в тучи, как в барабан, поют в необъятном просторе голосами рожков, труб, гобоев и фанфар. Их веселье ужасно. Их буйная радость соткана из тьмы. Среди водной пустыни объявляют они поход на корабли. Днем и ночью, во все времена года, в тропиках и на полюсе, победно трубя в свой рог, они ведут при помощи туч и волн борьбу против судов, толкая их на крушения. Они царят над водой и забавляются, заставляя волны — своих собак — лаять на утесы. Они сгоняют и разгоняют облака и месят, будто тысячью рук, безбрежную поверхность моря.
Воду нельзя сжать — она ускользает; гонимая с одного места, она устремляется на другое: так становится волной. Волна — олицетворение ее свободы.
Жиллиат должен выбирать
Весь легион таинственных сил был по одну сторону.
По другую находился Жиллиат.
Буря хорошо выбрала время для нападения.
Случай всегда бывает ловок.
Пока барка стояла в бухте возле утеса «Человек», пока машина крепко держалась в корпусе судна, Жиллиат был неуязвим. Барка пребывала в безопасности, машина — в верных руках: Дуврские скалы, державшие ее в тисках, обрекали механизм на медленную смерть, но охраняли от катастроф. Во всяком случае, у Жиллиата был выход. Внезапная гибель машины не влекла за собой конец Жиллиата. У него оставалась барка для того, чтобы спастись.
Но выждать, пока лодка выйдет из безопасной бухты, дать ей войти в пролив между Дуврами, где она тоже окажется в когтях подводных рифов, позволить Жиллиату спасти машину, спустить и установить ее в барке, не мешать всему нечеловеческому труду, проделанному им, — в этом была ловушка. Бездна проявила злое коварство.
Теперь машина, барка и Жиллиат составляли одно неразрывное целое, заключенное в узкий пролив между утесами. Всего одного удара хватило бы для того, чтобы суденышко разбилось о риф, машина пошла ко дну, а Жиллиат захлебнулся. Все это могло случиться моментально, все могло быть раздавлено одним движением.
Положение Жиллиата казалось ужасным.
Сфинкс моря, дремлющий в пучине, поставил перед ним неразрешимый вопрос.
Плыть или оставаться?
Плыть было безумием, оставаться — страшно.
Битва
Жиллиат взобрался на Большой Дувр.
Оттуда он видел все море.
Запад был необычен. Там возвышалась стена. Огромная стена из туч, полностью охватившая горизонт, медленно ползла к зениту. Это была прямая, вертикальная стена, без трещин, прорывов, словно построенная с помощью точных измерений. Казалось, она сделана из гранита.
Бледное солнце, тонущее во мгле, освещало это апокалипсическое сооружение. Небо, сперва превратившееся из синего в белое, теперь стало серым и походило на огромную аспидную доску. Тусклое, свинцовое море представляло собой вторую такую же доску. Ни ветра, ни шума, ни волн. Море было пустынно, нигде ни единого судна. Птицы спрятались. В беспредельном просторе чувствовалось дыхание готовящегося предательства.
Мрак постепенно сгущался.
Гора испарений, движущаяся к Дуврским скалам, была соткана из туч, что предвещали смертельный бой. Казалось, эти тучи имеют грозные глаза. Их приближение внушало ужас.
Жиллиат, пристально глядя в небо, пробормотал:
— Я хочу пить, ты меня напоишь!
Он простоял несколько минут неподвижно, не сводя глаз с тучи. Можно было подумать, что он старался оценить силу надвигающейся бури.
Капюшон лежал в кармане его куртки, Жиллиат вытащил его и надел на голову. Из дыры, в которой он так долго жил, извлек свой запас одежды и надел на себя все, как рыцарь, облачающийся в латы перед турниром. Мы говорили уже, что у него не было обуви, но его босые ноги загрубели от острых камней.
Облачившись во все доспехи, он сверху осмотрел сделанный им волнорез, быстро спустился по веревке с площадки Большого Дувра на нижние выступы рифа и отправился в свой склад. Через несколько минут Жиллиат уже трудился. Огромная немая туча услыхала удары молота. Что он делал? С помощью остатков гвоздей, канатов и бревен соорудил в проливе с восточной стороны вторую запруду на расстоянии десяти-двенадцати шагов от первой.
Вокруг по-прежнему царила глубокая тишина. Побеги травы, пробивавшиеся кое-где в трещинах утесов, не шевелились.
Внезапно солнце исчезло. Жиллиат поднял голову.
Ползущая туча добралась до солнца. День сразу потух и сменился бледными, мутными сумерками.
Грозная стена изменилась. Теперь она не была уже цельной. На ней образовались складки, и вся она разделилась на этажи. Тьма становилась все гуще. Вдруг раздался раскат грома.
Жиллиат вздрогнул. Грубая реальность среди окружающей призрачности была страшна. Казалось, в жилище великана передвинули какой-то тяжелый предмет.
Удар грома не сопровождался молнией. Грохот прозвучал среди тьмы. Потом снова наступила тишина, как будто тьма готовилась к чему-то. Вслед за тем небо стали освещать одна за другой медленные бесформенные молнии. Они были немы. Гром не гремел. При каждой вспышке все вокруг освещалось. Стена из туч превратилась теперь в таинственную пещеру. В ней были ниши и арки, и в них проглядывались странные силуэты. Чудовищные головы, вытягивающиеся шеи, слоны, несущие на себе огромные башни.
Прямой, круглый и черный столб тумана, увенчанный столбом белого пара, напоминал трубу громадного затонувшего парохода, извергающую дым. Облака были покрыты складками, словно чудовищные знамена. В центре туч вырисовывалось густое черное пятно. Электрические искры не задевали его, и оно напоминало отвратительный зародыш в страшном чреве бури!
Внезапно Жиллиат почувствовал дуновение ветра. Три-четыре капли дождя упали на камни рядом с ним. Затем ярко вспыхнула молния. Поднялся ветер.
Терпение стихии истощилось: первый удар грома взволновал море, второй — расколол облачную стену сверху донизу. Хлынул дождь. Образовавшаяся трещина походила на разинутую пасть. Буря начала неистовствовать.
Это была страшная минута.
Ливень, ураган, молнии, валы, вздымающиеся до туч, пена, раскаты грома, судороги, крики, свист, рев — все смешалось. Казалось, свирепствуют чудовища, сорвавшиеся с цепи.
Ветер бушевал, дождь не падал, а обрушивался лавиной.
Состояние человека, подобно Жиллиату зажатого с нагруженной лодкой, в ущелье между утесами посреди открытого моря, было ужасно. Опасности прибоя, над которыми ему удалось одержать победу, казались ничтожными в сравнении с угрозами бури. Вот в каком положении он оказался.
Окруженный бушующей бездной, Жиллиат в последнюю минуту, перед лицом грозившей гибели, проявил глубокое знание стратегии. Он нашел для себя точку опоры в лагере неприятеля. Он сделал риф союзником, пригласив Дуврский утес, своего недавнего врага, быть секундантом в неравном поединке, в который вступил. Жиллиат подчинил его себе, устроив из могилы крепость. Здесь он укрепился. Осада цитадели была ужасна, но зато ее стены надежны. Его пригвоздило спиной к рифу, а лицом к урагану. Он забаррикадировал вход, через который врывались волны. Больше ему ничего не оставалось делать. Океан — это тот же деспот, и его так же можно образумить баррикадами.
Лодка была хорошо защищена с трех сторон. Стоя в самом проливе на трех якорях, она имела охрану: с севера — Малый Дувр, с юга — Большой — страшные стены, созданные для того, чтобы порождать кораблекрушения, а не спасать от них. С западной стороны барку защищал крепкий заслон, укрепленный большими гвоздями, стеной, выдержавшей прибой во время прилива, настоящими крепостными воротами, составной частью которых являлись сами утесы. Тут тоже нечего было бояться. Незащищенной оставалась только восточная сторона.
На востоке стоял лишь волнорез. Этого было недостаточно. Таких запруд нужно, по крайней мере, две. Жиллиат успел построить лишь одну. Теперь, во время бури, он продолжал возводить вторую.
Ветер, к счастью, дул с северо-запада. Море иногда совершает промахи. Этот ветер не особенно опасен на Дуврских скалах. Он дул на утесы сбоку, не попадая ни в один из входов в пролив. Вместо того чтобы гнать волны в ущелье, ветер обрушивался на стены. Буря плохо вела атаку.
Но направление ветра меняется быстро, и с минуты на минуту можно было ждать перемен. Если восточный ветер поднимется прежде, чем возникнет вторая запруда, гибель неизбежна. Все, что находится в ущелье между утесами, будет сметено.
Гроза усиливалась. Удары следовали один за другим. В этом мощь бури, но в этом же и ее слабость. Чрезмерная ярость стихии позволяет человеческому уму бороться с ней. Подобная ярость ужасна. Буря не знает ни отдыха, ни перерыва, она не успевает перевести дух. Ее силы неистощимы, в порывах ветра слышится дыхание бесконечных легких.
Объединившиеся стихии вели нападение на Дуврские скалы. В воздухе слышался гул бесчисленных голосов. Что это за крики? Иногда казалось, будто в воздухе звучат слова чьей-то грозной команды. Потом раздавались звуки труб, топот и величественный рев, который моряки называют «зовом океана».
Жиллиат, казалось, не обращал на все это внимания. Он был весь поглощен работой. Вторая запруда начинала возвышаться над водой. На каждый раскат грома Жиллиат отвечал ударом молота. Среди общего хаоса гулко разносился этот звук. Голова его была непокрыта — порыв ветра сорвал с него капюшон.
Страшная жажда мучила его. Вероятно, у Жиллиата была лихорадка. Возле него, в углублениях склонов, образовались лужицы дождевой воды. Время от времени он черпал воду ладонью и пил. Потом, не глядя даже на бушующую грозу, снова принимался за работу.
В любую минуту все могло рухнуть. Он прекрасно знал, что ждет его, если не удастся окончить запруду в срок. Зачем же терять время на то, чтобы заглядывать в приближающееся лицо смерти?
Вокруг все сотрясалось и кипело. Порой казалось, что молния спускается по лестнице. В некоторых местах утесов электрические вспышки повторялись особенно часто — там, очевидно, находились залежи железняка. Начался град — некоторые градины были величиной с кулак. Жиллиату пришлось вытряхнуть свою куртку, потому что карманы наполнялись ими.
Ветер дул теперь с запада и осаждал плотину, прибитую к Дуврским скалам. На эту запруду Жиллиат мог положиться, имея на то все основания. Сделанная из остова Дюранды, она прекрасно выдерживала напор волн. Она была упругой, а это залог крепости. Вычисления Стивенсона доказывают, что, поскольку вода сама упруга, деревянная преграда известной формы является для нее более непреодолимой, чем каменный мол. Запруда Жиллиата вполне соответствовала этим условиям. К тому же он поставил ее так удачно, что волны, ударявшиеся о стену, уподоблялись молотку, вколачивающему гвозди в утесы глубже и крепче. Для того чтобы разрушить ее, нужно было бы свалить Дуврские скалы. Она представляла собой такое непреодолимое препятствие для волн, что до барки долетали лишь брызги пены. С западной стороны буря вынуждена была ограничиться лишь плевками. Жиллиат не обращал на это внимания, прекрасно сознавая все бессилие ее злобы.
Хлопья пены, летевшие отовсюду, походили на клочья шерсти. Постройка второй запруды с восточной стороны продвигалась вперед. Еще несколько узлов из канатов и цепей — и это сооружение сможет, в свою очередь, вступить в борьбу.
Внезапно вспыхнул яркий свет, дождь ослабел, облака рассеялись, ветер стал прерывистым, огромное отверстие образовалось в тучах в самом зените, молнии прекратились. Можно было подумать, что наступил конец. Но это было лишь начало.
Ветер круто изменил направление: из юго-западного превратился в северо-восточный.
Буря грозила возобновиться с новой силой, со свежими ветрами. Южный ветер приносит больше воды, северный — больше молний.
Теперь нападение шло с востока и обрушивалось на самую слабую сторону укреплений.
На этот раз Жиллиат оторвался от работы и вгляделся в даль.
Он взобрался на выступ утеса, помещавшийся как раз над второй запрудой, почти законченной. Если первый заслон будет снесен, то вслед за ним рухнет второй, еще не укрепленный, и тогда Жиллиат погиб. Место, где он стоял, было опасным: в случае катастрофы его разобьет об утес прежде, чем он успеет взглянуть на барку и машину. Весь труд Жиллиата погрузится в бездну — вот что ожидало его. Он знал это и даже, быть может, этого желал.
Если всем его надеждам суждено погибнуть, то он хотел умереть первым. «Умереть первым!» — так именно и думал Жиллиат, потому что машина была для него живым существом. Он отвел левой рукой волосы, упавшие на глаза и смоченные дождем. Сжимая молот в руке, откинулся назад, приняв угрожающую позу, и застыл в ожидании.
Долго ждать не пришлось.
Сигналом был раскат грома, бледное зияющее отверстие в зените сомкнулось, дождь возобновился, стало темно, и лишь молния освещала все вокруг. Начинался новый приступ.
Частые молнии осветили огромный вал, поднявшийся на востоке за утесом «Человек». Вал казался сделанным из стекла. Зеленоватый, без пены, он тянулся во всю ширину моря и подбирался к волнорезам. Приближаясь, вздувался, напоминая уже огромный цилиндр, катящийся по морю. Гром продолжал глухо рокотать.
Достигнув утеса «Человек», вал разделился надвое, затем опять сомкнулся. Теперь он представлял собой водяную гору, острием направленную перпендикулярно к волнорезу. Волна, бегущая перед ним, имела форму бревна.
Этот таран ударился в волнорез. Удар был ужасен. Все скрылось под пеной… В течение нескольких минут ничего не было видно, кроме бешеного кипения пены, развевавшейся в воздухе словно громадный саван, ничего не было слышно, кроме оглушительного рева разбушевавшейся стихии, творившей под прикрытием этого гула свое разрушительное дело.
Наконец пена улеглась. Жиллиат удержался на ногах.
Запруда оправдала его надежды. Ни одна цепь не лопнула, ни один гвоздь не сорвался со скалы. У волнорезов оказалось два прекрасных достоинства: они были гибкими, как изгородь, и крепкими, будто стена. Вал раздробился на струи.
Брызги пены, скользя по склонам утесов, исчезали под баркой.
Человек, надевший намордник на океан, не отдыхал.
К счастью, ветер на некоторое время опять изменил направление. Волны стали вновь налетать на боковые склоны утесов. Жиллиат воспользовался этой передышкой для того, чтобы укрепить второй волнорез.
На это ушел весь день. Мощные волны с какой-то зловещей торжественностью продолжали обрушиваться на фланги утесов. Запасы воды и огня, скрытые в тучах, казались неистощимыми. Порывы ветра напоминали конвульсии дракона.
Ночь подкралась незаметно, потому что весь день царила темнота, впрочем, это нельзя было назвать темнотой. Во время бурь свет беспрерывно чередуется с тьмой. Весь мир то вспыхивает, то гаснет. Видения возникают и снова тонут в непроглядном мраке.
Позади туч виднелась пурпурная фосфорическая зона, похожая на огромный пылающий лоскут. Полосы дождя светились.
Этот свет помогал Жиллиату работать. Однажды он обернулся и крикнул молнии:
— Подержи-ка подсвечник!
Ему удалось сделать второй волнорез еще выше первого. Он был почти готов. Когда Жиллиат привязывал последний канат, ветер пахнул ему прямо в лицо. Жиллиат поднял голову: ветер переменился; теперь он снова дул с северо-востока. Атака с востока возобновилась. Жиллиат взглянул на море. Запруде предстояло новое испытание: к ней катился очередной вал.
За этим валом следовал второй, затем третий… пять или шесть огромных волн катились друг за другом, и, наконец, позади набегала самая страшная!
Этот последний вал, в котором, казалось, были собраны воедино все силы бури, напоминал живое существо. В водной громаде чудились очертания гигантских жабр и плавников. Чудовище бросилось на волнорез и разбилось, потеряв свою страшную форму. Казалось, гидра разбита о неприступные камни и бревна. Чудилось, будто волны, издыхая, кусаются и ранят. Утесы содрогнулись. Раздался животный рев. Пена напоминала слюну Левиафана[657].
Наконец пена схлынула. Новое нападение прошло не так благополучно. Длинное, большое бревно было вырвано из первого волнореза, переброшено через второй и упало на выступ утеса, как раз в том месте, где несколько минут раньше стоял Жиллиат. К счастью, он перебрался за другой выступ. Его могло убить на месте.
Во время падения бревно застряло одним концом в трещине, и это спасло Жиллиата от удара рикошетом. Упавшая балка, как мы узнаем дальше, оказалась полезной.
Между выступом скалы и склоном было углубление, похожее на зарубку, сделанную топором. Пролетев по воздуху, бревно попало одним концом в это углубление и застряло там, расширив его.
Жиллиату пришла в голову мысль налечь всей своей тяжестью на противоположный свободный конец балки. Бревно, крепко держась в трещине, торчало из нее как протянутая рука. Эта рука тянулась параллельно склону утеса, и свободный конец отстоял от стены не больше чем на восемнадцать-двадцать дюймов. Такого расстояния было достаточно, чтобы хорошенько налечь на бревно.
Жиллиат уперся ногами, коленями и кулаками в утес и налег плечами на этот огромный рычаг. Бревно было длинным, что увеличивало силу давления. Камень уже расшатался, но все же Жиллиату пришлось напрягать все силы четыре раза подряд. Пот, смешавшись с дождем, струился с его волос. Четвертое усилие оказалось успешным. Раздался грохот, трещина раскрылась словно огромный зев, и тяжелая глыба свалилась в проход с ужасным шумом, казавшимся отголоском громовых раскатов. Падая, глыба не разбилась. Бревно-рычаг полетело вслед за камнем, и Жиллиат еле удержал равновесие.
В этом месте прохода было неглубоко, дно усеивали валуны. Камень, свороченный Жиллиатом, рухнул, подняв вокруг пену, и лег между двумя утесами, загородив проход и как бы связав скалы в одно целое. Основанием и вершиной он касался утесов. Вершина его, оказавшаяся рыхлой, рассыпалась, ударившись о скалу. Образовался тупик, который сохранился и поныне. Вода за этим каменным барьером почти всегда спокойна.
Это была загородка еще более надежная, чем западная запруда, сделанная из обломков Дюранды.
Она появилась очень вовремя. Море продолжало неистовствовать. Волны обрушивались на препятствия. Первый волнорез начинал поддаваться. Даже одна трещина в запруде — большая опасность. Увеличение дыры неизбежно, и нет средств помешать этому. Первый же вал смыл бы человека, взобравшегося на заграждение.
Вспыхнувшая молния дала Жиллиату возможность увидеть волнорезы, вывороченные бревна, обрывки канатов и цепей, развеваемых ветром, а также пробоины в центре запруды. Второй волнорез пока оставался цел.
Камень, сваленный Жиллиатом в проход, позади обоих заграждений оказался крепче их, но обладал большим недостатком: он был слишком низок. Валы не могли сокрушить его, однако могли через него перекатиться.
О том, чтобы сделать эту глыбу выше, нечего было и думать. Для этого нужны большие камни, но как отколоть их от скал, как их тащить, как поднимать и чем укреплять? К запруде можно добавить несколько бревен, но нельзя увеличить каменную глыбу. Жиллиат не был циклопом.
Низкий каменный барьер беспокоил его.
И этот недостаток скоро дал о себе знать. Волны ни на мгновение не оставляли в покое волнорезы, словно задавшись целью уничтожить их во что бы то ни стало.
Внезапно бревно, отскочившее от первой запруды, перескочило через второй волнорез, затем каменный барьер и упало в проход, где вода, подхватив его, стала швырять от утеса к утесу. Жиллиат потерял балку из виду. Возможно, она повредит его лодку. Но, к счастью, вода в проливе, защищенном со всех сторон, почти не волновалась. Волн здесь практически не было, и удары не могли быть особенно сильны. Да, впрочем, если бревно и способно наделать каких-либо бед, Жиллиату некогда заниматься этим. Опасности приближались со всех сторон, буря обрушивала свою злобу на самые уязвимые места.
Наступила минута, когда вспышки молний прекратились, волны слились, и в глубокой тьме раздался глухой удар.
Вслед за ударом послышался треск.
Жиллиат подался вперед. Первый волнорез был снесен. Концы бревен торчали из воды. Море подхватило этот заслон и при помощи него старалось разрушить второй.
Жиллиат испытал чувство, подобное тому, какое охватывает полководца, видящего, что его авангард обращен в бегство.
Вторая запруда стойко выносила удары. Ее он сделал крепкой. Но сорванный волнорез был тяжел, волны с силой швыряли его вперед, затем относили, чтобы снова бросить, и теперь все его достоинства как стойкой запруды обернулись губительными качествами разрушительного снаряда. Из щита волнорез превратился в дубину. Он был весь расшатан, отовсюду торчали концы бревен, и заслон казался ощетинившимся и оскалившим зубы. Ужасное, губительное оружие очутилось в лапах бури.
Удары следовали один за другим с трагической равномерностью. Жиллиат, стоя за созданной им баррикадой, прислушивался к толчкам смерти, стучавшейся в дверь.
Он с горечью думал о том, что если бы труба Дюранды не застряла так неожиданно среди обломков, то в эту минуту, а может быть, еще утром, он оказался бы на Гернзее, в порту, барка была бы в безопасности, а машина — спасена.
Наконец случилось самое страшное: запруда рухнула. Изломанные, перемешанные бревна обоих волнорезов, подхваченные валом, с размаху обрушились на каменный барьер и остановились. Волны, налетавшие на эту бесформенную деревянную груду, разбивались, превращаясь в брызги. Побежденная преграда даже в агонии вела себя геройски. Море сломило ее, но она все еще сражалась с волнами. Опрокинутый волнорез до сих пор был страшен.
Каменный барьер, через который разрушенная запруда перескочить не могла, удерживал ее стоймя на себе. В этом месте пролив был очень узким. Волны нагромоздили бревна одно на другое и создали из кучи обломков новое непреодолимое препятствие. Порою обломки бревен отлетали от груды. Один из них пронесся над самой головой Жиллиата.
Некоторые из особенно высоких валов, время от времени продолжавших налетать, перекатывались через всю эту груду и обрушивались в проход. В такие моменты вода в проливе закипала. Эти бурные объятия волн с утесами были страшны.
Как помешать бурлящей воде добраться до самой барки? Валам требовалось всего несколько минут для того, чтобы расчистить буре доступ в защищенный до сих пор пролив, разбить барку и потопить машину.
Жиллиат лихорадочно обдумывал, что делать.
Но он не отчаивался. Его душа была отважна.
Теперь ветер яростно разгуливал между стенами ущелья.
Внезапно в нем, позади Жиллиата, раздался продолжительный треск, показавшийся ему более страшным, чем все то, что он слышал до сих пор.
Треск доносился с той стороны, где стояла барка. Там происходило что-то ужасное. Жиллиат бросился туда.
Он не мог видеть, что там случилось, находясь у восточного края пролива, потому что ущелье образовывало посредине поворот. У поворота Жиллиат остановился и стал ждать вспышки молнии.
Молния блеснула, и он увидел, что произошло.
Одновременно на ущелье обрушился вал с востока и порыв ветра с запада. Надвигалось несчастье.
Жиллиат не заметил никаких повреждений барки. Она была хорошо укреплена и стойко выносила натиск. Но остов Дюранды оказался в опасности.
Обломки судна представляли собой довольно большую плоскость, открытую ветрам. Остов находился в воздухе. Отверстие, прорезанное Жиллиатом для спуска машины, ослабило и без того расшатанную скорлупу. Килевая балка была надломлена. Остов являл собой скелет с перешибленным спинным хребтом.
Порыв ветра устремился на висящий корпус, и этого оказалось достаточно. Настилка палубы прогнулась, как переплет полураскрытой книги. Это и был тот страшный треск, который донесся до ушей Жиллиата.
Приблизившись, он убедился, что несчастье непоправимо. Квадратное отверстие, прорезанное им, помогло ветру сделать свое дело. Остатки Дюранды раскололись надвое. Задняя часть, обращенная к барке, продолжала крепко держаться между утесами. Но передняя, обращенная к Жиллиату, беспомощно повисла в воздухе. Свежий надлом был похож на скобу: передняя часть остова раскачивалась, как на шарнирах, и ветер шатал ее со страшным шумом.
К счастью, барка уже не стояла под обломками Дюранды.
Но вторая половина, державшаяся пока крепко между Дуврами, расшатывалась с каждой минутой сильнее. До катастрофы было недалеко. Повисшая часть могла с помощью ветра повлечь за собой остальную, висящую слишком близко от лодки, и в случае обвала все — и барка, и машина — могло пойти ко дну.
Жиллиат прекрасно видел это. Катастрофа надвигалась. Как ее предотвратить?
Жиллиат принадлежал к числу тех людей, которые умеют извлекать помощь из самой опасности. Он размышлял несколько секунд, затем бросился в свой склад и схватил топор.
Молот потрудился на славу. Теперь настала очередь для топора. Жиллиат взобрался на остов судна. Попав на ту часть палубы, которая еще крепко держалась, находясь над пропастью, в пролете между Дуврами, он принялся обрубать повисшую часть обломков.
Жиллиат хотел отделить надломленную часть, освободив крепкую половину от лишнего груза, бросить волнам то, что собирался подарить им ветер, заткнуть буре глотку новой добычей. Это было трудно и опасно. Повисшая половина, раскачиваемая ветром, держалась лишь на немногих планках. Трещины увеличивались при каждом новом порыве ветра. Топор должен был лишь помочь работе стихий. Это, конечно, облегчало работу, но в то же время составляло главную угрозу. Под ногами Жиллиата все могло обрушиться вмиг.
Буря дошла до высшей точки. До сих пор она была ужасной, теперь стала чудовищной. Море корчилось в судорогах, и, казалось, возносится до небес. Тучи исполняли роль властелинов: море делало все то, что они ему приказывали, они изливали безумие на волны, а сами сохраняли мрачный блеск. Внизу творилось безумие, вверху бушевал гнев. Небо дышало злостью, вздымая пену. Ветер царил над всем. Ураган — это гений. Но и он сам был опьянен ужасом. Он превратился в вихрь, и ночь казалась ослепленной сумасшествием.
Лишь ловкость может бороться со стихиями. В ловкости таился залог торжества Жиллиата. Он хотел заставить надломленную часть рухнуть сразу. Для этого ослаблял понемногу связки, не перерубая их до конца, оставляя повсюду по одной доске, поддерживавшей тяжесть. Наконец остановился с занесенным топором. Дело было сделано. Повисший кусок отделился.
Отрубленная половина рухнула в проход между обоими Дуврами. Жиллиат удержался на оставшейся части и стоял, глядя вниз. Она упала в воду торчком, задела склоны утесов и остановилась в ущелье, не опускаясь на дно. Там эта половина в двенадцать футов вышиной образовала новую преграду для волн. Она стала еще одной запрудой. Подобно каменному барьеру, воздвигнутому немного дальше, заслон пропускал по бокам лишь немного пены.
Это была пятая баррикада, созданная Жиллиатом для защиты от бури в Дуврском проливе.
Он радовался тому, что скалы помешали отрубленной части опуститься на дно. Она была достаточно высока: волны могли проходить под ней, потеряв всю силу. Имея проход внизу, волна не сможет перескочить через барьер. В этом отчасти и состоит секрет плавучих волнорезов.
Теперь барке и машине не угрожала никакая опасность. Вода уже не могла бурлить вокруг них. Вход с запада был под надежной защитой. Наконец и восточная сторона ограждена так же хорошо. Море и ветер оказались теперь бессильны.
Жиллиат превратил катастрофу в торжество. В конце концов он победил.
Зачерпнув ладонью дождевой воды из углубления в скале, он выпил ее и крикнул:
— Ну что, чья взяла?!
Спустившись в барку, принялся осматривать ее при свете молний. Судно порядком потрепало, и оно начало расшатываться. Впрочем, при беглом осмотре Жиллиат не обнаружил никаких повреждений. Но он знал, что лодка должна была вынести несколько сильных ударов. Как только волнение в проливе улеглось, корпус выпрямился сам. Якоря прекрасно держали барку. Машина, укрепленная четырьмя цепями, не шелохнулась.
В ту минуту, когда Жиллиат окончил осматривать лодку, что-то белое промелькнуло перед его глазами и скрылось во тьме. То была чайка.
Во время бури это самый лучший признак. Птицы появляются лишь тогда, когда гроза начинает утихать.
Другим хорошим предвестником стало учащение грома.
Отчаянные усилия утомляют грозу. Каждый моряк знает, что последний ее приступ ужасен, но краток.
Дождь внезапно прекратился. Тучи растерянно заметались по небу. Гроза переломилась. Огромный механизм облаков расшатался. Полоса светлого неба сверкнула среди туч. Жиллиат был поражен: день, оказывается, в разгаре.
Буря длилась около двадцати часов.
Ветер умчал остатки грозы. Темная громада сдвинулась к горизонту. Обрывки туч в беспорядке клубились, издалека доносился заглушенный гул, упало несколько последних капель дождя, и, наконец, вся зловещая шайка теней, громов и ужасов скрылась из глаз.
Небо сразу стало синим.
Жиллиат почувствовал усталость. Сон набросился на него словно хищная птица. Жиллиат свалился в барку, не выбирая даже местечка поудобнее, и заснул. Он пролежал, вытянувшись неподвижно, несколько часов. Его тело сливалось с грудой обломков и бревен, среди которых он спал.
Книга IV
Двойные препятствия. Голод преследует не только человека
Проснувшись, Жиллиат почувствовал голод.
Буря успокаивалась. Но все же в открытом море волнение оставалось еще настолько большим, что о немедленном отъезде нечего было и думать. К тому же день клонился к вечеру. Чтобы с сильно перегруженной баркой добраться до Гернзея раньше полуночи, нужно было выехать утром.
Несмотря на острый голод, Жиллиат прежде всего разделся — это было единственное средство согреться.
Во время бури его одежда промокла, но, так как дождь смыл морскую воду, высушить ее теперь не представляло труда.
Жиллиат остался в одних штанах, засучив их до колен. Он разложил на выступах скал рубашку, куртку, плащ, гетры, овчину и придавил их сверху камнями.
Затем вспомнил, что нужно поесть.
Взяв нож, который он все время старался держать наточенным, Жиллиат отделил от утеса несколько раковин. Их можно было есть сырыми. Но после тяжелого, изнурительного труда эта пища показалась ему скудной. Сухарей у него больше не было. Пресной воды теперь он имел более чем достаточно. Жиллиат мог, скорее, жаловаться на ее избыток, чем дефицит.
Он решил воспользоваться отливом для того, чтобы среди обнажившихся камней поискать лангустов. Вода спала, и это сулило успешную ловлю.
Но он не принял во внимание того, что был лишен возможности что-либо изжарить. Если бы Жиллиат удосужился пройти в свой склад, то убедился бы, что он затоплен дождем. Щепки и уголь унесла вода, а пакля и трут, с помощью которых он добывал огонь, промокли насквозь. Не представлялось ни малейшей возможности развести огонь.
К тому же кузница была совершенно разрушена, и вся лаборатория превращена в обломки. С помощью уцелевших инструментов Жиллиат мог еще с трудом работать как плотник, но не как кузнец. Однако в эту минуту он не думал о своей мастерской.
Голодный желудок поглотил все его внимание, и он принялся раздумывать над тем, как бы раздобыть еще немного пищи. Он отправился не вглубь ущелья, а к рифам, выходившим в открытое море. Как раз со стороны этих камней десять недель назад подошла к утесам Дюранда.
Для ловли, которую затеял Жиллиат, это место было более удачным, чем внутренняя часть пролива. Крабы имеют обыкновение при отливе выползать на поверхность и греться на солнце. Эти неуклюжие существа любят юг и тепло. Их появление из воды при ярком свете представляет собой странное и неприятное зрелище. Глядя на них, когда они криво, тяжело и неуклюже переползают с одного выступа камня на другой, убеждаешься воочию, что и океан является убежищем мерзких животных.
Жиллиат питался ими уже в течение двух месяцев.
Однако в этот день морские раки и лангусты скрывались. Буря загнала их в норы, и они еще не решались выползти оттуда. Жиллиат пробирался вперед с ножом в руке и время от времени отделял от камня раковину, поедая ее на ходу.
Он находился недалеко от того места, где погиб господин Клюбен.
Жиллиат уже решил было, что ему придется удовольствоваться раковинами и морскими орехами, как вдруг у его ног раздался плеск. Большой краб, испуганный приближением человека, поспешно соскользнул в море. Но здесь было неглубоко, поэтому Жиллиат прекрасно его видел. Молодой человек пустился за ним вдогонку. Краб торопливо удирал и внезапно скрылся из виду. Очевидно, он юркнул в какую-нибудь трещину в подводном камне. Жиллиат, уцепившись рукой за выступ, склонился, чтобы заглянуть туда. Там действительно была извилина, в которую мог уползти краб. Это оказалась не просто трещина, а нечто вроде арки. Вода в расщелине была неглубокой, виднелось дно, покрытое круглыми камнями. Они обросли водорослями, указывавшими на то, что вода здесь никогда не высыхает, и напоминали детские головы с зелеными волосами.
Жиллиат взял нож в зубы, оторвался от выступа и прыгнул в воду. Она доходила ему до плеч. Жиллиат пролез под аркой, очутившись в длинном коридоре. Над головой его смыкался каменный свод. Камни были гладкими и скользкими. Краба он не видел. Света в коридоре было мало, поэтому Жиллиат с трудом различал окружающие предметы. Он сделал шагов пятнадцать вперед. Коридор оборвался, стало светлее, и глаза Жиллиата начали лучше различать все вокруг.
Внезапно он заметил горизонтальную трещину в граните. Возможно, краб был там. Жиллиат засунул туда руку, как можно глубже, и принялся ощупывать темную трещину.
Вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за руку.
В этот момент он испытал неописуемый ужас.
Что-то тонкое, плоское, холодное, скользкое и живое обвилось в темноте вокруг его обнаженной руки. Оно тянулось до самой груди. Меньше чем за секунду его рука оказалась обвитой до самого плеча. Конец спирали зашевелился под мышкой Жиллиата.
Он отшатнулся, но, словно пригвожденный, не мог сдвинуться с места. Свободной левой рукой схватил свой нож, зажатый зубами, и изо всех сил уперся этой рукой в скалу, делая отчаянные попытки освободить правую руку. Но державший ее ремень, лишь слегка пошевелившись, сжался еще сильнее. Он был гибок, как кожа, тверд, как сталь, холоден, как ночь.
Второй ремень, узкий и заостренный, показался из расщелины. Он напоминал язык, высунувшийся из пасти. Ремень лизнул обнаженный торс Жиллиата и, внезапно вытянувшись и став тоньше, обвился вокруг его корпуса.
В ту же секунду страшная боль пронзила все тело Жиллиата. Он почувствовал, как что-то круглое, ужасное, впивается в его кожу. Ему показалось, что бесчисленные губы присосались к его телу, намереваясь выпить из него кровь.
Третий ремень появился из трещины, ощупал Жиллиата, хлестнул его бока, как веревкой, и замер неподвижно. Сильный страх делает человека немым. Жиллиат не крикнул ни разу. Было настолько светло, что он ясно различал страшные узы, сковавшие его. Четвертый ремень стремительно обвился вокруг его живота.
Невозможно было ни перерезать, ни оторвать эти страшные языки, присосавшиеся к телу Жиллиата. В каждой точке, где они соприкасались с кожей, он испытывал странную острую боль. У него было такое ощущение, как будто его пожирает одновременно тысяча маленьких ртов.
Из дыры показался пятый ремень. Обвившись поверх других, он впился в грудь Жиллиата. Все его тело было сжато как в тисках; он еле мог дышать.
Эти ремни, узкие на концах, расширялись, словно клинки сабель, по мере приближения к рукоятке. Все пять сходились к одному центру. Они двигались и ползали по телу Жиллиата. Он чувствовал, как маленькие, странные рты перемещались по его коже.
Внезапно круглый, скользкий и плоский предмет показался из трещины. Это был центр: все пять ремней исходили от него, будто лучи от звезды; с противоположной стороны ужасного диска виднелось еще три таких же ремня, скрывавшихся в темной расщелине. В середине круглого кома слизи были два глаза.
Глаза уставились на Жиллиата. Жиллиат понял, что это спрут.
Чудовище
Для того чтобы понять, что собой представляет спрут, нужно его видеть.
Древние гидры ничто в сравнении со спрутом.
Среди всех чудовищ мира осьминог, если можно так выразиться, — самое совершенное.
Кит огромен — спрут мал; гиппопотам покрыт броней — спрут гол; тигр ревет — спрут нем; носорог защищен рогом — у спрута его нет; у скорпиона есть жало — спрут его лишен; морской рак имеет клешни — у спрута нет клешней; у обезьяны есть хвост — спрут бесхвостый; у акулы смертоносные плавники — у спрута нет плавников; у вампира есть острые крылья — спрут их не имеет; у дикобраза есть иглы — у спрута их нет; у рыбы-меч есть меч — у спрута его нет; рыба-скат имеет электричество — спрут его не имеет; у жабы есть яд — у спрута нет яда; у льва есть когти — у спрута нет когтей; у коршуна есть клюв — у спрута нет клюва; у крокодила есть пасть — у спрута нет зубов.
У осьминога нет ни мускулов, ни костей, ни брони, ни рогов, ни жала, ни клешней, ни цепкого хвоста, ни плавников, ни игл, ни электрического тока, ни яда, ни когтей, ни клюва, ни зубов. Но он вооружен более грозным оружием, чем все чудовища мира.
Что же такое спрут? Это кровососная банка.
В воде полощется что-то серое, толщиной не более человеческой руки, а длиной не больше пол-локтя, похожее на тряпку или, точнее, на закрытый зонтик без ручки. Этот лоскут медленно приближается к вам. Внезапно он раскрывается, и восемь лучей раскидываются вокруг головы, в которой посажены два глаза. Эти лучи живут, колышутся. Все существо напоминает колесо. В развернутом виде оно имеет четыре-пять футов в диаметре. Оно ужасно. И вдруг бросается на вас.
Осьминог вцепляется в человека, покрывает свою добычу и впивается в нее длинными щупальцами. Снизу он желтоватого цвета, сверху — серого. Чудовище кажется обитателем воды, сделанным из пепла. Формой оно напоминает паука, окраской — хамелеона. Разъярившись, становится фиолетовым. Но самое ужасное в нем то, что оно мягкое. Его щупальца опутывают, его прикосновение парализует. Оно похоже на гангрену. Это болезнь, воплотившаяся в живой образ.
Его невозможно оторвать. Оно цепко держит свою добычу. Чем же впивается в нее? Пустотой. Его восемь щупальцев, широкие у основания, к концу заостряются. Каждое из них покрыто двойным рядом пустых воронок, больших у центра, меньших в концу. В каждом ряду двадцать пять таких волдырей. Следовательно, на каждой конечности спрута их пятьдесят, а у всего чудовища — четыреста. Воронки представляет собой кровососные банки.
Весь этот аппарат подвижен и подчинен чудовищу. Воронки выдвигаются и прячутся. Они повинуются малейшему желанию животного. Самые чувствительные органы других существ не могут сравниться с подобной клавиатурой. Чувствительность такого дракона поистине поразительна.
Двигаясь, спрут остается как бы в футляре. Он плавает, крепко сжав все свои складки. Его большие глаза бесцветны, и в воде их трудно различить.
Спрут, высматривающий добычу, сжимается, становится маленьким и незаметным. Он сливается с волной, и его никак нельзя принять за живое существо. Но внезапно он раскрывается.
Слизь, обладающая волей, клей, пропитанный ненавистью, — что может быть ужаснее?
У спрута нет ни костей, ни крови, ни мяса. Он пуст внутри. Он состоит из одной лишь оболочки. Все восемь щупальцев можно вывернуть наизнанку, как пальцы перчатки. Лишь в центре чудовище имеет одно отверстие. Что это такое? Прямая кишка? Рот? И то и другое одновременно.
Это отверстие выполняет все функции организма. Животное всегда остается холодным.
Тигр может растерзать вас. Но спрут вас высасывает — это отвратительно. Вы чувствуете, как он опутывает вас, вы не можете освободиться и ощущаете, как содержимое вашего тела медленно переходит в тело чудовища.
Быть съеденным живьем — ужасно. Но в тысячу раз ужаснее быть выпитым живьем.
Другая форма борьбы в пучине
Таково было существо, во власти которого уже в течение нескольких мгновений находился Жиллиат.
Оно оказалось обитателем грота, страшилищем здешних мест, темным демоном вод.
Когда Жиллиат, преследуя краба, заметил трещину и подумал, что краб мог там укрыться, спрут, сидя внутри, подкарауливал добычу. Представьте себе, как ужасно это выжидание.
Ни одна птица не осмелилась бы нести яйца, ни один птенец не решился бы вылупиться, ни один цветок не мог бы расцвести, ни одна мать не могла бы питать свое дитя молоком, ни одно сердце не осмелилось бы любить, ни один ум не дерзал бы творить, если бы живая природа помнила о мрачных страшилищах, притаившихся в бездне.
Жиллиат просунул в дыру руку, и спрут ухватился за нее. Человек попал в положение мухи. Спрут был пауком.
Жиллиат находился по пояс в воде, его ноги нетвердо стояли на скользких камнях, правая рука была крепко обмотана щупальцами спрута, и почти все тело исчезало под складками переплетенных ремней страшной повязки.
Из восьми конечностей спрута три цеплялись за утес, пять обвивали Жиллиата. Таким образом, вцепившись одной стороной в камень, другой — в человека, чудовище приковывало Жиллиата к утесу. Двести пятьдесят кровососных банок впились в свою жертву.
Мы уже говорили, что вырваться из лап спрута невозможно. При попытках человека освободиться, чудовище лишь крепче стягивает свои путы. Животное соразмеряет собственные силы с силами добычи.
Единственной надеждой Жиллиата на спасение был его нож.
Свободной оставалась у него лишь левая рука. Но он владел ею прекрасно. Про него можно было сказать, что у него было две правых руки.
Он держал раскрытый нож.
Щупалец спрута не перерезать. Его кожа неуязвима, она скользит под сталью. Да если бы это и было возможно, вместе со щупальцами человек тогда перерéзал бы свои собственные мускулы.
Осьминог страшен, но и его можно победить. Рыбаки с Нормандских островов знают, как это сделать. Его нужно поразить в голову. Жиллиат тоже знал об этом.
Он никогда не видел такого громадного спрута. Другой на его месте растерялся бы окончательно.
У спрута, как у быка, есть секунда, когда его легче сразить. Бык должен для этого склонить шею, спрут — вытянуть голову вперед. Если пропустить такое мгновенье — все погибло.
Это продолжалось всего несколько минут. Но Жиллиату, ощущавшему на своем теле двести пятьдесят кровососных банок, они показались вечностью.
Спрут коварен. Он обхватывает добычу и затем старается выждать как можно дольше для того, чтобы силы покинули ее.
Жиллиат держал нож открытым. Животное сосало его кровь все сильнее.
Внезапно оно отделило от гранита шестой ремень и протянуло к Жиллиату, намереваясь обхватить его левую руку. В ту же минуту оно вытянуло голову. Через секунду рот спрута должен был впиться в грудь Жиллиата, обе руки были в плену, и смерть казалась неизбежной.
Но Жиллиат не терял бдительности. Спрут и человек подстерегали друг друга.
Он уклонился от шестого ремня, и в тот момент, когда чудовище собиралось впиться ему в грудь, вооруженная рука упала на голову монстра.
Человек и спрут содрогнулись. Жиллиат погрузил нож в слизь и, быстро повернув его кругообразным движением, отделил голову от туловища, как вырывают больной зуб.
Все было кончено. Животное рухнуло.
Оно походило на кучу тряпья. Волевой центр был уничтожен, и все четыреста кровососных банок сразу отделились от человека и гранита. Чудовище погрузилось в пучину.
Задыхаясь от борьбы, Жиллиат смотрел на две бесформенные кучи слизи, лежавшие у его ног. Голова покоилась с одной стороны, все остальное — с другой. Мы говорим — остальное, потому что это уже не было похоже на туловище.
Опасаясь последних конвульсий монстра, Жиллиат на всякий случай отступил на несколько шагов.
Но осьминог был мертв.
Жиллиат сложил свой нож.
Ничто не может укрыться и пропáсть
Жиллиат убил спрута вовремя. Он почти задохнулся; его правая рука и туловище посинели. На теле вздулось больше двухсот волдырей; из некоторых сочилась кровь. Морская вода является прекрасным лекарством от укусов спрута. Жиллиат погрузился в нее, растирая волдыри руками. Опухоль стала спадать.
Купаясь, Жиллиат незаметно приблизился к углублению, которое приметил раньше, до того, как засунул руку в трещину, где оказался спрут.
Это углубление было сухим, его покрывали камни, нанесенные прибоем. Поэтому дно приподнялось выше обычного уровня. Грот казался достаточно большим: человек мог, согнувшись, пройти внутрь. Зеленоватый свет, проникавший из подземных пещер, слабо озарял его.
Продолжая растирать больное тело, Жиллиат случайно заглянул внутрь.
Он содрогнулся.
Ему показалось, что в глубине дыры он в полутьме видит смеющееся человеческое лицо.
Жиллиата охватило желание рассмотреть ближе то, что его испугало. Нагнув голову, он вошел в пещеру и направился в глубину.
Там действительно лежала смеющаяся человеческая голова.
Но это была не голова, а лишь череп. Вглядевшись, Жиллиат рассмотрел не только его, но и целый человеческий скелет.
Смелый человек в подобных случаях стремится узнать, что здесь произошло. Жиллиат стал осматриваться. Он увидел массу крабов, лежавших неподвижно. Это зрелище напоминало мертвый муравейник. Крабы не шевелились. Да и не крабы это были, а лишь пустая скорлупа.
Вначале Жиллиат ступал по ней, не замечая ее. В глубине пещеры скорлупа покрывала дно густым слоем. Под ним находился человеческий скелет.
Когда-то в нем билось сердце. Плесень затянула глазные впадины. В отверстиях ноздрей накопилась слизь. В пещере не было ни водорослей, ни побегов травы: свежий ветерок не проникал сюда.
Зубы скелета были оскалены. Оскал мертвой головы — самая ужасная пародия на смех.
Жиллиат оказался в кладовой спрута. Жуткое зрелище, вскрывавшее безобразие законов природы. Крабы сожрали человека, спрут сожрал крабов.
На скелете не было никаких остатков одежды. Очевидно, осьминог захватил его голым. Продолжая рассматривать скелет, Жиллиат очищал его от скорлупы. Кто был этот человек? Скелет был искусно освобожден от тканей. Казалось, его препарировал ученый-анатом. Нигде не осталось ни клочка мяса: все кости — на месте. Если бы Жиллиат знал анатомию, он отметил бы это.
Труп был как бы погребен под скорлупой. Жиллиат его откопал.
Вдруг он поспешно наклонился.
Какая-то полоса обхватывала поясницу.
Это был кожаный пояс, туго затянутый вокруг талии мертвого человека.
Кожа заплесневела, а пряжка покрылась ржавчиной.
Жиллиат потянул пояс к себе. Позвонки удерживали его, и ему пришлось переломить хребет для того, чтобы высвободить ремень. Пояс оказался цел. Мелкие раковины пристали к нему.
Жиллиат ощупал пояс: внутри находился какой-то квадратный предмет. Расстегнуть пряжку было невозможно. Жиллиат надрезал кожу своим ножом.
В поясе покоилась маленькая железная коробочка и горсть золотых монет. Жиллиат пересчитал их — двадцать гиней.
Железная коробочка оказалась старой матросской табакеркой, открывающейся с помощью пружины. Табакерка была плотно закрыта. Пружина испортилась и не действовала.
Нож опять пришел на помощь Жиллиату. Крышка отскочила.
Коробочка открылась.
Маленькие, сложенные вчетверо листки бумаги покрывали дно табакерки. Они отсырели, но не размокли. Коробочка была герметически закрыта. Жиллиат развернул их.
Он увидел три банковых билета по тысяче фунтов каждый. Другими словами, в коробочке оказалось семьдесят пять тысяч франков.
Жиллиат сложил их, спрятал назад, всыпал туда золотые монеты и закрыл табакерку как можно плотнее.
Затем принялся рассматривать пояс.
Кожа, когда-то лакированная с наружной стороны, с внутренней казалась шероховатой. На этой стороне жирными чернилами были выведены буквы. Жиллиат, вглядевшись в них, прочитал: «Клюбен».
В разнице между шестью дюймами и двумя футами кроется смерть
Жиллиат вложил коробочку в пояс и положил пояс в карман своих штанов.
Затем он оставил скелет, крабов и мертвого спрута.
Пока Жиллиат сражался с осьминогом и возился со скелетом, прилив поднялся настолько, что вход в коридор оказался затопленным. Выбраться теперь можно было только вплавь. Для Жиллиата это не составило никакого труда.
Читателю теперь нетрудно разгадать ту драму, которая произошла в этом месте десять недель назад. Одно чудовище пало жертвой другого. Спрут сожрал Клюбена.
Жиллиат стал возвращаться, пробираясь по камням, разыскивая по дороге раковины и морские орехи. Теперь он не хотел крабов. Ему казалось, что они должны пахнуть человеческим мясом.
Впрочем, его уже мало тревожил вопрос о еде. Ничто больше его не удерживало. Сильные бури всегда сопровождаются спокойной погодой, которая продолжается несколько дней. Море больше не грозило никакими опасностями. Жиллиат решил отплыть утром. Нужно было еще сохранить на ночь перегородку, закрывавшую вход в пролив; Жиллиат рассчитывал снять ее утром, вывести барку из ущелья и взять курс на Сен-Сампсон. Дул легкий ветерок с юго-востока. Это был именно тот ветер, в котором он нуждался.
Наступило новолуние, начало мая. Дни были длинны.
Когда Жиллиат, немного утолив голод, вернулся в ущелье, где стояла барка, солнце уже зашло и на море опустились сумерки. Молодой месяц светил слабо. Был полный прилив. Труба машины, заливаемая во время бури пеной, покрылась соляным осадком, блестевшим при свете луны.
Это напомнило Жиллиату, что дождь и буря заполнили барку водой, и, если он хочет наутро отправляться в путь, ему необходимо вычерпать ее из лодки.
Отправляясь на охоту за крабами, он убедился, что воды в барке набралось на шесть дюймов. С помощью черпака ее легко было удалить.
Приблизившись к барке, Жиллиат задрожал от ужаса: в ней было воды не меньше чем на два фута.
Открытие ошеломило Жиллиата. Судно дало течь.
Во время отсутствия Жиллиата оно медленно наполнялось водой. При том грузе, который в нем находился, достаточно было двадцати дюймов воды для того, чтобы положение стало опасным. А если воды будет больше, барка неминуемо погибнет. Если бы Жиллиат явился на час позже, он, вероятно, увидел бы лишь верхушку трубы и мачту, торчащие из воды.
Нельзя было терять ни минуты. Нужно найти течь, заткнуть ее, а затем удалить воду из барки или, по крайней мере, уменьшить ее количество. Насосы Дюранды погибли во время крушения. Жиллиату пришлось довольствоваться своим черпаком.
Прежде всего необходимо отыскать дыру.
Жиллиат принялся за дело тотчас, даже не одевшись, хотя он дрожал от холода. Теперь ему было не до того.
Барка продолжала наполняться. К счастью, ветра не было. Малейшее волнение погубило бы все.
Луна скрылась.
Жиллиат, сидя на корточках, долго искал пробоину. Наконец он ее обнаружил.
Во время бури барка несколько раз сильно ударялась об утесы. Один из выступов Малого Дувра нанес ей рану.
К несчастью, трещина была именно там, где пересекались две нижние дуги обшивки. Неудивительно поэтому, что во время беглого осмотра барки после грозы Жиллиат ее не заметил. Пробоина была широкой, но зато она находилась довольно высоко в борту. В тот момент, когда утес пробил дыру, вода в ущелье бурлила достаточно сильно, она проникла в трещину, лодка под давлением новой тяжести опустилась на несколько дюймов, и поэтому теперь, когда море успокоилось, пробоина продолжала оставаться под водой. Именно это и увеличило опасность. Вместо шести дюймов воды в судне набралось целых двадцать. Но, заткнув трещину, можно было вычерпать воду из лодки. Облегченная барка поднимется выше, трещина окажется над водой, и тогда хоть и с трудом, но ее можно будет починить. В распоряжении Жиллиата, как мы уже говорили, оставались плотничьи инструменты.
Однако сколько неожиданностей еще поджидало его! Сколько опасностей! Сколько неудобств! Жиллиат слушал журчание воды. При сотрясении все должно было погибнуть. Какое несчастье! Быть может, уже поздно и ему не удастся ничего сделать.
Жиллиат горько упрекал себя. Он обязан был заметить пробоину раньше. Шесть дюймов воды в лодке должны были привлечь его внимание. Как глупо с его стороны вообразить, будто барку могли наполнить водой пена и дождь. Он упрекал себя в том, что спал, ел, укорял себя за усталость, даже за то, что была буря, и за то, что теперь темно. Во всем он винил только себя.
Но все эти упреки делал на ходу, не прекращая работать.
Он обнаружил течь. Теперь нужно было заткнуть ее. В данный момент не оставалось другого выхода. Под водой нельзя столярничать.
Благоприятным обстоятельством являлось то, что дыра приходилась как раз между двумя цепями, придерживавшими трубу с одной стороны. Можно было к этим цепям привязать паклю.
Вода прибывала. Ее уровень превышал два фута.
Она была Жиллиату выше колен.
Из глубины ввысь
В распоряжении Жиллиата находился большой просмоленный брезент с кольцами по углам.
Он взял этот брезент, привязал два его конца к цепям с той стороны, где была пробоина, и спустил брезент за борт. Ткань растянулась как скатерть между баркой и Малым Дувром и стала погружаться в воду. Вода затянула ее под барку, так что она закрыла дыру. Чем сильнее нажимала вода, тем плотнее прилегал брезент к борту лодки. Он отделил течь от волн. Ни одна капля воды не проникала больше в судно.
Течь была замаскирована, но не заделана. Однако это все же стало передышкой.
Жиллиат взял черпак и принялся выливать воду. Следовало облегчить лодку. Работа согрела его немного, но он валился с ног от усталости.
Жиллиат понял, что у него не хватит сил вычерпать воду до конца. Он почти ничего не ел и был изнурен.
Он следил за тем, насколько понижается уровень воды. Но работа шла медленно. Вода все еще доходила ему до колен.
К тому же приток ее прекратился лишь на время. Беда была отсрочена, но не устранена. Брезент под давлением волн выдулся в трюме пузырем. Он походил на просунутый в щель кулак. Крепкая, просмоленная парусина не пропускала воды. Но она могла не выдержать натиска, и тогда барке не избежать нового затопления.
Следовало засунуть тампон в пробоину изнутри. У Жиллиата в складе нашлись бы еще тряпки и пакля, но в темноте он не мог заняться поисками. У него была лишь одежда, которую он разложил сушиться на выступах Малого Дувра.
Он собрал ее и снес в барку. Затем свернул свой просмоленный плащ и, стоя на коленях, стал засовывать его в течь, выталкивая наружу вздувшийся брезент. Потом забил туда же овчину, рубашку и куртку.
Наконец, он снял единственное, что оставалось на нем — штаны — и тоже засунул их в щель. Новая втулка казалась достаточной.
Но трудно было предположить, что она продержится всю ночь. Обнаженный Жиллиат дрожал от холода. Он принялся опять вычерпывать воду, однако утомленные руки с трудом поднимали полный черпак.
Внезапно в его голове пронеслась мысль: быть может, где-нибудь поблизости покажется парус. Рыбак, проплывающий мимо Дуврских скал, мог бы оказать ему помощь. Наступил момент, когда ему требовалась помощь людей. Нужен был человек и фонарь, и тогда все было бы спасено. Вдвоем они быстро вычерпали бы воду. Барка поднялась бы, пробоина бы обнажилась, и он немедленно заменил бы затычку куском обшивки — временный пластырь постоянным. Иначе приходилось дожидаться рассвета, ждать целую ночь.
Жиллиата охватила лихорадка. Если бы вдали показался парус, Жиллиат мог бы подать ему сигнал с вершины Большого Дувра. Погода тихая, ветра нет, море спокойное, легко заметить человека, подающего знаки с вершины утеса. Капитан любого судна, хозяин барки, никто не может пройти ночью мимо Дуврских скал, не осмотрев их в подзорную трубу; этого требует предосторожность.
Жиллиат надеялся, что его заметят.
Он взобрался на обломки Дюранды, ухватился за веревку и полез на вершину Большого Дувра.
На горизонте не было ни одного паруса. Море выглядело пустынно.
Помощи ждать неоткуда.
В первый раз за все время Жиллиат почувствовал себя обезоруженным.
Темная судьба настигла его. Он был обречен на гибель в пучине вместе с баркой, с машиной и со своим мужеством. У него не осталось больше сил для борьбы.
Он победил одиночество, голод, жажду, холод, лихорадку, труд и сон. Все силы ополчились против него. После лишений — стихия; после прилива — буря; после шторма — спрут; после чудовища — призрак смерти.
Мрачная ирония конца! Из глубины подводных камней, откуда Жиллиат надеялся выйти с победой, мертвый Клюбен смотрел на него и смеялся.
Череп имел право на смех. Жиллиат чувствовал свою гибель. Ему казалось, будто он так же мертв, как и Клобен.
Он нашел средства против всех препятствий, встретившихся ему на пути. Но эта последняя ловушка сразила его. Как бороться с водой, медленно проникающей в барку и упорно тянущей ко дну плоды всех его нечеловеческих усилий?
Жиллиату казалось, что тело его окончательно изнемогает от холода, усталости, бессилия, тьмы, мольбы о спасении. Глаза его закрылись.
И неизвестность имеет уши
Прошло несколько часов.
Поднялось сверкающее солнце.
Его первые лучи осветили покоящееся на вершине Большого Дувра неподвижное тело. Это был Жиллиат.
Он лежал на утесе.
Окоченевшие члены не шевелились. Смеженные веки были бледны. Трудно поверить, что это не труп.
Солнце как будто разглядывало его.
Если этот нагой человек и не умер, он был настолько слаб, что малейший ветер, казалось, мог его убить.
А ветерок, между тем, начал дуть теплым, весенним дыханием мая.
Солнце поднималось по ярко-синему небу. Его лучи становились все менее косыми. Они начали сильно пригревать Жиллиата.
Он не шевелился. Если и дышал, то настолько слабо, что, лишь приставив зеркало к его губам, можно было что-то заметить.
Солнце пригревало Жиллиата все сильнее. Ветер стал совсем теплым.
Тело продолжало оставаться неподвижным. Но кожа казалась уже не такой бледной.
Солнце, приближаясь к зениту, теперь бросало на Жиллиата почти отвесные лучи. Яркий свет лился с небес. К нему присоединилось дыхание согретого моря. Утес начал накаляться, согревая человека.
Глубокий вздох приподнял грудь Жиллиата.
Он был жив.
Солнце продолжало расточать свои ласки, жгучие и палящие. Южный, летний ветер обвевал Жиллиата. Он пошевелился.
Море было изумительно спокойным. Оно напоминало кормилицу, убаюкивающую ребенка. Казалось, море укачивает риф в колыбели.
Морские птицы, знавшие Жиллиата, с беспокойством летали вокруг него. Это было не то дикое беспокойство, что охватило их в первый день. Нежная, братская тревога сквозила в их полете. Они испускали легкие крики, как бы окликая его. Одна из чаек приблизилась к нему и словно заговорила с ним. Но он не слышал. Она опустилась на его плечо и прикоснулась клювом к губам.
Жиллиат открыл глаза.
Удовлетворенные птицы улетели.
Жиллиат встал, потянулся, как разбуженный лев, подбежал к краю площадки и заглянул вниз, в пролив между Дуврами.
Барка была невредима. Затычка, очевидно, удержалась на месте. Море, по-видимому, обошлось с лодкой осторожно.
Все было спасено.
Жиллиат уже не чувствовал усталости. Силы его восстановились. Сон вернул ему бодрость.
Он вычерпал воду, поднял пробоину над уровнем воды, оделся, поел, напился. Он испытывал глубокую радость.
Течь, осмотренная при свете дня, оказалась еще больше, чем предполагал Жиллиат. Это была основательная дыра. На то, чтобы законопатить ее, Жиллиат потратил весь день.
На рассвете следующего утра, сняв перегородку и открыв выход из пролива, одетый в лохмотья, спасшие барку от течи, опоясанный поясом Клюбена, в котором лежало семьдесят пять тысяч франков, стоя в исправленной барке рядом со спасенной машиной, при попутном ветре и спокойном море, Жиллиат отплыл от Дуврских скал.
Он взял курс на Гернзей.
Удаляясь от рифа, запел вполголоса песенку «Бонни-Денди».
Часть III ДЕРЮШЕТТА
Книга I
Ночь и луна. Портовый колокол
Ныне Сен-Сампсон представляет собой почти настоящий город, но сорок лет назад это была еще деревня.
С наступлением весны, когда зимние посиделки кончались, люди не засиживались допоздна и чуть стемнеет отходили ко сну. В Сен-Сампсоне сохранился старый добрый обычай рано задувать свечи. Жители вставали и ложились вместе с солнцем. Старые нормандские деревни в этом отношении похожи на курятники.
Заметим мимоходом, что за исключением нескольких богачей, все население Сен-Сампсона состоит из каменщиков и плотников. В порту производится починка судов. Целыми днями там обтесывают камни и бревна, стучат кирками и топорами. Вечером утомленные рабочие засыпают как убитые. Тяжелая работа влечет за собой крепкий сон.
Как-то вечером, в начале мая, господин Летьерри, поглядев на луну и прислушавшись к шагам Дерюшетты, которая прогуливалась в саду, дыша ночной прохладой, вошел в свою комнату, окном выходившую в сторону гавани, и собрался лечь спать. Грация и Любовь уже спали. Весь дом, за исключением Дерюшетты, заснул спокойным сном. Город тоже спал. Двери и ставни были закрыты, на улице — ни одного прохожего. Кое-где на чердаках мелькали одинокие огоньки, указывающие на то, что в некоторых домах слуги еще не уснули. На старой колокольне церкви Сен-Сампсона пробило девять часов.
Популярность господина Летьерри основывалась на его удаче. Как только везение покинуло этого господина, все отвернулись от него. Можно подумать, несчастье заразительно, неудачники — прокаженные, — с такой быстротой они попадают в карантин. Молодые люди начали избегать Дерюшетту: дом старика был теперь настолько изолирован, что Летьерри и Дерюшетта не слыхали даже великой новости, взволновавшей весь Сен-Сампсон, — приходский пастор, Эбенезер Кодре, разбогател. Его дядя, декан Сен-Асафа, умер в Лондоне. Почтовое судно «Кашмир», которое пришло сегодня утром из Англии и привезло такую новость, покачивалось теперь на рейде в порту Сен-Пьер. Завтра в полдень «Кашмир» собирался уйти обратно в Англию. Пастор должен был отплыть на нем, чтобы явиться в Лондон для вскрытия завещания и прочих формальностей, связанных с получением крупного наследства. Весь день в Сен-Сампсоне только и говорили об этом. Все разговоры вращались вокруг молодого пастора и покойного дяди, богатства Кодре, его отъезда и возможного возвращения. Лишь один дом — «Смельчаки» — оставался безмолвным.
Летьерри, не раздеваясь, упал на койку. С тех пор как произошла катастрофа, койка была его единственным убежищем. Все узники проводят бóльшую часть своего времени лежа, а Летьерри — узник горя. Он ложился; это была передышка, отдых от назойливых мыслей. Спал ли он? Нет. Бодрствовал? Тоже нет. В течение двух с половиной месяцев — а со времени крушения прошло два с половиной месяца — Летьерри жил как лунатик. Он все еще не пришел в себя. Он был в том неопределенном состоянии, какое часто приходится испытывать людям, перенесшим сильное горе. Его размышления не представляли собой четкие мысли, сон не являлся для него отдыхом. Днем Летьерри нельзя было назвать бодрствующим, ночью — спящим. Он то стоял, то лежал — вот и все.
Когда Летьерри лежал на койке, он забывался и называл это сном; неясные видения проносились перед ним, обрывки мыслей копошились в мозгу. Он начинал видеть странные вещи: то император Наполеон диктовал ему свои мемуары, то несколько Дерюшетт появлялось перед ним, то он видел странных птиц на деревьях, то улицы на его глазах превращались в змей. Эти кошмары отвлекали его от отчаяния. Так проводил он ночи, а днем погружался в свои думы.
Иногда Летьерри просиживал целые дни у окна своей комнаты, которое, как известно, выходило в сторону гавани. Он сидел, облокотившись, сжав голову кулаками, не замечая всего окружающего и уставившись на кольцо, к которому привязывали Дюранду, ввинченное в стену дома на расстоянии нескольких шагов от окна. Он наблюдал, как кольцо покрывается ржавчиной.
Машинально Летьерри продолжал жить. Самые сильные люди, утратившие свою заветную мечту, доходят до такого состояния. Их жизнь опустошена. Жизнь — это дорога, цель — путеводная звезда. Звезда гаснет, и они останавливаются. Цель утрачена, значит, сила умирает.
Все мысли Летьерри, если это отупение можно было назвать мыслями, погрузились в какую-то темную пропасть. Иногда у него вырывались слова, наподобие таких: «Теперь мне остается только попросить там, наверху, билет на выход».
Одним из противоречий цельного, воспитанного морем характера Летьерри было то, что он не умел молиться. Когда он бывал счастлив, то верил в существование Бога, он как бы ощущал его плотью; Летьерри говорил с ним, дружески хлопая его по плечу. Но в минуты несчастья Бог для него исчезал.
Единственной радостью Летьерри в его теперешнем состоянии являлась улыбка Дерюшетты. Весь остальной мир был беспросветно мрачен. Но с некоторых пор, вернее, с тех пор, как погибла Дюранда, улыбка появлялась на лице Дерюшетты все реже и реже. На ее личико лег отпечаток заботы. Ее обаяние очаровательной птички поблекло. По утрам, когда при восходе солнца раздавался пушечный выстрел, она уже больше не приседала в веселом реверансе, говоря: «Бум! Здравствуйте, солнышко, милости просим!» Временами она становилась серьезной, что так не красило ее. Она делала над собой усилия для того, чтобы смеяться и развлекать господина Летьерри, но ее радость тускнела с каждым днем и покрывалась пылью, как крыло бабочки, которую проткнули булавкой.
Ко всему прочему, то ли из-за того, что горе дяди отозвалось на ней, то ли по каким-то другим причинам, она вдруг стала очень набожной. При пасторе Жакмене Героде Дерюшетта посещала церковь не больше четырех раз в год. Теперь же она превратилась в усердную прихожанку, не пропуская ни одной службы по четвергам и воскресеньям. Многие с удовлетворением отмечали эту перемену, находя, что для девушки, подвергающейся стольким искушениям со стороны мужчин, не может быть ничего лучше, как обратиться к Господу. Когда девушка религиозна, родные могут быть, по крайней мере, спокойны относительно ее нравственности.
По вечерам, если стояла хорошая погода, Дерюшетта прогуливалась час-другой в своем саду, она бывала здесь всегда одна и в состоянии почти такой же задумчивости, как Летьерри. Девушка ложилась спать позже всех, что, однако, не мешало Грации и Любови постоянно подглядывать за ней. Прислуга не может обойтись без этого: подглядывание скрашивает тяжелый труд.
Летьерри, находясь в полусознательном состоянии, не замечал таких маленьких перемен в привычках Дерюшетты. Да он по натуре своей и не годился в няньки. Он даже не обратил внимания на то, с каким рвением Дерюшетта стала посещать церковь. Иначе, при том предубеждении, с которым старик относился к церкви и священникам, он был бы недоволен этим.
Но и его моральное состояние мало-помалу изменялось. Печаль — облако с изменчивыми очертаниями. Это не значит, что он перестал страдать, но острота первых переживаний прошла, и понемногу Летьерри, не становясь менее печальным, стал менее безвольным. Теперь он был подвижнее, начал подавать признаки медленного возвращения к действительности.
Сидя однажды в зале нижнего этажа, он услышал разговор, хотя и не прислушивался к нему. Грация радостно сообщала Дерюшетте, что господин Летьерри сорвал бандероль с журнала. Это полуоживление было хорошим признаком. Несчастья оглушают, потом человек понемногу начинает приходить в себя. Вначале такое пробуждение бывает очень болезненным. Человек с новой силой ощущает горечь утраты, вспоминает все подробности потрясения. В подобном состоянии находился теперь Летьерри. Его переживания стали острее.
Внезапное потрясение, пережитое им, окончательно вернуло его к действительности.
Вот что произошло.
Однажды днем, числа 15–20 апреля, у двери дома раздался стук почтальона. Любовь открыла дверь. Ей подали письмо.
Послание прибыло из-за моря и адресовалось господину Летьерри. На нем стоял штемпель «Лиссабон». Любовь отнесла письмо хозяину, тот сидел, запершись в своей комнате. Он взял его и машинально положил на стол, даже не взглянув на конверт.
Около недели запакованное письмо провалялось на столе. Но в одно прекрасное утро Любовь сказала Летьерри:
— Сударь, можно стереть пыль с этого письма?
Летьерри очнулся.
— Ах да, — проговорил он и распечатал послание.
Вот его содержание:
В открытом море, 10 марта
Господину Летьерри, в Сен-Сампсон
Вы рады будете услышать обо мне. Я плыву на «Тамолипасе» и никогда больше не вернусь в ваши края. Среди экипажа находится матрос Тостевен с Гернзея, который вернется и сможет подтвердить вам все то, что я пишу. Я пользуюсь встречей с кораблем «Кортес», чтобы отправить на нем это письмо. Можете удивляться. Я честный человек. Такой же честный, как господин Клюбен. Думаю, вы уже знаете о происшедшем. Считаю все же полезным повторить. Дело в следующем: я вернул вам ваши деньги. Я взял у вас несколько необычным способом пятьдесят тысяч франков. Прежде чем покинуть Сен-Мало, я вручил вашему поверенному, господину Клюбену, три банковых билета в тысячу фунтов стерлингов каждый. Это составляет семьдесят пять тысяч франков. Надеюсь, вы согласитесь, что проценты достаточны. Господин Клюбен горячо защищал ваши интересы и охотно взялся передать вам деньги. Он взялся за это с таким рвением, что я решил вас предупредить.
Второй ваш поверенный
РантенP. S. Господин Клюбен был вооружен револьвером, и это помешало мне получить с него расписку.
Прикоснитесь к адской машине, к заряженной лейденской банке, и тогда вы испытаете то, что почувствовал Летьерри, прочитав письмо.
В этом конверте, на этом сложенном вчетверо листке бумаги, который он вначале почти не заметил, заключалось взрывчатое вещество. Он узнал почерк, подпись, но что касается самого факта, то в первую минуту ничего не понял. Потрясение сразу привело его мозг в нормальное состояние.
Семьдесят пять тысяч франков, врученные Рантеном Клюбену, являлись загадкой, однако в то же время сыграли благотворную роль в этом потрясении, заставив мозг Летьерри трудиться. Делать предположения — полезная работа для ума. Разум просыпается и зовет на помощь логику.
Общественное мнение о Клюбене, столько лет пользовавшемся репутацией безукоризненной честности, с некоторых пор поколебалось.
В Сен-Мало было произведено судебное расследование с целью выяснить, что произошло с береговым сторожем номер 619. Но власти, как это часто бывает, впали в ошибку. Они остановились на предположении, что Зуэла уговорил сторожа бежать и увез его на «Тамолипасе» в Чили. Эта ошибка повлекла за собой ряд других. Производившие расследование были настолько близоруки, что даже не заметили Рантена. Однако попутно выяснилось много непонятных подробностей, еще более запутавших дело. К загадке присоединилось имя Клюбена. Обратили внимание на совпадение, а быть может, даже на связь между уходом «Тамолипаса» и гибелью Дюранды. В кабачке, где Клюбен надеялся появиться неузнанным, его узнали; хозяин кабачка показал, что Клюбен купил у него бутылку водки. Для кого? Оружейник с улицы Сен-Винсента заявил, что Клюбен приобрел револьвер. Зачем? Хозяин трактира в Сен-Мало, давая показания, сказал: Клюбен куда-то отлучался по вечерам; капитан Жертре Габуро заявил: Клюбен хотел выйти в море во что бы то ни стало, несмотря на то что он предупреждал его о тумане. Члены экипажа Дюранды в один голос твердили: погрузка парохода была произведена так небрежно, что, казалось, капитан готовился к крушению. Пассажир-гернзеец сказал: Клюбен в последнюю минуту поверил, что судно налетело на утес Гануа; жители Тортеваля рассказывали: несколькими днями раньше Клюбен был в Пленмонте, напротив утеса Гануа. Когда он шел туда, то нес дорожный мешок, возвращался же с пустыми руками. Разорители гнезд тоже поведали о своем приключении. Исчезновение Клюбена становилось ясным, если в их рассказе заменить привидения контрабандистами.
Наконец дом в Пленмонте также давал показания; нашлись смельчаки, которые забрались туда и обнаружили там… что? Ни более ни менее, как дорожный мешок Клюбена. Тортевальская таможня конфисковала этот мешок и вскрыла его. В нем лежала провизия, подзорная труба, хронометр и белье с метками Клюбена.
Все это обсуждалось в Сен-Мало и по всему острову, и в конце концов люди убедились в том, что здесь замышлялось какое-то темное дело. Сопоставляли все эти обстоятельства. Нельзя было не обратить внимания на то, что капитан пренебрег предостережениями относительно погоды, на то, что он купил водку, на то, что рулевой опьянел, на то, что Клюбен сам стал к рулю, на неловкий поворот руля. Его героическое решение остаться на пароходе теперь выглядело как хитрость. Оставалось предположить, что Клюбен ошибся скалой. Если это так, то его решение разбиться об утес Гануа становилось понятным: от этого места легко было добраться до берега вплавь, засесть в «нечистом» доме и ждать возможности бежать. Дорожный мешок указывал на правдоподобность такого предположения. Но какое отношение все это имело к исчезновению берегового сторожа, оставалось непонятным. Все смутно сознавали: определенная связь здесь должна быть — но не больше. Выяснилось лишь то, что со сторожем номер 619 произошла какая-то драма. Возможно, Клюбен сам не играл в ней роли, однако в таком случае он должен был стоять за кулисами. Но самое главное оставалось непонятным: какую цель он мог преследовать? И зачем ему понадобился револьвер?
Зачем он разбил судно? Человек, не имея на то серьезных оснований, не бросает в тумане корабль на подводный риф, не готовится плыть к берегу и затем бежать в дальние страны. Каковы же причины, толкнувшие на это Клюбена?
В этом оставался огромный пробел. И вот теперь письмо Рантена заполняло его. Письмо вскрывало тайные цели Клюбена: украсть семьдесят пять тысяч франков. Рантен дал разгадку. Он свалился с неба с фонарем в руке. Его послание пролило последний луч света на темное дело. Оно объясняло все и даже называло свидетеля — матроса Тостевена. Помимо того, письмо давало объяснение покупки револьвера. Выяснилось, что Рантен был прекрасно осведомлен обо всем. Его послание давало возможность понять самую суть дела.
Не оставалось больше никаких обстоятельств, смягчающих вину Клюбена. Он предвидел крушение: доказательством служил мешок, найденный в «нечистом» доме. Если Клюбен был невиновен, разве не мог он в последнюю минуту, жертвуя собой и оставаясь на пароходе, вручить кому-нибудь из сидевших в шлюпке семьдесят пять тысяч франков для передачи господину Летьерри? Это слишком очевидно. Теперь всем стало ясно, что представлял собой Клюбен. Но он, очевидно, стал жертвой собственной ошибки и погиб на Дуврских скалах.
Такие размышления и соображения в течение нескольких дней занимали мысли Летьерри. Письмо Рантена оказало ему услугу, вернув способность думать. Сначала он был ошеломлен, затем мозг его начал бешено работать. Сделав над собой огромное усилие, Летьерри принялся собирать сведения. С этой целью он даже заговорил с людьми. Через восемь дней старик совершенно пришел в себя. Он вышел из состояния оцепенения, стал снова связно рассуждать и почти выздоровел.
Если господин Летьерри в глубине души еще рассчитывал поправить свои дела с помощью денег, когда-то похищенных у него Рантеном, то письмо отнимало у него и эту последнюю надежду.
К потере Дюранды прибавилась новая утрата — семидесяти пяти тысяч франков. Известие об этих деньгах пришло как бы для того, чтобы дать ему глубже почувствовать, что он потерял. Письмо подтверждало — он разорен окончательно.
Летьерри, как мы уже говорили, пришел в себя, но теперь страдал еще сильнее. После двухмесячного перерыва он принялся заниматься хозяйством, думать о том, какого ремонта требует дом. Мелкие заботы жалят человека тысячами игл, и это бывает иногда болезненнее, чем глубокое отчаяние. Переживать несчастье по мелочам, отвоевывать у свершившегося факта шаг за шагом почву, которую он выбил у вас из-под ног, — ужасно. Глыбу горя можно вынести, но пыль его страшна. Большое несчастье оглушает, а мелочи превращаются в пытку.
В тот майский вечер, о котором уже шла речь, Летьерри, покинув Дерюшетту, гуляющую по саду при лунном свете, отправился в свою комнату в более тяжелом душевном состоянии, чем обычно.
Все эти неприятные скучные мелочи, сопровождающие разорение, все третьестепенные заботы, вначале кажущиеся нелепыми, а потом вырастающие в грозные вопросы, копошились в его голове. Неприятности росли и множились. Что делать? Как быть? На какие жертвы нужно будет обречь Дерюшетту? Кого уволить — Любовь или Грацию? Может, продать дом? Не придется ли покинуть остров? Стать ничем там, где ты был недавно всем, — поистине невыносимо.
Все эти мысли терзали Летьерри. Про себя он рыдал. Никогда еще так горько не переживал своего банкротства. Затем его волнение сменилось тяжелым забытьем, и он задремал.
Около двух часов Летьерри пролежал со смеженными веками, не переставая сквозь сон лихорадочно думать. Утомительная работа мысли часто не прекращается, когда мы спим. Ночью, должно быть, в полночь или немного позже, сон покинул его. Он проснулся, открыл глаза, взглянул в окно, расположенное напротив его койки, и увидел нечто невероятное.
Перед окном торчал какой-то предмет странной формы. Это была пароходная труба.
Летьерри порывисто приподнялся на тюфяке. Койка закачалась, как на корабле во время бури. Летьерри впился глазами в окно. В него заглядывало привидение. Гавань залита лунным светом, а перед самым домом покачивался прямой, черный, круглый силуэт.
Это был дымоход от паровой машины.
Летьерри соскочил с койки, бросился к окну, распахнул раму, перевесился через подоконник и узнал его.
На старом месте возвышалась дымовая труба Дюранды.
Четырьмя цепями она была прикреплена к бортам лодки, в которой виднелась какая-то черная масса странных очертаний.
Летьерри, отвернувшись от окна, бессильно сел на койку. Затем он опять повернулся: видение не исчезало.
Через мгновенье он уже был на набережной, с фонарем в руках.
К старому кольцу причала Дюранды была привязана барка, нагруженная каким-то громоздким черным предметом, увенчанным торчавшей трубой. Нос барки упирался в набережную. В ней никого не было. Но эту лодку, непохожую на остальные, знал весь Гернзей. Это — барка Жиллиата.
Летьерри, прыгнув в нее, бросился к черному предмету, лежавшему возле мачты. Он обнаружил машину.
Механизм парохода находился тут весь, в целости, исправности, на квадратной чугунной подставке; топка не была повреждена; колесный вал прикреплен тут же; насос на месте; словом, все в порядке.
Летьерри изучал машину при свете луны и фонаря. Он оглядел весь механизм, увидел два ящика, лежавшие сбоку, осмотрел колесный вал, затем заглянул в топку: она была пуста. После этого старик ощупал всю машину, засунул в нее голову, стал перед ней на колени, поставил фонарь внутрь. Свет фонаря осветил внутренность топки, и казалось, в ней разведен огонь.
Тогда Летьерри расхохотался и, не сводя глаз с машины, протягивая к ней руки, закричал:
— На помощь!
В нескольких шагах от него на набережной висел портовый колокол. Летьерри подбежал к нему, схватил веревку и стал неистово ее раскачивать.
Колокольный звон продолжается
Жиллиат благополучно добрался до берега, но так как барка была перегружена, он продвигался медленно и подошел к Сен-Сампсону уже около десяти часов ночи.
Жиллиат правильно рассчитал время. Прилив начался, луна светила ярко; войти в гавань было легко.
Гавань спала. На рейде покачивалось несколько судов, фонари были потушены. В глубине виднелись лодки, вытащенные на берег для починки. Их огромные корпуса с потрепанными мачтами напоминали мертвых жуков, перевернутых на спину, с поднятыми кверху лапами.
Жиллиат осмотрел порт и набережную. Света не было нигде, темнота царила и в доме Летьерри. Ни одного прохожего. Только возле дома пастора мелькнула какая-то тень, но нельзя было разобрать, вошел или вышел оттуда человек. Собственно говоря, трудно даже сказать, был ли это человек, потому что ночь скрадывает очертания предметов, а луна делает их расплывчатыми. К тому же это было довольно далеко. Дом пастора находился по ту сторону порта.
Бесшумно подплыв к дому Летьерри, Жиллиат привязал лодку к старому кольцу Дюранды под окном старика. Затем он соскочил на берег.
Жиллиат обошел вокруг дома, прошел по переулку, не взглянув даже на тропинку, которая вела в Бю-де-ля-Рю, и через несколько минут остановился около ниши в стене, летом наглухо зараставшей зеленью. В этой нише он столько раз сидел в летние дни, скрытый ветками шиповника, наблюдая через ограду, которую не смел перешагнуть, сад, прилегавший к дому, и два окна одной из комнат. Найдя все то же углубление в стене, тот же камень и темный уголок, Жиллиат, как животное, вернувшееся в свою нору, проскользнул туда и притаился. Он сел на камень и, не шевелясь, стал смотреть на сад, дорожки, группы деревьев, цветочные клумбы и два окна второго этажа. Луна ярко освещала перед ним это видение. Как ужасно, что человек должен дышать! Жиллиат прилагал все усилия для того, чтобы не делать этого.
Ему причудилось, будто перед ним раскрылся призрачный рай. Он боялся, что все это исчезнет. Жиллиату казалось невероятным, что он видит все наяву. А если это и так, видение, как бы то ни было, неизбежно должно рассеяться. Достаточно подуть, и все изчезнет — думал Жиллиат.
Совсем близко от него, за оградой сада, стояла скамья, выкрашенная в зеленый цвет. О ней мы уже упоминали.
Жиллиат смотрел на окна. При мысли о том, что в этой комнате кто-то спит, он ощутил волнение: ему хотелось не быть там, где он находился; но тут же он почувствовал, что лучше умереть, чем уйти отсюда. Жиллиат подумал о дыхании, вздымающем спящую грудь. Она, это светлое видение, лучезарный образ, постоянно живший в его воображении, — она была там. В его голову пришла мысль о недосягаемом счастье, которое было так близко от него, о том, что она спит и, возможно, видит сладкие сны. Он думал о желанном, далеком, неуловимом создании, которое лежит с закрытыми глазами, положив руку на пылающий лоб; о том, какие сны может видеть это чистое существо, о грезах своей грезы.
Он не смел помышлять ни о чем ином, но все же думал, думал уже не с той почтительностью, что раньше, о женских прелестях ангела, воплотившегося в человеческий образ. Ночь придает дерзость стыдливым глазам. Жиллиат опасался своих мыслей, боялся оскорбить чистый образ, хранящийся в его душе, но воображение, помимо воли, рисовало ему незримые картины. С содроганием, испытывая сладкую боль, представлял он себе юбку, брошенную на стул, накидку, лежащую на ковре, расстегнутый пояс, косынку. Ему чудился корсет, шнуровка которого тянется по полу, чулки, подвязки. Звезды ярко горели в его душе.
Звезды любви блестят в сердце бедняка так же ослепительно, как в сердце миллионера. Всякий человек подвержен страстям, и они тем глубже, чем более дикой и первобытной является его душа. Дикарь всегда бывает мечтателем.
Восторг переполнил душу Жиллиата через край. Смотреть на ее окна — это слишком много для него.
И вдруг он увидел ее саму.
Из тени ветвей, уже покрытых весенним пухом, медленно появилась освещенная фигура, платье, божественное лицо, сияющее так же ярко, как луна.
Жиллат почувствовал, что силы покидают его. Это была Дерюшетта.
Она приблизилась к ограде, остановилась, потом отошла на несколько шагов обратно вглубь сада, но раздумала, вернулась и села на скамью. Луна светила сквозь ветви деревьев, небольшие облака плыли по небу, закрывая бледные звезды, море шепталось вполголоса с ночными тенями, город спал, на горизонте виднелась легкая дымка. Вся природа была охвачена грустью. Дерюшетта нахмурила лоб, глядя вперед напряженным, отсутствующим взглядом. Она сидела в профиль к Жиллиату, голова ее была почти непокрыта: сбившийся чепчик не прикрывал вьющиеся на затылке волосы. Дерюшетта машинально наматывала на палец ленту от чепчика. Руки ее казались мраморными, платье при лунном свете выглядело ослепительно белым. Верхушки деревьев слегка колыхались, как бы очарованные ее присутствием. Из-под подола платья виднелись носки ее туфелек. Ресницы Дерюшетты были сжаты, словно старались удержать непрошеную слезу или тайную мысль. Казалось, руки девушки ищут, на что опереться, и это придавало всей ее фигуре оттенок воздушности, летучести. Она напоминала видение, отблеск лунного света. Платье падало вокруг ее ног красивыми складками, прелестное личико было невинным и задумчивым. Она находилась так близко, что у Жиллиата замирало сердце. Он слышал ее дыхание.
В глубине сада раздавалось пение соловья. Порывы ветерка среди ветвей оживляли ночную тишину. Дерюшетта казалась сотканной из лучей и аромата. Таинственное очарование ночи окружало девушку, и она была ее воплощением. Она была цветущей душою окружавшей ее ночи.
Очарование Дерюшетты ошеломило Жиллиата. Он чувствовал невероятное волнение. Его состояние нельзя описать словами. Каждое переживание ново, слова же избиты. Поэтому невозможно передать то, что ощущал Жиллиат. Восторг может действовать на человека подавляюще. Видеть Дерюшетту, ее платье, чепчик, ленту, которую она наматывает на палец, — можно ли объяснить, что это значит? Быть рядом с ней — возможно ли это? Слышать, как она дышит. Да разве она дышит? Значит, цветы дышат. Жиллиат содрогнулся. Он был самым жалким и опьяненным человеком. Он не знал, что ему делать. Наслаждение убивало его. Как! Неужели это она? Неужели это он? Его мысли, неясные и спутанные, тянулись к Дерюшетте, как мысли нищего к драгоценному камню. Он смотрел на ее затылок, ее волосы. Он не смел подумать о том, что все это теперь принадлежит ему, что скоро, быть может, завтра он будет иметь право снять этот чепчик, развязать эти ленты. Так далеко его мечты не заходили. Прикоснуться мысленно — это все равно что дотронуться рукой. Любовь была для Жиллиата, как мед для медведя, далекой и нежной мечтой. Он не знал, что с ним происходит. Соловей продолжал петь. Жиллиату казалось, будто он умирает.
Встать, перескочить через ограду, подойти, сказать: «Это я», заговорить с Дерюшеттой — такие мысли даже не приходили ему в голову. Если бы она позвала его, он бы убежал. Похоже, в его мозгу промелькнуло лишь такое: Дерюшетта здесь, ему больше ничего не нужно, теперь для него начинается вечность.
Внезапный шорох заставил обоих очнуться: ее — от мечтательности, его — от экстаза.
По саду кто-то шел. Деревья скрывали фигуру человека. Походка была мужская.
Дерюшетта подняла глаза.
Звук шагов приблизился, затем стих. Идущий остановился. Он был совсем близко. Тропинка, что вела от скамьи, терялась в кустах. Там, в нескольких шагах от нее, стоял человек. Кусты были расположены так, что не скрывали от Дерюшетты мужчину, застывшего в чаще зелени, но Жиллиат его не видел. Он наблюдал лишь за тенью на дорожке. Жиллиат взглянул на Дерюшетту.
Она была бледна. На ее раскрытых устах замер крик изумления. Девушка приподнялась, но снова упала на скамью. Казалось, она хочет убежать и в то же время остаться на месте. В ее изумлении отражался одновременно и страх и восторг. Ее губы улыбались, а на глаза навернулись слезы. Дерюшетта совершенно преобразилась, словно увидела перед собой неземное существо. В ее взгляде ощущалось присутствие ангела, представшего перед ней.
Тень, которую видел Жиллиат, заговорила. Из чащи раздался нежный, похожий на женский, голос, но он принадлежал мужчине. Вот что услыхал Жиллиат:
— Мадемуазель, я вижу вас по воскресеньям и четвергам. Мне сказали, что раньше вы так часто не посещали церковь. Простите, что передаю вам эти слова. Я никогда не говорил с вами: это был мой долг. Сейчас я обращаюсь к вам, ибо теперь это тоже мой долг. Я должен поговорить с вами. «Кашмир» отплывает завтра. Поэтому я и пришел сюда. Вы гуляете по вечерам в саду. Мне не подобало бы знать ваши привычки, если бы мои намерения не были честны. Мадемуазель, вы бедны; с сегодняшнего утра я богат. Хотите ли вы быть моей женой?
Дерюшетта молитвенно сложила руки и безмолвно, не спуская глаз смотрела на говорившего, трепеща с головы до ног.
Мужчина продолжал:
— Я вас люблю. Господь создал человеческое сердце не для того, чтобы оно молчало. Бог обещает вечное блаженство людям, прошедшим свой жизненный путь вдвоем. Во всем мире есть только одна женщина, которая может быть моей женой. Это вы. Я думаю о вас, как о молитве. Моя вера — Господь, моя надежда — вы. Мысль о вас окрыляет меня. Вы моя жизнь, вы мое небо.
— Сударь, — прошептала Дерюшетта, — что вы говорите?
Голос зазвучал вновь:
— Вы моя мечта. Господь не запрещает человеку мечтать. Вы лучезарное сияние, ослепляющее меня. Я люблю вас страстно. Я уверен, что вы олицетворение святой невинности. Я знаю, все уже спят, но я не мог выбрать другой минуты. Помните ли вы то место из Библии, которое нам прочли? Я постоянно думаю о нем и часто его перечитываю. Пастор Герод сказал мне: «Вам нужна богатая жена». Я ответил ему: «Нет, моя жена будет бедна». Мадемуазель, я не приближаюсь к вам, я исчезну безропотно, если вы не пожелаете, чтобы моя тень коснулась ваших ног. У вас в руках моя судьба. Вы приблизитесь ко мне сами, если захотите. Я люблю вас и жду. В вас заключено мое благословение.
— Сударь, — пролепетала Дерюшетта, — я не знала, что меня заметили в церкви по четвергам и воскресеньям.
Голос продолжал:
— Люди бессильны против велений свыше. Любовь — это закон. Брак — земля обетованная. Вы воплощенная красота. Я преклоняюсь перед вами.
Дерюшетта ответила:
— Я не думала, что поступаю плохо, посещая церковь, как все набожные люди.
— Бог создал цветы, зарю, весну, — продолжал мужчина, — и велел им любить. Как вы прекрасны среди этой таинственной ночной темноты. Этот сад создан вами, и в аромате цветов таится ваше дыхание. Встреча двух душ неподвластна им. Помимо вашей воли мы оба очутились здесь. Все, что я сделал, — это ощутил любовь к вам. Несколько раз я наблюдал за вами. Я не имел на это права, но что мне оставалось? Глядя на вас, я испытывал блаженство. Соединить вашу душу со своей — это рай на земле, и я мечтаю о нем. Согласны ли вы? До тех пор, пока был беден, я молчал. Завтра уезжаю. Если вы мне откажете, я не вернусь сюда. Хотите ли вы сопровождать меня? Я люблю вас и жду вашего ответа. Я поговорю с вашим дядей, как только он сможет меня принять, но раньше обращаюсь к вам. Просить руки Ревекки нужно у самой Ревекки. Даже если вы меня не любите…
Дерюшетта, опустив голову, прошептала:
— О! Я обожаю его.
Девушка произнесла это так тихо, что ее слышал только Жиллиат.
Она продолжала сидеть с опущенной головой, как бы стараясь укрыть в тени свои мысли.
Наступило молчание. Листва не шевелилась. Это был тот величественный момент, когда вещи засыпают вместе с людьми и кажется, будто ночь прислушивается к биению сердца природы. Лишь тихий плеск моря нарушал столь великую гармонию тишины.
Затем вновь раздался голос:
— Мадемуазель!
Дерюшетта вздрогнула.
Голос продолжал:
— Я жду.
— Чего?
— Вашего ответа.
— Господь слышал мой ответ, — сказала Дерюшетта.
Голос мужчины стал звонче и в то же время мягче. Из чащи кустов донеслись такие слова:
— Ты моя невеста. Встань и иди сюда. Пусть небо и звезды будут свидетелями слияния наших душ и нашего первого поцелуя.
Дерюшетта поднялась, на несколько мгновений она застыла, смотря вперед и встретившись взглядом с другими глазами, глядевшими на нее из кустов. Затем, с поднятой головой, с опущенными руками, она медленным шагом, словно ступая по шаткому мостику, подошла к кустам и исчезла в их чаще.
Время бежит как струя песка в песочных часах, но в нашей жизни бывают минуты, когда мы не замечаем этого бега. Сколько длилось это мгновение для влюбленных, которые слились, не зная о свидетеле, и для свидетеля, не видевшего их, но знавшего об их присутствии? Однако внезапно до них донесся далекий шум и голос, кричавший: «На помощь!». Вслед затем раздался звон колокола. Влюбленные, опьяненные счастьем, ничего не слышали.
Колокол продолжал звонить. Тот, кто вздумал бы искать Жиллиата в нише стены, уже не нашел бы его там.
Книга II
Жестокость вместо благодарности. Радость и тоска
Господин Летьерри неистово звонил в колокол. Внезапно он застыл. Из-за угла набережной показался человек. Это был Жиллиат.
Летьерри подбежал к нему, вернее, бросился на него, сжал обеими руками его руку и несколько мгновений молча смотрел ему в глаза. Такое молчание наступает в те моменты, когда переживания слишком остры и не могут найти себе выхода…
Потом, не переставая тормошить и тянуть Жиллиата за собой, сжимать его руки, он втащил молодого человека в нижнюю залу своего дома, распахнув дверь ударом ноги. Летьерри упал на стул, стоявший возле стола, который освещала луна, бросавшая бледный отсвет на лицо Жиллиата. Старик закричал, и в голосе его слышались одновременно смех и рыдания:
— Ах, сын мой! Ах, ночной музыкант! Жиллиат! Я знал, что это ты! Твоя лодка! Расскажи мне! Ты был там? Сто лет назад тебя сожгли бы за это. Ты совершил волшебство! Все винтики на месте! Я уже все осмотрел, все ощупал, все узнал. Я догадываюсь, что лопасти колес спрятаны в те два ящика. Ты наконец пришел! Я только что искал тебя, был возле твоего дома. Я стал звонить в колокол. Я тебя искал. Я кричал: «Где он, черт побери, я его задушу!» Это невероятно. Бестия этакая, он сумел возвратиться с Дуврских скал! Ты вернул мне жизнь! Дьявол тебя возьми! Ты ангел! Да, да, да, это моя машина! Никто ведь не поверит. Они посмотрят на нее и скажут, что это неправда. И все на месте! Все на месте! До последнего винтика, до последней заклепочки. Труба даже не сдвинулась с места. Просто поверить трудно, что все уцелело. Нужно лишь смазать маслом. Но как тебе удалось это проделать? Подумать только, что Дюранда опять начнет ходить по морю! И колесный вал развинчен. По всем правилам. Да это ведь ювелирная работа! Поклянись мне, что я не сошел с ума. — Он вскочил и переведя дух продолжил: — Поклянись! Боже мой! Я не верю своим глазам, дай-ка ущипну себя. Мне больно, значит, я не сплю. Ты мое дитя, ты мой дорогой мальчик, ты сам Господь Бог. Ах, сын мой! Отправиться на поиски моей машины! В открытое море! На эти утесы! Я видел в жизни много удивительного, но ничего подобного не встречал! Я видел парижан, которые способны на все. Но клянусь, это им было бы не под силу. Это трудней, чем взять Бастилию. Я видел в пампасах земледельцев, у которых вместо сохи изогнутый сук не больше фута длиной, а вместо бороны — пучок терновника, перевязанный ремнем, и с такими орудиями они ухитряются собирать хлебные зерна величиной с орех. Но все это ерунда в сравнении с тем, что сделал ты. Ты совершил настоящее чудо! Ах, бестия! Обними меня! Ты осчастливил весь остров. То-то будет теперь разговоров в Сен-Сампсоне! Я сейчас же займусь постройкой судна. Поразительно, черт возьми, все совершенно цело! Вы слышите, он был на Дуврских скалах! На Дуврских скалах! И совершенно один. Дувры! Что может быть хуже? Да! Ты знаешь, тебе говорили? Доказано, что Клюбен погубил Дюранду, чтобы стянуть деньги, которые он мне вез. Он напоил Тангруя. Длинная история, потом я расскажу тебе об этом негодяе. А я, дурак, верил Клюбену! Но он, мошенник, там и погиб, ему, очевидно, не удалось выбраться. Бог его наказал. Ну вот, Жиллиат, теперь мы живо примемся за дело, и Дюранда будет готова. Мы сделаем ее на двадцать футов длиннее, чем раньше, нынче так строят. Я куплю дерево в Данциге и в Бремене. Теперь, когда у меня есть машина, мне поверят, дадут кредит, мне снова будут доверять!
Летьерри остановился, поднял глаза и, глядя на потолок так, будто видел сквозь него небо, пробормотал: «А все-таки там кто-то есть».
Затем он приставил палец правой руки к переносице, что было свидетельством напряженной работы мысли в его мозгу, и продолжал:
— Но все-таки, для того, чтобы поставить дело на широкую ногу, мне не мешало бы иметь немного наличных денег. Ах, если бы у меня были мои банковые билеты, те семьдесят пять тысяч франков, которые мошенник Рантен мне вернул, а мошенник Клюбен у меня украл!
Жиллиат молча вынул из кармана какую-то вещь и положил ее на стол перед Летьерри. Это был кожаный пояс. Он открыл его и вывернул наизнанку. При свете луны на поясе можно было прочесть надпись: «Клюбен». Затем вытащил из пояса коробочку, а из коробочки три сложенные бумажки. Развернув, протянул их господину Летьерри.
Старик смотрел на билеты. Было светло, и он ясно различил цифру — 1000 и слово — «тысяча». Летьерри схватил все три билета, разложил их рядом на столе, посмотрел на них, взглянул на Жиллиата, несколько мгновений просидел неподвижно, а затем точно взорвался:
— Как! И это! Ты волшебник! Мои билеты! Все три! По тысяче фунтов! Семьдесят пять тысяч франков! Ты, должно быть, спускался в ад! Это пояс Клюбена! Черт возьми! Я прочел на поясе его проклятое имя. Жиллиат спас сначала машину, потом деньги! Вот о чем стоит написать в газетах! Да, я куплю теперь дерево самого лучшего качества! Я догадываюсь, ты нашел его труп. Клюбен издох где-нибудь. Мы купим сосну в Данциге, дуб — в Бремене, мы сделаем прекрасную обшивку: изнутри — дубовую, а снаружи — сосновую. Раньше строили корабли хуже, и они выдерживали дольше; это потому, что лес успевали хорошенько выдержать. А может быть, мы сделаем обшивку из вяза. Дерево быстро гниет, ведь оно то находится в воде, то высыхает; а вяз пропитывается водой и всегда остается сырым. Какую славную Дюранду мы теперь выстроим! Никто не будет мной командовать! Я не нуждаюсь в кредите! У меня есть свои денежки. Ну что вы скажете про Жиллиата! Я валялся на земле, раздавленный, мертвый, а он снова поставил меня на все четыре лапы. А я даже не подумал о нем! Мне даже в голову не могло прийти такое! Все вернулось ко мне! Ах ты, бедняга! Да, между прочим, знаешь — ты женишься на Дерюшетте!
Жиллиат прислонился к стене, как человек, у которого кружится голова, и тихо, но отчетливо проговорил:
— Нет.
Летьерри подскочил:
— Как нет?!
Жиллиат ответил:
— Я ее не люблю.
Летьерри подбежал к окну, распахнул его, захлопнул снова, вернулся к столу, взял банковые билеты, сложил их, спрятал в железную коробочку, взъерошил волосы, схватил пояс Клюбена, швырнул его с силой о стену и проговорил:
— Тут что-то не так! — Засунув руки в карманы, он продолжал: — Ты не любишь Дерюшетту? Значит, что же, ты ради меня играл по ночам на волынке?
Жиллиат, продолжавший стоять, прислонившись к стене, побледнел будто мертвец. Чем сильнее он бледнел, тем больше багровело лицо Летьерри.
— Видали вы подобного дурака?! Он не любит Дерюшетту! Так заставь себя полюбить ее, потому что она не выйдет замуж ни за кого другого! Что за сказки ты мне рассказываешь? Неужели ты думаешь, что я тебе поверю? Если ты болен, иди к доктору, но не городи чепухи. Не может быть, чтобы ты уже успел поссориться с ней и рассердиться на нее. Вот уж верно, что все влюбленные — дураки! Если у тебя есть какие-то причины, скажи. Ничего не случается беспричинно. Да, впрочем, у меня вата в ушах, может, я не расслышал, повтори-ка то, что ты сказал.
Жиллиат ответил:
— Я сказал — нет.
— Ты сказал — нет! Он еще повторяет! С тобой просто что-то случилось, это ясно. Ты сказал — нет! Более чудовищной нелепости и придумать нельзя! Таких болванов обливают холодной водой. Ты не любишь Дерюшетту? Значит, ты проделал все это из любви к старику? Значит, ради прекрасных глаз Папы Римского ты полез на Дуврские скалы, умирал от холода, голода и от жажды, питался водорослями, проводил ночи среди тумана, дождя и ветра и принес мне мою машину, как приносят даме сердца чижика, которого она нечаянно выпустила из клетки? Да еще буря, которая продолжалась три дня! Ты думаешь, я не знаю, на каком я свете? Хочешь, чтобы я поверил, будто ты из любви ко мне рубил, пилил, ворочал, тащил, волочил, плотничал, буравил, словом, один совершил больше чудес, чем все святые на небесах! Идиот! Мне в свое время достаточно надоела твоя волынка, ты постоянно играл одну и ту же песенку, животное! Ах, ты не любишь Дерюшетту! Я не знаю, что с тобой стряслось. Я прекрасно помню, как это было. Я сидел вот здесь в углу, Дерюшетта сказала: «Я выйду за него замуж». И она выйдет за тебя замуж! Ты ее не любишь? В таком случае, один из нас сошел с ума. Посмотрите на него: он молчит. Пойми же, нельзя проделать все, что сделал ты, и потом заявить: «Я не люблю Дерюшетту». Нельзя же оказывать людям услуги для того, чтобы потом приводить их в бешенство. Ладно, если ты на ней не женишься, она уйдет в монастырь Святой Екатерины. А кроме того, ты нужен мне, понимаешь? Ты будешь капитаном Дюранды! Неужели воображаешь, что я возьму и отпущу тебя на все четыре стороны? Как бы не так, дорогой мой! Я тебя держу и не желаю ничего слушать. Можно ли найти такого моряка, как ты? Ты именно тот человек, которого я искал всю свою жизнь. Да говори же!
Портовый колокол, между тем, разбудил всех. Любовь и Грация поднялись с постелей и вошли в залу, испуганные и безмолвные. Грация держала в руке подсвечник. Соседи — горожане, крестьяне и моряки поспешно сбежались к набережной, изумленно разглядывая трубу Дюранды, возвышавшуюся над баркой. Некоторые, услыхав голос господина Летьерри, раздававшийся в доме, начали осторожно подходить к приоткрытой двери. Первой в дверь просунулась голова господина Ландуа, который вечно оказывался там, где происходило что-нибудь интересное.
Когда люди испытывают большую радость, им всегда приятно иметь свидетелей. Толпа является для них точкой опоры, они делятся с ней своей радостью и вновь переживают ее. Господин Летьерри вдруг заметил людей, окружающих его. Он обрадовался тому, что аудитория столь велика.
— А, добро пожаловать! Хорошо, что пришли. Сейчас услышите большие новости. Вот человек, который был там и вернул мне все. Здравствуйте, господин Ландуа. Представьте себе, я просыпаюсь и вижу перед самым окном пароходную трубу! Все цело, до последнего винтика! Вот везде вешают портрет Наполеона; мне кажется, это будет почище Аустерлицкого сражения. Вы вскочили с постелей, добрые люди. Пока вы спали, Дюранда вернулась! Пока надевали ночные колпаки и задували свечи, человек совершал геройские поступки. Кругом полно лентяев и трусов, люди лечатся от ревматизма, но, к счастью, есть и такие, которые готовы на любое безумство. Они отправляются куда угодно и способны проделать все что угодно. Хозяин Бю-де-ля-Рю вернулся с Дуврских скал. Он вытащил Дюранду из морской пучины и выудил деньги из кармана Клюбена, а это было еще труднее. Да как же ты сделал такое? Ведь против тебя были все силы моря и ветров! Пожалуй, правда, что ты колдун. Люди, говорящие об этом, не так уж глупы. Дюранда вернулась! Как ни злилась буря, она осталась ни с чем. Друзья мои, заявляю вам: кораблекрушения больше не существует. Я осматривал механизм. Он целый, как новенький. Все в исправности. Можно подумать, он только что вышел из мастерской. Вы знаете ту трубу, через которую вода попадает в паровой котел, проходит внутри другой трубы, откуда вытекает использованная вода. Это сделано для того, чтобы не улетучивалось тепло. Так вот, обе трубы целы. Все в целости! И колеса тоже! Ты женишься на ней!
— На ком? На машине? — спросил Ландуа.
— Нет, на Дерюшетте. Да, и на машине! На обеих! Он будет моим зятем вдвойне. Он будет капитаном. Добрый день, капитан Жиллиат! Вот увидите, какой станет наша Дюранда! Мы будем делать большие дела, наладим перевозки товаров и пассажиров, быков и баранов. Сен-Сампсон скоро догонит Лондон! А вот кому мы обязаны всем этим! Говорю вам, подобное неслыханно. В субботу об этом будет напечатано в газетах. Жиллиат-Хитрец действительно хитер! Что это за луидоры?
Летьерри только сейчас заметил, что в коробочке, кроме банковых билетов, лежало золото. Он взял ее, высыпал золото в пригоршню и положил его на стол.
— Это для бедных. Господин Ландуа, передайте эти деньги от моего имени общине Сен-Сампсона. Вы знаете о письме Рантена? Да, я вам его показывал. Так вот, я получил эти деньги. На них могу теперь купить сосну и дуб и произвести постройку. Вот погодите! Да, вы помните, какая погода стояла в течение трех дней? Какой был ветер и ливень! Казалось, небо стреляет из пушек. Жиллиат провел те дни на Дуврских скалах. И это не помешало ему вытащить оттуда Дюранду, как я извлекаю часы из кармана! Благодаря ему я опять человек. «Чертова лодка» старого Летьерри снова начнет ходить по морю! Меня всегда привлекала эта выдумка — ореховая скорлупа с парой колес и дымоходной трубой. Я давно твердил себе, что сделаю такую штуку. Мысль пришла мне в голову в Париже, когда я сидел в кафе на углу улицы Дофен и прочел об этом в газете. Да знаете ли вы, что Жиллиат был бы в состоянии сунуть машину в карман и разгуливать с ней! Да, он создан из железа и кованой стали, из алмаза, он прекрасный моряк, кузнец, словом — замечательный парень! Вот это — настоящий человек! Мы все — мелюзга по сравнению с ним. Вы все и я в том числе — морские волки, а он — морской лев. Ура, Жиллиат! Не знаю, как он смог проделать все это, но ясно, что он сам дьявол. Ну как же мне после такого не выдать за него Дерюшетту!
Дерюшетта уже в течение нескольких минут находилась в комнате. Она не произнесла ни одного слова, не двинулась с места. Девушка появилась словно тень. Незамеченная никем, опустилась на стул позади господина Летьерри, возбужденного, радостного, размахивающего руками и кричащего во весь голос.
Вслед за ней возникла еще одна безмолвная тень. Человек, одетый в черное, с белым галстуком, со шляпой в руке, остановился у двери. Народу в комнате теперь было много, и горело уже несколько свечей. Свет озарял человека, одетого в черное, сбоку. Его молодой и чистый профиль вырисовывался на темном фоне стены будто камея; он облокотился на косяк двери и поддерживал голову левой рукой. Его поза была изящной, и бросалось в глаза, насколько высок его лоб и насколько мала рука. В углу сжатых губ мужчины появилась горькая складка. Он слушал Летьерри с глубоким вниманием.
Люди, узнав приходского пастора Энебезера Кодре, расступились, чтобы дать ему дорогу. Однако он застыл на пороге. Его фигура выражала нерешительность, но взгляд был тверд. Несколько раз его глаза встречались с глазами Дерюшетты.
Жиллиат нарочно или случайно держался в тени, так что видна была лишь его фигура, выражавшая смущение.
Летьерри не видел пастора, но заметил Дерюшетту. Он подошел к ней, крепко обнял ее и поцеловал в лоб. Затем протянул руку, указывая на темный угол, где стоял Жиллиат.
— Дерюшетта, — сказал он, — ты опять богата, и вот твой муж!
Дерюшетта, подняв голову, растерянно посмотрела в темноту.
Летьерри продолжал:
— Мы сыграем свадьбу сейчас же, завтра, если можно. Здесь ведь формальности не так важны, пастор делает все что ему угодно, можно обвенчаться раньше, чем успеешь крикнуть «караул». Это не то что во Франции, где надо делать оглашение, давать объявления и так далее. Ты сможешь похвастаться, что твой муж — храбрый человек, настоящий моряк! Я знал это еще в первый день, когда увидел, как он возвращается с острова Герм с пушкой в лодке. Теперь он вернулся с Дуврских скал и привез оттуда счастье тебе, мне и всей стране; когда-нибудь об этом человеке будут говорить повсюду! Ты сказала, что выйдешь за него замуж, и ты сдержишь слово. У вас появятся дети, я стану дедушкой, и ты будешь женой настоящего парня — он работает, приносит пользу, предприимчив, с ним не сравнятся сто других, он спасает чужое богатство, он добр, честен. По крайней мере, ты не выйдешь, как другие богатые привередницы, за офицера или за пастора, то есть за убийцу или лгуна. Почему ты торчишь в углу, Жиллиат? Тебя совсем не видно. Грация, Любовь! Побольше света! Осветите-ка моего зятя! Обручаю вас, дети мои! Вот твой муж, мой зять, Жиллиат из Бю-де-ля-Рю, славный малый, прекрасный матрос! Никто другой не будет ни твоим мужем, ни моим зятем, клянусь в этом перед Господом Богом. А! Вы здесь, господин кюре, вы обвенчаете этих молодых людей!
Летьерри только сейчас заметил пастора Кодре.
Грация и Любовь исполнили приказание хозяина. Два подсвечника, поставленные на стол, осветили Жиллиата с головы до ног.
— Смотрите, какой красавец! — закричал Летьерри.
Жиллиат выглядел ужасно.
Он был в тех же лохмотьях, в которых покинул утром Дуврские скалы, оборванный, грязный, обросший бородой, со спутанными волосами, с воспаленными, красными глазами, исцарапанным лицом, окровавленными руками. Ноги его были босы. На волосатых руках виднелись волдыри.
Летьерри был в восторге.
— Вот он каков, мой зять! Какую битву с морем он выдержал. Он весь в лохмотьях. Какие плечи! Какие лапы! Ах, какой ты красавец!
Грация подбежала к Дерюшетте, чтобы поддержать ее. Девушка потеряла сознание.
Кожаный сундук
С самого рассвета весь Сен-Сампсон был на ногах. Возбуждение перекинулось и в порт Сен-Пьер. Слух о том, что Дюранда воскресла, разнесся по всему острову. На побережье толпились люди, пришедшие взглянуть на спасенную машину. Всем хотелось рассмотреть ее получше или хотя бы пощупать. Однако Летьерри, еще раз торжествующе осмотрев механизм при свете дня, поставил возле барки двух матросов и запретил им подпускать любопытных. Но глазевшим было достаточно и одного вида торчавшей трубы. Толпа восхищалась Жиллиатом и не переставала говорить о нем. К его имени стали все чаще прибавлять прозвище Хитрец. Но восхищенные речи нередко оканчивались такими словами: «Не совсем приятно знать, что на острове есть люди, способные на подобные вещи».
С улицы было видно, что господин Летьерри сидит за столом у окна и пишет, поглядывая то на бумагу, то на машину. Он так погрузился в это занятие, что лишь однажды оторвался, позвал Любовь и спросил у нее, как себя чувствует Дерюшетта. Любовь ответила, что Дерюшетта встала и вышла из дому. Летьерри сказал:
— Она хорошо сделала, что пошла подышать свежим воздухом. Ночью ей стало дурно от духоты. В комнату набилось слишком много народу. И кроме того — радость, неожиданность, а окна-то были закрыты. Да, у нее будет хороший муж!
И Летьерри снова принялся писать. Он уже запечатал два письма, адресованные владельцам крупных судостроительних верфей в Бремене. Теперь он вкладывал в конверт третье письмо.
Стук колес на набережной заставил его поднять голову. Выглянув в окно, Летьерри увидел, что по тропинке, ведущей от Бю-де-ля-Рю, катилась тележка, которую толкал мальчик. На тележке лежал сундук, обтянутый желтой кожей и обитый медными гвоздями.
Господин Летьерри остановил мальчугана.
— Ты куда, мальчик?
Тот, остановившись, ответил:
— На «Кашмир».
— Зачем?
— Отвезти этот сундук.
— Отлично, ты отнесешь и мои письма.
Летьерри открыл ящик стола, достал оттуда обрывок бечевки, перевязал накрест три письма, которые он только что написал, и бросил связку мальчику. Тот поймал ее на лету.
— Скажи капитану «Кашмира», что это мои письма и чтобы он о них позаботился. Я посылаю их в Германию, в Бремен, через Лондон.
— Я не увижу капитана, господин Летьерри.
— Почему?
— «Кашмира» нет в гавани.
— Вот как?
— Он на рейде…
— Да, верно, он ведь не входил в гавань.
— Я смогу только поговорить с лоцманом, который приплывет в шлюпке.
— Ну вот и отдай ему мои письма.
— Хорошо, господин Летьерри.
— В котором часу уходит «Кашмир»?
— В двенадцать.
— Сегодня в двенадцать будет прилив. Это им помешает.
— Зато у них попутный ветер.
— Мальчик, — сказал Летьерри, указывая на пароходную трубу, — видишь ты эту штуку? Она плюет и на прилив и на ветер.
Мальчуган засунул письма в карман, взялся за поручни тележки и продолжил свой путь. Летьерри закричал:
— Грация! Любовь!
Грация, приоткрыв дверь, спросила:
— Что прикажете, сударь?
— Иди сюда и подожди.
Летьерри, взяв листок бумаги, начал писать. Если бы Грация, стоявшая за его спиной, была любопытнее и, вытянув шею в то время как он писал, заглянула бы через его плечо, она могла бы прочесть такие строки:
«Я написал в Бремен относительно леса. Целый день уйдет у меня на переговоры с плотниками. Постройка пойдет быстро, отправляйся к декану и получи разрешение на венчание. Я хочу сыграть свадьбу как можно скорее, лучше всего — сейчас же. Я занят Дюрандой, а ты займись Дерюшеттой».
Он поставил число и подписал послание — «Летьерри».
Затем, не вкладывая записки в конверт, сложил ее вчетверо и, протянув Грации, сказал:
— Отнеси-ка Жиллиату.
— В Бю-де-ля-Рю?
— В Бю-де-ля-Рю.
Книга III
Отплытие «Кашмира». Гавань и церковь
В Сен-Сампсоне было полно народу, зато порт Сен-Пьер опустел. Интересная новость распространяется с быстротой молнии, особенно в маленьких городах. Весь Гернзей считал своим долгом отправиться под окна господина Летьерри и взглянуть на трубу Дюранды. Остальные события сразу померкли. Не говорили уже больше ни о смерти декана из Сен-Асафа, ни о пасторе Эбенезере Кодре и его неожиданном богатстве, ни об отъезде священника на «Кашмире».
Машина Дюранды, возвратившаяся с Дуврских скал, занимала всех. Никто этому не верил.
Даже крушение парохода стало неожиданностью, а уж спасение судна выглядело как настоящее чудо. Каждый хотел взглянуть на это собственными глазами. Все остальные заботы отошли на задний план.
Длинные вереницы обывателей, мужчин, женщин, целых семейств, матерей с детьми и детей с куклами потянулись по дороге от порта Сен-Пьер к дому Летьерри. Многие лавки Сен-Пьера закрылись; в торговых рядах царило затишье, все были заняты только Дюрандой. Ни один торговец не успел в этот день что-либо продать, если не считать ювелира, сбывшего золотое обручальное колечко «странному человеку, который очень спешил и спросил его, где живет декан».
Те лавки, что не закрылись, стали местом обсуждения всех подробностей этого необычайного спасения. Можно было подумать, будто наступил праздник. Посещение соседнего города кем-либо из членов королевского дома не могло бы настолько обезлюдить порт Сен-Пьер. Волнение, вызванное таким ничтожеством, как Жиллиат, заставляло сдержанных высокопоставленных особ недоуменно пожимать плечами.
Церковь в порту Сен-Пьер с тремя куполами стоит на самом берегу моря, в нескольких шагах от входа на пристань. Она приветствует приезжающих и благословляет уходящих в море, представляя собой заглавную букву длинной строки — набережной Сен-Пьера.
Это приходская церковь для жителей города, и в то же время она возглавляет церкви всего острова. Пастором в ней является декан, обладающий широкими полномочиями.
Гавань Сен-Пьера в настоящее время — прекрасный, большой порт, однако еще десять лет назад она во многом уступала гавани в Сен-Сампсоне. Это были две огромные полукруглые стены, отходившие от берега с обеих сторон пристани и почти сходившиеся в море. На оконечности одной из них стоял маленький белый маяк.
Вход в гавань был довольно узким, и в стенах еще сохранились массивные железные кольца от цепи, которой он закрывался в средние века. Гавань напоминала приоткрытые клешни омара. Та часть моря, которую они охватывали, почти всегда была спокойна, но при восточном ветре у входа в гавань начиналось сильное волнение, вода бурлила, и благоразумнее было в нее не входить. Так и сделал в тот день «Кашмир». Он бросил якорь на рейде.
При восточном ветре команды судов охотно шли на это, тем более они избавлялись от платы за стоянку в гавани. В таких случаях городские лодочники, смелые опытные моряки, подъезжали на лодках к пристани или просто к берегу, брали пассажиров и багаж и перевозили на отходящие корабли. Какой бы ни была погода, они всегда благополучно совершали эти переправы. Восточный боковой ветер в порту Сен-Пьер очень хорош для судов, идущих в Англию.
Когда корабль отчаливал от гавани, посадка производилась там; если же он стоял на рейде, к якорной стоянке добирались с ближайшего места на побережье. Вдоль всего берега расположились маленькие пристани, где всегда можно было найти свободных лодочников.
Одна из таких маленьких пристаней находилась совсем близко от города, но обычно была пустынна. Это объяснялось тем, что ее окружали высокие утесы, на которых стояла крепость Святого Георгия.
К пристани вело несколько тропинок. Самый близкий путь лежал через тропку, идущую вдоль берега. По ней было не больше пяти минут ходьбы до города и церкви, а неудобство заключалось в том, что ее дважды в сутки — утром и вечером — заливало водой. Остальные тропинки, более или менее крутые, были проложены по склонам утесов.
Пристань эта даже днем находилась в полутьме: каменные глыбы нависали со всех сторон. Густой кустарник, покрывавший скалы, создавал мягкий полумрак в этом укромном уголке. В тихую погоду он был очарователен, во время ненастья — мрачен и угрюм. Ветви кустарника постоянно покрывала морская пена. Весной уголок наполнялся цветами, гнездами, ароматами, птицами, бабочками и пчелами.
Теперь, после постройки порта, таких диких мест больше нет; они сменились строгими, прямыми линиями, вокруг появились каменные здания, мостовые и скверы. Человеческий вкус по-своему расправился с живописным беспорядком прибрежных скал.
Отчаяние
Было около десяти часов утра. Оживление в Сен-Сампсоне все увеличивалось. Жители, охваченные любопытством, устремились к северной части острова, и маленькая пристань находившаяся на юге, была еще пустыннее, чем обычно.
Однако у пристани покачивалась на волнах одинокая лодка, в которой сидел лодочник. На дне ее лежал дорожный мешок. Лодочник, казалось, ждал кого-то.
«Кашмир» стоял на рейде. Якорь судна был спущен — оно отправлялось в путь лишь в полдень. И сейчас еще не видно было никаких приготовлений.
Если бы прохожий, случайно оказавшийся на одной из скалистых тропинок, прислушался, то разобрал бы приглушенный звук голосов неподалеку от маленькой пристани, а если бы перевесился через выступ скалы, то разглядел бы в тени кустарника, в месте, недоступном для взгляда лодочника, две фигуры — мужчину и женщину. Это были Эбенезер и Дерюшетта.
Темные уголки на скалистом берегу, которые так часто прельщают купальщиц, далеко не всегда настолько уединенны, как принято считать. Легко подглядеть и подслушать то, что там происходит. Тот, кто ищет одиночества в таких местах, может не заметить человека, идущего за ним следом под прикрытием густой растительности, может не увидеть глаз, следящих за ним из-за извилистых поворотов тропинки. Скалы и деревья, скрывающие тайную встречу, столь же охотно скрывают непрошеного свидетеля.
Дерюшетта и Эбенезер стояли, глядя друг другу в глаза и держась за руки. Дерюшетта говорила, Кодре молчал. Застывшая на ее ресницах слеза дрожала, но не падала.
Горе и страсть отражались на задумчивом лице Эбенезера. И в то же время оно выражало покорность. На этот лик, безмятежный доселе, теперь легла мрачная тень. До сих пор Кодре размышлял лишь о догматах церкви, сейчас он задумался о своей судьбе. Такие размышления для священника вредны. Они подтачивают веру.
Ничего не может быть тяжелее, чем покориться неизвестности. Человек находится во власти событий. Жизнь — беспрерывная цепь происшествий, которым подчинены люди. Мы никогда не знаем, что случится с нами через минуту. Катастрофы и радости приходят и уходят неожиданно. Их пути и законы лежат вне человеческой воли. Добродетель не сопровождается счастьем, порок не влечет за собой гибели; у совести одна логика, у судьбы — другая. Нельзя ничего предвидеть. Мы живем от удара до удара. У совести прямая логика, а жизнь — это вихрь. Он то сгущает над головой человека черные тучи, то разгоняет их и обнажает синее небо. Судьба не знает закона постепенности. Иногда колесо ее вертится так быстро, что человек лишь с трудом успевает отличить одно событие от другого и теряет грань между вчерашним и сегодняшним днем.
Эбенезер верил в Бога, но он умел рассуждать. Он был священником, однако теперь его охватила страсть. Религии, требующие от духовенства безбрачия, поступают правильно с точки зрения цели, к которой они стремятся. Ничего не может быть опаснее для служителя церкви, чем любовь к женщине. Тяжелые мысли роились в голове Эбенезера.
Он слишком часто смотрел на Дерюшетту.
Они обожали друг друга.
В глазах Эбенезера светилось немое обожание и отчаяние.
Дерюшетта говорила:
— Вы не должны ехать. У меня нет сил. Видит бог, я думала, что смогу распрощаться с вами, но не могу. Это сильнее меня. Зачем вы пришли вчера? Вы не должны были приходить, если собрались уезжать. Я никогда не говорила с вами. Я любила вас, но сама этого не знала. Только в первый день, когда пастор Герод прочел историю Ревекки и наши глаза встретились, я почувствовала, что мои щеки вспыхнули, и подумала: «О, как, должно быть, покраснела Ревекка!» И все-таки, если бы два дня назад кто-нибудь спросил меня, люблю ли я пастора, я бы расхохоталась. О, любовь ужасна, она коварна. Я была слишком неосторожна. Я ходила в церковь, смотрела на вас, думала, что все приходят туда для этого.
Я не упрекаю вас, вы не сделали ничего для того, чтобы я вас полюбила. Вы только смотрели на меня, вы ведь не виноваты в том, что взгляд ваш падает на людей, вот в такой момент любовь и вспыхнула во мне. Я сама не заметила этого.
Когда вы брали в руки Библию, от нее начинал исходить свет; когда другие делали это — она оставалась просто книгой. Вы несколько раз взглянули на меня. Вы говорили об архангелах — и сами казались архангелом. Все сказанное вами запечатлевалось в моей душе. Я не знаю, верила ли в Бога до того, как увидела вас. Вы научили меня молиться. Я говорила Любови: «Одевай меня скорее, я опоздаю в церковь!» И бежала туда. Вот что значит полюбить! А я этого не знала. Говорила сама себе: «Какой, однако, я стала набожной». Вы раскрыли мне, что я ходила в церковь не потому, что стала верить в Бога. Я ходила туда ради вас — теперь знаю. Как вы прекрасны, какое наслаждение слушать ваши речи! Когда вы воздевали руки к небу, мне казалось, что в ваших белых руках мое сердце. Я сходила с ума, не зная об этом. Но теперь я могу сказать вам, в чем была ваша вина. Вам не следовало вчера приходить в сад, не следовало говорить со мной. Если бы вы ничего не сказали мне, я ничего бы не знала. Расставшись с вами, я, возможно, грустила бы, но теперь я умру. Теперь, когда узнала, что люблю вас, вы не можете уехать. О чем вы думаете? Да вы не слушаете меня!
Эбенезер ответил:
— Вы ведь слышали все, что было сказано вчера.
— Увы!
— Так что же могу я сделать?
Они на мгновение умолкли. Затем Эбенезер снова заговорил:
— Мне остается лишь одно — уехать.
— А мне — умереть. О, если бы на свете не было моря, а одно лишь небо. Тогда все устроилось бы, мы унеслись бы вместе. Зачем, зачем вы говорили вчера со мной? Не уезжайте! Что теперь со мной станется? Я умру. Вы будете уже далеко в море, когда я отправлюсь на кладбище. Мое сердце разбито. О, как я несчастна! А ведь мой дядя так добр!
В первый раз, говоря о Летьерри, Дерюшетта сказала «мой дядя». До сих пор она всегда называла его отцом.
Эбенезер сделал шаг к пристани и подал лодочнику знак. Послышался лязг железного крюка, к которому крепилась лодка, и шаги человека, расхаживающего по ней.
— Нет, нет! — закричала девушка.
Эбенезер приблизился к ней.
— Так нужно, Дерюшетта.
— Нет, ни за что! Из-за машины! Да разве это возможно! Неужели вы не видели, как ужасен был вчера этот человек? Не покидайте меня! Вы такой умный, вы найдете выход. Не может быть, чтобы вы велели мне прийти сегодня сюда, если собрались уезжать. Я ничего вам не сделала. Вам не за что сердиться на меня. Вы хотите уехать в этой лодке? Нет! Нет! Вы бросите меня! Нельзя открыть двери рая лишь для того, чтобы снова захлопнуть их. Вы должны остаться! И потом, теперь ведь еще рано. О! Я люблю тебя!
Она бросилась к нему, обвила его шею руками и сплела пальцы, словно удерживая Эбенезера и одновременно обращаясь к небесам с горячей молитвой.
Он осторожно освободился от этих нежных уз, как ни сжимала руки Дерюшетта. Она опустилась на камень, покрытый плющом, машинально подняв до локтя рукав платья и обнажив точеную руку. Глаза ее вспыхнули странным, затуманенным блеском. Лодка приближалась.
Эбенезер ласково приподнял голову Дерюшетты; девушка казалась вдовой, юноша — старцем. Он с благоговением прикоснулся к ее волосам; несколько мгновений смотрел на нее, затем поцеловал в лоб и сказал дрожащим, идущим из глубины души голосом, в котором отразилась вся его тоска:
— Прощай.
Дерюшетта разрыдалась.
В эту минуту они услышали спокойный, ровный голос:
— Почему вы не женитесь?
Эбенезер обернулся. Дерюшетта подняла глаза.
Перед ними стоял Жиллиат.
Он вышел из-за поворота боковой тропинки.
Жиллиат выглядел совсем иначе, чем накануне. Он причесался, побрился, обул башмаки; на нем была белая рубашка с отложным воротником и новая матросская одежда. На мизинце блестело золотое кольцо. Он казался спокойным, но был очень бледен.
Страдающая маска из бронзы — вот что представляло собой его лицо.
Они, пораженные, смотрели на него. Несмотря на то что он был неузнаваем, Дерюшетта узнала его сразу. Слова, произнесенные им, были так далеки от мыслей, поглощавших Эбенезера и Дерюшетту в ту минуту, что не дошли до их сознания.
Жиллиат продолжал:
— Зачем вам расставаться? Венчайтесь. Вы уедете вместе.
Дерюшетта вздрогнула. Судорога прошла по всему ее телу.
Жиллиат сказал:
— Мисс Дерюшетте двадцать один год. Она сама отвечает за свои поступки. Дядя больше ей не опекун. Если вы любите друг друга…
Дерюшетта робко перебила его:
— Как вы здесь очутились?
— Венчайтесь, — произнес в ответ Жиллиат.
Дерюшетта начинала понимать, о чем он говорит. Она пролепетала:
— Мой бедный дядя…
— Он не даст вам разрешения на брак, — сказал Жиллиат, — но если вы уже будете мужем и женой, то вынужден будет согласиться. К тому же вы уедете. Когда вернетесь, он простит. — И Жиллиат с горечью добавил: — Кроме того, он думает сейчас только о постройке парохода. Это займет его во время вашего отсутствия. У него есть утешение — Дюранда.
— Я бы не хотела, — проговорила Дерюшетта голосом, в котором уже слышалась радость, — причинять кому-либо огорчения.
— Они продлятся недолго, — сказал Жиллиат.
Эбенезер и Дерюшетта были ошеломлены. Понемногу они начинали приходить в себя. Мало-помалу до них доходил смысл слов Жиллиата. Какое-то смутное чувство омрачало их радость, но им было не до этого. Когда человека спасают, он не сопротивляется. Когда его ведут в рай, он становится безвольным.
Весь вид Дерюшетты, беспомощно опиравшейся на руку Эбенезера, как бы выражал желание согласиться с предложением Жиллиата. Загадочное появление этого человека и его вмешательство, сперва поразившие Дерюшетту и вызвавшие неясное ощущение беспокойства, сейчас стали делом второстепенным. Он говорил: венчайтесь. Это было понятно. Жиллиат как бы брал на себя ответственность за их поступок, и смущенная Дерюшетта понимала, что по многим причинам он имеет на это право. То, что он говорил о господине Летьерри, было верно. Эбенезер задумчиво прошептал:
— Дядя ведь не отец.
Кодре чувствовал, что перед ним открывается счастливая возможность, но в то же время в его бедном влюбленном сердце шевелились угрызения совести.
Голос Жиллиата стал резким и суровым, он говорил прерывисто, казалось, все его существо охвачено лихорадкой:
— Нельзя терять ни минуты. «Кашмир» отходит через два часа. Вы можете успеть, но нужно торопиться. Идем.
Эбенезер пристально смотрел на него. Внезапно он закричал:
— Я узнал вас! Вы спасли мне жизнь!
Жиллиат ответил:
— Не думаю.
— Там, возле рифа.
— Я даже не знаю этой местности.
— Это было в день моего приезда.
— Мы теряем время, — сказал Жиллиат.
— И если я не ошибаюсь, вы тот человек, который вчера вечером…
— Возможно.
— Как вас звать?
Жиллиат закричал:
— Лодочник, подождите нас! Мы вернемся. Мисс, вы спрашивали меня, каким образом я очутился здесь? Очень просто: я шел за вами. Вам двадцать один год. В этих краях, где взрослые люди свободны и сами отвечают за себя, можно обвенчаться за четверть часа. Пойдем по этой тропинке вдоль берега. Мы успеем пройти, прилив начнется лишь в полдень. Но только нельзя терять ни минуты. Идите за мной!
Дерюшетта и Эбенезер переглянулись. Они стояли рядом, не шевелясь, и казались пьяными. На краю пропасти, называемой счастьем, человека часто охватывают сомнения. Влюбленные все еще не понимали, что с ними происходит.
— Его зовут Жиллиат, — шепнула Дерюшетта Эбенезеру.
Жиллиат властно промолвил:
— Чего вы ждете? Я сказал вам, чтобы вы шли за мной.
— Куда? — спросил Эбенезер.
— Туда!
И Жиллиат указал рукой в сторону церкви. Они пошли за ним.
Жиллиат шел впереди твердым шагом. А они ступали как-то неуверенно. Когда подходили к маленькому домику, стоявшему рядом с колокольней, на чистых, прекрасных лицах Эбенезера и Дерюшетты уже играло нечто, похожее на улыбку. Близость церкви несла им свет. Жиллиату она сулила тьму. Казалось, злой дух ведет две души в рай.
Эбенезер и Дерюшетта не отдавали себе отчета в том, что с ними происходило. Вмешательство этого человека было соломинкой, за которую ухватились тонущие. Они шли за Жиллиатом с покорностью отчаяния, заставляющей следовать за первым встречным. Тот, кто готов умереть, не размышляет над своими поступками. Дерюшетта наивно и доверчиво следовала туда, куда ее вели.
Эбенезер глубоко задумался. Дерюшетта была совершеннолетней. Формальности брака в англиканских странах весьма просты, особенно в этих уголках, где деканы приходов пользуются неограниченной властью. Тем не менее, согласится ли декан обвенчать их, не зная даже, дал ли дядя Дерюшетты согласие на брак? Кодре сомневался в этом. Однако стоило попытаться. Во всяком случае, это было хоть маленькой отсрочкой расставания.
Но кто же этот человек? Если он действительно тот, кого вчера господин Летьерри называл своим зятем, то что означали все его действия? Он, препятствие к их счастью, вдруг превращается в провидение. Эбенезер мучился вопросами, однако все же покорно исполнял приказания, как человек, чувствующий, что спасение только в этом.
Тропинка была неровной, скользкой, местами труднопроходимой. Эбенезер, погруженный в свои мысли, не замечал луж и камней. Время от времени Жиллиат оборачивался и говорил ему:
— Осторожно, здесь камни. Подайте ей руку.
Предусмотрительность самоотверженности
Когда они вошли в церковь, пробило половину одиннадцатого.
Благодаря раннему часу и безлюдью в городе, храм в тот день пустовал.
В глубине, у стола, заменяющего в англиканских церквах алтарь, находилось три человека. Это был декан со своим помощником и причетник. Декан, Жакмен Герод, сидел; остальные двое стояли.
Открытая Библия лежала на столе.
Сбоку, на пюпитре, была раскрыта другая книга, — регистр прихода. Внимательный глаз мог заметить в ней только что заполненную страницу, на которой еще не высохли чернила. Тут же стояла чернильница и лежало перо.
Увидев входящего Эбенезера Кодре, Жакмен Герод поднялся.
— Я вас жду, — сказал он. — Все готово.
Декан действительно был в торжественном облачении.
Эбенезер посмотрел на Жиллиата.
Герод добавил:
— Я к вашим услугам, коллега.
Он поклонился. Судя по взгляду декана, было ясно, что для него существовал лишь один Эбенезер как духовное лицо и джентльмен. Кланяясь, он не имел в виду ни Дерюшетту, стоявшую рядом, ни Жиллиата, находившегося сзади. Его взгляд был направлен лишь на Эбенезера. Незаметные оттенки в поведении всегда подчеркивают принадлежность того или иного лица к так называемому хорошему обществу. Герод со сдержанной любезностью продолжал:
— Коллега, поздравляю вас дважды. Ваш дядя умер, и вы женитесь. Дядя сделал вас богатым; жена принесет вам счастье. Наконец, теперь, когда пароход будет восстановлен, господин Летьерри тоже снова станет богатым, чему я весьма рад. Мисс Летьерри родилась в этом приходе; я установил дату ее рождения по местным метрическим книгам. Мисс Летьерри совершеннолетняя и властна распоряжаться собой. Ее дядя, единственный родственник девушки, согласен. Вы хотите обвенчаться немедленно из-за вашего отъезда, я понимаю: но так как это не простая свадьба, а венчание приходского пастора, я предпочел бы придать обряду больше торжественности. Мне придется сократить его, чтобы сделать вам приятное; ну что ж, важность богослужения от этого не уменьшится. Запись в книге уже сделана, и нужно только вписать имена. Согласно закону и обычаю, венчание может быть совершено сразу после записи имен. Необходимое оглашение было сделано сегодня утром; я несколько нарушил правила, так как оглашение должно производиться по крайней мере за неделю; но я подчинился необходимости, ввиду вашего отъезда. Пусть будет так. Я вас обвенчаю. Наш причетник станет свидетелем жениха; что касается свидетеля со стороны невесты…
Герод посмотрел на Жиллиата.
Жиллиат кивнул головой.
— Прекрасно, — сказал декан.
Эбенезер стоял неподвижно. Дерюшетта окаменела от восторга.
Герод продолжал:
— Однако есть все же одно препятствие.
Дерюшетта вздрогнула.
— Посланник господина Летьерри, находящийся здесь, — продолжал декан, — который явился от его имени просить разрешения на венчание и подписал текст оглашения, — не называя Жиллиата, он большим пальцем левой руки указал в его сторону, — заявил мне сегодня утром, что господин Летьерри очень занят, не может явиться лично и выразил желание, чтобы обряд венчания был совершен немедленно. Этого заявления, переданного на словах, недостаточно. Я не могу принять на себя ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за подобного нарушения правил, и не могу совершить обряд венчания сейчас же, не получив хотя бы письменного подтверждения о согласии господина Летьерри.
— За этим дело не станет, — сказал Жиллиат.
С этими словами он протянул Героду какую-то записку.
Декан взял бумагу, пробежал глазами несколько строк, показавшихся ему ненужными, и прочел вслух: «… Отправляйся к декану и получи разрешение на венчание. Я хочу сыграть свадьбу как можно скорее, лучше всего — сейчас же…».
Он, положив записку на стол, сказал:
— Подпись Летьерри. С его стороны было бы вежливее адресовать записку мне. Но, поскольку речь идет о моем коллеге, я не стану требовать большего.
Эбенезер опять посмотрел на Жиллиата. Души людей умеют понимать друг друга — Эбенезер чувствовал какой-то обман; но у него не было сил, возможно, ему не хотелось заявить об этом. То ли оттого, что он бессознательно подчинился чужому героизму, то ли потому, что совесть его была усыплена внезапным счастьем, сверкнувшим как молния, он молчал.
Декан, взяв перо, заполнял строки в раскрытой странице книги. Затем выпрямился и жестом пригласил Эбенезера с Дерюшеттой к столу.
Церемония началась. Она была необычна.
Эбенезер и Дерюшетта стояли рядом перед священником. Тот, кто когда-либо во сне видел, что женится, поймет их переживания. Жиллиат находился поодаль, в тени колонны.
Проснувшись этим утром, Дерюшетта в отчаянии думала о саване и могиле, поэтому оделась в белое. Такой траурный наряд стал свадебным. Белое платье превращает девушку в невесту. Смерть — тоже венчание.
Дерюшетта вся сияла от счастья. Никогда еще не выглядела она так прекрасно. Недостаток ее наружности, пожалуй, заключался в том, что она была слишком хорошенькой, но не красивой. Красота ее была грешна, если можно назвать грехом избыток грации. Дерюшетта в спокойном состоянии, до столкновения с горем и страстью, казалась, как мы говорили, очень миловидной. Теперь прелестная девочка превращалась в идеальную девушку. Возвысившаяся от любви и страданий, она сделала, если можно так выразиться, шаг вперед. Дерюшетта была столь же чиста, но стала как-то значительнее, ее свежесть приобрела новый аромат. Это был бутон, превратившийся в лилию.
На щеках ее пока не высохли слезы. Скатившаяся слеза, быть может, еще дрожала в уголке ее губ. Едва заметные следы недавнего огорчения — лучшее украшение счастливого лица.
Декан, стоя за столом, положил руку на Библию и громко спросил:
— Есть ли препятствия к этому браку?
Никто не ответил.
— Аминь, — произнес декан.
Эбенезер и Дерюшетта приблизились на шаг к Жакмену Героду.
Герод сказал:
— Иов Эбенезер Кодре, хочешь ли ты, чтобы эта женщина была твоей женой?
Эбенезер ответил:
— Да.
Декан продолжал:
— Дюранда-Дерюшетта Летьерри, хочешь ли ты, чтобы этот человек был твоим мужем?
Дерюшетта, душа которой, подобно лампе, переполненной маслом, замирала от избытка счастья, прошептала:
— Да.
Тогда, следуя англиканскому обряду венчания, декан обвел глазами полутемную церковь и торжественно спросил:
— Кто отдает эту женщину в жены этому человеку?
— Я! — сказал Жиллиат.
Наступило молчание. Эбенезер и Дерюшетта, охваченные блаженством, в то же время испытывали странную неловкость.
Герод вложил правую руку невесты в правую руку жениха, и Эбенезер сказал Дерюшетте:
— Дерюшетта, я беру тебя в жены, и, будешь ли ты хорошей или плохой, богатой или бедной, здоровой или больной, я буду любить тебя до смерти — клянусь тебе в этом.
Декан вложил правую руку жениха в правую руку невесты, и Дерюшетта сказала Эбенезеру:
— Эбенезер, я беру тебя в мужья, и, будешь ли ты хорошим или плохим, богатым или бедным, здоровым или больным, я буду слушаться тебя и помогать тебе до самой смерти — клянусь тебе в этом.
Декан спросил:
— Где кольцо?
Это стало неожиданностью. У Эбенезера, захваченного врасплох, кольцá не оказалось. Жиллиат снял с мизинца золотое колечко и подал его декану. Очевидно, это было то самое обручальное кольцо, купленное им утром у ювелира.
Герод положил кольцо на Библию, затем протянул его Эбенезеру.
Эбенезер взял маленькую дрожащую руку Дерюшетты, надел ей кольцо на безымянный палец и сказал:
— Обручаюсь с тобой этим кольцом.
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — промолвил декан.
— Аминь, — произнес причетник.
Герод повысил голос:
— Теперь вы — муж и жена.
— Аминь, — повторил причетник.
— Помолимся, — сказал декан.
Эбенезер и Дерюшетта, повернувшись к столу, опустились на колени.
Жиллиат, продолжая стоять, склонил голову. Они преклонили колени перед Богом, он согнулся под тяжестью судьбы.
«Твоей будущей жене»
Выйдя из церкви, они увидели, что на «Кашмире» уже начали поднимать паруса.
— Вы еще успеете, — сказал Жиллиат.
Они стали спускаться по тропинке к маленькой пристани.
Теперь новобрачные шли впереди, а Жиллиат следовал за ними.
Они двигались, как два лунатика. Их растерянность лишь изменилась, но не исчезла. Влюбленные не сознавали ни того, где находятся, ни того, что с ними происходит; они бессознательно торопились, не помнили о существовании окружающего их мира, чувствовали близость друг друга, мысли их были бессвязными. Нельзя размышлять, пребывая в экстазе, точно так же, как нельзя плыть в стремительном потоке. После глубокой тьмы влюбленные вдруг попали в Ниагару радости. Их насильно втолкнули в рай. Они не говорили ни слова, но души их были полны. Дерюшетта прижимала к груди руку Эбенезера.
Шаги Жиллиата, идущего за ними, временами напоминали им о его присутствии. Они были слишком взволнованы, чтобы говорить; глубокие переживания вызывают оцепенение. Счастье давило на них своей тяжестью. Они обвенчались. Теперь уедут, потом вернутся. Все, что делал Жиллиат, было хорошо — и точка.
В глубине души влюбленные чувствовали по отношению к нему огромную благодарность. Дерюшетта смутно думала, что здесь нужно в чем-то разобраться, но откладывала это на будущее. Теперь же они соглашались на все. Они словно пребывали во власти этого решительного, неожиданно явившегося человека, который насильно сделал их счастливыми. Задавать ему вопросы, говорить с ним — было невозможно. Слишком много переживаний обрушилось на них сразу. Переживания поглотили их, и это было простительно.
События иногда напоминают град. Они сыплются на вас и оглушают. Они неожиданно врываются в мирную жизнь, и люди, которые страдают или радуются, не понимают их. Человек не разбирается в том, что с ним происходит. Он не успел подумать, как уже раздавлен, не успел понять, как уже вознесен. В течение нескольких часов Дерюшетта пережила массу потрясений: сначала она чувствовала ослепление, когда Эбенезер появился в саду; затем наступил кошмар — чудовище должно было стать ее мужем; потом отчаяние — ангел расправил крылья и готовился улететь; теперь пришла радость, неописуемая, необъяснимая — чудовище дарило ей, Дерюшетте, ангела; агония сменилась свадьбой, Жиллиат, вчерашний вестник гибели, сегодня превратился в благословение.
Оставалось лишь закрыть глаза, мысленно поблагодарить его, забыть обо всем и позволить этому доброму демону унести ее на небеса. Объяснение было бы слишком долгим, простой благодарности недостаточно. Утопая в счастье, она молчала.
Эбенезер и Дерюшетта сознавали происходящее лишь настолько, чтобы различать дорогу, отличать море от земли и видеть «Кашмир» среди других кораблей. Через несколько минут они дошли до пристани.
Эбенезер вошел в лодку первым. Дерюшетта, собиравшаяся последовать за ним, вдруг почувствовала осторожное прикосновение. Жиллиат дотронулся рукой до складок ее рукава.
— Сударыня, — сказал он, — вы не собирались уезжать. Я подумал, что вам в пути может понадобиться платье и белье. На борту «Кашмира» вы найдете сундук, в котором лежат женские вещи. Я получил его от моей матери. Он предназначался женщине, на которой я женюсь. Разрешите мне предложить его вам.
Дерюшетта наполовину опомнилась. Она обернулась к Жиллиату. Жиллиат едва слышно продолжал:
— Я не хотел бы задерживать вас, но, видите ли, сударыня, я думаю, что должен объясниться. В тот день, когда произошло несчастье, вы сидели в зале нижнего этажа. Вы тогда сказали несколько слов. Вы их уже не помните, это понятно: человек не обязан помнить каждое свое слово. Господин Летьерри чрезвычайно огорчился. Действительно, это был прекрасный пароход, и он приносил всем много пользы. Произошло крушение, всех взволновавшее. То дела давно минувших дней, конечно, и все забыли об этом. А на утесах оставался разбитый корабль. Нельзя же долго думать об одном происшествии! Но я только хотел вам сказать: так как все твердили, что никто не отважится отправиться туда, я решил это сделать. Они говорили, что это невозможно; но это было не так. Благодарю вас за то, что слушаете меня. Вы понимаете, сударыня, что если я отправился туда, то не для того, чтобы оскорбить вас. К тому же это очень старая история. Я знаю, что вы торопитесь. Было бы время, поговорили бы, я бы напомнил все, но в этом нет нужды. Все началось в тот день, когда шел снег. И потом я как-то проходил мимо, и мне показалось, что вы улыбнулись. В этом все дело. А вчера я не успел побывать дома, а только что возвратился с утесов, я был весь в лохмотьях. Я напугал вас, вам сделалось дурно. Я очень виноват, нельзя показываться в таком виде. Прошу вас не сердиться на меня. Вот и все, что я хотел вам сказать. Вы сейчас уедете. Погода хороша, дует восточный ветер. Прощайте, сударыня. Ничего, что я говорю с вами? Ведь это последние минуты.
— Я думаю о сундуке с вещами, — ответила Дерюшетта. — Почему вы не сохраните его для своей будущей жены?
— Я, должно быть, никогда не женюсь, — сказал Жиллиат.
— Это будет очень грустно, потому что вы такой добрый. Спасибо!
И Дерюшетта улыбнулась. Жиллиат ответил ей улыбкой.
Потом он помог девушке войти в лодку.
Через четверть часа лодка с Эбенезером и Дерюшеттой подошла к борту «Кашмира».
Большая могила
Жиллиат пошел по берегу, поспешно миновал порт Сен-Пьер и направился вдоль моря к Сен-Сампсону, стараясь ни с кем не встречаться, избегая дорог, по его вине запруженных толпой.
Он миновал Эспланаду, затем Салери. Время от времени оборачивался, чтобы посмотреть на «Кашмир», отчаливший от берега. Ветер был слаб, и Жиллиат двигался быстрее, чем судно. Он шел по скалистой тропинке, опустив голову. Начинался прилив.
В одном месте Жиллиат остановился и, повернувшись к морю спиной, стоял несколько минут неподвижно у поворота дороги, ведущей в Валль. Перед ним возвышалась группа дубов. Когда-то возле этих деревьев пальчик Дерюшетты начертал на снегу его имя — «Жиллиат». Снег давно уж растаял.
Жиллиат пошел дальше.
В этом году еще не было таких прекрасных дней, как сегодня. Утро как бы говорило о супружеском счастье. Это был один из тех весенних дней, когда особенно чувствуется очарование мая; кажется, вся природа создана для вечного праздника и счастья. Шелест леса, гомон, доносившийся из деревни, плеск волн и шорох ветерка — все звучало будто воркование. Весенние бабочки порхали над ранними цветами. Цветы пели гимны, в воздухе разливалось сияние. Было солнечно, тепло, светло. Сквозь щели заборов Жиллиат видел смеющихся детей. Яблони, груши, вишни, персиковые деревья наполняли фруктовые сады бледными и алыми букетами своих цветов. В траве пестрели фиалки, маргаритки, вероника; золотистые букашки ползали по камням, пчелы наполняли воздух жужжанием, сливавшимся с рокотом волн. Весенняя природа была охвачена истомой.
Когда Жиллиат дошел до Сен-Сампсона, гавань еще не затопило приливом, и ему удалось, не замочив ног, пробраться между корпусами судов, находившихся в починке. Пройти там было не трудно, так как по дну пролегала дорожка из плоских камней.
Жиллиата никто не заметил. Народ столпился в другом конце порта, возле дома Летьерри. Там имя Жиллиата было у всех на устах. Все настолько увлеклись разговорами о нем, что не заметили его самого. Жиллиат прошел мимо них, скрытый от их глаз вызванным им же возбуждением.
Издалека можно было рассмотреть барку, привязанную к кольцу, трубу машины, укрепленную четырьмя цепями, плотников, ходивших взад-вперед и уже принявшихся за работу, силуэты приближавшихся и удаляющихся людей. Радостный, громкий голос Летьерри, отдававшего распоряжения, слышался издалека. Жиллиат свернул в переулок.
По ту сторону дома Летьерри не было ни души, любопытство согнало всех к берегу. Жиллиат пошел по тропинке, тянувшейся вдоль садовой ограды. Он остановился у поворота, где находилась заросшая зеленью ниша, увидел камень, на котором сидел, и деревянную скамью, где сидела Дерюшетта. Он нашел взглядом дорожку, на которой лежали тогда теперь исчезнувшие тени двух обнявшихся существ.
Жиллиат пошел дальше, поднялся на холм, на котором стоял Валльский замок, перешел через него и направился к Бю-де-ля-Рю.
В доме все было так, как он оставил утром, уходя в порт Сен-Пьер.
Через открытое окно он увидел волынку, висевшую на гвозде, вбитом в стену.
На столе лежала маленькая Библия, подаренная Жиллиату в знак благодарности незнакомцем — Эбенезером.
В двери торчал ключ. Жиллиат подошел к ней и запер, повернув ключ в замке дважды, положил его в карман и стал удаляться.
Он шел не вглубь острова, а в сторону моря.
Он пересек свой сад, не обращая внимания на грядки, но стараясь все же не топтать цветную капусту, которую посадил потому, что ее любила Дерюшетта.
Жиллиат перескочил через забор и спустился к самой воде. Затем направился прямо по длинной и узкой цепи камней, соединяющей Бю-де-ля-Рю с огромным гранитным обелиском, стоящим посреди моря. Там находилось кресло Гильд-Гольм-Ур.
Он перепрыгивал с камня на камень, словно великан, идущий по вершинам горного хребта. Шагать по такой цепи валунов так же трудно, как по гребню остроконечной крыши.
Женщина, ловившая неподалеку рыбу и убегавшая теперь от прибоя, шлепая босыми ногами по лужам, крикнула ему:
— Будьте осторожны, прилив начался.
Жиллиат продолжал идти вперед.
Дойдя до большого утеса, которым оканчивалась цепь, остановился. Это была оконечность своеобразного мыса. Жиллиат поглядел вокруг.
В открытом море виднелось несколько рыбачьих лодок, стоявших на якоре. Время от времени было видно, как серебрится на солнце рыбья чешуя в вытащенных из воды сетях. «Кашмир» еще не поравнялся с Сен-Сампсоном. Он распустил свой самый большой парус и находился между островами Гермом и Жету.
Жиллиат, обогнув утес, очутился под креслом Гильд-Гольм-Ур, у подножья той естественной лестницы, где три месяца назад спас Эбенезера. Он взобрался по ней.
Большинство ее ступеней уже покрывала вода. Обнаженными оставались лишь самые верхние. Он их миновал.
Эти ступени вели к креслу Гильд-Гольм-Ур. Остановившись, Жиллиат закрыл глаза рукой и медленно провел пальцами по векам, как бы отгоняя от себя прошлое. Затем опустился на верхний выступ утеса, спиной к берегу. У ног его расстилалось море.
«Кашмир» в этот момент проходил мимо высокой круглой башни, которой отмечена половина пути между Гермом и портом Сен-Пьер. Башня эта охраняется пушкой и часовым.
Над головой Жиллиата, сквозь расщелины в скале, пробивались цветы. Вода до самого горизонта была синей. Дул восточный ветер, и возле Серка прибой был незначительным. С Гернзея виден лишь западный берег Серка. Вдали обозначался берег Франции, подернутый легкой дымкой. Временами в воздухе пролетал белый мотылек. Такие бабочки любят летать над морем.
Ветер был очень слаб. Синева моря, как и неба, словно застыла. На гладкой поверхности воды можно было разглядеть более темные оттенки лазури, указывающие на скрытые глубины морского дна.
Для того чтобы использовать ветер, «Кашмир» поднял боковые паруса. Теперь он весь покрылся парусами. Но так как ветер дул сбоку и был слаб, судну пришлось держаться поблизости от берега Гернзея. Оно уже поравнялось с Сен-Сампсоном и находилось напротив Валльского холма. Приближался момент, когда корабль должен был пройти как раз напротив Бю-де-ля-Рю.
Жиллиат наблюдал за тем, как приближается «Кашмир».
Казалось, воздух и волны дремлют. Прилив спокойно поднимался, поверхность воды равномерно росла. Уровень ее неуклонно повышался. Рокот, доносившийся с моря, напоминал дыхание ребенка.
Со стороны гавани Сен-Сампсона доносились глухие удары молотка; это были, должно быть, плотники, поднимавшие машину со дна барки. Но звуки эти почти не долетали до Жиллиата, потому что он сидел, прислонившись к массивной гранитной глыбе.
«Кашмир» медленно приближался. Жиллиат ждал.
Внезапный тихий плеск и ощущение холода заставили его взглянуть вниз. Вода коснулась его ног. Он опустил глаза, затем опять поднял их.
«Кашмир» был уже совсем близко.
Прибой и дожди сделали утес совершенно отвесным, и возле него вода была настолько глубока, что корабли в тихую погоду могли, не подвергаясь ни малейшей опасности, проходить в нескольких саженях от утеса.
«Кашмир» приближался, рос, выпрямлялся, будто возникал из воды. Он увеличивался словно тень. Темный силуэт вырисовывался на фоне неба и покачивался на волнах. Огромные паруса, на которых отсвечивало солнце, казались розовыми и прозрачными. Волны шептались чуть слышно, величественный силуэт бесшумно плыл вперед. Было ясно видно все, что происходит на палубе. «Кашмир» поравнялся с утесом.
За рулем стоял рулевой, юнга взбирался на ванты, несколько пассажиров, облокотившись на борт, наслаждались прекрасным днем; капитан курил. Но Жиллиат не смотрел на все это.
Один уголок на палубе был ярко освещен солнцем. Жиллиат глядел туда. Там, в золотом сиянии, он видел Эбенезера и Дерюшетту. Они сидели рядом, прижавшись друг к другу, как птицы, греющиеся под лучами солнца, на одной из тех скамей, защищенных просмоленным навесом, где в благоустроенных английских судах красуется надпись: «For ladies only»[658].
Головка Дерюшетты лежала на плече Эбенезера, а он обнимал ее за талию. Они держались за руки, их пальцы были переплетены. Их прекрасные, невинные лица напоминали ангельские лики, но одно из них было более девственным, другое — очерчено резче. Их целомудренное объятие было так выразительно: в нем одновременно сказывались и страсть, и стыдливость! Эта скамья для них одновременно являлась и брачным ложем и гнездом. В то же время она была алтарем любви. Кругом царила тишина.
Взгляд Эбенезера выражал благодарность и счастье; губы Дерюшетты шевелились. И среди глубокой тишины, когда корабль проходил мимо кресла Гильд-Гольм-Ур, ветерок донес до слуха Жиллиата звуки нежного голоска Дерюшетты, говорившей:
— Посмотри, по-моему, там, на утесе, сидит человек.
Но утес проскользнул мимо них и исчез.
«Кашмир», миновав Бю-де-ля-Рю, углубился в море. Через четверть часа его мачты и паруса казались белым обелиском, плывущим над морем по направлению к горизонту. Вода доходила Жиллиату до колен.
Он смотрел на удаляющийся корабль.
В открытом море ветер бушевал сильнее. Видно было, как на «Кашмире» переставляют паруса. Судно уже вышло из гернзейских вод. Жиллиат не спускал с него глаз.
Вода доходила ему до пояса. Прибой усиливался. Время шло.
Чайки и бакланы с беспокойством носились вокруг Жиллиата. Казалось, они хотят его предостеречь. Быть может, среди них были птицы, прилетевшие с Дуврских скал и узнавшие его. Прошел час.
Ветер не долетал сюда, но видно было, как стремительно уменьшается «Кашмир». По всей видимости, корабль шел очень быстро.
Вокруг утеса не было пены, волны не бились о гранит. Вода тихо поднималась. Она дошла Жиллиату уже до плеч.
Прошел еще один час. «Кашмир» подходил теперь к Ориньи. На минуту он скрылся за утесом Ортах, затем показался вновь. Он шел к северу. Освещенный солнцем, корабль казался маленькой светящейся точкой.
Птицы тревожно окликали Жиллиата.
Над морем видна была лишь его голова.
Вода продолжала прибывать.
Жиллиат неподвижно следил за уходящим кораблем.
Был уже почти полный прилив. Близился вечер. Рыбачьи лодки возвращались в гавань.
Глаза Жиллиата по-прежнему неотрывно следили за кораблем.
Этот взор не походил на земные взгляды. В этой трагической и спокойной пристальности было что-то неизъяснимое: бесстрастный покой неосуществленной мечты, мрачное принятие свершавшейся судьбы. Так следят за падением звезды. Временами глаза его, устремленные на удаляющуюся точку, омрачались тенью смерти. Вода подступала все ближе к креслу Гильд-Гольм-Ур, одновременно с этим выражение великого спокойствия ложилось на лицо Жиллиата.
«Кашмир», почти незаметный, превратился уже в туманное пятно. Для того чтобы различить его, нужно было знать направление движения судна.
Мало-помалу пятно расплывалось, бледнело.
Потом стало меньше, затем исчезло.
В то мгновение, когда корабль скрылся за горизонтом, голова исчезла под водой и ничего уже не было видно кругом, кроме моря.
Примечания
1
Рок (гр.).
(обратно)2
Стигма — клеймо, пятно, рана (гр.).
(обратно)3
То есть с XVII в.
(обратно)4
Cитэ, Университетская сторона и Город — районы средневекового Парижа: центральный — на острове Ситэ посреди реки Сены, левобережный, где находилась Сорбонна (Университет), и правобережный, где располагался королевский дворец Лувр.
(обратно)5
Плюмаж — украшение из перьев на шляпах или на конской сбруе.
(обратно)6
Дофин — во Франции с середины XIV в. до 1830 г. титул наследника престола. У Гюго говорится о дофине Карле (1470–1498) — будущем короле Карле VIII, правившем с 1483 г.
(обратно)7
Маргарита Фландрская (1480–1530) — дочь германского императора Максимилиана I и Марии Бургундской, в младенческом возрасте была объявлена невестой дофина Карла. Но Карл женился на Анне Бретонской, а Маргарита, дважды выйдя замуж и став вдовой, была провозглашена правительницей Нидерландов. В романе называется также Маргаритой Австрийской.
(обратно)8
Моралите — нравоучительная драма. Этот жанр драматургии получил распространение в XV–XVI вв.
(обратно)9
Фарс — комический жанр средневекового театра.
(обратно)10
Жеан де Труа (XV в.) — секретарь парижского суда, предполагаемый автор хроники царствования Людовика XI, которую В. Гюго использовал, работая над романом.
(обратно)11
Мистерия — религиозная драма на библейские сюжеты.
(обратно)12
Прево — городской голова в Париже.
(обратно)13
Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют, совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все, принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины Средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод — преемник полукруглого свода, породившего архитектурный стиль первой половины тех же веков. (Примеч. авт.)
(обратно)14
Фут— единица длины, равная около 30,5 см.
(обратно)15
Локоть — единица длины, равная примерно 40 см.
(обратно)16
Игра слов: epice по-французски — и «пряности» и «взятка»; palais — и «нёбо» и «дворец».
(обратно)17
Эдикт — особо важный указ короля.
(обратно)18
Булла — послание или распоряжение, издаваемое Папой Римским.
(обратно)19
Розетка — круглое окно в виде цветка с цветными стеклами, украшенными рисунками, в готическом соборе.
(обратно)20
Акант — в архитектуре: украшение в виде стилизованных листьев и стеблей аканта, декоративного травянистого растения.
(обратно)21
Капитель — верхняя часть колонны.
(обратно)22
Лекорню (Le kornu) — рогатый (фр.).
(обратно)23
Рогатый и косматый! (лат.)
(обратно)24
Педель — в средневековой Европе служитель при суде.
(обратно)25
Тибо — игрок в кости (лат.).
(обратно)26
Тиботоде — Tibaut aux des — игра слов, означающая то же, что и двумя строчками выше приведенная латинская фраза: «Тибо с игральными костями».
(обратно)27
Вот тебе орешки на праздник (лат.).
(обратно)28
Стихарь — длинная одежда священника с широкими рукавами.
(обратно)29
Святая Женевьева (ок. 422–502) — покровительница Парижа.
(обратно)30
Подбитых серым мехом (лат.).
(обратно)31
Дож — глава Венецианской республики в VII–XVIII вв.
(обратно)32
За всадником сидит мрачная забота (Гораций) (лат.).
(обратно)33
Кулеврина — во Франции XIV–XVI вв. ручное огнестрельное оружие типа аркебузы.
(обратно)34
Бомбарда — одно из первых артиллерийских орудий для осады и защиты крепостей во Франции XIV–XVI вв.
(обратно)35
И Бог пусть не вмешивается (лат.).
(обратно)36
Гренгуар Пьер (Гренгор, ок. 1475–1538) — французский поэт-драматург. Реальный Гренгуар никак не мог бы принимать участие в событиях, описанных в романе Гюго, так как ему в то время было около семи лет.
(обратно)37
Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане! (лат.)
(обратно)38
Корнель Пьер (1606–1684) — французский драматург.
(обратно)39
Пастораль — драматическое или музыкальное произведение, идиллически изображающее жизнь пастухов и пастушек на лоне природы.
(обратно)40
Мотет — жанр вокальной многоголосой музыки.
(обратно)41
Игра слов: по-французски dauphin — и «дельфин» и «дофин» (наследник престола).
(обратно)42
Иванов день— 24 июня, когда католиками празднуется день Иоанна Крестителя.
(обратно)43
Ариадна — дочь царя Миноса, давшая Тесею клубок ниток, которые помогли ему выйти из лабиринта (др. — гр. миф.).
(обратно)44
Сцилла и Харибда— чудовища, угрожавшие мореплавателям с двух сторон узкого прохода (др. — гр. миф.); образ опасности, подстерегающей отовсюду.
(обратно)45
Будем пить, как Папа (лат.).
(обратно)46
Тиара — тройная корона Папы Римского.
(обратно)47
Сатурналии — в Древнем Риме семидневный праздник в честь бога Сатурна по случаю окончания полевых работ, во время которого царило безудержное веселье.
(обратно)48
Ряса, напитанная вином! (лат.)
(обратно)49
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — великий голландский художник. Его картина «Ночной дозор» (1642) хранится в Государственном музее Амстердама.
(обратно)50
Эрцгерцог — титул австрийских принцев в 1453–1918 гг.
(обратно)51
Комин Филипп де (или Коммин, 1447–1511) — французский историк, автор «Мемуаров» (1489–1498) о царствовании Людовика XI и Карла VIII. Это произведение было одним из главных источников для Гюго.
(обратно)52
Не мечите жемчуга (бисера) перед свиньями (лат.).
(обратно)53
Свиней перед жемчугом. Игра слов: Margarita по-латыни — «жемчужина»; «Marguerite» по-французски — и «Маргарита» и «жемчужина».
(обратно)54
В поступи явно сказалась богиня (Вергилий) (лат.).
(обратно)55
Тимант (Тиманф, IV в. до н. э.) — древнегреческий художник, на картине которого «Жертвоприношение Ифигении» был изображен отец Ифигении Агамемнон, закрывающий голову плащом.
(обратно)56
Пилон Жермен (ок. 1525–1528 или 1535–1590) — выдающийся французский скульптор эпохи Возрождения. Среди его работ — скульптурное оформление Нового моста в Париже.
(обратно)57
Роза Сальватор (1615–1673) — итальянский художник, рисовал картины религиозно-мифологического характера, фантастические пейзажи, изображал сцены кавалерийских схваток.
(обратно)58
Совер Жозеф (1653–1716) — французский ученый, занимался физикой.
(обратно)59
Био Жан Батист (1774–1862) — французский физик.
(обратно)60
Полифем — один из циклопов (одноглазых великанов), которого ослепил Одиссей (др. — гр. миф.).
(обратно)61
Назон (Публий Овидий Назон, 43 г. до н. э. — ок. 18 г. н. э.) — великий римский поэт.
(обратно)62
Эпиталама — песня или поэма в честь свадьбы.
(обратно)63
Жанна Французская (1464–1505) — дочь короля Людовика XI, с 1476 г. жена Людовика Орлеанского, будущего короля Людовика XII.
(обратно)64
Приор — настоятель небольшого католического монастыря.
(обратно)65
Поцелуи за удары (исп.).
(обратно)66
Сретение — праздник в память о дне внесения младенца Иисуса в Иерусалимский храм, отмечается католиками 2 февраля.
(обратно)67
Вретишница — та, кто носит вретище — убогое платье, рубище (устар.).
(обратно)68
Мизантропия — человеконенавистничество.
(обратно)69
Внутри колонны нашли богатый ларь, в котором лежали новые знамена с ужасными изображениями (исп.).
(обратно)70
Арабы верхом на конях, неподвижные, с мечами, и самострелы перекинуты у них через плечо (исп.).
(обратно)71
Арго — воровской жаргон.
(обратно)72
Конклав. — Гюго иронически использует слово, обозначающее собрание кардиналов (с 1274 г.) в случае смерти Папы Римского для избрания его преемника.
(обратно)73
Пиррический танец (пиррихий) — культовый танец с оружием в Древней Греции.
(обратно)74
Рака — большой ларец для хранения мощей святых.
(обратно)75
Герметика — оккультное (тайное) знание, слово «герметика» образовано от имени Гермеса Трисмегиста, легендарного основателя оккультизма.
(обратно)76
Надир — точка неба, противоположная зениту.
(обратно)77
Мартынов день — день святого Мартина, епископа г. Тура (IV в.), праздновался 11 ноября.
(обратно)78
Целестинцы — члены католического монашеского ордена (ветвь бенедиктинцев), основанного монахом, ставшим позднее Папой Селестином V (1215–1296).
(обратно)79
Вся дорога, путь и относящееся к дороге (лат.).
(обратно)80
Радуйся, звезда моря! (лат.) — католический церковный гимн.
(обратно)81
Подайте, синьор! Подайте! (ит.)
(обратно)82
Сеньор, подайте на кусок хлеба! (исп.)
(обратно)83
Подайте милостыню! (лат.)
(обратно)84
На прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку (лат.). Следовало бы сказать: «camisiam», а не «chemisam».
(обратно)85
Милостыню! (лат.)
(обратно)86
Подайте! (ит.)
(обратно)87
Кусок хлеба! (исп.)
(обратно)88
Куда бежишь, человек? (исп.)
(обратно)89
Пандемониум — столица ада в поэме английского поэта Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» (1667).
(обратно)90
Стикс — одна из рек подземного царства, в котором обитали души умерших (др. — гр. миф.).
(обратно)91
Страдивариус (Страдивари Антонио, ок. 1643–1737) — знаменитый итальянский мастер смычковых инструментов.
(обратно)92
Шляпу долой, человек! (исп.)
(обратно)93
Философия и философы всеобъемлющи (лат.).
(обратно)94
Сотворите милостыню (лат.).
(обратно)95
Актуариус — стенограф, писец (лат.).
(обратно)96
Буало Депрео Никола (1636–1711) — французский поэт, крупнейший теоретик классицизма.
(обратно)97
Рафаэль Санти (1483–1520) — великий итальянский художник. Гюго говорит о рафаэлевских мадоннах, из которых наиболее известна «Сикстинская мадонна» (1515–1519, Дрезденская галерея).
(обратно)98
Когда цесарки меняют перья, и земля… (исп.).
(обратно)99
Esmeralda — изумруд (исп.).
(обратно)100
Микромегас — великан из одноименной повести (1752) великого французского писателя и философа-просветителя Вольтера (настоящее имя — Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778).
(обратно)101
Время прожорливо, человек еще прожорливей (лат.).
(обратно)102
Который своею громадой повергает в ужас зрителей (лат.).
(обратно)103
Шпиц — то же самое, что и шпиль (устар.).
(обратно)104
Парфенон — мраморный храм богини Афины на Акрополе в Афинах, построенный в 447–438 гг. до н. э. Иктином и Калликратом под руководством Фидия, одно из величайших достижений мировой архитектуры.
(обратно)105
Храм Дианы в Эфесе — точнее, храм Артемиды, возведенный вне стен города в IV в. до н. э., был причислен к семи чудесам света.
(обратно)106
Герострат — житель Эфеса, который, чтобы прославиться, по преданию, поджег храм Артемиды в 356 г. до н. э., в ночь рождения Александра Македонского (отсюда выражение «геростратова слава» — то есть позорная слава).
(обратно)107
«История галликанской церкви», кн. 2, с. 130. (Примеч. авт.)
(обратно)108
Стоят, прервавшись, работы (Вергилий) (лат.).
(обратно)109
Это то искусство, которое, в зависимости от местности, климата и населения, называется также ломбардским, саксонским и византийским. Эти четыре разновидности архитектуры родственны и существуют параллельно, хотя каждая из них отличается особым характером. В основе всех лежит полукруглый свод.
«Все не на одно лицо, однако очень схожи» и т. д. (лат.) (Примеч. авт.)
(обратно)110
Эта деревянная часть шпиля была уничтожена молнией в 1823 г. (Примеч. авт.)
(обратно)111
Своеобразное (лат.).
(обратно)112
Юлиан Отступник Флавий Клавдий (331–363) — римский император с 361 г. Получил строгое христианское воспитание, но под влиянием учителей и чтения произведений античной литературы и философии обратился к язычеству. Став императором, пытался его реставрировать в качестве официальной религии, за что получил от христиан свое прозвище.
(обратно)113
Термы — общественные бани в Древнем Риме. Место совещаний патрициев, спортивных соревнований, развлечений.
(обратно)114
Пантеон. — Храм Святой Женевьевы в Париже в 1791 г. был переименован в Пантеон и стал использоваться для захоронения великих людей Франции. Пантеон — храм, посвященный всем богам (гр.).
(обратно)115
Верность граждан правителям, прерываемая, однако, изредка восстаниями, породила увеличение их привилегий (лат.).
(обратно)116
Фавен Андре (XVI в.) — французский историк.
(обратно)117
Паскье Этьен (1529–1615) — французский юрист. Его «Письма» использовались Гюго при написании романа.
(обратно)118
Теократия — форма правления, при которой власть принадлежит Церкви.
(обратно)119
Пиньон — островерхая крыша с коньком (фр.)
(обратно)120
Камюложен (ум. в 52 г. до н. э.) — вождь кельтского племени паризиев, живших по берегам Сены. Погиб, защищая Лютецию (Париж) от войск Юлия Цезаря.
(обратно)121
Альгамбра — дворец-замок мавританского стиля (XIII–XIV вв.) близ Гранады (Испания).
(обратно)122
Шамборский замок — королевский замок (XVI в.), построенный для Франциска I предположительно по проекту Бокадора, шедевр архитектуры эпохи Возрождения.
(обратно)123
Дословно: «остров» (лат.).
(обратно)124
Миньяр Пьер (1612–1695) — французский художник, писавший портреты в изящной, но несколько слащавой манере, в том числе и портрет Мольера, с которым сотрудничал.
(обратно)125
Мы с грустью, смешанной с негодованием, видели, как пытались увеличить, переделать и перекроить, то есть разрушить этот восхитительный дворец. Руки современных нам зодчих слишком грубы, чтобы касаться этих хрупких созданий Возрождения. Будем надеяться, что они этого и не осмелятся сделать. Кроме того, разрушить сейчас Тюильри было бы не только грубым варварством, которое заставило бы покраснеть даже пьяного вандала, но было бы предательством. Тюильри не просто шедевр искусства шестнадцатого века, но и страница истории девятнадцатого. Этот дворец принадлежит уже не королю, а народу. Не будем посягать на него. Его чело дважды отмечено нашей революцией. Один из его фасадов пробит ядрами 10 августа, другой — 29 июля. Это святыня.
Париж, 7 апреля 1831 г.
(Примеч. авт. к пятому изданию.)
(обратно)126
Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос (библ.).
(обратно)127
Воскресное утро на Фоминой неделе. — Фомино воскресенье — первое воскресенье после Пасхи, главного христианского праздника, посвященного воскресению Иисуса Христа. Фомино воскресенье у католиков называется «квазимодо» (по-латыни «почти», «как будто бы»), откуда имя героя романа — Квазимодо.
(обратно)128
Пилигрим — странствующий богомолец.
(обратно)129
Протонотариус — старший нотариус (юрист, оформляющий и удостоверяющий различные документы: договоры, завещания и т. д.).
(обратно)130
Иерей — священник (гр.).
(обратно)131
Ленное владение, лен (нем.) — в Средние века земельное владение, которое вассал получал от сеньора с обязательством нести военную или другую службу, с XII в. передавалось по наследству.
(обратно)132
Сюзерен — сеньор (король, герцог, граф, князь) по отношению к своим вассалам (более мелким феодалам, обязанным ему нести службу за предоставление лена).
(обратно)133
Рекреация — перемена в школе (устар.).
(обратно)134
Давать оплеухи и драть за волосы (лат.).
(обратно)135
Ермолка — маленькая круглая шапочка из мягкой материи, плотно прилегающая к голове; у католиков прикрывает тонзуру.
(обратно)136
Тонзура — выстриженное или выбритое место на макушке у католических священников.
(обратно)137
Голубого и бурого цвета (лат.).
(обратно)138
Теология — систематизированное учение о Боге и божественном мироустройстве, построенное на доказательствах истинности и необходимости для человека веры в Бога.
(обратно)139
Собор — собрание должностных или выборных лиц для рассмотрения и разрешения вопросов организации и управления.
(обратно)140
Капитулярии — законы и распоряжения франкских королей из династии Каролингов.
(обратно)141
Декреталии — постановления римских пап, а также средневековые сборники законов и других правовых актов.
(обратно)142
Название папского послания (лат.).
(обратно)143
Алтарь лентяев (лат.).
(обратно)144
Клир — в христианской церкви общее название священнослужителей (священников, епископов) и церковнослужителей (псаломщиков, пономарей и т. д.).
(обратно)145
Клирик — священнослужитель, церковнослужитель.
(обратно)146
Пастырь лютого стада еще лютее пасомых (лат.).
(обратно)147
Здоровый малый злобен (лат.).
(обратно)148
Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ, считавший, что человек по природе злобен («Человек человеку волк»).
(обратно)149
Благовест — колокольный звон, извещающий о церковной службе.
(обратно)150
Кентавр — получеловек-полуконь (др. — гр. миф.).
(обратно)151
Астольф — герой поэмы «Неистовый Роланд» (1516) итальянского поэта Лудовико Ариосто (1474–1533).
(обратно)152
Горгона — чудовище, взгляд на которое обращает человека в камень (др. — гр. миф.). Гюго имеет в виду химер собора Парижской Богоматери.
(обратно)153
Химера — чудовище с огнедышащей пастью льва, туловищем козы и хвостом дракона (др. — гр. миф.). Собор Парижской Богоматери украшен изображением этих чудовищ.
(обратно)154
Начальное слово молитвы, читаемой при звоне колокола утром, в полдень и вечером.
(обратно)155
Викарий («заместитель», лат.) — помощник епископа по управлению епархией.
(обратно)156
Братия святого Августина— члены монашеского ордена августинцев (существует с XII в.). Аврелий Августин (354–430), прозванный Блаженным, — один из отцов Церкви, величайший авторитет для католических богословов.
(обратно)157
Диакон Поль (Павел) (ок. 720 — ок. 799) — средневековый историк.
(обратно)158
Словно поднятые трубным звуком (лат.).
(обратно)159
Побоище; основная причина — отличное выпитое им вино (лат.).
(обратно)160
Где замыкается круг (лат.). Имеется в виду «круг знаний», которым обучали в древности и в Средние века.
(обратно)161
Дозволенное (лат.).
(обратно)162
Недозволенное (лат.).
(обратно)163
Легри (Legris) — по-французски произносится так же, как le gris, что означает «хмельной», «под хмельком».
(обратно)164
Гюго II из Бизунсио, 1326–1332. (Примеч. авт.)
(обратно)165
Некромантия — вызывание духа умерших для выяснения будущего и других магических действий.
(обратно)166
Кабалистика — практическое применение кабалы, древнееврейского оккультного учения, согласно которому с помощью магии и специальных оккультных знаний человек может влиять на мироздание.
(обратно)167
К общему напеву (лат.).
(обратно)168
Для некоторых именитых жен, посещения коих нельзя избежать, не вызывая огласки (лат.).
(обратно)169
Ренье Матюрен (1573–1613) — французский поэт.
(обратно)170
«Эге, эге! Клод с хромым» — игра слов: латинское claudus значит «хромой».
(обратно)171
Аббат монастыря Блаженного Мартина (лат.).
(обратно)172
«О предопределении и свободе воли» (лат.).
(обратно)173
В лист (типографский термин) (лат.).
(обратно)174
Игра слов: labricotier — абрикосовое дерево; labriсоtier — приют на берегу.
(обратно)175
Ямвлих (середина III в. — ок. 330 г.) — античный философ, вносивший в философию элементы оккультных наук.
(обратно)176
Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.) — древнегреческий врач, считающийся отцом научной медицины.
(обратно)177
Верую в Бога (лат.).
(обратно)178
Господа нашего (лат.).
(обратно)179
Аминь (лат.).
(обратно)180
Эпидавр — древнегреческий город, культовый центр бога врачевания Асклепия.
(обратно)181
Халдея — распространенное название Вавилонии, центр астрономических знаний.
(обратно)182
Дедал — легендарный изобретатель, зодчий (др. — гр. миф.).
(обратно)183
Бустрофедон — способ письма. Вертикальный бустрофедон предполагает написание сверху вниз и наоборот. В оккультных науках бустрофедону приписывается определенная магическая сила.
(обратно)184
3ируф и зефирот— понятия из кабалистики.
(обратно)185
Симпатическая сила клавикулы — здесь: таинственная сила.
(обратно)186
Урания — одна из девяти муз, покровительница астрономии (др. — гр. миф.).
(обратно)187
Самуил — в Библии: первосвященник и судья в Израиле.
(обратно)188
Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 г. до н. э.) — древнегреческий историк, почитающийся как «отец истории».
(обратно)189
Сикра — ступенчатый храм в Халдее.
(обратно)190
Ошибаешься, друг Клод (лат.).
(обратно)191
Голубь.
(обратно)192
«Толкование на послания святого Павла». Нюрнберг, Антоний Кобургер, 1474 (лат.).
(обратно)193
«Аббат монастыря Блаженного Мартина, то есть король Франции, по установлению, считается каноником и имеет малый приход, принадлежащий церкви Святого Венанция, а в капитуле он должен заседать на месте казначея» (лат.).
(обратно)194
Дольмены — два вертикально поставленных камня, накрытых горизонтально лежащим камнем (в культуре древних кельтов).
(обратно)195
Кромлехи — круглые ограды из огромных камней, оставшиеся от людей бронзового века.
(обратно)196
Карнак — комплекс храмов (XX в. до н. э. — конец 1-го тыс. до н. э.) на территории древнеегипетского города Фивы, памятник архитектуры периода Нового царства.
(обратно)197
Жакерия — крестьянское восстание во Франции в 1358 г. (название от презрительного прозвища крестьян «Жак-Простак»).
(обратно)198
Прагерия — восстание крупных феодалов против французского короля Карла VII в 1440 г.; среди руководителей восстания — сын Карла VII, будущий король Людовик XI (название восстания связано с воспоминанием о выступлении гуситов в Праге).
(обратно)199
Лига — название военного союза католиков в эпоху религиозных войн, шедших во Франции во второй половине XVI в.
(обратно)200
Ибо именуюсь львом (лат.).
(обратно)201
Черепаха (лат.) — в военном искусстве римлян так называлась кровля из щитов, сомкнутых над головами.
(обратно)202
Книга бытия — первая книга Библии, открывающая Ветхий Завет.
(обратно)203
Брамин (правильно: брахман) — представитель жреческой касты (варны) в Индии.
(обратно)204
Арабески — орнамент из стилизованных растений и геометрических фигур, получивший распространение в Европе под влиянием арабских образцов.
(обратно)205
Фидий (начало V в. до н. э. — ок. 432–431 гг. до н. э.) — великий древнегреческий скульптор. Его статуя Зевса Олимпийского считалась одним из семи чудес света. Участвовал в сооружении Парфенона.
(обратно)206
Литургия — христианское церковное богослужение (у католиков — месса).
(обратно)207
Александр. — Имеется в виду Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.), царь Македонии, создавший крупнейшую мировую монархию древности, которая после его смерти была разделена между его полководцами.
(обратно)208
Гужон Жан (ок. 1510 — между 1564 и 1568 гг.) — выдающийся французский скульптор.
(обратно)209
Палестрина Джованни Пьерлуиджи (ок. 1525–1594 гг.) — итальянский композитор, чье творчество считается вершиной хоровой полифонической музыки строгого стиля.
(обратно)210
Ересиархи — основатели ересей.
(обратно)211
«Махабхарата» — индийский эпос, современный вид приобрел к середине I тысячелетия.
(обратно)212
«Песнь о Нибелунгах» — немецкий героический эпос (возник ок. 1200 г., опубликован в 1757 г.).
(обратно)213
Ретиф де ла Бретонн Никола (1734–1806) — французский писатель-сентименталист (более 200 томов, в том числе 16-томный автобиографический роман «Господин Никола, или Разоблаченное человеческое сердце» (1794–1797)).
(обратно)214
«Энциклопедия» — многотомный труд французских просветителей во главе с Дидро и д´Аламбером «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел…» (35 томов, 1751–1772).
(обратно)215
«Монитёр» — французская газета, основанная в 1789 г. как революционный печатный орган. В период, когда писался роман, напротив, выражала интересы правительства.
(обратно)216
Это та самая комета, при появлении которой Папа Каликст, дядя Борджиа, приказал служить молебствия и которая появилась вновь в 1835 г. (Примеч. авт.)
(обратно)217
Должность, которая соединена не только с государственной властью, но и со многими преимуществами и правами (лат.).
(обратно)218
Отчеты по управлению государственным имуществом. 1383 г. (Примеч. авт.)
(обратно)219
…времен Монлери… — Имеется в виду битва при Монлери 16 июля 1465 г. между войсками Людовика XI и противостоявшими им силами герцога Бургундского Карла Смелого и Лиги общественного блага.
(обратно)220
Закон сурового содержания (лат.).
(обратно)221
Во-первых (лат.).
(обратно)222
Во-вторых (лат.).
(обратно)223
Предположительно блудницы (лат.).
(обратно)224
В-третьих (лат.).
(обратно)225
Громким голосом во мраке (лат.).
(обратно)226
Молчи и надейся (лат.).
(обратно)227
Крепкий щит — спасение вождей (лат.).
(обратно)228
Это твое (лат.).
(обратно)229
Ты, молись! (лат.)
(обратно)230
«Людовик Великий» (лат.) — надпись на триумфальной арке, воздвигнутой в Париже на бульваре Сен-Дени в память о победах Людовика XIV над Фландрией и Франш-Конте.
(обратно)231
Французское Trou aux Rats («крысиная нора») созвучно с латинским Тu, ога.
(обратно)232
Неровными шагами (лат.).
(обратно)233
Вергилий Марон Публий (70–19 гг. до н. э.) — великий римский поэт.
(обратно)234
Сатурн — древнеримский бог урожая, отец верховного бога Юпитера.
(обратно)235
Менестрель — странствующий средневековый певец.
(обратно)236
Песня в цвету (фр.)
(обратно)237
Кюре — католический приходский священник.
(обратно)238
…у дочери владельца Дофинэ — то есть у дочери короля Людовика XI, лишившего область Дофинэ самостоятельности и распространившего на нее права короны Франции.
(обратно)239
Эпитимья (епитимья) — церковное наказание (молитвы, пост и т. д.).
(обратно)240
Сарацины — в Средние века название арабов.
(обратно)241
Митра — головной убор высшего духовенства.
(обратно)242
«Господь…» — начало молитвы (лат.).
(обратно)243
Кто глух, тот глуп (лат.).
(обратно)244
Шемизетки — рубашки, обычно с короткими рукавами.
(обратно)245
Игра слов: фамилия Gondelaurier (Гонделорье) состоит из слов: gond — крюки laurier — лавровое дерево.
(обратно)246
Сарабанда — старинный танец эмоционального характера, пришедший из Испании.
(обратно)247
Генесий — мим, участвовавший в представлениях перед римским императором Диоклетианом (III — начало IV в.), в которых ратовал за христианство, за что был приговорен к смерти. Объявлен святым.
(обратно)248
Жонглер («шутник», «забавник», фр.) — в Средние века странствующий певец, сказитель, комедиант. Жонглеры могли ходить по канату, проделывать всевозможные фокусы. Но особенно ценились жонглеры, повествовавшие о преданиях старины.
(обратно)249
Прокорми себя сама (лат.).
(обратно)250
Мужчина с женщиной наедине не подумают читать «Отче наш» (лат.).
(обратно)251
Начальные слова католических молитв.
(обратно)252
«Каким образом» и «тем не менее» (лат.).
(обратно)253
Поистине эти харчевни изумительны! (ит.)
(обратно)254
Камера-обскура (от лат. obscurus — «темный») — светонепроницаемая коробка с небольшим отверстием. Предмет, стоящий перед отверстием, дает изображение на противоположной стенке.
(обратно)255
Дыши, надейся (лат.).
(обратно)256
Откуда? Оттуда? (лат.) — Человек человеку зверь (лат.). — Звезда, лагерь, имя, божество (лат.). — Большая книга — большое зло (гр.). — Дерзай знать (лат.). — Веет где хочет (лат.).
(обратно)257
Пост (гр.).
(обратно)258
Небесного называй господином, земного — погибелью (лат.).
(обратно)259
Ману — в индийской религии брахманизма прародитель людей, автор «Законов Ману» — сборника правил жизни в соответствии с требованиями брахманизма.
(обратно)260
Зороастр — пророк, основатель зороастризма, религии древних народов Средней Азии, Азербайджана, Ирана и других стран Ближнего и Среднего Востока.
(обратно)261
Пламя (лат.).
(обратно)262
Кассиодор Флавий Магнус Аврелий (ок. 487 — ок. 578 гг.) — писатель, приближенный правившего в Италии короля остготов Теодориха.
(обратно)263
Рок, судьба (лат.).
(обратно)264
Разорвали рубаху (на «кухонной» латыни).
(обратно)265
Рубаху, а не плащ (лат.).
(обратно)266
Это по-гречески; прочесть невозможно (лат.).
(обратно)267
Цербер — трехголовый злой пес с хвостом и гривой из змей, охранявший вход в Подземное царство (др. — гр. миф.).
(обратно)268
С моим лакеем (на «кухонной» латыни).
(обратно)269
Декрет́алия — здесь: сборник законов и других правовых актов.
(обратно)270
Грациан (359–383) — римский император в западной части Римской империи с 367 г., сторонник христианства.
(обратно)271
Кто не работает, пусть не ест (лат.).
(обратно)272
Анапест — стихотворный трехсложный размер с ударным третьим слогом.
(обратно)273
Котурны — обувь древнегреческих актеров на очень высокой платформе для придания им высокого роста и большей величественности.
(обратно)274
Эпикур (341–270 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.
(обратно)275
Плавт Тит Макций (середина III в. до и. э. — ок. 184 г. до и. э.) — великий римский комедиограф.
(обратно)276
Цепям и палкам вопреки, оковам, тюрьмам, дыбам, Веревкам назло, кандалам, ошейникам, железкам (лат.).
(обратно)277
Через самого, и с самим, и в самом (лат.).
(обратно)278
Бессмысленный набор слов.
(обратно)279
Карбункул — старинное название рубина и других минералов.
(обратно)280
Голый весишь ты сто фунтов, если вешать за ноги (лат.).
(обратно)281
Муммоль Энний (VI в.) — бургундский полководец, изменил бургундскому королю Гонтрану (ок. 545–593), потом перешел на его сторону под обещание сохранить жизнь. Но Гонтран не сдержал слова, казнил Муммоля.
(обратно)282
Колдунья или ведьма (лат.).
(обратно)283
Адамант — алмаз (лат.).
(обратно)284
«Диалог об энергии и деятельности демонов» (лат.).
(обратно)285
Сервиус (IV в.) — римский грамматик.
(обратно)286
У каждого места есть свой дух (гений) (лат.).
(обратно)287
Тебя, Бог, хвалим! (Начало лат. — католического гимна.)
(обратно)288
Иов — праведник (библ.).
(обратно)289
При сохранении своей формы душа остается невредимой (лат.).
(обратно)290
Люлль Раймонд (Рамон Люлль, 1235–1315) — выдающийся каталонский теолог, философ, алхимик и поэт.
(обратно)291
Позорно жить среди сквернословия (лат.).
(обратно)292
Некогда я был фиговым стволом (лат.).
(обратно)293
Епископ Эдуэнский (лат.), то есть Отенский.
(обратно)294
Сознаюсь (лат.).
(обратно)295
Святая Марта— упоминаемая в Библии сестра Марии и Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом. Именно ей Христос сказал: «Я есмь воскресение и жизнь». Соединение имени святой Марты с образом каморки для свиданий — пример приема гротеска в романе.
(обратно)296
Готон (Goton) — народная уменьшительная форма от имени Marguerite (Маргарита).
(обратно)297
«О фигурах правильных и неправильных» (лат.).
(обратно)298
«Учение» (гр.).
(обратно)299
Поскольку, милостивые государи, сия женщина изобличена в колдовстве и преступное намерение ее доказано, я от имени соборной церкви Парижской Богоматери, коей присвоено право высшей юрисдикции в пределах острова Ситэ, заявляю присутствующим, что требую: во-первых, присуждения ее к денежному штрафу, во-вторых, присуждения ее к публичному покаянию перед порталом собора Парижской Богоматери, в-третьих, приговора, в силу коего эта колдунья была бы казнена купно с ее козой на месте, в просторечии именуемом Грев, или на острове на реке Сене, близ королевских садов! (лат.)
(обратно)300
Увы! Варварская латынь! (лат.)
(обратно)301
Отрицаю (лат.).
(обратно)302
Оставь всякую надежду (ит.) — из «Божественной комедии» Данте.
(обратно)303
Всякой надежде (ит.).
(обратно)304
Фемида — богиня правосудия.
(обратно)305
Queue (Ke) — окраина, хвост (фр.)
(обратно)306
«…Не убоюся полчищ, обступающих меня! Услышь меня, Господи, спаси меня, Боже мой!
…Спаси меня, Боже мой, ибо воды растут и поднялись до самой души моей…
…В глубокой трясине увяз я, и нет вблизи твердой опоры» (лат.).
(обратно)307
«Кто услышит слово Мое и уверует в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и суду не подлежит, но перейдет из смерти в жизнь» (лат.).
(обратно)308
«Из глубины ада воззвал я к Тебе, и глас мой был услышан; Ты ввергнул меня в недра и пучину морскую, и волны обступили меня» (лат.).
(обратно)309
Так гряди же, грешная душа, и да смилуется над тобой Господь! (лат.)
(обратно)310
Господи помилуй! (гр.)
(обратно)311
Аминь! (лат.)
(обратно)312
«…Все хляби и потоки Твои прошли надо мною» (лат.).
(обратно)313
Это была своего рода гидра для монахов Святого Германа-на-Лугах, ибо миряне кружили им там головы своими ссорами и безобразиями (лат.).
(обратно)314
Счастливый старик! (лат.)
(обратно)315
Отель-Дье — парижская больница, построенная в 1165–1260 гг. около собора Парижской Богоматери.
(обратно)316
«О тесании камней» (лат.).
(обратно)317
А именно: в пище, в питье, во сне, в любви — во всем воздержание (лат.).
(обратно)318
Фиктивный брак (лат.).
(обратно)319
Иссякает ученость ученых, послушание послушников (лат.).
(обратно)320
Беснующегося люда многолюдное беснование? (лат.)
(обратно)321
Какое песнопение! Какие трубы! Какие песни! Какие мелодии звучат здесь без конца! Поют медоточивые трубы, раздается нежнейшая ангельская мелодия, дивная Песнь песней!.. (лат.)
(обратно)322
Не всякому дано иметь нос (лат.).
(обратно)323
От вина распутство и буйное веселье (лат.).
(обратно)324
Вино доводит до греха даже мудрецов! (лат.)
(обратно)325
Экномская битва — морской бой в 256 г. до н. э. в ходе первой Пунической войны, в которой римский флот разбил карфагенян.
(обратно)326
Густав IV Адольф (1778–1837) — король Швеции (1792–1809).
(обратно)327
Лектурские бойницы— укрепления г. Лектура в Гаскони (на юге Франции). Упоминаются в романе в связи с событиями, происходившими за девять лет до начала его действия. Граф Жан V д´Арманьяк был осажден в Лектуре королевскими войсками и капитулировал, но потом снова овладел городом. 6 марта 1473 г. войска Людовика XI, несмотря на яростное сопротивление, взяли Лектур. В битве граф погиб. Это событие получило название «драмы в Лектуре».
(обратно)328
Клобук — высокий головной убор с покрывалом у монахов.
(обратно)329
Хвала Господу! (лат.)
(обратно)330
Десятиносый (гр.).
(обратно)331
Туаз — старинная мера длины, равная шести шагам (около двух метров).
(обратно)332
Реальгар — минерал, разновидность сульфидов, имеет оранжево-красный цвет.
(обратно)333
Индиго — растительный краситель синего цвета; известен с глубокой древности.
(обратно)334
Капеллан — священник, состоящий при капелле (часовне, домашней церкви).
(обратно)335
Без кравчего и без виночерпия! (лат.)
(обратно)336
Тристан Отшельник (ум. после 1475 г.) — французский политический деятель, участник борьбы с англичанами при Карле VI и Карле VII, верховный судья при Людовике XI, прославившийся необычайной жестокостью.
(обратно)337
Матвей Корвин (Матьяш Хуньяди, 1443–1490) — король Венгрии с 1458 г. Покровительствовал искусству и науке, в 1465 г. основал первый университет в Буде, в 1471 г. — первую типографию.
(обратно)338
Пульс частый, прерывистый, слабый, неправильный (лат.).
(обратно)339
Диана — римская богиня женственности, девственности, растительности, Луны; соответствовала греческой богине Артемиде.
(обратно)340
Церера — римская богиня земледелия и плодородия; отождествлялась с греческой богиней Деметрой.
(обратно)341
Плохой, злой, нечистый (фр.)
(обратно)342
Святой Лоо (Лауд Анжерский, ум. в 478 г.) — епископ Труа, города во французской провинции Шампань. Считалось, что в кресте святого Лауда содержался кусок креста, на котором был распят Иисус Христос, поэтому он особо чтился Людовиком XI. Сведения о клятвах Людовика XI на кресте святого Лауда Гюго взял из «Мемуаров» Филиппа де Коммина.
(обратно)343
Осаждая Турин, сам был осажден (лат.).
(обратно)344
Катилина Луций Сергий (ок. 108—62 гг. до н. э.) — римский политик, составивший заговор с целью получить единоличную власть в Риме. Был разоблачен Цицероном в знаменитой речи, произнесенной 21 октября 63 г. до н. э. в Сенате. Бежал из Рима, собрал войско, но проиграл сражение при Пистории, в котором погиб.
(обратно)345
«Против скупости» (лат.).
(обратно)346
Прекрасное создание в белой одежде (Данте). — Ит.
(обратно)347
Мариньи Ангерран де (ок. 1260–1315) — французский политический деятель, руководил финансами при Филиппе IV Красивом. Выстроил виселицу на Монфоконе (холм на северо-востоке Парижа, в переводе «Соколиная гора»), на которой был повешен после восшествия на престол Людовика X.
(обратно)348
Колиньи Гаспар де Шатийон (1519–1572) — французский политический деятель, адмирал, вождь гугенотов, был убит в Варфоломеевскую ночь с 23-го на 24 августа 1572 г. католиками, сторонниками короля Карла IX, а его труп был повешен на Монфоконе.
(обратно)349
медведь (лат.)
(обратно)350
человек (лат.)
(обратно)351
это значит: остальных дочерей обеспечивают по мере возможности (примечание Урсуса рядом, на стене)
(обратно)352
мольба (лат.); так называлась жалоба, обращенная к королю
(обратно)353
позор тому, кто подумает дурное (франц.)
(обратно)354
доблесть сильнее тарана (лат.)
(обратно)355
Coq — петух (франц.)
(обратно)356
орудие власти (лат.)
(обратно)357
берегись, детка, не то я позову компрачикосов (исп.)
(обратно)358
бродячий человек страшнее бродячего зверя (лат.)
(обратно)359
«Помилуй» — молитва (лат.)
(обратно)360
не приемлющих присяги (англ.)
(обратно)361
латинские названия разных видов акул
(обратно)362
идемте (исп.)
(обратно)363
заставь войти (лат.)
(обратно)364
баск (исп.)
(обратно)365
род рыбной солянки (франц.)
(обратно)366
горячий винегрет — национальное испанское блюдо из мяса, овощей и пряностей (исп.)
(обратно)367
Люди, спускайте все! (исп.)
(обратно)368
Издеваешься ты над нами? (исп.)
(обратно)369
мир во время войны (лат.)
(обратно)370
грешен (лат.)
(обратно)371
да будет так (исп.)
(обратно)372
в добрый час (баскск.)
(обратно)373
аминь (лат.)
(обратно)374
отче наш, иже еси на небесех (лат.)
(обратно)375
да святится имя твое (лат.)
(обратно)376
да приидет царствие твое (лат.)
(обратно)377
да будет воля твоя (лат.)
(обратно)378
как на небе, так и на земле (лат.)
(обратно)379
о людях, лишенных носа (лат.)
(обратно)380
рот твой разодран до ушей, десны обнажены, нос изуродован — ты станешь маской и будешь вечно смеяться (лат.)
(обратно)381
на смену одной золотой ветви — другая (лат.)
(обратно)382
Мадам без дальнейшего определения (франц.) (Мадам — титул старшей дочери французского короля, дочери дофина и жены брата короля.)
(обратно)383
оканчивается рыбьим хвостом (лат.)
(обратно)384
Там Венера в лесах соединяла в объятиях любовников (лат.)
(обратно)385
оплаченная девственность (лат.)
(обратно)386
войною и миром (лат.)
(обратно)387
приношения по обету (лат.)
(обратно)388
здесь обитают львы (лат.)
(обратно)389
лишить носа (лат.)
(обратно)390
имеющий рваные ноздри (лат.)
(обратно)391
«Медведь наизнанку» (лат.)
(обратно)392
«Закланный агнец» (лат.)
(обратно)393
«Свят господь» (лат.)
(обратно)394
Молись! плачь!
Из слова
Родится разум,
Из пения — свет (исп.)
(обратно)395
Ночь, уходи!
Заря поет победную песню (исп.)
(обратно)396
Вознесись на небо
И смейся, плакавший (исп.)
(обратно)397
Разбей ярмо!
Сбрось, чудовище,
Свою черную
Оболочку (исп.)
(обратно)398
О, подойди! люби!
Ты — душа,
Я — сердце (исп.)
(обратно)399
для предстоящего совета (лат.)
(обратно)400
для согласования (лат.)
(обратно)401
мы (лат.)
(обратно)402
равные нам по крови (лат.)
(обратно)403
люблю тебя (франц.)
(обратно)404
я лекарь (лат.)
(обратно)405
во всех предметах, доступных познанию (лат.)
(обратно)406
болтун, исцелись сам (лат.)
(обратно)407
трое составляют капитул (лат.)
(обратно)408
дрозд роняет помет себе на беду (лат.)
(обратно)409
слуга (исп.)
(обратно)410
мальчик-слуга (исп.)
(обратно)411
по знаку встань и выйди (лат.)
(обратно)412
Собаки лают, служители закона безмолвствуют. Служить закону — значит молчать (лат.)
(обратно)413
император водворяет безмолвие (лат.)
(обратно)114
мы будем содержать многих жезлоносцев, которым надлежит молча исполнять свои обязанности (лат.)
(обратно)415
Встань по приказу, данному знаком. Будь безмолвен. Так должно вести себя при задержании по королевской воле (лат.)
(обратно)416
древний нормандский статут в рукописи (лат.)
(обратно)417
служители меча — из хартии Людовика Восьмого о норманнах (лат.)
(обратно)418
сержанты шпаги (лат.)
(обратно)419
о крамольных пасквилях (англ.)
(обратно)420
Бесноватые — это те, кого мучат многие бесы.
Тот, кем владеет лишь один бес, — только одержимый (лат.)
(обратно)421
страж башни (лат.)
(обратно)422
преславный и светлейший (лат.)
(обратно)423
правильный акт (лат.)
(обратно)424
не знаем (лат.)
(обратно)425
вводятся привратниками, блюстителями тишины (лат.)
(обратно)426
ирландского фения Бюрке (в мае 1867 года) (прим. авт.)
(обратно)427
пожиратель достояния, расточитель, мот, любострастник, сводник, пьяница, прожигатель жизни, лицемер, истребитель родового наследства, растратчик, транжир и обжора (лат.)
(обратно)428
Английская хартия (лат.)
(обратно)429
цепи, и яма, и колодки, и прочее (лат.)
(обратно)430
сверх того (лат.)
(обратно)431
узы, законом установленные (лат.)
(обратно)432
полное воздержание от пищи (лат.)
(обратно)433
увеличить еще более воздержание от пищи уменьшением количества ее. Британское обычное право (лат.)
(обратно)434
смерть преступника есть дань уважения закону (лат.)
(обратно)435
признающийся в своей вине да получит meldefeoh. Закон Ины
(обратно)436
любовное свидание перед смертью (лат.)
(обратно)437
на четвертый день назначь очную ставку (лат.)
(обратно)438
рот, разодранный до ушей (лат.)
(обратно)439
по повелению короля (лат.)
(обратно)440
присвоил (лат.)
(обратно)441
противозаконное присвоение (лат.)
(обратно)442
тебе, продающему детей, имя — плагиатор (лат.)
(обратно)443
желает, чтобы его видели впереди (лат.)
(обратно)444
наушник (лат.)
(обратно)445
исторгаемый из среды дворянства становится лицом недворянского сословия (лат.)
(обратно)446
жизнь и имущество наших подданных принадлежат нам (лат.)
(обратно)447
в состоянии неизвестности (англ.)
(обратно)448
ничему не удивляться (лат.)
(обратно)449
главный сеньер (англ.)
(обратно)450
старческая любовь — постыдна (лат.)
(обратно)451
чернь — подонки столицы (лат.)
(обратно)452
пусть леса будут достойны консула (лат.)
(обратно)453
Рукоплещите, граждане! (лат.)
(обратно)454
бык на языке (лат.)
(обратно)455
немой (лат.)
(обратно)456
после этого еще не значит вследствие этого (лат.)
(обратно)457
да будет свет (лат.)
(обратно)458
запутанный тайник со сложными поворотами (лат.)
(обратно)459
собачка в ногах (исп.)
(обратно)460
нагая при ярком светильнике (лат.)
(обратно)461
«Коран Магомета» (лат.)
(обратно)462
заседание происходило вечером (лат.)
(обратно)463
а все-таки она движется (итал.)
(обратно)464
первого баронета Англии (лат.)
(обратно)465
библиотекарь (англ.)
(обратно)466
приди, дух святой (лат.)
(обратно)467
без просьбы, без подкупа, без попойки (лат.)
(обратно)468
«Об устройстве королевских палат» (лат.)
(обратно)469
смотритель дверей и решеток (лат.)
(обратно)470
«Жить, открыто изъявляя свою волю» (лат.)
(обратно)471
Скоморох! Комедиант! (лат.)
(обратно)472
«Остерегаясь, будешь в безопасности» (лат.)
(обратно)473
Бьенвеню (bienvenu) — желанный; желанный гость (фр.).
(обратно)474
Наказание (лат.).
(обратно)475
Если Господь не охраняет дом, тщетно сторожат охраняющие его (лат.).
(обратно)476
Да будет свет (лат.).
(обратно)477
Правда и неправда (лат.).
(обратно)478
За стаканом вина (лат.).
(обратно)479
Внезапно, без предисловий (лат.).
(обратно)480
Пустите детей (лат.).
(обратно)481
Я червь (лат.).
(обратно)482
«Тебе бога хвалим» (лат.) — католическая молитва.
(обратно)483
«Верую в Бога-Отца» (лат.) — католическая молитва.
(обратно)484
За многолюбие (лат.).
(обратно)485
Ничто и Сущее (лат.) — термины средневековой философии.
(обратно)486
Вот Жан.
(обратно)487
Вага.
(обратно)488
Игра слов, построенная на двойном смысле: Champ-de-Mai — Майское собрание (буквально — Майское поле) и Champ-de-Mars — Марсово поле (буквально — Мартовское поле).
(обратно)489
Шатобриан.
(обратно)490
Воскресший (лат.).
(обратно)491
Перед уходом оправляйте одежду (англ.).
(обратно)492
Я из Бадахоса. Любовь меня зовет. Вся душа моя В моих глазах, Когда ты показываешь Свои ножки. (испан.) (обратно)493
Во всем должна быть мера (лат.). — Гораций, Сатиры.
(обратно)494
Конец (лат.).
(обратно)495
Ныне пою тебя, Вакх! (лат.)
(обратно)496
Повод к войне (лат.).
(обратно)497
Нет ничего нового под солнцем (лат.).
(обратно)498
Любовь у всех одна и та же (лат.) — Вергилий, Георгики.
(обратно)499
Христос наш спаситель (лат.).
(обратно)500
Эти скобки поставлены рукой Жана Вальжана.
(обратно)501
П. К. Р. — пожизненные каторжные работы.
(обратно)502
Энкинес (исп.).
(обратно)503
Граф де Рио Майор (исп.).
(обратно)504
Маркиз и маркиза де Альмагро (Гаванна) (исп.).
(обратно)505
Вальтер Скотт, Ламартин, Волабель, Шарас, Кине, Тьер. (Прим. автора)
(обратно)506
Нечто темное, неизвестное (лат.).
(обратно)507
Нечто темное, нечто божественное (лат.).
(обратно)508
Смеется Цезарь, Помпей заплачет (лат.).
(обратно)509
Молниевержца (лат.).
(обратно)510
Вот эта надпись:
«Превеликий, преблагой господь бог с тобою. Здесь волей несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя (неразборчиво) февраля 1637».
(обратно)511
Splendid! — подлинное его выражение. (Прим. автора)
(обратно)512
Так было суждено (лат.).
(обратно)513
Какая цена полководцу? (лат.)
(обратно)514
«Оконченный бой, завершенный день, исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный назавтра, — все было потеряно из-за мгновения панического страха» (Наполеон. Мемуары, продиктованные на острове Св. Елены).
(обратно)515
Существующее положение вещей, застой (лат.).
(обратно)516
Превыше всего (лат.) — девиз «Короля Солнца», Людовика XIV.
(обратно)517
Sainte Alliance — Священный союз; «Belle Alliance» («Бель Альянс») — «Прекрасный союз» — название постоялого двора и холма, места третьей стоянки Наполеона в битве при Ватерлоо.
(обратно)518
«Так вы не для себя» (лат.) — начало стиха, который приписывался Вергилию.
(обратно)519
Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища: деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто (лат.).
(обратно)520
Безрубашечники (исп.).
(обратно)521
Единственно достойный король (исп.) — формула испанского абсолютизма.
(обратно)522
По-французски ворона — le corbeau (корбо); лисица — le renard (ренар).
(обратно)523
По-французски пренар (prenard) означает: взяточник, лихоимец.
(обратно)524
«Радуйся, Мария» (лат.) — начальные слова католической молитвы.
(обратно)525
«Благодатная» (лат.) — буквально: «исполненная благодати, прелести» (продолжение той же молитвы).
(обратно)526
Сей (лат.).
(обратно)527
Вечерня (лат.).
(обратно)528
«Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним» (лат.).
(обратно)529
Знатных дам (лат.).
(обратно)530
Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посредине божественный владыка; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас — вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра (лат.).
(обратно)531
После сердец — о камнях (лат.).
(обратно)532
Улетели (лат.).
(обратно)533
«Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года» (лат.).
(обратно)534
Подземная темница пожизненного заключения (лат.).
(обратно)535
Набеленный мелом бык (лат.) Ювенал (Сатира 10).
(обратно)536
Заранее; независимо от опыта (лат.).
(обратно)537
Богу вознес молитву Вольтер (лат.).
(обратно)538
«Из глубины взываю» (лат.) — начало заупокойного псалма.
(обратно)539
«Вот это приношение» (лат.) — слова из католической мессы.
(обратно)540
«Крест стоит, пока вращается вселенная» (лат.).
(обратно)541
«Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение; пусть всегда это помнят» (лат.).
(обратно)542
«Из глубины» (лат.).
(обратно)543
«Вечный покой даруй ему, Господи» (лат.).
(обратно)544
«И да светит ему вечный свет» (лат.).
(обратно)545
«Да почиет в мире» (лат.).
(обратно)546
Аминь (лат.).
(обратно)547
«Иллюстрированные лондонские новости» (англ.).
(обратно)548
Дитя (лат.).
(обратно)549
Человечек (лат.).
(обратно)550
Рабочий подросток парижских предместий.
(обратно)551
Вертится колесо (лат.).
(обратно)552
Любитель столицы (лат.).
(обратно)553
Любитель села (лат.).
(обратно)554
«Фуску, любителю Рима, привет с пожеланьем здоровья Шлю я — любитель села…» (Гораций, Послания, I.) (обратно)555
Се Париж, се человек (лат.).
(обратно)556
Грек (презрительно) (лат.).
(обратно)557
Щеголь (исп.).
(обратно)558
Носильщик (арабск.).
(обратно)559
«Спешу я. Кто за плащ хватает?» (лат.). Комедия Плавта «Эпидик».
(обратно)560
«Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра — то есть забывать о мятеже» (лат.).
(обратно)561
Да будет свет (лат.).
(обратно)562
Подонки столицы (лат.).
(обратно)563
Чернь (англ.).
(обратно)564
Леса достойны консула (лат.).
(обратно)565
Католические молитвы.
(обратно)566
Созвучие этих фамилий дает по-французски следующую игру слов: «Дамасский меч, который рубит сен-сирский болт».
(обратно)567
Тебя Бога (хвалим) (лат.) — начало благодарственной католической молитвы.
(обратно)568
Да почиют (лат.).
(обратно)569
В иноверческой стране (лат.).
(обратно)570
По-французски слово «азбука» (А В С) звучит как abaisse — униженный, обездоленный.
(обратно)571
Кастрат у лагерного костра (лат.).
(обратно)572
Варвары и Барберини (лат.).
(обратно)573
На страже закона — восстание (исп.).
(обратно)574
Ты Петр — камень и на сем камне (лат.).
(обратно)575
Человек и муж (лат.).
(обратно)576
Неизменность (лат.).
(обратно)577
Как состязающиеся в беге (лат.). Лукреций. О природе вещей.
(обратно)578
Л’Эгль (l’aigle) — по-французски — орел. Орел был эмблемой в наполеоновском гербе.
(обратно)579
По-французски согласная «л» произносится «эль», так же, как слово «эль» (aile) — крыло. Отсюда каламбур: «Не улети на четырех своих «л», то есть: «Не улети на четырех своих крыльях».
(обратно)580
Прописная буква Р по-французски — грант эр (grand R).
(обратно)581
Учитесь, судьи земли (лат.).
(обратно)582
Начало познания (лат.).
(обратно)583
Быстро бегущий (лат.).
(обратно)584
Если потребует обычай (лат.).
(обратно)585
Время — деньги (англ.).
(обратно)586
Хлопок — король (англ.).
(обратно)587
Ибо ношу имя льва (лат.).
(обратно)588
Тяготы жизни (лат.).
(обратно)589
И стал свет (лат.).
(обратно)590
Преисподняя (лат.).
(обратно)591
Флейтщицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные (лат.). Гораций. Сатиры.
(обратно)592
Если двое встречаются с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» (лат.).
(обратно)593
В новом правописании: polonais (поляки) и hongrois (венгры).
(обратно)594
Могучий (лат.).
(обратно)595
Листья и ветви (лат.).
(обратно)596
Эшафот (Прим. автора.).
(обратно)597
Лень (лат.).
(обратно)598
«Последний день приговоренного к смерти». (Прим. автора.)
(обратно)599
Но где снега минувших лет? (фр.)
(обратно)600
Шесть крепких лошадей тащили экипаж (фр.).
(обратно)601
Однако следует заметить, что mac — по-кельтски обозначает сын. (Прим. автора.)
(обратно)602
Lirlonfa — свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни.
(обратно)603
Купидона. (Прим. автора.)
(обратно)604
Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. (Прим. автора.)
(обратно)605
Стих, порожденный возмущением (лат.). Ювенал. Сатира, 1.
(обратно)606
В душе (итал.).
(обратно)607
Para bellum — готовься к войне (лат.). Произношение bellum (лат.) — война сходно с bel homme (фр.) — красивый мужчина.
(обратно)608
Mondétour (фр.) — извилистая гора.
(обратно)609
Pot aux Roses (горшок роз) произносится так же, как Poteau rose (розовый столб).
(обратно)610
Скоромные карпы (фр.).
(обратно)611
Carpe horas (лат.) — лови часы — напоминает известную строчку Горация Carpe diem — лови день.
(обратно)612
Matelote (матлот) — рыбное блюдо; gibelotte (жиблот) — фрикасе из кролика.
(обратно)613
Горе побежденным! (лат.)
(обратно)614
Тимбрейский Аполлон (лат.).
(обратно)615
Не всем дано достигнуть Коринфа (лат.) — античная поговорка.
(обратно)616
Скверна Рима — закон мира (лат.).
(обратно)617
По-царски и почти тиранически (лат.).
(обратно)618
Нечто божественное (лат.).
(обратно)619
Родина (лат.).
(обратно)620
Нашли младенца, завернутого в пеленки (лат.).
(обратно)621
Кто осмелится назвать солнце лживым? (лат.) — Вергилий, Георгики.
(обратно)622
Ярко (итал).
(обратно)623
Умерший отец ждет идущего на смерть сына (лат.).
(обратно)624
Передают светильники жизни (лат.). — Лукреций, кн. II.
(обратно)625
Плуты, жулье (исп.).
(обратно)626
Ловушки (лат).
(обратно)627
Католическая молитва.
(обратно)628
Люблю тебя (англ.).
(обратно)629
Игра слов: cent six (сан си) — сто шесть.
(обратно)630
Бессмертная печень (лат.) — печень скованного Прометея, которую терзал орел и которая вновь срасталась.
(обратно)631
Ка'ра (лат.).
(обратно)632
Изыди (Сатана) (лат.).
(обратно)633
Знаменитый англо-нормандский поэт, родился на острове Джерсей около 1112 года, умер в Англии около 1184-го. (Здесь и далее прим. пер., если не указано иное.)
(обратно)634
Французский публицист и политический деятель.
(обратно)635
Бальи — в средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа (бальяжа). (Прим. ред.)
(обратно)636
Виги и тори — либеральная и консервативная партии английского парламента.
(обратно)637
Французский иезуит (1609–1770), жестоко осмеянный Вольтером.
(обратно)638
«О ночных заблуждениях и о семени диавольском».
(обратно)639
Аэролит (астр.) — метеорит. (Прим. ред.)
(обратно)640
Знаменитый французский мореплаватель; долгое время был на военной службе под начальством голландского адмирала Рейтера. Когда вспыхнула война между Францией и Голландией, вернулся во Францию, служил в армии Людовика XIV, назначившего его начальником королевской эскадры.
(обратно)641
Субретка — здесь: бойкая, веселая служанка, посвященная в секреты своей госпожи. (Прим. ред.)
(обратно)642
Речь идет о русско-турецкой войне 1828–1829 годов, когда русские войска под командованием Дибича перешли Балканы.
(обратно)643
Папа Римский (1823–1828).
(обратно)644
Знаменитый разбойник XVIII века, чье имя стало нарицательным.
(обратно)645
Сын Людовика III, принца Кондэ (1700–1760). Отличался невероятной жестокостью.
(обратно)646
Талейран-Перигор (1754–1838) — ловкий и беспринципный французский дипломат.
(обратно)647
Поперечные балки, соединяющие борта судна и служащие основанием палубы. (Прим. ред.)
(обратно)648
Французский физик (1663–1705).
(обратно)649
Французский астроном, геометр, физик и художник (1640–1718).
(обратно)650
Французский физик (1736–1806).
(обратно)651
Римский архитектор I века до нашей эры.
(обратно)652
Гидравлическая машина, сооруженная при Людовике XIV для снабжения водой Версаля, где находился королевский дворец.
(обратно)653
Знаменитый мореплаватель XVII века (1650–1702).
(обратно)654
Додона — место в древней Греции, где находилось святилище Зевса, знаменитое священным дубом, по шелесту листьев которого жрецы узнавали волю Зевса и давали соответствующие указания верующим.
(обратно)655
Французский корсар (1773–1827).
(обратно)656
Английский адмирал (1786–1860).
(обратно)657
Огромное легендарное чудовище, называемое так в Библии (Книга Иова).
(обратно)658
Только для дам (англ.).
(обратно)


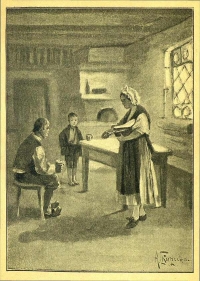

Комментарии к книге «Избранные произведения в одном томе», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев